Сергей Герман Обреченность
Выражаю глубокую благодарность ветерану XV казачьего корпуса Герберту Михнеру, уряднику 5-го Донского полка Юрию Болоцкову, Зигхарду фон Паннвицу, детям и внукам Ивана Никитича Кононова, ветерану 5-го гвардейского Донского корпуса полковнику в отставке Михаилу Шибанову, российскому историку Сергею Дробязко, а также всем казакам, оказавшим помощь в написании этой книги.
© Герман С. Э., 2015
© ООО «Издательство «Вече», 2015
Часть первая
Я считаю, что эти люди, будучи врагами СССР, врагами страны, в которой я родился и вырос, все же воевали за свою правду, за свою Россию! Это была их вера, и она достойна уважения.
АвторФевральская революция 1917 года и отречение Самодержца от престола ознаменовали конец единоначалия Донского войскового круга, привели к расколу в казачьей среде. Октябрьский переворот, учиненный большевиками, принес смуту в армейские части.
Фронт разваливался, никакой дисциплины уже не было. Офицеры гибли и от вражеского оружия, но более всего от зверских и бессмысленных самосудов, от рук бывших подчиненных. Солдаты безумствовали, срывали с офицеров погоны, пьянствовали, грабили и, прихватив оружие, бежали с позиций, чтобы успеть принять участие в разделе помещичьей земли.
Большевистское правительство прекратило военные действия против Германии и распустило армию по домам.
На Дон пришла поздняя стылая осень. Становились короче дни, длиннее ночи. По утрам стелился молочный туман и зависал над Доном влажным одеялом. По блеклому небу ползли темные тучи. Накрапывал холодный косой дождь. Задул резкий, пронизывающий ветер.
Пересекая быстрину, к берегу двигался баркас. Прохор Косоногов налегал на весла. Он вместе с внуком Мишуткой рыбалил на зорьке. Но поклевка была слабой. Рыба уже ушла на илистое дно, в подводные ямы и бровки, затаилась в самых тихих местах. Баркас беззвучно раздвинул камыши. Ударился носом о мягкую землю. Покачиваясь на волне, развернулся к берегу боком.
Внук Мишутка за продетый сквозь жабры тальниковый прут поднял со дна лодки золотисто-красного сазана, покрытого блестящей чешуей. Дед и внук, гордые от сознания, что несут добычу, пошли домой. Увидели у ворот соседского куреня соседа Степана Чекунова.
Два года назад Степана мобилизовали на фронт. Тугой воротник шинели теснил ему бурую жилистую шею. Сказал дрогнувшим голосом:
– Доброго здоровья, Прохор.
– И тебе не хворать. Возвернулся, стал быть, атаманец?
Степан остановился. Достал кисет, развязал его заскорузлыми пальцами.
– Вернулся, сосед. Как тут у вас? Моя-то блюла себя?
Прохор затянулся, выпустил облако ароматного дыма.
– Табачок-то заграничный, сладкий. Ты не сумлевайся. Бабочка твоя жила в строгости. Так что беги домой, обрадуй жонку.
Казак подхватился, затоптал окурок. Быстрыми шагами зашагал к воротам собственного куреня.
Возвращались с фронта и другие казаки. Уставшие от войны, они не хотели драться ни с немцами, ни с большевиками и без сопротивления сдавали оружие по требованию небольших красных отрядов, стоявших заслонами на железнодорожных путях, ведущих в Донскую область.
Вернувшиеся на Дон фронтовики расходились по станицам и хуторам, прощались с офицерами, со своими полчанами. Отравившись дурманом большевистской пропаганды фронтовики беспечно лузгали семечки на крылечках своих куреней, весьма довольные тем, что не приходится больше тянуть надоевшую ратную лямку.
Не желающие проливать «братской» крови обманутые казаки и не думали о том, что совсем скоро умоются они кровавыми слезами и будут горько рыдать над изничтоженными советской властью семьями, над разграбленными, сожженными куренями, над собственными загубленными судьбами. А пока вечерами собирались у кого-нибудь в курене, играли в подкидного, чинили сбрую и утварь, дымили самосадом, отъедались на домашних харчах.
Степан Чекунов в накинутой на плечи шинели на вопрос о том, как там на войне, не спеша рассказывал:
– Одно название, что война. А на самом деле окопы, грязь, дожжит кажный день. День мокнем, ночь дрожим. С утра популяли по окопам и опять сидим… мокнем. Правильно сделали эти большаки, что войну прикончили.
Собеседники – старик сосед и его сын, молодой, еще не служивший казак, – молча слушали. Хозяин куреня, тоже фронтовик, батареец, дымя самосадом, чинил сеть.
Сосед с интересом спрашивал:
– А энти, большаки, стал быть, счас вместо царя? Что ж они думают?
Степан отвечал со знанием дела.
– Теперича все! Войне конец.
Старик возмутился:
– Как это конец? А если германец к нам придет?
Фронтовики в один голос осадили соседа:
– Нам войны хватило! А ты можешь идти воявать. И сына с собой прихвати. А мы дома посидим.
Все же часть офицеров, помнивших о сорванных погонах и пережитых унижениях, были уверены, что перемирие будет недолгим.
– Погодьте трохи, станишники. Ненадолго расстаемся. Скоро вас так запрягут, что сами нас на подмогу покличите!
После того как покончил с собой генерал Каледин, началась агония города. Иногородняя дума, к которой перешла власть, решила сдаться и ждала большевиков с хлебом-солью.
Казаки же решили защищать город.
В феврале 1918 года они собрались на Круг, который потом назвали «назаровским». Казачьи делегаты, собравшиеся в здании Новочеркасского станичного правления, утвердили на посту Донского атамана бывшего Походного атамана генерал-майора Анатолия Назарова. Председательствующий на кругу войсковой старшина Волошинов объявил:
– Господа! Предоставим слово Донскому атаману.
Зал дрогнул от взрыва аплодисментов.
И тут с шумом отворились двери. В зал вошел бывший есаул Николай Голубов, переметнувшийся на сторону красных. За его спиной маячили солдаты с красными лентами на смушковых папахах, перепоясанные пулеметными лентами матросы. В кармане полушубка Голубова – браунинг на боевом взводе.
– В России произошла великая социальная революция, а вы тут штаны просиживаете! – крикнул он громким хозяйским голосом. – А ну встать!
Делегаты встали. Остались сидеть лишь атаман Назаров и Евгений Волошинов.
– Не орать здесь! – сказал Назаров холодным ровным тоном. – Кто вы?
– Я Голубов, командир отряда революционных бойцов. Выполняю распоряжения Донского казачьего комитета! – закричал Голубов и сунул руку в карман полушубка.
Назарову показалось, что стоящий перед ним человек – пьян.
– Нет на Дону такой власти, господин командир революционного отряда. Земли Дона подчиняются решениям Войскового круга и атамана.
Голубов стоял лицом к донскому атаману в своей лохматой папахе, полушубке без погон, перетянутом ремнями портупеи. Еще никогда Голубов не ощущал в себе такой страшной силы и ярости. Даже самому стало немного страшно от этого ощущения. От слов атамана Голубова перекосило, он побледнел. Крикнул:
– Арестовать!
С атамана Назарова сорвали генеральские погоны, отняли шашку, ударили в лицо. Тут же стали крутить руки и Волошинову.
Арестованных отвели на гауптвахту. Прошла первая ночь. Утром затопали сапоги, захлопали тяжелые двери камер. Матросы и красногвардейцы все вели и вели новых арестованных. Привели архиерея Митрофания, генералов Усачева, Груднева, Исаева, полковников Ротта и Грузинова, десятки офицеров – войсковых старшин, есаулов, хорунжих.
В камере было холодно. Через разбитое стекло задувал холодный ветер. Назаров сидел в углу молча. Он не мог даже говорить, настолько велика была степень его потрясения. Полковник Ротт курил, стоя у решетчатого окна. Напрягая мышцы шеи, выталкивал изо рта колечки дыма. Хмыкнул:
– Нет! Ну какой же мерзавец этот Голубов! – загасив окурок о подошву и шлепнув ладонями по голенищам сапог, изумленно покрутил головой.
– Вы же помните, господа, как на парадном смотре он подобрал с земли и поцеловал окурок, брошенный государем! А сейчас он, видите ли, командир революционного отряда!
– Вы отчасти правы, господин полковник, – подал голос Волошинов. – Я знал Голубова еще с Японской. На фронте он настоящим героем был. Более пятнадцати раз ранен. В полку слыл первым разведчиком и первым же скандалистом. Начальство его чинами обнесло, вот он, обидевшись, и зачал с Подтелковым кашу варить. Про таких как Голубов говорят: на войне – герой, вне войны – преступник.
Остальные офицеры молчали, их сердца терзали неопределенность, страх, безнадежность.
На ночь Назаров устроился рядом с архиреем, дряхлым и немощным. Укрыл его своей генеральской шинелью. В темной и тесной камере был слышен храп, густой, трудный, с присвистами, с клокотанием. Назарову не спалось. Он долго слушал в ночи храп и тревожное бормотание спящих людей. Изредка его вызывали на допрос. Чернявый следователь в круглых очках допрашивал его без особого усердия, нехотя, будто для проформы. Что-то чиркал у себя на листочках. Уходил не прощаясь.
Однажды в полночь в коридоре затопали сапоги, загремели винтовки. Из камер вывели семерых: атамана Назарова, Волошинова, генералов Усачева, Груднева, Исаева, полковника Ротта и войскового старшину Тарарина. В темном коридоре у стен жался полувзвод красногвардейцев. Старшим – матрос с рябоватым лицом. На груди, крест-накрест, пулеметные ленты, на поясе – маузер.
Загребая кривоватыми ногами в брюках клеш, балтиец подметал заплеванный пол.
– Куда нас?
– Куда… Куда. В штаб Духонина! – хохотнул один из красногвардейцев.
Старший оборвал:
– Не мели чего ни попадя. В тюрьму вас переводят. Пошевеливайтесь!
Вроде не обманул матросик. Повели той дорогой, что вела к тюрьме. Подмораживало. Под сапогами сильно хрустел ледковатый снежок. Прошли последний домик на окраине и вдруг свернули с тропинки, что вела к тюрьме. Впереди лежал Ростовский тракт.
Послышалась команда.
– Стой!
За спиной клацнули затворы.
– Раздевайтесь!
Генерала Назарова словно что-то толкнуло в сердце. Обидно стало, как в детстве. Обманули. Неужели так и закончится жизнь? Поднял глаза к небу. Вверху в россыпи синих звезд светил месяц. А близко, сбоку от него прислонилась яркая крупная Венера. И потеплело на сердце. Ведь когда-нибудь это закончится?! Люди устанут убивать, и установится порядок. И начнется жизнь как жизнь, как у всех людей.
Матрос уронил себе под ноги чугунно-глухо:
– По врагам революции… – взмахнул маузером. – Пли!
Грянул залп, офицеры упали.
Подсвечивая себе заранее припасенным факелом, убийцы собрали в узлы одежду убитых. Переругиваясь и похохатывая, ушли.
Прошло полтора часа. На месте казни зашевелился Волошинов. У него были прострелены бедро и левая рука. Прочь! Скорее прочь от этого места. Подальше от холодных трупов. Белея в ночи исподним бельем, пополз наугад по тропинке. Дополз до ближайшей калитки. Дом иногородних Парапоновых. Пачкая кровью ступени, с трудом забрался на крыльцо. Из последних сил поскреб в дверь. Через дверь раздался тревожный женский голос:
– Кто там?
– Откройте… Прошу… Я – Волошинов.
– Не знаем мы никакого Волошинова.
– Я ранен. Христом богом молю, помогите!
Дверь не открыли. Волошинов потерял сознание, затих.
Хозяйка накинула платок. Крадучись выскользнула в ночь.
Волошинов пришел в себя от топота копыт, конского ржания. Перед крыльцом трое верховых – казаки Петр Никулин, Василий Абрамов, Пшеничнов. Соскочили с коней. Никулин сбросил с плеча винтовку, прижал приклад к плечу.
– Встать!
Волошинов, держась рукой за стену, стал приподниматься. Хлестко ударил выстрел.
– Ба-бах!
Пуля опрокинула человека в окровавленном белье, и он упал навзничь, разбросав руки. Бесчувственное тело подхватили за ноги и потащили по ступенькам. Голова билась о мерзлую землю, лицо в потеках крови волочилось по грязи. Тело притащили на место расстрела и бросили около трупов.
Набежали зеваки. Глазели на трупы. Волошинов снова шевельнулся. Он был еще жив. Кто-то побежал сообщить в милицию. Через час пришли трое рабочих завода Фаслера. Рабочий Карсавин в упор выстрелил Волошинову в глаз. Пуля разнесла затылок. Войсковой старшина Волошинов умер еще раз. Последний.
Через несколько месяцев его вдова пришла в дом Парапоновой. У той к тому времени отнялся язык. Умирала она долго и мучительно. У кровати сидел священник. Исповедовал. Но не дождался ни капли раскаяния. Парапонова лишь что-то злобно и мучительно мычала. И с этим мычанием, без покаяния, она и умерла.
Господь хоть милостив, но и справедлив. Каждому воздает по делам его.
Историю интересуют только факты. Слезы вдов, матерей и детей остаются только в сердцах близких людей.
Донской казак Евгений Андреевич Волошинов остался в казачьей памяти лишь как председатель Донского парламента, погибший во время кровавого заката революции. В сердцах близких людей он остался добрым и порядочным человеком, автором трогательных и лиричных романсов.
* * *
Власть в городе и на Дону безо всяких выборов захватил комитет революционной швали, который поспешил объявить себя областным исполнительным комитетом. Исполкомовцы заняли Атаманский дворец, распустили городскую думу, упразднили полицию, захватили телеграф и почту.
По всему Дону низложили атаманов. Все важное казачество и донское чиновничество – вдруг куда-то спряталось и исчезло. Но рядом с «областным исполнительным» комитетом появилось еще более страшное чудовище – Военный отдел. Отдел будто бы того же комитета, но – отдельная и более страшная власть над городом, состоящая из оголтелых крикунов из солдатского гарнизона. В Новочеркасске стояло два запасных солдатских полка, общим числом 16 тысяч.
В исполком полезли все, у кого была луженая глотка, жажда власти или жажда крови. Опьяневшая от крови и спирта орда заняла здание областного правления у крутого булыжного Атаманского спуска, и там круглосуточно кипел котел из солдатских революционных страстей – заседали, рвали глотки, выносили решения.
Рвали глотки большевистские вожаки – армейский поручик Арнаутов и есаул Голубов. Оба были совершенно бешеные. Голубов на солдатском митинге в Хотунке охрип, захлебывался пеной, призывая «покончить с казачьей гегемонией». Не отставал от него и Арнаутов. Его призывы – сплотить крестьянский фронт для укрепления завоеваний революции – кружили головы иногородним, многочисленным солдатам и матросам.
Казачье население Новочеркасска было враз сбито с толку. У себя дома на Дону они были объявлены чужаками! Нельзя было даже громко подать голос! И на улицах кричали: «Не верьте офицерам! Бойтесь казаков!»
Тех и других призывали бить, стрелять, вешать!
И к казакам неслись угрозы: «Доберемся до вашей землицы! Довольно показаковали! Теперь все равны!»
Пьяные и вооруженные солдаты бродили по улицам. Били витрины магазинов. Мочились в парадных домов. Грабили состоятельных горожан. На памятнике атаману Платову кто-то нарисовал эрегированный мужской член.
Однажды на пьедестал Ермака взобрался нетрезвый казак и в последней степени своего казачьего отчаяния захрипел простуженной глоткой:
– Батька, атаман! Что же ты стоишь и молчишь? Дай же ты Арнаутову по потылице за то, что он делает с Доном, сучий потрох!
* * *
Весной 1918 года под влиянием слухов о принудительном переделе земли всколыхнулся Тихий Дон. Петр Николаевич написал письмо кайзеру, в котором просил оказать военную помощь Всевеликому Войску Донскому, обещая в благодарность наладить снабжение германской армии хлебом, жиром, рыбой, кожей, шерстью, а также передать германским промышленникам пароходное сообщение, заводы и фабрики Донбасса. И слякотный апрель 1918 года развалил Дон на две половины.
К Ростову-на-Дону двинулись немецкие части, к Новочеркасску направились казачьи сотни из восставших станиц. В штабе Донской советской республики началась паника.
Подтелков, возглавлявший республику, заявил, что уходит на север Дона – в Хоперский и Усть-Медведицкий округа для мобилизации казачества на борьбу с врагами советской власти. Захватив с собой десять миллионов «царских» денег, вместе с казаками-фронтовиками и конвоем общей численностью около двухсот человек Подтелков ушел на север искать поддержку среди верховых казаков. Он не допускал даже мысли о том, что против него кто-либо осмелится поднять оружие. Однако он не учел того, что его имя среди казаков было уже давно проклято, как и имя Иуды.
В середине апреля казаки низовых станиц свергли большевистскую власть и захватили Новочеркасск.
В Новочеркасск стекались царские генералы – Алексеев, Деникин, Эрдели, Лукомский, Марков, деятели Временного правительства Милюков, Родзянко. Город заполонили офицеры, юнкера, кадеты. Генерал Алексеев спешно формировал Добровольческую армию. Атаман Каледин стягивал казачьи полки, возвращающиеся с фронта.
Казаки низовых округов погнали Подтелкова к границам области. Поредели ряды его конвоя, но сам Подтелков не сдавался.
– Ничего, скоро я буду вешать эту лампасную сволочь на всех телеграфных столбах! – ярился он, похлопывая нагайкой по голенищу хромового сапога.
Но 10 мая казаки догнали и окружили его отряд. Вел их бывший сослуживец Подтелкова по донской гвардейской батарее подхорунжий Спиридонов.
Утром на рассвете Подтелков и Спиридонов один на один встретились для разговора на кургане в степи. На голой его вершине было скорбно и тоскливо. Словно нищие на паперти никли стебли прошлогодней полыни. Степь у подножия кургана укрылась разноцветьем трав. Ветер суховей гнал по буграм бесшумные волны ковыля. Парили над степью рыжие коршуны, по-хозяйски зорко оглядывая степь. Грозно синела поднебесная даль.
На Спиридонове офицерские погоны. Новенькие. Не обмятые.
У Подтелкова в груди шевельнулась застарелая обида. Вечно он раньше его успевает. И в службе был первый, и чин офицерский получил. И сейчас словно царский червонец сверкает золотом погон.
Улыбаясь натянуто, сказал:
– Ну здорово, односум!.. Со встречей.
– Здравствуй, Федор.
Подтелков хотел протянуть руку, но увидел, что Спиридонов уткнулся глазами в землю. Крякнул досадливо. Достал кисет, дрожащими пальцами стал сворачивать цигарку. Подтелков затянулся дымом. Потянуло удушливо-крепким запахом ядреного самосада. Спросил:
– Вижу, погоны носишь. К старой жизни потянуло?
Спиридонов улыбнулся криво:
– А хошь бы и так? Што плохого в старой жизни?
Казаки из обоих отрядов, спешившись, ждали у подножия кургана. Говорили бывшие други долго, но никто не слышал их разговора.
После разговора Подтелков и Спиридонов разъехались в разные стороны и вернулись к своим отрядам.
Спиридонов вернулся смурной, на вопрос, о чем они говорили на кургане, коротко ответил:
– О жизни.
Под честное слово Спиридонова, что его люди не прольют казачьей крови, отряд Подтелкова сдал оружие. Поначалу спиридоновские казаки были настроены миролюбиво. Решили Подтелкова и его отряд оставить ночевать на хуторе Пономарева. Пленных вели по узкой дороге, заросшей кустами боярышника и шиповника. Дорога уходила в глубокую балку. Вдали показался хутор. Скрытые зеленью, замелькали крыши казачьих куреней. Неожиданно один из подтелковцев, растолкав товарищей, выхватил револьвер и бросился бежать. Только куда же убежишь от конного? Разве что на тот свет.
Пленных тут же обыскали. Нашли еще несколько револьверов, две бомбы. Тех, у кого нашли оружие, зарубили на месте. Казаки, еще недавно словоохотливые и благодушные, осатанели. Начали избивать пленных. Поднялся крик. Постепенно зверея, казаки хлестали пленных нагайками, били ножнами шашек, из дикой свалки доносились хрипение, вой и приглушенные крики.
Спиридонов, чувствуя, что с минуты на минуту казаки сорвутся и начнут рубить шашками уже по-настоящему, стреляя в воздух и срывая голос, пообещал, что утром Подтелкова и всех его людей будет судить трибунал.
Пленных повели на хутор. По дороге опять били, полосовали нагайками. На ночь всех заперли в сарае.
Утром был назначен суд. Судили тут же, на площади. Спешно организованный трибунал, состоящий из представителей хуторов, участвовавших в поимке Подтелкова, провел заседание. Тут же был вынесен приговор: командира отряда Подтелкова и его комиссара Кривошлыкова – повесить. Казаков, что пошли за ними – расстрелять.
В этот же день смертный приговор был приведен в исполнение на поле за хутором Пономаревым.
На краю свежевырытой ямы поставили десять человек. Вызвавшиеся добровольцы прижали к плечам приклады винтовок. После команды «изготовсь!» хищно клацнули затворы винтовок.
Толпа зевак притихла.
– Пли!
Грохнул залп.
Страшно завыла какая-то баба.
Тут же на краю могилы поставили следующую десятку. Потом следующую. Казаки убивали казаков. Страшно пахло порохом и свежей кровью. Одного из молодых казаков, стоящего с винтовкой в руках, стошнило.
В яму легло семьдесят восемь казаков. Ее набили доверху. Слегка присыпали глинистой землей. Она еще шевелилась, когда Подтелкова и Кривошлыкова подвели к виселице.
Все время, пока расстреливали казаков, Подтелков стоял к ним лицом, ободряя взглядом и словом. Связанные руки за спиной, разорванная гимнастерка без ремня, кожаная тужурка нараспашку. Ни тени страха или смятения не было на его крупном рябом лице. Вполоборота к нему стоял Кривошлыков в длинной, почти до земли, кавалерийской шинели. Его франтовато отставленная нога дрожала мелкой ознобной дрожью. Руки за спиной. Зубы мучительно сжаты.
За их спинами – перекладина из свежесрубленных сучковатых бревен.
Уже стоя с намыленной петлей на крепкой, бурой от раннего загара шее, сказал Подтелков своим убийцам со страшной смертной тоской в голосе:
– Лучших сынов тихого Дона кинули вы вот в эту яму…
Договорить не успел, из-под ног выбили табуретку. Жилы на его шее надулись, лицо посинело. Тело выгнулось дугой и обмякло. Следом за ним выбили табуретку из-под ног Кривошлыкова.
* * *
К концу апреля красные оставили почти весь Дон. Столица донского казачества начала оживать. Возникла острая необходимость создания областного казачьего правительства, и на 28 апреля в Новочеркасске назначен был сбор членов Временного донского правительства и делегатов от станиц и войсковых частей. Съехавшиеся со всех концов казачьи делегаты в офицерских и солдатских шинелях, чекменях, папахах, фуражках глазели на залитые светом залы, на люстры, на лепку потолков. Таращились на бархатный занавес и светло-синие занавески. Дружно голосовали за новую жизнь папахами и форменными фуражками.
На второй или третий день с яростной и страстной речью выступил генерал Краснов.
– Казаки, Россия накануне гибели! Но казачество имеет достаточный запас сил для того, чтобы восстановить замечательный уклад старинной казачьей жизни, и мы, в противовес большевистской распущенности и анархии, установим на наших землях твердые правовые нормы. Возрождение России начнется отсюда, с берегов тихого Дона.
Зал взорвался бурей аплодисментов, ревом, восторженными криками. В невысоком, но стройном, с гвардейской выправкой генерале казачьи делегаты увидели надежду на возрождение былой жизни.
Пятого мая Круг закончил свою работу. Избранный войсковым атаманом, генерал-майор Краснов пообещал навести на Дону порядок. Горожане, обрадованные тем, что к власти наконец-то пришел человек с твердой жизненной позицией, государственник и герой войны, высыпали на улицы, для того чтобы хоть краем глаза увидеть спасителя Дона.
Возвращающиеся в свои станицы делегаты пересказывали станичникам выступление генерала Краснова.
– Так прямо и сказал: «Теперь вижу – нужно было своевременно Россию оказачить»!
Один из слушателей, Андрей Петрович Нужин, слывший среди казаков вольнодумцем и книгочеем, покачал головой недоверчиво и сказал угрюмо:
– Эх! Смотрите, станичники, как бы Россия казаков не расказачила.
И отошел торопливо, пока никто не понял, что он сказал.
На тротуарах, во всю длину улицы, сколько видит глаз, стояли и шли люди. Горожане вывалили на улицы. Приветствовали и поздравляли друг друга. Всюду расфранченные дамы, мужчины в пальто, шляпах. Улицы, кабачки, рестораны, кафе и бульвар казачьей столицы пестрели группами нарядных офицеров. Синие, красные, черные, с лампасами и с кантами галифе и бриджи. Английские френчи, офицерские кокарды, лихо примятые фуражки, звон шпор, бряцание оружия, серебро и золото новеньких погон. Шутки, смех. Сладкие, полные надежд и мечтаний дни. В воздухе стоял запах кофе, пирогов и свежих булок.
По булыжной мостовой широким походным шагом, по привычке вытягивая носки, шагал поручик Сергей Муренцов.
Компания офицеров расположилась в небольшом ресторане на бульваре. В бокалах золотился янтарный коньяк. В чашках дымился черный кофе. Настроение у всех было приподнятое. Адъютант генерала Сиротина прапорщик Николаев, заметив Муренцова, перегнулся через перила и тонким срывающимся голосом закричал:
– Муренцов! Сережка, иди к нам! – Оборачиваясь к офицерам, торопливо захлебывался словами: – Господа, я вас сейчас познакомлю с поручиком Муренцовым. Отчетливый, должен вам сказать, стрелок, вы уж не нарывайтесь с ним на дуэль! – Пожимая руку Муренцову, говорил, заглядывая ему в глаза: – Я очень рад, Сережка, что ты жив! Прошли слухи, что ты в Москве. Надо отметить это дело. У нас армянский коньяк, «Отборный». Между прочим, поставлялся к столу Его Императорского Величества. Достал, исключительно пользуясь неограниченными полномочиями, гарантированными близостью к генеральскому телу. Кстати, разреши представить: Арсен Борсоев. Или просто Барс.
Щеголеватый хорунжий восточного типа, с топорщащейся щеточкой усов, улыбнулся весело, протянул руку для пожатия. Рука была сухая и горячая.
– Сергей, Арсен очень отчетливый вояка, в одиночку захватил батарею красных. И такой же гусар. Вчера в одиночку выпил половину ящика шустовского. Так что ты с ним на спор не пей!
Офицеры засмеялись шутке, сели за стол.
– Ты как оказался здесь? Когда прибыл? – теребил Муренцова адъютант Сиротина.
– Буквально вчера из Москвы. Там красные. Пришлось бежать к вам. Получил назначение на бронепоезд.
Офицеры громко говорили, перебивая друг друга. Каждому хотелось высказаться, поделиться той особенной радостью, так знакомой людям, объединенных одной целью. Никто не думал о том, что через несколько дней или недель они могут очутиться на фронте. Война была рядом, но о ней мало думали. Все были опьянены осознанием близкой победы.
По мостовой зацокали копыта. В окружении конвоя показалась открытая машина. Муренцов увидел в машине невысокого генерала с черными закрученными усами. Впереди и сзади скакали казаки – восемь всадников. В серых черкесках, пригнувшиеся к гривам, на злых дыбившихся лошадях. Хищные и опасные, как дикие звери.
– Господа, генерал Краснов! – крикнул кто-то.
Загремели шашки, зазвенели шпоры, зашумели отодвигаемые стулья. Офицеры вскакивали, вытягивались. Кто-то закричал:
– Ура-аааа!
– Ура! Ура! Ура! – послушно подхватили офицеры. Золотые и серебряные погоны поблескивали на солнце.
– Ура-аааааа! – незвонко и как-то нестройно кричала толпа.
Горожане аплодировали. Муренцов видел затылки. Вытянутые шеи. Дамские шляпы с широкими полями. Фуражки с офицерскими кокардами. Золотые, серебряные погоны. Взлетела вверх чья-то подброшенная офицерская фуражка.
Машина с генералом и конвоем обогнула площадь и скрылась за поворотом. В воздухе остался стойкий запах бензина и конского пота.
Вечером в ресторане гостиницы Павла Епифанова гремела музыка – гуляли офицеры. У стеклянных дверей пьяные офицеры трясли швейцара.
– Где дамы, морда! – спрашивали нетрезвые голоса.
– Господа! Позвольте!
– Пойдем по номерам!
– Господа офицеры, идем по номерам!
Истошно завизжали женщины. Раздался звон разбитых стекол. Пьяная матерщина. Кто-то побежал – затрещали кусты. «Стой! Стой! Стреляю!» – и выстрелы, выстрелы.
Послышался конский топот – примчались казаки дежурной сотни. Снова мат. Окрики. Конское ржание.
– Ррррраааззойдись!
И так всю ночь. Наутро была объявлена мобилизация. На площади стояли куцые роты. Среди серых солдатских и офицерских шинелей мелькали черные гимназические шинели с серебряными пуговицами, студенческие фуражки. В ротах были офицеры и юнкера. Полковники командовали взводами.
Из казаков формировали отдельные сотни и полки. Формированием и организацией полка занимался местный казак Федор Назаров, во время Империалистической выслужившийся в прапорщики.
* * *
Рваные клочья тумана вставали над заваленными осенней листвой улицами, загаженным перроном вокзала, серыми каменными домами. Несмотря на ранний час в городе царила суматоха – ржали кони, бряцало оружие, раздавался громкий мат и крики команд. В тупике железнодорожных путей команда нижних чинов грузила в бронепоезд ящики с боеприпасами. Город лежал как на ладони: вдоль пологого склона тянулись ряды домов, каждый ряд ниже предыдущего. У вокзала виднелись кирпичные стены пакгаузов, складов, десятки железнодорожных путей. На путях неподвижные, застывшие паровозы, холодное железо вагонов. Фасады домов, стены привокзальных зданий прошиты точками пулевых отметин. Мертвые глазницы окон. Вздыбленные стропила на развороченных снарядами крышах.
И еще – афишные тумбы на перекрестках, пестрые, будто оклеенные разноцветным лоскутом: прокламации, листовки, воззвания.
Холодный осенний ветер безжалостно трепал деревья, и они обреченно тянули к серому небу свои ветви, безжизненные, как руки умирающего человека. Воздух был полон сырой влаги, как это часто бывает осенью на Юге России. Балканский циклон, прозванный на Дону «низовкой», принес нежданную оттепель на скованную морозами землю и прилип к ней моросью, редким дождем. Ветер рвался над изрезанной балками степью, заваленной снегом, пытаясь оторваться от промерзшей земли, бросался в стороны, крутился на месте, стучался в окна и забивался под крыши добротных куреней. Но студеная земля, истосковавшаяся по теплу, крепко прижимала к себе, не отпускала, и он, теряя силы, истекал к ней леденеющими каплями.
Штабс-капитан Шанцев лениво курил папиросу, сплевывая на замазученную землю липкую слюну. Нещадно болела голова, чертовски хотелось похмелиться, но командир бронепоезда полковник Гулыга приказал готовиться к бою, загрузиться продовольствием и боеприпасами. Зная вспыльчивый характер полковника, Шанцев морщился от полуобморочного состояния, кривил губы и проклинал эту войну, красных и поручика Сашку Вилесова, так некстати притащившего прошлой ночью ящик шустовского коньяка.
Примостившись на обломке кирпичной стены, оставшейся от водонапорной башни, Сергей Муренцов, зябко кутаясь в шинель, торопливо писал в своем дневнике:
«К осени 1918 года от Рождества Христова всепожирающее пламя адского костра, зажженного кучкой революционеров, не признающих ни Бога, ни царя, ни вековых традиций, огненным смерчем пронеслось по матушке России. На пепелище остались лишь опаленные и разоренные деревенские избы, да кресты на погостах. Русский мужик, чей сусальный образ, с подачи господ писателей, навсегда впечатался в сознание обывателя как самый незлобивый, жертвенный народ якобы, начинающий креститься раньше, чем ходить, озверев при виде потоков крови, потерялся разум и бросился грабить, жечь, насиловать и убивать себе подобных.
Русская интеллигенция, всю жизнь сострадающая несчастному мужику, увидев, что тот в упоении пьяной бесноватой злобы крушит не только своих угнетателей, но и уже задрал подол матушке России, готовясь изнасиловать ее самым гнуснейшим способом, стала спешно паковать чемоданы, спеша покинуть пределы отчизны, страдания которой они так любили воспевать в своих стихах и одах».
Муренцов бросил писать, закрыл дневник.
– Шанцев, есть папиросы? – обратился он к проходившему мимо штабс-капитану.
– Есть… – приостановился тот и вытащил из кармана шинели черный кожаный портсигар. Протянул его Муренцову. – Закуривайте, поручик.
Раздался зычный голос полковника Гулыги:
– Штабс-капитан, всех офицеров ко мне.
Не успевший прикурить Муренцов чертыхнулся.
– Не судьба!
– Ну да! – серьезно подтвердил Шанцев. – Будет жаль, если погибнете не покуривши.
Прищурив от дыма глаза, он выбросил окурок. Крикнул:
– Господа офицеры! К полковнику!
Заревел паровозный гудок.
– У-у-ууу!
Казалось, что в тумане ревет громадный раненый зверь, требующий крови. Серо-зеленая туша бронепоезда выступала из тумана доисторическим исполином, толща брони, стволы пушек и пулеметов порождали ощущение силы и молчаливой угрозы. Несущий корпус мотоброневагона был склепан на швеллерах и установлен на поворотных пульмановских тележках. Толстая броня прикрывала пулеметные, орудийные и наблюдательные камеры, центральный каземат. Концевые пулеметные и наблюдательные камеры представляли собой коробку с граненым потолком. В ней размещались наблюдатель и пулеметчики. Наблюдение велось через люки со смотровыми щелями. Два пулемета были установлены на специальных станках и имели угол обстрела 90 градусов в горизонтальной плоскости и 15–20 градусов в вертикальной. Здесь же размещались ящики с патронами. Над тележками располагались орудийные камеры, при этом вся орудийная установка размещалась на шкворневой балке в центре тележки.
Команда состояла из 120 солдат и 20 офицеров.
Бронепоезд был грозным оружием. Но из-за своей громоздкости и неповоротливости слишком уязвим для артиллерии противника.
* * *
Тусклый свет ламп накаливания слабо струился из-под толстых стеклянных плафонов. Все офицеры, за исключением дежурной смены, собрались в штаб-вагоне.
Полковник Гулыга откашлялся, хрипло и надсадно объявил:
– Я только что от командующего, господа офицеры. Должен сказать, что дела наши дрянь. Красные прорвали фронт, сегодня-завтра их конница будет здесь. Наша задача – выдвигаться в район станции Широкая.
Полковник ткнул в карту огрызком карандаша:
– Мы должны максимально задержать продвижение красных войск. Выступаем через час, прошу вопросы.
Офицеры молчали, все уже было давно обговорено. Приказа выступать ждали еще несколько дней назад. Полковник Гулыга помолчал, вздохнул:
– Благодарю вас, господа офицеры!
Совсем неожиданно перекрестил офицеров широким размашистым крестом, после чего трубно высморкался в большой клетчатый платок.
– По местам, господа офицеры.
Ночью, не доезжая до станции Широкая, бронепоезд уткнулся в завал из шпал и камней. Рельсы впереди были разобраны и сброшены под откос. Раздались звуки винтовочных выстрелов. Послышались крики, громкие команды.
Ремонтная бригада бронепоезда, пытавшаяся восстановить железнодорожное полотно, сразу же легла под кинжальным пулеметным огнем.
Красные выкатили две батареи.
– Первое орудие, бронебойным, два патрона. Огонь! Второе орудие… Третье… Четвертое!
Артиллеристы красных работали как заводные. Заряжали, наводили, несколько секунд ожидания… Выстрел. Недолет. Второй. Перелет!.. Поправили прицел, задвинули затвор, вновь короткий миг ожидания. Выстрел! Взрыв почти под самым полотном, под колесами ведущего паровоза. Башни бронепоезда тоже ощетинились орудийными выстрелами и пулеметными очередями. В сторону красных ударили взрывы шрапнели. Крики раненых, ржание лошадей. Бронепоезд дал задний ход. Но снаряды красных уже разорвали железнодорожное полотно. Взрывом разметало мосточек, расшвыряло шпалы на пятьдесят саженей вокруг, вырвало длинные стальные рельсы и загнуло их к небу. Следующие снаряды задели бронеплощадку. Огонь, удар, дым, радостные крики красных. Вздымались вверх доски, какие-то бочки, тележные колеса, летели куски человеческих тел.
Уже несколько часов длилась дуэль между бронепоездом и красной артиллерией. Была разбита средняя площадка. Сорвало головную башню. На бронепоезде начался пожар. К железнодорожному полотну двигались пехотные колонны, разворачивались в атакующие цепи. Бронепоезд начал дымиться. Его пушки замолчали.
Муренцов сбросил офицерский китель и, оставшись в белой бязевой рубашке, засел за пулемет, выцеливая на мушку мелькающие тени, разрезая длинными очередями поднимающиеся серые цепи. Красные залегли вокруг бронепоезда, поливая серо-зеленую броню струями свинца.
Штабс-капитан Шанцев окровавленным лицом уткнулся в смотровую щель, Вилесов, бледнея и покрываясь последней, холодной испариной, пускал ртом пузыри крови. Какой-то бородатый казак, совершенно неузнаваемый в темноте, неуклюже завалился на спину и со смертельным ужасом в глазах таращился на темное пятно крови, расползающееся по его гимнастерке.
Муренцов слился с пулеметом и стрелял, стрелял, едва успевая вытирать мокрое от пота лицо серым от копоти и грязи рукавом нательной рубашки. Грохот орудий сливался с пулеметными очередями, звоном падающих в кожаный мешок стреляных гильз, визгом отскакивающих от бронекорпуса пуль и осколков. Дым, пороховая гарь. Раскаленный пулемет выплюнул последнюю ленту и сердито замолк. Оглохший от грохота поручик увидел, что оставшиеся в живых разбирают винтовки и гранаты.
Молоденький прапорщик закричал ему в ухо:
– Полковник приказал покинуть бронепоезд, будем прорываться в темноте!
Муренцов схватил винтовку, лязгнул затвором, досылая патрон в патронник. Несколько десятков оставшихся в живых выскользнули в приоткрытые двери на холодную осеннюю землю. Темнело. Впереди, у линии горизонта, там, где кончается степь, розовела половинка мутного от пыли и дыма солнца. Далекий гул, запах пороха, тротила и страха.
Красные цепи молчали. Муренцов полз, вжимаясь всем телом в жесткую мокрую траву, слыша рядом хриплое дыхание. По цепи передали:
– Изготовьсь!
Муренцов подтянул поближе винтовку.
Впереди, в темноте виднелся земляной бруствер траншеи. За ним прятались красноармейцы.
Приготовились к рывку вперед.
– Ура-аааа!..
В это время раздался оглушительный взрыв, полковник Гулыга взорвал бронепоезд. Муренцов не услышал удара и не почувствовал боли. Ночь окрасилась яркой вспышкой, ноги его подломились, и он упал лицом в холодную мокрую землю.
* * *
Утром следующего дня путевые рабочие и красноармейцы восстанавливали железнодорожное полотно. Шустрый чумазый паровозик утащил на станцию останки бронепоезда. От взрыва пострадали всего лишь три платформы, покореженные и обожженные, они валялись под откосом железнодорожного полотна. Пленных не было. Раненых и оставшихся в живых бойцы интернациональной бригады добили штыками и шашками.
Ближе к вечеру казаки с окрестных хуторов на подводах направились к месту боя в надежде разжиться тем, что не успели подобрать красные, и по христианскому обычаю похоронить убитых. Над холодной степью кружилось воронье. Окровавленные тела без сапог и обмундирования лежали перед насыпью железнодорожного полотна. Около десяти человек лежали друг на друге, как порубленные деревья. Их постреляли из винтовок, перекололи штыками. С простреленной головой лежал безусый прапорщик.
Прохор Косоногов походя успел заметить тускло блеснувший на солнце четырехгранный штык. Вырвал клок сухой пожухлой травы, присыпанной снегом, вытер штык и сунул его в телегу, под дерюжку. Бросив подводу, Прохор переходил от тела к телу, истово крестился, глядя на лица убитых, на каркающее воронье. Какая-то неведомая сила притягивала его взор и заставляла с каким-то болезненным любопытством всматриваться в искореженные смертельной мукой лица, ища на них какие-то неведомые знаки.
Запряженная в телегу лошадь, чуя запах свежей крови, беспокойно прядала ушами и фыркала ноздрями.
Восьмилетний Мишутка держал ее под уздцы, уткнувшись головой в бархатные лошадиные ноздри. На его ресницах дрожала прозрачная слеза. Внезапно Прохор упал на колени и заросшим седым волосом ухом припал к серой от пыли и грязи груди лежащего человека. Легкий ветерок слегка шевелил грязные лохмотья бязевой рубашки, и под кровавым пятном на рубашке старик услышал слабые удары сердца:
– Тук-тук… тук-тук-тук.
– Внучек, внучек!
Старик замахал руками.
– Скорее, давай сюда подводу, один, кажись, еще живой!
Лошадь не шла. Закусив от напряжения губу, мальчик вместе с дедом на руках перетащили обмякшее безвольное тело в телегу, подложив под голову смятую тряпку.
– Но-о-оооо! – закричал старик.
Всхрапывая и кося испуганным взглядом, лошадь понеслась к станице, прочь от запаха смерти и мертвых тел.
* * *
Пришла весна 1919 года. На Верхнем Дону в степи дружно таял снег, обнажая проплешины сухих проталин. В воздухе стоял пьянящий аромат талого снега, конского навоза, горьковатый запах дыма из кузнечного горна. Муренцов почти поправился, но на баз старался выходить затемно, чтобы не встречаться с чужаками. Ждал случая, чтобы вернуться домой, в Москву. Поздним вечером он накинул на плечи тулуп из овчины и вышел во двор раздышаться. Облокотившись на приклеток амбара, он курил, вслушиваясь в собачий брех, и не заметил, как у плетня появилось усмешливое лицо соседа Степана Чекунова.
– Здорово вечерел, ваше благородие.
– Слава Богу, Степан Алексеевич. И тебе не хворать. Что нового в большом мире?
Сосед остановился рядом, сильно затянулся ядреным самосадом, закашлялся и с ненавистью выговорил по складам:
– Граж-ду-пра!
Муренцов поперхнулся:
– Алексеич, ты где слово такое услышал?
– Сегодня утром ревкомовцев возил в город, ну и по дороге слышал гутор ихний. Гутарили, что большевики на Дону создали эту самую, граж-ду-пру. А она новый декрет объявила, что, дескать, прежнее правление на Дону отменяется. Станишникам теперь лампасы запретят, бабы будут общие, а станицы наши в честь большевиков переименуют. Назовут их Ленинская да Троцкая. Не будет теперь станиц и хуторов. Села и деревни теперича будут.
Помолчали. Муренцов мысленно переваривал услышанное.
– Твой старик-то дома? Ты ему передай, что ревкомовцы грозились по ночи всех ахвицеров заарестовать, так что вы с Прохором поостереглись бы.
Муренцов затоптал окурок.
– Ну, прощевай, сосед, благодарю за новости.
Вбежал в хату.
– Дедуня, беда. Уходить мне надо. Ночью ревкомовцы придут. Если меня найдут, и тебя со старухой и внуком по головке не погладят.
Старуха с внуком лежали на печи. Старик ковырял шилом старое седло, протягивая дратву через кожу.
– Погодь трохи, вашбродь. Не шебурши. Куда ты по ночи, зимой да пеши? Коня я тебе не дам. Где я потом коника искать буду? А он мне самому нужен, через пару месяцев сеять. Дай покумекать. А ты збирайся пока. Старуха, ну-ка собери нам харчей в дорогу.
Пока жена укладывала в котомку сало, кусок вареного мяса, старик убрал седло. Вздохнув, достал из сундука шаровары с лампасами, натянул на себя тулупчик.
– Вот что, Сергеич, давненько я у односума своего, Петра Шныченкова, на хуторе не был. Нехорошо это – старых товарищев забывать, сейчас жеребчика запрягу, да поедем.
Уже одетый и подпоясанный Муренцов впился в него взглядом, нервно подергивая ногой.
Они вышли на баз. Неожиданно пошел снег. Крупные снежинки падали на застарелый потемневший снег, таяли на изгороди и крышах. Стояла тишина. Черная ночь вороным крылом накрыла станицу, мерцали лишь одинокие холодные звезды, да обкусанный по краям месяц бодливо показывал рожки. Крыши куреней и сараев были покрыты снегом, плетни и деревья стояли в белой опуши инея. Хрустко поскрипывал под ногами снег.
Прохор вывел жеребца из денника и надел на него сбрую. Хомут лег ему на плечи свинцовым грузом, и Буян заржал недовольно, горестно задирая вверх свою голову.
Прохор замахнулся на него кнутом.
– Тише ты, аспид чертов, коммуняк разбудишь.
Жеребец перебирал копытами, недовольно всхрапывая.
Прохор принялся затягивать супонь. Потом сходил в сарай, принес укороченный карабин, завернутый в мешковину. Положил в розвальни. Притрусил его соломкой. На молчаливый вопрос Муренцова бормотнул:
– Так мягшее… да и ружьишко не повредит в дороге, вдруг волки… Но-ооо! Пошел родимый.
Вожжи хлестанули коня по спине. Жеребец рванул вперед. Легкие сани летели по насту, почти не касаясь земли. Муренцов лежал пластом, ухватившись руками за облучок. В степи было тихо и морозно. Тишину нарушал лишь скрип полозьев да перестук лошадиных копыт. Одинокие стебли полыни раскосмаченно кланялись путникам в зыбком лунном свете. В низине, где снега навалило поболе, конь начинал задышливо хекать, сани вязли в снегу. Трещал сухой кустарник под копытами.
Прохор размахивал вожжами, кричал:
– Но-оооо, милай! Вывози, родимый!
Конь напрягался, фыркал гневно и, вытянув сани, самостоятельно переходил на легкий бег. Тень от саней, хомута, несущегося вперед коня с клубами вырывающегося из его ноздрей убаюкивала Муренцова, гнала прочь мысли о войне и смерти.
Прямо на берегу Дона расположилось несколько саманных куреней, покрытых камышом. Чуть поодаль располагался дом, построенный из сосновых брусьев, с крышей, покрытой железом. Именно к нему Прохор и направил коня. Муренцову был виден застывший Дон, подвывал ветер. Буян сам остановился у знакомых ворот. Залаяли собаки.
Через несколько минут из ворот, накинув на плечи полушубок, вышел чубатый казак, односум Прохора. Зорко вглядываясь в сидевших людей, он подошел к саням, обнял Прохора, протянул Муренцову сухую, провонявшую лошадиным потом и ружейным маслом ладонь.
– Никак вашбродь с тобой, Прохор?
– Ну да, Петро, это тот самый, кого я от краснюков спас, а старуха моя выходила отварами. Не бросать же его большакам на расправу!
– Оно, конешно, бросать негоже. Сюда они не сунутся, а если и сунутся, то укорот враз получат. Ну, пойдем с нами. У нас тесновато, но в тесноте, не в обиде, даст Бог, разместимся. – И пошел открыть ворота.
В просторном дворе располагалось несколько строений – саманная конюшня, загон для свиней, несколько сараев, амбар. Привязанные к коновязи стояли кони. В углу двора снег алел красными пятнами. Валялись ошметки обгоревшей соломы. Пахло паленой щетиной.
Прохор крякнул:
– Вовремя поспели. Кабанчика забили.
Муренцов вслед за Прохором и хозяином вошел в натопленную комнату. На стенах висели зеркало, семейные фотографии, портреты царей, репродукции из журналов. Топилась печь. Хозяйка жарила мясо на огромной сковородке.
На полу вповалку лежали и сидели казаки. Кто-то чистил оружие, ведя меж собой неспешный разговор, несколько человек спали, с головой укрывшись шинелями и тулупчиками.
– Доброго здоровьица, станишники. Хлеб-соль!
При виде гостей все замолчали, нестройно и коротко ответив на приветствие.
Прохор крякнул:
– Эх, Петро, Петро, что же ты службу плохо правишь? Мало я тебя под шашку ставил. Разве ж можно без охранения? А если бы ревкомовцы с ружьями и пулеметами нагрянули?
Петр захохотал:
– Хватился старик! Уже четверть часа, как соседский хлопчик верхи прибежал. Говорит, едет дядька Прохор и с ним чужой, городского обличья, вроде как из ахвицеров.
– Ну и слава богу, – подобрел Прохор. – Ты распорядись, Петро, нехай моего жеребчика распрягут да сенца ему положуть!
Шныченков вышел.
Хозяйка, метя по полу юбками, принесла с кухни шкворчащую сковородку с мясом. Поставила на чисто вымытые доски кухонного стола. Казаки, крестясь, потянулись к столу.
На крыльце затопали сапоги, заскрипела дверь, и в прихожую вошли еще несколько человек. Все они молча развязывали окоченевшими пальцами башлыки, снимали шинели и полушубки.
Хозяйка, недовольная было непрошеными гостями, хотела что-то сказать, зыркнула глазами, но тут же осеклась, спустилась в погреб и принесла оттуда большую миску квашеной хрустящей капусты, огурчики, моченые арбузы. Пока все здоровались да крутили цигарки, покрошила в капусту лучок, полила постным маслом. Придвинули еще один стол, на крайние табуретки положили доски. Слава Богу, разместились все. Оголодавшие казаки навалились на картошку со свежей убоиной в семейной сковородище, размерами схожей с ушатом. И пока хозяйка хлопотала с самоваром, завели неспешные разговоры о прошлой службе, о войне да предстоящем севе.
Слегка разморенный теплом и сытным ужином Муренцов смотрел на казаков растроганными глазами, думая о своем: «Вот на таких и держится Россия. Жива будет Отчизна, пока живы казаки».
Прохор засобирался домой. Расставаясь, сунул Муренцову свой карабин.
– Прощевай, Сергеич! Даст Бог, свидимся.
Муренцову на полу в горнице, возле лежанки, постелили шубу. Он скинул сапоги и, не раздеваясь, рухнул спать. Уснул сразу, едва лишь щека коснулась прохладной, пахнущей свежестью наволочки.
Ночью Муренцов проснулся от сильного храпа. В комнате пахло мокрой овчиной, табаком и жарко натопленной печью. Внезапно храп оборвался. Человек зачмокал губами, забормотал и начал кашлять. Откашлявшись, плюнул и снова захрапел.
В едва забрезжившем утреннем свете, сквозь длинное и узкое окошко с частым переплетом, Муренцов видел молодой месяц с рожками. И захолонуло, сжалось от внезапной тревоги сердце. Что с нами со всеми будет завтра?
Утром Петр дал ему каурого жеребчика вместе с седлом. Сказал:
– Звиняй, Сергеич, шашки лишней нема. В бою добудешь. Думаю, что уже скоро. Не сегодня, завтра схлестнемся с краснюками!
* * *
11 марта 1919 года на Верхнем Дону началось восстание казачества против большевиков.
Ровно в полдень на хутор прискакал верховой. Где-то вдалеке сухо трещали выстрелы, ухало орудие. Все казаки, находящиеся в доме, высыпали во двор. Верховой, перегнувшись через луку седла, что-то бросил Петру. Тот побледнел, выплюнул папироску, закричал, багровея лицом:
– Седла-а-ааать! Выступаем!
По двору забегали люди. Петр Чекунов уже сидел в седле, конь под ним прядал ушами, нервно перебирал копытами. Хищно щерясь щербатым ртом, Петр бросил Муренцову:
– Пойдем на соседний хутор. Там зазноба Мишки Парамонова, главного ревкомовца, проживает. Наверняка и он там. Пошшупаем его за кадык!
Отряд строился на улице, человек пятнадцать верховых, неполный взвод. Колонной, на рысях, двинулись на спуск к Дону.
Казаки проскакали по улице хутора. Муренцов и Петр спешились, привязали лошадей к стоящему дереву. Пригибаясь, направились вдоль плетня во двор к Парамоновым. Шедший впереди Петр первый вошел на парамоновский баз. Дзынькнуло оконное стекло, негромко хлопнул револьверный выстрел. Пуля попала Шныченкову в правую руку. Он выронил винтовку и, перекосившись на правый бок, отскочил к амбару.
– Сергеич, в сенях он. Я отвлеку его зараз, а ты сзади зайди, со стороны сада! – закричал он громким шепотом, неловко шаря левой рукой по поясу и пытаясь расстегнуть кобуру нагана.
Муренцов, задержавшийся за воротами, пробежал вдоль плетня и перемахнул в сад. Темнели окна дома. Во дворе трещали револьверные и винтовочные выстрелы. Прикладом карабина выбил стекло, опасаясь порезать лицо, поднял воротник полушубка и бросился в окно. Ему показалось, что в комнате кто-то есть, мелькнула и осталась в памяти разобранная кровать, скомканное ватное одеяло.
Парамонов встретил его в коридоре в расхристанной, мокрой от пота рубахе. Револьвера в руках уже не было, кончились патроны, понял Муренцов.
В руках у Мишки была обнаженная шашка. Ее жало смотрело в пол и походило на змею, готовую ужалить смертельно.
Распаленный страхом смерти Парамонов заревел:
– Убью! – И занес шашку.
– Стреляй! – крикнул мелькнувший в дверном проеме Шныченков.
Грохнул выстрел. В комнате кисло запахло сгоревшим порохом. Мишка подломил колени и рухнул лицом вниз. На его спине расплылось кровавое пятно.
– Везунчик ты, Сергей Сергеич. Думал, убьет он тебя…
Петр поднял с пола шашку.
– Ну вот, господин поручик, тебе и сабелька. Добрая шашка.
На улице уже ржали кони, раздавались громкие голоса, бряцало оружие. То подоспели казаки. Петр, глядя на окровавленное тело, распластавшееся в комнате, распорядился:
– Это дерьмо вытащить на баз, пусть его собаки гложут.
Кто-то из казаков, разорвав на полосы чистую простыню, уже бинтовал ему руку. Морщась от боли, Петр приказал:
– Пошукайте по комнатам, хлопцы, где-то тут его волчица ховается.
Через несколько минут раздался плач, крики. Казаки за волосы приволокли рыдающую женщину из спальни. Муренцов успел охватить взглядом ее фигуру, крепкую грудь, задницу, обтянутую ночной сорочкой.
– А что, хлопцы, может быть, отхарим эту ревкомовскую проблядь со всей нашей казачьей удалью? – обрадованно закричал Петр. – А?.. Чего молчите?
Муренцов понял, что Петро не шутит. Понял и то, что мысль пришлась всем по душе. Сжав в руке рукоять шашки, он рванулся навстречу и наткнулся на волчий тяжелый взгляд Петра. Ствол револьвера смотрел ему в живот. Тяжело роняя слова, словно кидая в прибрежную воду камни, Шныченков выдавил:
– Ты погодь, вашбродь… соваться не в свое… дело. Погодь… трохи.
Беспричинно свирепея и кривя рот, закричал:
– А они нас жалкуют? Детишков да баб наших, которые после власти их безбожной без кормильцев остались?
Рванул рукой ворот ее ночнушки так, что разорвал рубашку до самого подола, и Муренцов увидел, как курчавятся ее сухие и жесткие волосы под мышкой.
Петро повернулся к казакам и, недобро улыбаясь, попросил:
– Вы, хлопцы, загните ее раком и придержите слегка, чтобы раненую руку мне не задела, а то брыкаться еще начнет. Так мне приятнее будет, а ей, гниде, обиднее переживать свое падение.
Побагровев лицом, Муренцов сгорбился и, подняв воротник полушубка, вышел во двор, в сердцах хлопнув дверью.
Наутро конный отряд двинулся в станицу Вешенскую, где располагался штаб восстания. Казаки спешили.
Лошади, от которых валил пар, безостановочно шли крупной рысью. По дороге встречали казаков. Попалось несколько небольших вооруженных отрядов, двигавшихся в ту же сторону.
* * *
Выступление казаков Верхнего Дона совпало с выступлением Добровольческой армии генерала Деникина на Кубани и успехами армии Колчака, продвинувшегося с Урала до средней Волги.
В первой декаде июня 1919 года конница генерала Секретева, усиленная пятью десятками станковых пулеметов Максима и таща за собой конные орудия, сокрушительным ударом прорвала линию обороны красных вблизи станицы Усть-Белокалитвенской, двинулась в сторону станицы Казанской.
Офицерский разъезд 8-й Донской конной бригады двинулся к Дону. Пересмеиваясь и переговариваясь, офицеры шли рысью. За их спинами у линии горизонта медленно оседало солнце. Терпко пахло полынью, горьким конским потом.
Командовавший разъездом штабс-ротмистр Половков, оглянувшись, заметил в стороне стоящего на задних лапках сурка. Тот, вытягивая шею, поглядывал на конных, жалостливо посвистывая.
Уже темнело, когда разъезд наткнулся на вооруженных людей. Завидя конный отряд, те прыснули в разные стороны, но Половков, сорвав с плеча винтовку и изготовившись для стрельбы, зычно крикнул:
– Стоять, канальи!
Люди остановились, стали возвращаться, опасливо поглядывая на верховых. Офицеры спешились, с любопытством посматривали на оборванных небритых казаков. Штабс-ротмистр достал из кармана френча серебряный портсигар. Неторопливо размял папиросу, продул мундштук. Спросил хрипло:
– Кто такие?
Молодые казаки оробело смотрели на чисто выбритых офицеров, ладно пригнанное обмундирование. Ответил стоявший ближе всех урядник, в накинутой на плечи старой прожженной шинели, разбитых сапогах.
– Разрешите доложить, вашбродь. Полевой караул хутора Варваринский.
Половков чиркнул спичкой. Спросил с ехидным вызовом:
– Ну-с, станичники! И чего же побежали, как зайцы?
– Молодежь, вашбродь. Необстрелянные ишшо. Думали, красные.
Штаб-ротмистр продолжал издевательски отчитывать:
– Ну а сам-то? Ты-то стреляный заяц!
Урядник вздохнул виновато.
– В том-то дело, господин ротмистр, что стрелянный. Потому и помирать неохота.
Половков затоптал папироску, сплюнул, косолапо загребая, пошел к лошадям. Вскочив на коня, перегнулся через луку седла к уряднику.
– Ваш караул снимаю. Через час здесь будут уже наши части. Предупредите своих командиров, пусть готовятся к встрече, и не дай бог, кто сдуру выстрелит. Все. Исполняйте. Бегом марш!
Ударил коня каблуками, тот зло оскалился, прыгнул вперед. Следом наметом рванули другие.
Казаки нестройной толпой двинулись к хутору. Один из них, постарше, сказал огорченно:
– Хоть бы закурить предложил вашбродь. Папиросы-то какие были духовитые!
Урядник сплюнул.
– С какого хрена он с тобой курить будет? Ты ему кто? Ровня? Насмотрелся я на них, на позициях. Белая кость. Правильно делают большаки, что к стенке их ставят.
Помолчал. Потом выругался зло.
– Хотя какая нам разница, белые… красные!.. Х…р на х…р менять – только время терять!
* * *
Ставка Деникина размещалась в Таганроге. Генерал Краснов, к тому времени разругавшись с командованием Добровольческой армии, подал в отставку и отбыл с Дона в Эстонию к Юденичу, а позднее – в Германию. Обстановка складывалась в пользу Добровольческой армии, которая на тот момент составляла 100 тысяч штыков и сабель.
В июле 1919 года генерал Антон Иванович Деникин издал директиву о наступлении на Москву. Однако сил для развития успеха у него не хватило, и совместный поход «добровольцев» и казаков на Москву в 1919 году закончился провалом. Большевики собрали все силы на юге и нанесли удар.
Добровольческая армия, лишенная какой-либо поддержки, не имеющая ни тыла, ни флангов, с тянущимся за собой хвостом обоза и свирепо ненавидимая мужицким населением, как гонимый охотничьими собаками дикий зверь, тяжело отходила на юг.
К концу декабря 1919 года части Добровольческой армии подошли к Дону. Зима выдалась холодная, и Дон к этому времени крепко замерз. Перейдя реку, потрепанные остатки дивизий заняли фронт от Азовского моря до Ростова и Нахичевани. Конная бригада генерала Барбовича подошла к Ростову последней. Город и мост были уже заняты красными. Отбив несколько атак, бригада к вечеру со всей своей артиллерией перешла Дон прямо по льду. За два дня до этого из Ростова ушел в Азовское море ледокол, проломавший открытую полосу в середине реки, но через несколько часов она вновь замерзла.
Бывший полковник Генерального штаба Василий Иванович Шорин, командовавший у красных Юго-Восточным фронтом, отдал приказ командарму Первой конной армии Буденному немедленно форсировать Дон. Красные части должны были захватить Батайск и ударить встык между добровольцами и казаками.
Условия местности и погода благоприятствовали красным. Красная лава налетела на еще не успевшие развернуться резервные порядки армии Деникина, разметала их, и вся эта масса перемешавшихся всадников, пулеметных тачанок и орудий неудержимо понеслась, коля и рубя друг друга.
Двинувшаяся на перехват красным частям донская конница попала в метель. Под Торговой множество людей обморозилось, донцы были разбиты и разметаны по степи.
За ночь метель улеглась, и 6 января с утра стояла тихая, морозная и ясная погода. Главные силы Буденного, 4-я и 11-я кавалерийская дивизии и части 6-й, начали с рассветом переход по Нахичеванской переправе. Первые сведения об этом поступили в 7 часов утра от конных разведчиков.
Атакующим полкам представилась незабываемая картина: совершенно ровная, гладкая как стол и покрытая девственно белым снегом широкая, искрящаяся на солнце степь с торчащими невысокими курганами. Отступающие редкие цепи донцов и кубанцев, а у них на плечах густая серо-зеленая лава красных с плюющимися огнем пулеметными тачанками. За лавой двигались несколько квадратов резервных бригад. Между ними и на флангах – снимающиеся с передков на открытой позиции. Основную массу белой конницы составляли казаки-донцы и кубанцы.
Были терские казаки, немного лучше сохранившиеся, под командой генерала Агоева. Но их было немного, примерно 2000–2500 шашек. Были вполне стойкие калмыки, но их было совсем мало, всего лишь несколько сотен. Всего было собрано от 15 до 18 тысяч клинков.
Грозная сила, если бы казаки были прежние. Но казаки уже не хотели драться. Они были в плохом состоянии, многие обморожены. Донцы деморализованы потерей своей территории и были небоеспособны. Они потеряли дисциплину, бросали пики и винтовки, чтобы их не посылали в бой. Исполняли приказы нехотя и фактически уже закончили воевать.
Кубанцы были сплочены, собирали кинутое донцами оружие. У каждого за плечами были две, иногда три винтовки. Но и они не желали драться с красными. Они тоже стремились домой и были настроены далеко не воинственно. Кони изнурены большими переходами и еле шли.
Белая армия, теряя силы и возможность к сопротивлению, отступала на Кубань, ища рубеж, где можно было произвести перегруппировку, привести себя в порядок и подготовиться к новым операциям. Но не было больше никаких операций…
* * *
В одном из последних боев под Новороссийском Муренцов был ранен в грудь.
Раненые сидели и лежали на полу, на лестнице в помещении женской гимназии. Тут же лежали умирающие. Санитары спотыкались о людские тела, их ноги скользили на мокром от крови полу. В воздухе стоял тяжелый запах лекарств, крови, пота. Муренцов метался в бреду, и рука его ощущала позывную, тягучую тяжесть занесенного над головой клинка. Перехваченное горло хрипело, конь стлался в бешеном намете. Приходя в сознание, Муренцов застонал. И тут же почувствовал у себя на лбу прохладную ладонь.
– Лежите… Лежите, господин поручик. Вам нельзя шевелиться.
Он открыл глаза.
– Кто вы?
– Я – сестра милосердия. Мария Ивановна Шехматова. Маша.
На косынке проходившей мимо молодой женщины вышит красный крест.
– Маша…
И снова потерял сознание.
А потом было выздоровление, почти месяц счастливой жизни с Машей и отступление с полком.
Донская и Кубанская армии, почти полностью деморализованные, отходили в беспорядке. Оборону держали только остатки Добровольческой армии, к тому моменту сведенные в Добровольческий корпус, но и они с трудом сдерживали натиск РККА.
У Муренцова было мрачно и душно на душе, словно в могиле. Болело сердце. С тоской он думал о том, что от полутора тысяч человек, с кем вместе вышли из Ростова, едва осталась рота. Все было кончено. Россия погибала. Населенные пункты обезлюдели. В деревнях и станицах стояла кладбищенская тишина. Зияли выбитыми стеклами обветшалые хаты. Чернели пятна забитых досками дверей. И только кресты, словно умоляя, тянули вслед отступающим полкам деревянные перекладины рук.
Казакам не удалось пробиться на Тамань, и в результате наступления красных они оказались в Новороссийске.
Спасти остатки Белой армии от окончательной гибели могла только экстренная эвакуация. Но пароходов не хватало. Часть судов запаздывала из-за штормовой погоды, часть не сумела вовремя прийти на помощь из-за карантина, установленного в иностранных портах. Эвакуация осуществлялась в обстановке паники, во время которой погибло несколько сотен человек.
Муренцову удалось затолкать Марию на последнее судно, отходившее от пристани в Крым. А сам он остался. Места на отплывающем корабле Муренцову не нашлось. Опустив руки, он долго смотрел на то, как в утренней дымке тает силуэт уходившего корабля.
Именно тогда была поставлена последняя точка в этой тяжелой, кровавой, братоубийственной войне.
* * *
Поезд шел в сторону Москвы.
Крестьяне со своим скарбом, мешочники с набитыми баулами, бывшие фронтовики, дезертиры и прочий неустроенный люд, кого военное лихолетье лишило своих домов и привычной оседлости, оккупировали вагоны поезда. Люди сидели, стояли и спали не только на диванах и вагонных полках, но и на полу, в коридорах и отхожих местах. Все это людское месиво орало, кричало и спорило, отстаивая свои права. Каждый старался хоть на время отгородиться от остального враждебного мира своими узлами и котомками. Поезд шел, неторопливо постукивая вагонными колесами, и постепенно люди успокоились, притихли, понимая, что хоть час, два или десять никуда не надо будет бежать, занимать очереди и материться, размахивая кулаком или наганом. Надо только плотнее прижаться к своему скарбу, чтобы не стащили вагонные воришки, не прихватил какой-нибудь лихой человек, заметивший, что вещь оставлена без присмотра. В набитом битком вагоне стоял смрад табачного дыма, портянок, лука. Воздух от ночного испарения скученных, давно не мытых тел был невыносимо удушлив. В открытые окна залетал запах гари, прелой листвы, увядающего лета.
– Ах, Россия, Россия, что ты позволила с собой сделать?
Много лет в России шла непрекращающаяся война, жернова смерти крутились день и ночь, перемалывая новых людей, жизни, судьбы.
Алексей Костенко, бывший командир эскадрона 46-й стрелковой дивизии Красной армии, после ранения и контузии уволился и направлялся в Москву. Он воевал с 1915 года, сначала против немцев, заработав рану от штыка и Георгиевский крест, потом пошел за большевиками. Так получилось, что на жизненном пути ему встретились люди, сумевшие объяснить несправедливость государственного устройства. Они смогли привить ему веру в то, что устоявшийся мир можно переделать, сделать его справедливым и добрым, где не будет войн, не будет несправедливости и нищеты.
Одетый в солдатскую шинель Костенко прикорнул у окна, стараясь уснуть.
Почти напротив расположился мужчина примерно одного с ним возраста, в точно такой же солдатской шинели. Однако ни она, ни неряшливая щетина на его лице не могли скрыть офицерской выправки, интеллигентности лица и чистых рук с тонкими бледными пальцами. «Офицерик», – подумал Костенко. Глядя на него сквозь ресницы, Муренцов подумал то же самое: «Офицер, сейчас, наверное, у красных». Подняв воротник шинели и сунув руки в карманы, Муренцов дремал, чутким ухом прислушиваясь к шуму в вагоне и нащупывая в кармане рукоять револьвера.
Паровоз пронзительно засвистел и резко затормозил. Завизжали тормоза, вагон дернулся и остановился. С верхних полок посыпались мешки, чемоданы. Невдалеке раздались выстрелы, конское ржание. Пассажиры вскочили со своих мест, озирались, прислушивались. Всем было ясно, что ничего хорошего такая остановка не сулит.
«Банда», – подумал Муренцов, взводя в кармане курок револьвера. Поезд несколько раз дернулся, лязгнул буферами и, заскрипев колесами, встал.
В открытое окно вагона заглянуло бородатое страшное лицо в папахе, выматерившись, вцепилось взглядом в напряженное лицо Костенко. Конь под папахой нервно и зло фыркал, желтая пена с конской морды летела в разные стороны.
Муренцов видел, как со всех сторон поезд стали окружать подводы, послышался крик, женский плач, выстрелы, отборная матерщина. В коридоре вагона показался человек, пару минут назад заглядывавший в окно вагона. В руках у него был ручной пулемет, казавшийся игрушкой. Коридорный проем заслонила его двухметровая медведеобразная фигура, сходство со зверем добавляла мохнатая борода, огромная папаха. За спиной толпились люди с винтовками и обрезами. Человек в мохнатой папахе громко объявил:
– Гражданы свободной России! Поезд временно задерживается частями Освободительной народной армии. Офицеры, жиды и комиссары арестовываются для установления личности. Все трудовые крестьяне после проверки документов могут быть свободны.
Его окружение бросилось потрошить вещи пассажиров. Проверяющие забирали все мало-мальски ценное, сносили все в подводы. Сумки и котомки полетели в открытые окна. Пассажиры зашевелились, хватая свои вещи и прижимая их к себе.
Человек с пулеметом пошел по вагону, заглядывая в лица людей. Алексей вжался в угол, натянув на глаза офицерскую фуражку, но это не помогло. Бандит ткнул в его сторону стволом пулемета.
– Хто такой, кажи документы?
Костенко полез за пазуху шинели, морщась под цепким пристальным взглядом.
– Это конец… как глупо…
Совсем негромко ударили два выстрела. Револьвер, спрятанный в кармане Муренцова, тявкнул совсем не страшно. Но бородач дернулся и, ступив шаг вперед, завалился на сидевших на полке людей.
Сергей Муренцов и Костенко вскочили одновременно, карман шинели поручика дымился, в руках был револьвер. Алексей, ухватив за ствол пулемета, дернул его на себя. Муренцов несколько раз выстрелил в сторону людей с винтовками и обрезами, бегущих по коридору. Не сговариваясь, через окно выскользнули наружу, на них никто не обращал внимания. Мародеры, привыкшие к безнаказанности, тащили в подводы вещи и продукты. Костенко с пулеметом в руках бросился к ближайшей из них. Из оставленного вагона послышались выстрелы, раздались крики:
– Мыкола, Грицько, москали утекли. Ну-ка рубаните их сабелькой!
Тщедушный возница с лукавым лисьим личиком и бегающими хитрыми глазками, раскладывающий на телеге узлы, увидев бегущих к нему вооруженных людей, хотел было перекреститься, но, подняв руку, внезапно передумал и молча юркнул в канаву. Упав на дно подводы, Муренцов схватил вожжи, нахлестывая лошадь и поворачивая в сторону от спешащих к ним навстречу людей. От головного вагона к ним рванулись несколько всадников и, пластаясь, пошли наперерез логом. Муренцов бил лошадь кнутом и помогал себе диким посвистом.
Над их головами вжикали пули, но скачущему во весь опор всаднику попасть в двигающуюся мишень можно только случайно.
И Костенко повел стволом пулемета. Передняя лошадь подломила колени, выбрасывая человека из седла. Еще один преследователь взмахнул руками, захрипел, заваливаясь на спину. Бились на земле раненые кони, и расстрелянные, переломавшие в падении шеи люди серыми кочками лежали на желтеющей траве. Остальные рассыпались, рванули в разные стороны. Стоя на коленях, Алексей выпустил несколько коротких очередей, телегу трясло и бросало на ухабах и кочках, пули улетали в белый свет. Их никто не преследовал, беглецы свернули в лес. Осмотревшись по сторонам, Муренцов выпряг лошадь, ладонью ударил ее по крупу.
– Иди, милая, к людям, а то сожрут тебя волки.
Протянул товарищу руку:
– Поручик Муренцов, Сергей.
Тот в ответ протянул свою:
– Алексей Костенко, командир Красной армии.
Двигались пешком. Молодые люди не питали друг к другу ненависти, хотя у них не было оснований для особой любви. Через густой лес пробирались два человека, каждый из которых сделал свой выбор.
За те несколько дней, что лесами пробирались к большому городу, они много говорили. В разговорах старались не затрагивать те идеалы, которым служили. Каждый видел целью свой жизни служение России, только один считал своим Богом Ленина, другой присягал царю. Алексей спросил Муренцова, почему он начал стрелять, когда бандит хотел вывести его из вагона, может быть, его бы и не тронули? Тот поморщился.
– Честно говоря, не знаю и сам. Для меня что бандиты, что красные – все едино.
Костенко усмехнулся.
– Вот уж не думал, что я похож на бандита!
– Да нет, как раз вы мне показались порядочным человеком. В вашем лице есть что-то такое… – Он пощелкал в воздухе пальцами, подбирая подходящее слово. – Словом, что-то от героев Толстого. Ну… а тот был откровенный хам, быдло, возомнившее себя царем земли и хозяином жизни. Я буду всю свою жизнь таких пороть и вешать, независимо от того, под какими знаменами они будут шагать – красными, зелеными или серо-буро-малиновыми. Точно такие же новые хозяева жизни восемь месяцев назад расстреливали меня на Дону.
– Что же тогда не бежали вместе с генералами? – спросил Костенко.
– Места на корабле не хватило. А толкаться локтями я не люблю.
Костенко помолчал, внимательно рассматривая Муренцова. Спросил:
– Может быть, тогда к нам?
– Нет! Я уже сказал, что вы для меня на одно лицо.
Не доходя несколько километров до города, они расстались. У каждого была своя жизнь, своя судьба и свой бог, которому они служили.
* * *
Около двух часов дня 14 ноября 1920 года в Севастополе главнокомандующий Русской армии генерал-лейтенант Петр Врангель, пожуравлиному переставляя длинные ноги в блестящих сапогах, вышел из гостиницы «Кисть» и обошел последние заставы и патрули юнкеров Сергиевского артиллерийского училища, стянувшиеся от центра города к Графской пристани.
Печально позванивали серебряные шпоры. За генералом следовал его штаб и командование крепости с генералом Стоговым.
Генерал Врангель был одет в серую офицерскую шинель с отличиями Корниловского полка. Усталое тонкое лицо. На левом виске пульсировала синяя жилка. Взгляд серых упрямых глаз вонзился в шеренги.
В бухте под парами уже стояли военные корабли и пароходы, приготовившиеся отойти от причала. Из труб английских и французских миноносцев валил черный дым. Серой грозной махиной возвышался над водой дредноут. Угрожающе щетинились стволы корабельных орудий. Иностранные флаги, расцвеченные яркими красками, играли на свежем ветру. Пахнущий солью и йодом, густой холодный бриз дул с моря. Он нес к берегу запах другой, чужой жизни. Сплошной стеной стояли сгрудившиеся на пристани люди, ждали погрузки. Тускло светило неласковое солнце. У берега вскипали пенистые барашки зеленых волн. Когда-то родное, разбавленное русской кровью Черное море враз стало чужим и враждебным.
Черный от усталости и переживаний главнокомандующий поблагодарил юнкеров за службу и сказал:
– Мы покидаем Россию, но уходим не как нищие с протянутой рукой, а с высоко поднятой головой, с сознанием выполненного до конца долга. Произошла катастрофа, в которой всегда ищут виновного. Но не я и тем более не вы виновники этой катастрофы; виноваты в ней только они, наши союзники.
И генерал ткнул пальцем в группу военных представителей Англии, США, Франции и Италии, стоявших неподалеку от него.
– Если бы они вовремя оказали требуемую от них помощь, мы уже освободили бы русскую землю от красной нечисти. Если они не сделали этого теперь, что стоило бы им не очень больших усилий, то в будущем, может быть, все усилия мира не спасут ее от красного ига. Мы же сделали все, что было в наших силах, в кровавой борьбе за судьбу нашей родины…
Юнкера со слезами на глазах смотрели на своего главнокомандующего.
– Мы уходим на чужбину. Мало кто из нас вернется домой. Прощай, русская земля.
Генерал Врангель отошел, остановился перед срединой строя.
– Великой нашей Родине – России, ура!
Строй качнулся, с правого фланга пошла волна.
– Урррааааааааа!
Рокот. Гул, и фигура очень бледного генерала в серой шинели и черно-красной фуражке корниловцев.
Петр Врангель перекрестился, низко поклонился родной земле и на катере отбыл на крейсер «Корнилов».
Около трех часов покинул город начальник обороны Севастопольского района генерал-лейтенант Николай Стогов. Он уходил последним. Перед посадкой на катер он на миг остановился, перекрестился и заплакал, фуражкой вытирая слезы.
В гомонящей толпе толкались и ругались люди. Некоторые проклинали судьбу, но большинство шли молча, опустив глаза в землю, медленным ручейком вливаясь на сходни кораблей. Шли бородатые казаки, хмурые офицеры, солдаты в британских помятых шинелях, суетливые горожане, озабоченно прижимающие к себе котомки и чемоданы.
Оставшиеся на берегу крестились, плакали и сочувственно благословляли воинов и беженцев, уходивших в неизвестность. На корабли и суда «Крым», «Цесаревич Георгий», «Русь» садились только люди. Коней оставляли на берегу. Брошенные теми, кому верно служили на войне, они понуро стояли и бродили по пристани, некоторые бросались в воду и, пока хватало сил, преданно плыли за кораблями, увозившими их хозяев к чужим берегам.
На палубе, застыв в оцепенении, стоял прапорщик Николаев, бывший адъютант генерала Сиротина. Он долго и неотрывно смотрел на удаляющийся берег, потом вдруг встрепенулся, резким движением сбросил с плеч накинутую шинель. Сделал три торопливых шага к металлическому лееру и ласточкой прыгнул в бурлящую холодную воду.
Стоящие на палубе офицеры и солдаты загомонили, закричали. Какой-то офицер с багровым лицом выхватил из кобуры револьвер, стал выцеливать голову плывущего человека.
– Каналья!
На золотой погон легла чья-то ладонь.
– Отставить, ротмистр.
Офицер оглянулся. За его спиной стоял полковник Мальский.
– Как оставить, господин полковник, а присяга?! Он же, сволочь… к красным!
– Он не к красным. У него там мать. Мать – это сильнее присяг, – сумрачно сказал Мальский и ушел в каюту.
Удаляющийся берег затягивала сизая туманная дымка.
Зловещая тишина стояла на пристанях. Там, где совсем недавно стоял последний ушедший пароход, плавали в воде офицерские фуражки, кавалерийские седла, какие-то шубы, чемоданы, обрывки писем.
Холодный осенний ветер принес густой, прощальный рев пароходных гудков.
Хмурым осенним днем 16 ноября 1920 года завершился великий русский исход.
На подступах к городу уже шел бой. Глухо бухали орудия, в интервалах между орудийными выстрелами слышалась трескотня пулеметов. За перевалом взметнулась брызжущим светом красная ракета и еще отчетливее и чаще, почти сливаясь, загремели артиллерийские залпы.
В город входили красные части.
В ожесточенной Гражданской войне победили большевики. Великая страна Россия оказалась во власти врагов русского народа…
* * *
Холодным январским утром 1922 года помощник начальника московской Губчека Алексей Костенко, просматривая списки арестованных, случайно наткнулся на фамилию Муренцов. В тощей желтой папочке, которую принесли по его приказу, на листочке серой рыхлой бумаги он прочел: «Сергей Владимирович Муренцов, родился 7 марта 1895 года. Из дворян. Окончил Ейское пехотное училище, поручик. С 1915 года участвовал в Империалистической войне. Награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. Служил в Добровольческой армии генерала Деникина, принимал участие в казачьем восстании на Дону. Арестован за участие в контрреволюционном заговоре, являлся активным членом монархической организации “Союз русских офицеров”. При аресте оказал сопротивление. Ярый враг Советской власти».
Костенко извлек из портсигара папиросу, постучал бумажным мундштуком по серебряной крышке, прикурил. Задумался, держа в пальцах горящую спичку. Неужели же это тот самый поручик Муренцов, который совсем недавно спас его от бандитской пули на каком-то безвестном полустанке? Почувствовав боль в обожженных пальцах, бросил спичку на пол. Встал. Прошелся по кабинету крупными шагами из угла в угол. Папироса погасла, а он все жевал и жевал бумажный мундштук. Костенко передернул плечами, покрутил шеей. Ворот френча душил, перехватывал горло. Срывая ногти, расстегнул тугую верхнюю пуговицу, нижнюю рубашку. За годы германской и Гражданской войны он привык к человеческим смертям. Привык и к тому, что революцию не делают в белых перчатках. Рожденная в крови и муках, она ежедневно требовала новых жертв. Гибли товарищи, в отместку казнили врагов. Костенко подошел к окну, снова закурил. Стоя у окна, сквозь мутноватое стекло он наблюдал за веселыми воробьями, прыгающими перед разлившейся лужей.
Через полчаса конвойный привел в кабинет арестованного поручика.
Приведший его красноармеец топтался у дверей.
Костенко взмахом руки отослал его из кабинета. Муренцов почти не изменился. Те же ясные детские глаза, тонкие черты лица. Костенко не предложил ему сесть. Подошел вплотную, долго смотрел в его глаза, произнес одними губами.
– Завтра утром тебя освободят. В Москву и Петроград не возвращайся, уезжай куда-нибудь в Сибирь, на Урал, хоть к черту на рога. О нашем разговоре забудь. И вот еще.
Отвернулся, подошел к огромному коричневому сейфу, стоящему в углу кабинета, достал из него исписанную тетрадь в коричневом коленкоровом переплете.
– Это твой дневник. Его забрали у тебя во время ареста, и я возвращаю его законному владельцу. Это чтобы ты не говорил, что для тебя бандит и красный одно и то же.
Костенко вернулся назад, сел в свое кресло. Его и Муренцова разделял письменный стол с роскошным мраморным чернильным прибором. Дорогой стол, из приемной генерал-майора Адрианова, бывшего градоначальника Москвы.
Обоим в голову пришла одна и та же мысль. Стол – это ведь знак. Рубикон, который разделил их отношения на «до» и «сейчас».
Обменялись долгим, пристальным, почти человечьим взглядом. Костенко медленно, с расстановкой выдавил, почти прошептал:
– У-ез-жай. Сергей, уезжай навсегда. Вам уже никогда не победить.
Нажал кнопку звонка.
– Конвой!
Муренцов вскинул на него упрямые глаза, хотел что-то сказать, но опустил голову и молча вышел из кабинета в сопровождении конвойного.
* * *
Гражданская война и причудливая судьба высоко вознесли Алексея Костенко. В середине 20-х годов он стал сотрудником Закордонной части иностранного отдела ОГПУ. Образование и природный ум сыграли большую роль в его карьере. После личной встречи и беседы с Менжинским, занявшим пост руководителя ведомства на Лубянке, он уже в качестве нелегального резидента был переправлен в Германию, а потом под легендой немецкого бизнесмена во Францию. В его задачу входила организация сети агентуры и ее глубокое внедрение в антисоветски настроенные военные организации, состоящие из белоэмигрантов, и объекты военно-стратегического характера Западной Европы. Особое беспокойство Москвы вызывала деятельность Русского общевоинского союза, который после смерти барона Врангеля в 1928 году возглавил генерал Кутепов. С приходом нового руководства РОВС резко усилил свою антисоветскую деятельность. На территорию СССР перебрасывались диверсионные группы, имеющие задачу организации диверсий и терактов, дестабилизации политической и экономической обстановки, убийств политических и военных руководителей Советского государства. В Москве было принято решение о похищении Кутепова и его доставлению в СССР.
В ноябре 1929 года в Париж были направлены лучшие специалисты ОГПУ, специализирующиеся на ликвидациях. В окружение Кутепова под видом представителей германской разведки, заинтересованных в получении развединформации, через разведсеть РОВСа внедрили агентов ОГПУ.
Воскресным январским утром 1930 года генерал Кутепов вышел из своего дома и направился на панихиду по генералу Каульбарсу. Он шел по тихой и зеленой улице де Рюссиле, рассеянно помахивая тростью и совершенно не обращая внимания на двух праздногуляющих молодых людей, оживленно обсуждающих предстоящий вечер у мадам Дортуа. Обогнав генерала, у тротуара затормозил сверкающий хромом и лаком автомобиль. Ослепительно улыбающийся Йоган Галлерт, он же Алексей Костенко, вышел из машины, раскрыв Кутепову свои объятия:
– Майн либер, генерал, чертовски рад вас видеть. Прошу в мое авто.
Заражаясь его доброжелательностью, Кутепов шагнул к открытой дверце автомобиля. Тут же рядом оказались те самые молодые повесы. Прижав к лицу генерала остро пахнувший носовой платок, они затолкали в салон безвольно обмякшее тело. Автомобиль неторопливо тронулся с места, шурша шинами выбрался на шоссе и двинулся в сторону Марселя.
Улицы Парижа в этот утренний час были совершенно безлюдны, и никто не обратил внимания на таинственный автомобиль, увезший русского генерала. Париж, город любви и цветов, еще не привык к этим странным русским, открывающим стрельбу и похищающим друг друга среди белого дня. Невозмутимо насвистывая, Костенко крутил баранку, краем глаза наблюдая в зеркало за тем, как молодые люди сноровисто стянули с генерала пиджак и, закатав рукав рубашки, сделали ему укол в вену. Аккуратно протерев место укола ваткой, один из них уложил шприц в кожаный коричневый саквояж и облегченно произнес:
– Ну, теперь все, часа три будет спать как младенец.
Его напарник молчал, приоткрыв окно, подставив лицо освежающему ветерку. Старший группы Сергей Пузицкий был доволен, пока все шло согласно плану, утвержденному на Лубянке. Генерал был схвачен, теперь его как можно скорее нужно было доставить в Москву.
Через несколько часов автомобиль был уже у портового Марселя. С автомобильного шоссе был виден кусочек лазурного моря, слышались гудки отплывающих пароходов. Не заезжая в порт похитители свернули к кромке берега, где на волне уже качался морской ботик с людьми, одетыми в морскую форму. Быстро и сноровисто перетащив безжизненное тело в каюту, моряки торопливо отчалили.
Советский пароход уже ждал их на рейде. Дождавшись пароходного гудка о том, что генерал на борту и судно отплывает, Костенко бросил в воду недокуренную папиросу и, натянув на руки перчатки, вновь выбрался на шоссе. Его путь лежал в Германию. Алексей почувствовал комок в горле, глядя на исчезающий в утренней дымке белый пароход, спешащий к родным берегам.
* * *
Летом 1933 года через Житомир проходил эскадрон 30-го кавалерийского полка. Стояло раннее утро, радующее глаз. Блестело солнце на отшлифованных подковами и железными шинами булыжниках мостовой, цокали о камни подковы сытых и справных коней. Серые слепни вились над лошадьми.
К стенам домов жались прохожие. Восхищенными глазами смотрели девушки. Одна из них, худенькая, небольшого роста, в белом платьице, стояла на краю тротуара и прижимала к груди книжку. Солнце просвечивало сквозь ткань, и красноармейцы поедали глазами смутные очертания стройных ног и волнующееся кружево нижней юбки.
Перед девчушкой заплясал рыжий конь. Командир эскадрона, с русым чубом из-под кубанки и в накинутой на плечи черной бурке, птицей склонился с седла.
– Как зовут тебя, красавица?
– Лида…
– А я Иван. Кононов Иван. Буду здесь вечером. В восемь. Жди меня!
Пришпорил коня и умчался догонять эскадрон. Через неделю девушка стала его женой.
Часть вторая
На окраине Константинополя, в маленьком грязном домике с дырявой кровлей и разбитыми окнами, жил генерал Белой армии Яков Слащев, еще при жизни ставший легендой Гражданской войны. Победитель батьки Махно. Командир крошечного трехтысячного отряда, отстоявший Крым зимой 1920 года. Дерзкий и отчаянный генерал, повздоривший в эмиграции с самим Врангелем и разжалованный им в рядовые. Он покинул Крым на последнем военном корабле, успев перед этим буквально впихнуть на уходящий в Стамбул пароход жену с грудной дочерью. Для него все уже было кончено. От былой славы белого генерала остались только воспоминания. Несколько истрепанных фотографий, старый офицерский наган с поцарапанной рукоятью, да совсем не толстая тетрадка в коричневом коленкоровом переплете со стихами собственного сочинения.
Я не знаю зачем и кому это нужно, Кто послал их на смерть недрожавшей рукой, Только так беспощадно, так зло и ненужно Опустили их в вечный покой… Осторожные зрители молча кутались в шубы, И какая-то женщина с искаженным лицом Целовала покойника в посиневшие губы И швырнула в священника Обручальным кольцом. Закидали их елками, замесили их грязью И пошли по домам под шумок толковать, Что пора положить бы конец безобразию, Что и так уже скоро мы начнем голодать. И никто не додумался просто стать на колени И сказать этим мальчикам, что в бездарной стране Даже светлые подвиги – это только ступени В бесконечные пропасти к недоступной весне…К дому Слащевых вела грязная, посыпанная гравием тропинка. Маленький двор. Темная, вонючая лестница, ведущая наверх. Перед крыльцом хибары пронзительно воняло мочой. Местные обитатели предпочитали справлять нужду тут же у крыльца, а не тащиться через весь двор в загаженный нужник.
Генерал с женой и дочерью жил на жалкие гроши, вырученные от выращенных и проданных на базаре овощей. Он пытался разводить домашнюю птицу, но прогорел. Его проклинали красные и белые, сторонились бывшие союзники. Верными ему остались лишь несколько офицеров. Лежа на металлической кушетке, генерал читал эмигрантскую газету. Она была шуршащей на ощупь и пестрела сообщениями о жизни соотечественников:
«Русский генерал Успенский пустил себе пулю в лоб. Причиной послужило то, что его жена, еще совсем недавно почтенная мать семейства, познав эмигрантскую нужду, стала систематически воровать в магазинах».
«Поручик Смердяков покончил жизнь самоубийством, прыгнув вниз головой с Галатской башни».
«Прошлой ночью в пьяной драке зарезан штабс-капитан Ильин».
Генерал с раздражением отбросил газету в сторону.
– Скоты! Во что они нас превратили!
Как же он завидовал своим бывшим сослуживцам, оставшимся в России. Большинство из них продолжали служить, а он, боевой генерал, торговал морковью и кормил индюков!..
В дверь постучали. Пройдя через убогую прихожую в комнату, заглянул полковник Бугаев. Окинул взглядом комод под кружевной накидкой, старое засиженное мухами зеркало. Вешалку, стул.
– Что угодно? – сухо спросил генерал и приподнялся с кушетки. Он был в одном нижнем белье, накинутой сверху шинели.
– А, это ты, Юра? Проходи. Садись.
Бугаев заметил уголок газеты, торчащий из-под кровати. Едко спросил:
– Читаем-с?
– Читал, – точно конфузясь, будто это было какой-то слабостью, ответил Слащев и поджал губы. Потом вдруг взорвался: – Что толку читать наши газеты? Разве мы живем? Мы существуем. Живем как тараканы и так же умираем. А в России идет возрождение великой страны. И я был бы счастлив вновь оказаться там и послужить своей отчизне.
Генерал дернул щекой, горько добавил:
– Но в Россию нам путь заказан, потому что того, что мы сделали с ней, нам никогда не простят.
Полковник Бугаев пристально всмотрелся в лицо собеседника и прищурил глаза. Были они чуть насмешливые и знающие что-то. Чуть помедлив, он достал из кармана сложенную в несколько раз измятую советскую газету.
– Посмотри, Яша. ВЦИК выпустил декрет об амнистии. Всем участникам Гражданской войны обещается полное прощение и гарантируется неприкосновенность.
С газетной страницы Слащеву в глаза бросились строчки:
«…декрет ВЦИК об амнистии участникам белогвардейских военных организаций. Советская власть не может равнодушно относиться к судьбе…»
С окончанием Гражданской войны в СССР так и не закончилась классовая война. В советской России очень внимательно следили за деятельностью эмиграции.
Полковник Бугаев давно уже был завербован советской разведкой. На встрече с резидентом он сообщил в Москву о настроениях Слащева и о его желании вернуться в советскую Россию. Председатель ВЧК Дзержинский долго думал, глядя в заснеженное окно: «А что?.. боевой генерал, золотое оружие за храбрость имеет… Жесток только чрезмерно». На заседании Политбюро он сказал:
– Наши политические враги видят решение всех политических проблем исключительно через призму вооруженной борьбы, поэтому делают ставку на офицерско-генеральский корпус бывшей царской армии. Надо лишить их этой опоры, а для достижения этой цели заманить лидеров эмиграции в Россию.
Дзержинский тут же предложил решить вопрос о приглашении бывших белых генералов, в том числе Слащева, на службу в Красную армию.
Большую часть своего времени русская эмиграция просиживала в кофейнях, где вела бесконечные разговоры о судьбе России, чтобы обмануть свой голод. Услышав о декрете, бывший командующий 4-м Донским корпусом генерал Секретев сказал:
– Что ж, тем лучше. Поеду домой, пусть меня там и повесят. А я все равно вернусь.
Казаки любили генерала Секретева за его храбрость, называли его «наш Секрет». Подвыпившие офицеры тут же поддержали генерала:
– Вместе воевали, вместе и поедем. Пусть вешают всех вместе.
В ноябре 1921 года на итальянском пароходе «Жан» Яков Слащев с женой и ребенком, генералы Мильковский, бывший начальник дивизии генерал Гравицкий, полковники Гильбих, Мезернецкий, князь Трубецкой и еще несколько женщин прибыли в Севастополь, чтобы если и умереть, то быть похороненными на родном погосте.
Вслед за ними вернулось около 4 тысяч человек. Возвращение было полно горькой тоски, женщины плакали. Все понимали, что в прежнюю Россию вернуться было уже нельзя. России, какой она была до их отъезда, уже не стало.
Ранним ноябрьским утром 1921 года к перрону Севастопольского вокзала подошел поезд.
Было холодно. Стояла по-настоящему зимняя погода. Холодный порывистый ветер «борей» заставлял людей хвататься за уши, тереть нос и щеки. Рано выпавший снег накрыл крыши домов, рельсовое полотно и кирпичные пакгаузы белым одеялом. Ежились от мороза покрытые инеем ветки кипарисов. Сидевшие на деревьях птицы застыли, нахохлились. Только что подошедший паровоз шумно и запалено дышал, окутанный облаком белого пара.
Отдельно от встречающих и толпы пассажиров, одетых большей частью в серые солдатские шинели, одиноко стоял уже немолодой человек в длинном пальто, напоминающем шинель. В глазах его стояли боль и тягучая тоска, как у бездомной собаки. Это был генерал Слащев. Жена и сын остались у знакомых на севастопольской квартире, а он ждал встречи с Дзержинским. Занятый своими мыслями, генерал не услышал объявления о прибытии поезда, и лишь когда перед ним пыхтя прокатился паровоз и замелькали вагоны, он поднял взгляд на запотевшие окна вагонов – высокий, худой и растерянный.
Пассажиры с узлами и торговцы ринулись к поезду.
У одного из вагонов не было никакой очереди. Все чинно. Только лишь заскрипели отжимающиеся колодки, как со скрежетом отворилась дверь вагона и клубы морозного пара хлынули внутрь. В проеме двери возникла фигура полноватого проводника в черной форме. Он протер тряпкой латунные ручки дверей и застыл сбоку от выхода. Из вагона вышел человек в кожаной куртке и с потертой кобурой нагана на портупее. Оркестр заиграл «Интернационал», но человек требовательно поднял вверх руку. Постоял, выжидая, когда смолкнет оркестр. Музыканты сбились, пискнула валторна, невпопад бухнул барабан. Кожаный человек негромким голосом объявил:
– Товарищи, спасибо за прием. К сожалению, председатель ВЧК товарищ Дзержинский не сможет к вам выйти. Он работает, а мы через минуту отправляемся.
Повернулся к Слащеву.
– Яков Александрович. Пройдите в вагон. Вас ждут.
Паровоз спустил пар, раздался свисток, кондукторы с грохотом захлопнули двери. Поезд тронулся, и на заснеженном перроне вокзала осталась лишь суетливая толпа пассажиров, носильщики с бронзовыми бляхами на груди и чистильщики обуви.
Поезд медленно набирал ход. Колеса вагона торопливо выстукивали:
– До-мой… до-мой… в Россию.
– Домой, – повторял генерал, шагая по красной дорожке правительственного вагона, точно по плацу. Сердце учащенно билось. Дрожали руки.
Дзержинский, увидев Слащева, встал, протянул ему руку:
– Проходите, Яков Александрович.
Все дорогу до Москвы они проговорили. Дзержинскому пришлись по душе резкие безапелляционные выводы Слащева относительно Гражданской войны, острые характеристики белогвардейских генералов – Врангеля, Деникина.
Эмиграция, узнав о том, что генерал Слащев добровольно вернулся в Россию, была потрясена: самый кровавый враг Совдепии покорился врагу! «Непримиримые» тут же приговорили его к смертной казни. Узнав об этом, генерал только пожал плечами и проронил:
– Меня все равно убьют, какая разница, кто и где.
В Москве Якова Слащева, по ходатайству Дзержинского, назначили преподавателем Военной академии, но слушатели из красных командиров относились к нему враждебно, помня о том, как зверствовали и рубились слащевцы во время Гражданской войны.
Вскоре его перевели в школу комсостава «Выстрел». В то время это была главная кузница военных кадров страны.
Генерал-лейтенант Слащев слыл человеком неудобным для светских бесед. Резал правду-матку в глаза. С красными командирами тоже не церемонился, вел себя резко и вызывающе. Ходили слухи, что даже на курсах обещал кому-то выписать двадцать пять шомполов. Впрочем, точно так же он в прошлом вел себя и с белыми генералами – Деникиным, Врангелем. До поры до времени все это сходило Слащеву с рук.
Однажды после занятий он с преподавателями зашел в пивную. Изнутри пахнуло запахом копченой рыбы, пива и табачного дыма. В углу за столом, уставленным пивными кружками и бутылками, сидели несколько слушателей курсов в длинных кавалерийских шинелях с синими клапанами. Среди них же находился и комкор Жлоба. Они о чем-то спорили, но разом, как по команде, замолчали, увидев перед собой Слащева. Подвинулись, освобождая места для вновь вошедших. Повисла неловкая пауза.
– Ну-с, господа… пардон, товарищи красные командиры, и по какому же поводу спорим? – усаживаясь за стол и доставая папиросы, спросил Слащев.
– Вопрос один, – тут же завелся уже нетрезвый Жлоба. – Почему, господин генерал, сиволапые фельдфебели и прапорщики военного времени выиграли войну у вас, выпускников академий, считавших себя военными с пеленок.
– Что ж, охотно вам отвечу, Дмитрий Петрович, – Слащев нахмурился. Прикурил. – Эту войну выиграли не сиволапые фельдфебели, как вы изволили выразиться, а простой русский мужик. Он – главная сила в России. На нем все держится. Мужик Россию кормит и защищает.
Слащев глубоко затянулся папиросой и выпустил изо рта лохматое облако сладковатого дыма.
– Генерал Кутепов был прав, когда говорил о том, что победить можно лишь при условии, если дать мужику виселицу и землю… Мы в избытке дали первое, вы же оказались хитрее и пообещали вдобавок еще и землю. А мужик легковерно поверил вашим обещаниям и пошел воевать за вашу власть.
Генерал брезгливо пососал погасшую папиросу. Не спеша чиркнул спичкой, прикурил вновь.
– Что же касается лично меня, то я вам никогда не проигрывал. Напротив. Это я вас бил. Бил на Кавказе, бил в Крыму и вообще везде, где только встречал. Вот бегали вы хорошо, не спорю.
Жлоба вскочил с места, рванул ворот френча, закричал:
– Да не нашим обещаниям поверил мужик, он просто ужаснулся тому, что вы делаете! Это же вас называли и называют генералом-вешателем!
Слащев по-прежнему оставался невозмутим.
– Врете, голубчик. Врете так же, как и ваши комиссары. Вешал я не крестьян, а своих офицеров, допустивших мародерство, грабеж, воровство, дезертирство и трусость. Погубительством крестьян я не запятнан.
Несколько раз подряд затянувшись папиросой, он ткнул пальцем в сторону Жлобы.
– А вот вы, товарищ ком-ко-ор, лучше вспомните, как по вашему приказу под Харьковом бойцы Стальной дивизии после боя расстреляли 50 раненых офицеров. Что?.. Скажете, не было такого? Тогда расскажите, как по вашему распоряжению пороли плетью дважды георгиевского кавалера Цапенко?
Слащев умолк. Все обернулись к Жлобе, ожидая его реакции.
Трясущимися руками комкор резко вырвал из кобуры наган и нажал на курок. Выстрел. Тупоголовая пуля просвистела у виска Слащева.
– Вот так вы и воевали, – усмехнулся он, гася окурок в пепельнице, – так же, как сейчас стреляете!
И было в этой жесткой усмешке горькое сожаление от того, что прозрение пришло слишком поздно.
Жлоба буквально затрясся от ненависти, но ничего не ответил. Хлопнул дверью и выскочил за дверь. Комкор был человеком военным, помнил приказ командования – Слащева не трогать.
– Ладно, сука! Поживи пока, – успокаивал себя взбешенный комкор, – я сегодня добрый.
Звеня шпорами, он сбежал с крыльца и в сгущающихся сумерках зашагал в общежитие, где жили слушатели Высших командирских курсов. Пронзительно скрипел снег под ногами, сипло кашлял и скреб метлой улицу нетрезвый дворник.
Над Кремлем горели кроваво-красные звезды, и казалось, что над всей Россией зажглась кровавая звезда.
* * *
Вернувшимся в красную Россию генералам было обещано, что их боевой опыт будет использован при создании вооруженных сил республики. Но советская власть обманула. Как всегда…
Не судьба была русским офицерам и генералам вновь послужить России и повести своих бойцов в атаку на новой войне. В первый же год после возвращения в подвалах ОГПУ расстреляли почти две тысячи белых офицеров и эмигрантов, поверивших призывам советской власти и вернувшихся в Советскую Россию.
В январе 1929 года в квартиру, где жил Яков Слащев, ворвался бывший комвзвода Красной армии Лазарь Коленберг и всадил ему в грудь несколько пуль. На допросах он показал, что мстил за расстрелянного Слащевым брата. Коленберга признали душевнобольным и не судили.
14 августа 1930 года по Москве прокатилась волна массовых арестов. Были схвачены бывшие генералы Секретев, Савватеев, Бобрышев, Николаев, Зеленин, а через две недели к ним присоединился и Гравицкий. В эту же компанию попал и генерал Редько, бывший командующий Тобольской группой войск в армии адмирала Колчака.
Страшный конвейер работал днем и ночью. В Москве, Ленинграде, крупных городах, небольших поселках и селах день и ночь шли аресты. Арестовывали всех, кто критически воспринял советскую власть, бывших офицеров, участников Белого движения, контрреволюционеров, священников, дворян. Всем им вменялись в вину подготовка вооруженного восстания и шпионаж. Вскоре генерал Секретев был расстрелян.
Вместе воевали, вместе домой поедем, вместе нас и повесят – говорил он своим казакам. Все именно так и вышло.
* * *
После расправы за восстания и участие в Гражданской войне Дон, Кубань и Северный Кавказ – омертвели. Дикой травой заросли земли казачьего Присуда.
Мертвой тишиной и безлюдьем веяло от опустевших станиц. Обезлюдевшие дома и куреня заселили переселенцами из Центральной России. Жалкие остатки казаков, вместе с прибывшим народом, влачили голодное и жалкое существование и колхозах.
Запрещено было не только слово «казак», под запрет попали казачья форма и лампасы. Арестовать могли за все: за анекдот, неосторожное слово, даже за исполнение старинных казачьих песен. Были преданы забвению заслуги казаков в сражениях с врагами России. На службу в Красную армию казаков не призывали, как «верные псы царского самодержавия» они были поражены в правах.
И вдруг совершенно неожиданно Сталин принял решение о переименовании кавалерийских дивизий в казачьи и о призыве казаков на службу.
Хитер был вождь всех времен и народов. Назревающая внешняя угроза заставила вспомнить, что казак – это не только землепашец, но и прирожденный воин.
Накануне Великой Отечественной войны начался процесс пересмотра устоявшегося «партийно-классового» взгляда на казачество.
А может быть, толчком для этого решения послужила встреча в Кремле с делегацией казаков Вешенского района? В середине тридцатых годов казаков по инициативе Михаила Шолохова пригласили в Москву, для того чтобы они спели и сплясали перед советскими вождями.
Родовой казак Тимофей Иванович Воробьев, приехавший с делегацией, бойкий как кочет, не оробел. Сияя выцветшими ликующими глазками, он преподнес Сталину пышный донской калач на вышитом рушнике. Снял с головы донскую фуражку, поклонился в пояс.
– Милушка ты наш, дорогой товарищ Сталин, – соловьем заливался Тимофей Иванович, потрясая бородой и серебряной серьгой в левом ухе. – Вот тебе подарок, любушка ты наш! Вручаем его тебе как нашему самому почетному, истинному и без всякого подмесу казаку.
Сталин расцвел. Пыхнул трубкой и спрятал усмешку своих желтых тигриных глаз за облаком дыма. Подумал, потом важно сказал, что он не казак. Но с удовольствием станет им, если казаки на своем казачьем Кругу посчитают его достойным казачьего звания.
Мартовским вечером 1936 года около полуночи Сталин, как всегда, не спал. Мягкими тигриными шагами он ходил по своему кабинету. Позвонил секретарю:
– Пригласите ко мне товарища Ворошилова.
– Есть, товарищ Сталин.
Сталин опустился в кресло, взял в руки трубку. Неторопливыми движениями сломал две папиросы, выкрошил табак. Кивнул вошедшему Ворошилову:
– Здравствуй, Клим. Проходи, садись.
– Здравствуй, Коба.
Сталин не терпел панибратства. И только Ворошилов мог называть его «Коба». Как во время Гражданской войны.
Неторопливо набил трубку, прикурил, встал с кресла и начал неспешно прохаживаться вдоль стены.
– Клим, ты помнишь, как мы били казаков?
Память у Ворошилова была хорошая. Он помнил, как в мае 1919 года казаки генерала Шкуро сначала разбили его под Екатеринославом, а потом гнали к Днепру как паршивого кобеля. Первый красный офицер и красный маршал за всю Гражданскую войну не выиграл ни одного сражения.
– Да, Коба. Хорошо помню. Дали мы им жару!
Сталин пыхнул трубкой. Спрятал за облаком дыма лукавую усмешку.
– Как ты считаешь, красный маршал, казаки хорошие воины? Можэт Советская власть доверить им оружие?
Ворошилов встал:
– Ты же знаешь, Коба, это враги. Сколько волка не корми!..
Сталин погрозил пальцем:
– Ты, Климентий, нэ переноси свою личную обиду на целый народ. Да! Казачество было оплотом самодержавия и нашим злейшим врагом.
Сталин говорил короткими фразами, обдумывая каждое слово.
– Но… За 19 лет Советской власти в тех местах, где жили казаки, народилось новое поколение уже советских людей, и в случае войны они будут самоотверженно сражаться за свою страну. Как когда-то сражались их предки. Не забывай о том, что скоро нам понадобятся новые дивизии храбрых и отважных воинов.
Сталин сел за свой стол, открыл папку, потом поднял голову, улыбнулся в усы:
– К тому же, знаешь, я ведь тоже казак. Недавно донцы прислали мне в подарок шаровары с лампасами. Ты хочешь сказать, что я тоже враг?
Ворошилов опять вскочил с места.
– Никак нет, товарищ Сталин!
Сталин прищурившись смотрел на наркома обороны.
– Подготовьте приказ по наркомату о переименовании нескольких кавалерийских дивизий в казачьи. Надо, чтобы эти дивизии комплектовались призывниками с Дона, Кубани, Ставрополья. Командирами надо поставить проверенных в деле кавалеристов, безгранично преданных коммунистической партии и Советской власти. И обязательно введите им специальную казачью форму – черкески, кубанки. Казаки это любят!
Ворошилов вытянулся:
– Слушаюсь, товарищ Сталин!
– Исполняйте!
На следующий день Ворошилов положил на стол Сталина окончательный вариант приказа. Сталин молча вчитался в бумаги, внес несколько поправок. Потом прошелся по кабинету, долго и медленно набивая трубку, чиркнул спичкой и после этого чуть искоса, исподлобья посмотрел на Ворошилова.
– Подписывай.
23 апреля 1936 года вышел приказ Наркомата обороны СССР за подписью Климента Ворошилова о присвоении некоторым казачьим дивизиям статуса – казачьих. Казачество было частично восстановлено в правах.
Казалось, что советская власть повернулась к казакам лицом. Время затянуло казачьи раны, притупило боль и примирило с теми, кто эту боль причинил. Только лишь старики хранили память о пролитой крови и передавали ее своим внукам да поминали в своих молитвах родных покойников в старых могилах, уже заросших травой, вишняком и бурьяном. Но вековые казачьи традиции, основанные на воинской славе прежних поколений, заставляли молодых станичников, шедших на службу, гордиться службой хоть и в «красной», но «казачьей» части.
По направлениям райкомов партии и комсомола военкоматы призывали как казаков, так и иногородних. Различий и противоречий между ними уже не было. После империалистической войны многие из «пришлых» вернулись в станицы с унтер-офицерскими нашивками, георгиевскими крестами и медалями.
Старые казаки говорили:
– А чего же им не быть такими боевыми? Столько лет ведь среди казаков живут, вот и набрались казацкого духа!
Прожив долгие годы рядом с казаками, иногородние и правда переняли не только их быт, но и обычаи. Они вжились в казачью жизнь, прикипели к ней. И вместе с казаками испили до дна горькую чашу. Многие из пришлых, так же как и казаки, были раскулачены, арестованы, высланы. Случалось, что прежде враждовавшие мужик и казак теперь одной пилой валили сосны на лесоповале или шли одним этапом на Колыму, в Сибирские или Казахстанские лагеря.
В один день кавалерийские части, в которых служили в основном крестьяне, призванные из всей России, стали именоваться казачьими.
И все же те немногие казаки, призванные с земель Тихого Дона, Кубани, Терека, зарекомендовали себя в казачьей дивизии как отличные бойцы и младшие командиры. На них равнялись красноармейцы и младшие командиры «иногороднего» происхождения. Однако среди высшего и среднего комсостава дивизии выходцев из казаков было очень немного.
По указанию Сталина в казачьих частях была принята униформа дореволюционных Кубанского и Терского казачьих войск, черкеска с красными или синими обшлагами рукавов и рядами серебряных газырей на груди. Сметливые бойцы быстро приспособили их под хранение свернутых трубочкой писем из дома. Под черкеской носился бешмет, вместо уставных кавалерийских сапог – мягкие кавказские. Кавказская шашка, круглая кубанка с красным или синим донцем, перекрещенным галуном. К зимней форме одежды полагалась черная бурка-«крылатка» и башлык, который как птица развевался за спиной.
Но весной 1941 года ношение традиционной казачьей формы было отменено по приказу Сталина. Единственное, что сохранили казаки, это головной убор – кубанку. Они ходили в ней и зимой, и летом, независимо от рода войск. Командование смотрело на это сквозь пальцы.
6-ю Чонгарскую кавалерийскую дивизию тоже переименовали в казачью Кубанско-Терскую Краснознаменную дивизию имени Буденного. В марте 1941 года в дивизию прибыл новый командир, генерал-майор Михаил Петрович Константинов, ранее командовавший горно-кавалерийскими частями. В его жилах не было казачьей крови, происходил из крестьян Липецкой губернии. Был невысок ростом, но зато обладал пышными казачьими усами и зычным атаманским голосом. Глотка у него была луженая. Казаки шутили, что их батька может перепить и переорать целый кавалерийский полк, вместе с лошадьми. В дивизии любили рассказывать историю о том, как однажды комдив распекал на плацу нерадивого интенданта.
– Тебя что, батька с мамкой поперек кровати делали? Почему у коней нет овса? Я тебя самого заставлю жрать солому! – кричал разгневанный комдив, и его голос гремел как труба полкового оркестра.
Это был храбрый и толковый командир, которого казаки любили и уважали.
В Красной армии после сталинско-ежовских чисток дивизиями и корпусами РККА зачастую командовали вчерашние капитаны и майоры.
– Ничего страшного, – говорил нарком Ворошилов. – Кто командовал хоть взводом, тот может командовать и армией.
* * *
Победа большевиков в Гражданской войне означала катастрофу для всех народов России. Первыми взошли на Голгофу казаки. Большевики выслали из станиц множество казачьих семей. Их дома и куреня заняли пришлые люди из центральной полосы России, в том числе и те, кто стрелял, вешал, жег и ссылал в Сибирь настоящих хозяев.
Но, уничтожив мнимых врагов России, кровавое чудовище стало пожирать уже тех, кто выпустил его из бутылки. Тех, кто сам во имя революции стрелял, вешал и убивал русских людей, рушил и сжигал церкви. Только лишь после краха собственной судьбы до многих из них стало доходить пророчество Жоржа Дантона: «Не шутите с революцией. Рано или поздно она начнет пожирать своих детей».
Во многих домах прочно поселился страх. Жены, провожая мужей на работу, прощались с ними навсегда. Возвращение вечером с работы было всего лишь краткой отсрочкой неизбежного. Не было семей, где не вздрагивали бы по ночам от шума автомобильного мотора и хлопанья дверей кабины.
Сергей Муренцов не вернулся в Москву. Он осел в небольшом южном городке, далеком от большой политики и знаменитом лишь своими целебными источниками. Устроился на работу в городскую школу преподавателем русского языка и литературы. Не интересовался оппозицией, не вступал в партию, своевременно оплачивал профсоюзные взносы. На собраниях послушно поднимал руку.
В начале 30-х он женился, отпустил чеховскую бородку. Его жена, Галина Андреевна, работала фельдшером в городском санатории, как сказала сама – сестрой милосердия.
Муренцова будто толкнуло в грудь – сестра милосердия. Как Мария, Маша, Машенька. Женщина из его прошлой, другой, настоящей жизни. Она и внешне походила нее. Русые волосы, зеленые глаза. Познакомились они случайно, во время прогулки в городском парке.
Ничто не напоминало Муренцову о его прошлом. Он присвоил чужую жизнь, придумал себе другую биографию и иное прошлое. Старая жизнь была забыта. Прежние хозяева жизни канули в Лету, и казалось, что советская власть, власть вчерашних бандитов, воров и пьяной черни, которую он ненавидел всей душой, установилась навсегда.
Изредка доносились слухи о голоде в Центральной России, крестьянских волнениях, бесконечных заговорах в политическом руководстве страны, арестах и расстрелах видных большевиков, но Муренцов только усмехался про себя.
«Один крокодил съел другого. Теперь надо просто подождать, и тогда увидим, насколько успешно прошло переваривание».
В начале тридцатых Сергей Сергеевич пытался осторожно выяснить судьбу своих близких. По слухам, его родители и десятилетняя Катенька успели выехать из Москвы. Пути русской эмиграции в страшные двадцатые лежали в Берлин, Париж, Харбин. Оставалось только надеяться, что Бог и судьба уберегли его близких от пули в подвалах ЧК или сыпного тифа где-нибудь на забытом Богом железнодорожном полустанке.
Жена была моложе Муренцова на восемь лет, но любви между ними не было.
От нее почему-то всегда пахло запахом деревенского магазина – кожи, земляничного мыла, духов «Белая сирень» и селедки. С присвистом дышала во сне. Может быть, у нее были в носу полипы? Он не спал ночами, курил папиросы и вздыхал. Почему она? Где я нашел ее?
И спрашивал сам себя: «И это сестра милосердия»?
И сам же отвечал на свой вопрос: «Нет, все же медсестра».
Со временем семейная жизнь стала тяготить обоих. Она ревновала к отсутствию его любви. А он ничего не мог с собой поделать.
Прав все-таки был старик Карамзин – не выйдет ничего хорошего из любви офицера и крестьянки.
В 1940 году у Муренцовых родился сын. По традиции семьи Муренцовых первенца назвали Сергеем. У Сергея Сергеевича наконец-то появился смысл жизни. По вечерам он проверял школьные тетрадки, а маленький Серж Муренцов радостно гукал, лежа в кроватке и пуская ртом пузыри. Все это наполняло сердце давно уже позабытой нежностью.
* * *
Утром 21 июня 1941 года в кабинете командующего 10-й армией раздался звонок командующего Западным особым военным округом.
– Что там у тебя происходит, Голубев? – рыкнула трубка голосом генерала армии Павлова. – Твой Никитин прямо-таки завалил меня своими донесениями, дескать, со дня на день будет война… С кем война? С Гитлером? Ты там прочисти мозги своему подчиненному. Объясни ему, если он в Академии плохо учился, что войну с трехмесячным запасом боеприпасов не начинают. Или, по мнению Никитина, Гитлер собирается победить СССР за три месяца?
Несколько минут Павлов молчал, слушая оправдывающегося Голубева.
– Ладно, ладно. Не трясись, как гимназистка перед пьяным унтером. Лучше наведи порядок у себя в войсках. А я сегодня в театр с женой. Тебе бы тоже не мешало повысить свой культурный уровень, вместо того чтобы баранов у себя разводить.
Командующий армией Голубев любил пить по утрам парное молоко, поэтому в подсобном хозяйстве при ближайшей воинской части всегда держал небольшое хозяйство. Пару коров для личного пользования. Небольшую отару овец, на шашлыки. Парочку свиней на колбасу. Небольшой коптильный заводик. Это для тела. А для души – жену майора Ступина, работающую официанткой в столовой для комсостава. Павлов это знал. Особист все уши прожужжал. Но не трогал.
Не слушая оправданий, Павлов перебил:
– В общем, не беспокой без дела. Будь здоров.
21 июня в Ломжинском доме офицеров провели ежегодный праздничный вечер с танцами и банкетом по случаю выпуска младших лейтенантов. На следующий день, в воскресенье, ожидались дивизионные и корпусные конноспортивные соревнования.
В кабинете командующего Западным особым военным округом стоял полумрак. Окна были задернуты плотными шторами. На закрытых дубовыми панелями стенах расположились портреты членов ЦК, посредине кабинета большой Т-образный стол, рядом с которым – приставной столик с десятком телефонов. Один из них, массивный, белый, с государственным гербом Союза ССР вместо диска, стоял чуть в стороне.
У телефонного аппарата, того самого с гербом, стоял навытяжку генерал армии Павлов.
– Никак нет, товарищ Сталин. Это работа провокаторов и паникеров. Примем меры. Так точно. Будут наказаны самым строгим образом. Я полностью контролирую ситуацию… Есть не давать повод для провокации! Служу трудовому народу!
Осторожно, словно боясь потревожить собеседника на другом конце провода, Павлов опустил телефонную трубку на рычаг. Опустился в кресло, расстегнул крючок кителя, вытер мокрое, покрытое испариной лицо.
– Фу-ууу!.. Пронесло… – Взгляд командующего упал на утреннюю оперативную сводку, лежащую на столе.
– Блядь! Какой-то комкор Никитин! И какой-то сраный комдив 6-кавалерийской!.. Как там его фамилия, Константинов?.. Не нравится им, видишь ли, положение на границе! Да сам товарищ Сталин приказал не поддаваться на провокации!
Павлов вспомнил недавний телефонный разговор с заместителем наркома Григорием Куликом. В ходе разговора тот обронил словно невзначай:
– Не забывай, что округом командовать – не клинком махать.
– Вроде не забываю, товарищ маршал, – насторожился Павлов. – А вы о чем?
– Да о том, что слишком истеричные разведсводки из твоего округа поступают.
– Мы просто фиксируем факты, товарищ маршал, – нашелся Павлов.
– Вот так всегда, поначалу фиксируют, а потом кто-нибудь возьмет да и пульнет по немецкому самолету… Смотри, казак, не сносить тебе головы, если дашь повод для военного конфликта.
– Спасибо, Гриша, что упредил по старой дружбе.
Павлов скомкал сводку и бросил ее в мусорную корзину.
«На хер обоих. Прямо завтра же вызову в штаб, и с глаз долой. Пусть едут в Сибирский военный округ, один на полк, второй на дивизию. И пусть Бога молят, что не передаю дело в особый отдел».
После совещания Павлов заехал домой. Сняв китель и оставшись в белой рубашке, расхаживал по квартире в галифе и сапогах. Потом побрился, вылил пригоршню одеколона на лицо и голову. Оглядел себя в зеркало – широкие плечи, решительный волевой подбородок – командующий! Надел парадный китель со Звездой Героя, пятью орденами и значком депутата Верховного Совета СССР. Личный водитель привез домой жену. Квартира сразу же наполнилась звуком ее голоса. Александра Федоровна что-то щебетала о дочери, о предстоящем спектакле, о портнихе. Дмитрий Григорьевич слушал вполуха, переспрашивал невпопад. Почему-то не давал покоя этот Никитин со своими донесениями. Генерал решил, надо обязательно послать в корпус проверяющего и тот на месте решит, что делать. Отправить на понижение или передать дело в особый отдел. Приняв решение, Павлов повеселел. Через два часа должна была состояться премьера «Свадьбы в Малиновке» и встреча с божественной Наденькой, играющей Яринку.
В час ночи 22 июня 1941 года оперативный дежурный передал генералу Павлову указание наркома обороны, полученное по ВЧ, утром собрать начальников управлений и отделов и странное предупреждение: «…сохраняйте спокойствие и не паникуйте… ни на какую провокацию не идите».
Павлов погладил ладонью бритый затылок и удовлетворенно крякнул, вспомнив командира 6-й дивизии:
– Герои! Мать их… Паникеры. Завтра я им устрою!
Довольно напевая партию Яринки и позевывая, пошел спать.
Ради счастья – ради нашего…
Если – хочешь ты его.
Ни о чем меня – не спрашивай…
Не расспрашивай…
Не выспрашивай…
В то же самое время командира 6-й кавдивизии генерал-майора Константинова, заночевавшего в штабе, разбудил звонок начальника 87-го погранотряда.
Майор Горбатюк доложил, что уже несколько часов наблюдатели фиксируют активную концентрацию больших сил германской пехоты на польской стороне границы.
– Что там у тебя происходит? – резко перебил его комдив. – Поясни, к чему клонят?
– Не знаю, Михаил Петрович, – совсем не по-уставному растерянно ответил майор. – Похоже, замышляют что-то!
– Ты держись, Иван, сейчас организую тебе подмогу.
На свой страх и риск Константинов приказал подтянуть к границе два эскадрона 3-го Кубанского Белореченского полка и два танковых взвода. Доложил командиру 6-го кавалерийского корпуса генерал-майору Никитину. Тот вызвал командира дивизии к себе.
– Давай-ка, Михаил Петрович, приезжай ко мне. Подумаем еще раз о том, что будем делать, если немцы все же полезут к нам, – сказал Никитин, моргая красными воспаленными глазами.
Генералы склонились над картой. Казаки, за исключением наряда и караулов, спали в казармах, даже не подозревая о том, что для многих из них эта ночь окажется последней.
Бодрствовали дежурные в штабах частей и соединений. В металлических сейфах ждали своего часа опечатанные тяжелыми сургучными печатями красные конверты, с боевыми приказами на случай войны. Никто не знал, что написано в этих приказах, команда на вскрытие пакета должна была поступить по телефону из вышестоящего штаба. Вскрыть пакет имел право только командир. Лично. Но была уверенность. Высшее командование все предусмотрело. В конвертах уже все прописано. Что делать! Как побеждать!
На пограничном аэродроме Высоко-Мазовецк бодрствовали летчики дежурного звена и часовые. Наступало утро, линия горизонта на востоке слегка окрасилась розовым.
Командир дежурного звена младший лейтенант Кокорев лежал под крылом самолета, покусывал травинку. Вокруг стояла предрассветная тишина, лишь в траве певуче стрекотали кузнечики.
Как всегда, не спали работники Наркомата внутренних дел. Они были заняты своей обычной важной работой: арестовывали «врагов народа», проводили допросы или расстреливали тех, кто подрывал устои и мощь Советского государства.
Небо из черного постепенно наполнялось серыми красками. Приближался четвертый час утра. Страна готовилась встретить воскресное утро. Досматривая последние сны, сладко посапывали в своих кроватках дети. В предвкушении долгожданного выходного дня храпела, сопела и вздыхала во сне вся советская страна.
Ночь.
Далеко от границы, за лесами и балками, закованная в камень – спала Москва. Над нею светилось половодье электрических огней. Их трепетное мерцание заревом голубого пожарища висело над многоэтажными домами, затмевая свет полуночного месяца и звезд. На Красной площади, в гранитном Мавзолее, лежит основатель Советского государства Владимир Ленин. А за Кремлевской стеной в своем кабинете до самого утра не смыкал глаз товарищ Сталин. Думал о том, как сделать СССР еще более могучим и несокрушимым, как окончательно и бесповоротно извести всех врагов.
Немецкие танки уже выстроились в колонну. Друг за другом. Растянулись на многие сотни метров. Уже были сняты чехлы со стволов пушек и пулеметов. Ожидая команды «вперед», торчали из люков головы командиров танков.
Командир 31-й дивизии вермахта генерал-майор с русской фамилией Калмыков и немецким именем Курт уже проинструктировал своих офицеров о действиях на случай получения приказа о переходе Буга.
Солдаты и офицеры 12-го армейского корпуса заняли позиции в километре от границы.
Диверсанты полка «Бранденбург-800», переодетые в форму командиров Красной армии и НКВД, ждали условного сигнала на территории Советского Союза.
Командир 2-й роты обер-лейтенант Штрик серебряным карандашом, подаренным любимой Софи, сделал запись в своем дневнике:
«Через два часа наши доблестные войска перейдут русскую границу и надерут уши русскому медведю. Я могу умереть через час, два, месяц или прожить еще много, много лет. Но если мне суждено умереть на этой войне я буду счастлив, что умер за великого фюрера!»
Командир 3-й танковой дивизии генерал-лейтенант Вальтер Модель сидел за столом. В пепельнице серой пепельной горой дымились сигаретные окурки. Ярко светила настольная лампа. На улице тарахтел генератор. На столе – расстеленные карты. На приставном столе стояли несколько полевых телефонов. У генерала было встревоженное лицо, бледное, со складками над переносицей. Он сидел прикрыв веки. Терпеливо ждал приказа о наступлении. Через несколько часов русский колосс должен был рухнуть под ударами его гренадеров. Но какая-то смутная тревога терзала его сердце.
«Никогда не воюйте с русскими. На каждую вашу военную хитрость они ответят непредсказуемой глупостью», – предупреждал когда-то великий Бисмарк.
Модель думал. Мысли, не связанные с текущей реальностью, неторопливо текли в его сознании.
«Христос тоже говорил правильные слова, но кто Его слушал?! Кто смог что-либо изменить? И мне тоже вряд ли удастся что-либо изменить. Я – солдат, и мое дело – держать руки по швам».
Тишину разорвал телефонный звонок. Ровно через минуту, вспугнув робкую предутреннюю тишину, взревели моторы танков, лязгнули гусеницы. Танковая колонна, грозно рыча, двинулась в сторону границы. Низкие тяжелые «панцеры» вминали в землю свежую июньскую траву. Тускло отсвечивала в свете прожекторов влажная от ночной росы броня танков.
По иронии судьбы на Русскую землю шли именно те танки, которыми командовал дальний родственник основателя Советского государства Владимира Ильича Ленина.
Уже были подтянуты и нацелены на СССР страшные, сверхтяжелые орудия 1-й и 2-й батарей 833-го дивизиона – «Адам», «Ева», «Карл».
Около двух часов ночи 22 июня 1941 года в посольство Германии в Москве поступила шифрованная телеграмма из Берлина. Послу поручалось утром посетить народного комиссара иностранных дел Молотова и сообщить ему о начале военных действий Германией. В телеграмме также содержалось указание уничтожить последние шифровальные тетради. Работники посольства Германии в Москве всю ночь паковали вещи, уничтожали и жгли секретные документы.
Этой же ночью советский военный атташе в Германии Василий Иванович Тупиков прислал сообщение, состоявшее всего из одного слова, которое не нуждалось ни в какой расшифровке: «ГРОЗА!»
В половине четвертого утра товарищ Сталин уехал на Ближнюю дачу. Ему не спалось. Руководитель Советского государства прошел к себе в кабинет и не раздеваясь прилег на диван. Терзаемый мыслями, долго лежал без сна, молча смотря в потолок.
Примерно в то же самое время из штаба Западного военного округа по телефону был получен приказ «вскрыть красный пакет», что означало подъем войск по тревоге и выдвижение на намеченные им рубежи обороны.
Командованию корпуса была доведена запоздалая «Директива командующего войсками Западного особого военного округа с объявлением приказа Народного комиссара обороны о возможности внезапного нападения немцев в течение 22–23 июня 1941 года».
Для взвинченных до предела командиров частей это неожиданно стало облегчением. Но из штаба был отдан приказ: «Находиться в боевой готовности. Личный состав из казарм не выводить».
Начальник штаба 94-го Кубанского полка майор Владимир Гречаниченко, узнав о приказе, долго матерился и кричал:
– Это какая же сволочь додумалась до такой измены?!
Наступил рассвет 22 июня 1941 года.
Линия горизонта на востоке начала медленно розоветь. В низине клубился легкий туман. Скоро должны были проснуться и запеть птицы. Именно в этот момент раздался тяжелый, прерывисто-надрывный гул моторов.
Гул бомбардировщиков разбудил жену капитана Ракитина. Она накинула ситцевый халатик на ночную сорочку, плотнее прикрыла форточку. Подоткнула одеяло на детской кроватке, где спала маленькая Оля. Поправила подушку под головой сына Бориски. Подумала про себя:
– Учения… Вот и Николай ночевать не пришел, прислал красноармейца с запиской, что заночует в полку.
Вышла в коридор. В заставленном вещами и сундуком коридоре было тихо. Лился желтый свет от тусклой, засиженной мухами лампочки, свисающей на скрученном проводе с высокого потолка.
Гул моторов все ближе, ближе. Заревела сирена.
По спине пробежал холодок тревоги. Она села на прохладную крышку сундука, уже чувствуя приближение беды.
* * *
В казарме на тумбочке затрещал телефон. Дневальный вырвался из полудремы, схватил трубку телефона.
– Дневальный по эскдркрасноарм…
Крик на том конце провода оборвал его скороговорку.
– Какого х…ра ты еще стоишь, дневальный! Поднимай людей! Боевая тревога!
Человек с красной повязкой на рукаве вбежал на середину казармы. Оглянулся на двухэтажные кровати, тумбочки, фикус, стоящий в углу казармы, и закричал:
– Эскадрон, подъем! Боевая тревога!
Этот крик оборвал все – сны, прошлую жизнь, мечты.
Крик дневального и вой сирены застали красноармейцев неподвижно лежащими под одеялами. Через секунду уже отрывались от подушек стриженые головы, отбрасывались в сторону одеяла, мелькали босые ноги. Бойцы, еще не успев вырваться из пелены домашнего сна, с полузакрытыми глазами на ощупь хватали штаны, наматывали обмотки.
Помкомзвода сержант Борзенко за месяц до армии успел жениться. В коротком солдатском сне пришла любимая жена Лиза. Она звала его к себе: «Борзик, ну где ты, Борзинька» и тянула его руку к себе на живот. А он трясущимися руками уже торопливо рвал пуговицы на ее платье… И тут на самом интересном месте раздался крик дневального. Сержант открыл глаза – чертыхнулся:
– Нет! Ну какие сволочи! Нет чтобы объявить тревогу на десять минут позже!
Дежурный по эскадрону гремя ключами уже открывал оружейную комнату.
Хлопали двери. Из казарм выскакивали красноармейцы. Они мочились за углом, закуривали, спешили в строй.
Получив винтовку с боеприпасами и выбегая на улицу, Борзенко шутливо крикнул дежурному:
– Война, Сань, что ли?
Тот не ответил, отвернул свое конопатое насупленное лицо.
Звук моторов все нарастал и нарастал. Красноармейцы, получив винтовки, выбегая из дверей, щурились, зевали, кое-кто побежал за угол казармы. Наскоро справив малую нужду, становились в строй.
За два года службы Борзенко уже знал, если в выходной день объявили тревогу, пропало воскресенье. Сейчас объявят кросс.
Прибежал встревоженный командир эскадрона капитан Ракитин. Встревоженно осмотрел строй, подозвал к себе старшину. Спросил:
– Все на месте? Кого нет?
– Так точно, товарищ капитан. Все на месте. Четыре человека в наряде. Один в санчасти.
Капитан прошелся перед строем. Кажется, что каждому заглянул в душу.
– Война, ребята!
Строй колыхнулся.
– Как война? С кем?..
– С фашистами. Некогда отвечать на вопросы. На границе уже идет бой. Седлать лошадей!
Казаки эскадрона бросились к конюшням. Выводили и седлали лошадей.
Вдали, в утреннем небе, появилась армада самолетов. Они летели строем, на разной высоте, медленно, уверенно.
У Ракитина в голове шевельнулась малюсенькая надежда.
– Может быть, наши?
Но надежда тут же пропала, потому что от летящего строя отделилось несколько теней, скользнули прямо к военному городку. На фюзеляжах и крыльях с желтыми концами мелькнули черные кресты. Три пары «юнкерсов», завывая, пронеслись над крышами казарм, городком, в котором жили семьи командиров, развернулись над лесом и, сделав крутой вираж, стали стремительно возвращаться. Задрожали стекла, заржали кони. Одна из казарм вдруг вздрогнула, рассыпаясь по кирпичам, и медленно сползла вниз. С неба продолжали сыпаться бомбы.
Ракитин представил, как сейчас авиационная бомба пробьет крышу казармы и взорвется, убивая и калеча беспомощных безоружных людей.
«Каюк!» – подумал Ракитин и, срывая голос, заорал:
– Во двор! Бегом! Марш! – А когда бойцы выскочили на двор, закричал снова: – Рас-средоточссь! Стадом не стой! Лошадей в укрытие!
Казаки вскакивали в седла, но как град на них сыпались и сыпались осколки малокалиберных осколочных бомб «Шпренг Диквант» SD-2. Остановить этот кровавый молох могли только самолеты или зенитки Красной армии. Но зенитчики за несколько дней до начала войны были направлены на корпусные учения у села Крупки.
Армаду немецких бомбардировщиков могли остановить недавно полученные новейшие истребители МиГ-3. Но летать на них в полку почти никто не умел. Обучение и облетку прошли только 16 летчиков.
Согласно распоряжения командующего округом ВВС, в связи с переходом на новые самолеты было приказано снять со старых самолетов И-16 все вооружение, а самолеты перегнать на базу.
Командир авиаполка Полунин приказ не выполнил. Оставил два десятка ишачков. Не потому что заподозрил измену. Не дошли руки. Не успел.
В ночь с субботы на воскресенье майор Полунин остался в штабе. Сначала засиделся над документами, а потом бросил у двери хромовые сапоги и прилег на стульях в своем кабинете. Вскоре в коридоре, где стоял дневальный, раздался здоровый командирский храп. Слышалось невнятное бормотание.
Дежурный по полку настойчиво тряс его за плечо.
– Товарищ майор, товарищ майор… вас командир дивизии, срочно!
Полунин вскочил, спросонья закрутил головой, ища телефонную трубку. Рука машинально потянулась к вороту гимнастерки, вытянулся по стойке «смирно».
– Майор Полунин у аппарата, – доложил комполка и сквозь треск помех услышал ажурный мат комдива.
– Твою царицу мать! Спишь, майор?! – В трубке слышалось хриплое дыхание. – Прямо на тебя идут немецкие бомбардировщики. Поднимай полк!
– Какие мои действия, товарищ генерал? По-прежнему огонь не открывать? Принуждать к посадке? – спросил комполка.
– Ты офуел, майор?! – Рык комдива. – Их там сто или двести! Армада! Это война, Иван. Задержи их! Любой ценой задержи!
Полунин гаркнул:
– Понял! Есть задержать, товарищ генерал! – Хрястнул трубкой по телефону: – Ага… задержи. А какая же сука придумала перед самой войной у нас самолеты забрать?
Заметался по кабинету, натягивая сапоги. Застегивая на ходу портупею с кобурой, выскочил из штаба. Сбегая с крыльца, подвернул ногу. Выругался сквозь зубы.
Следом за ним загрохотал сапогами дежурный:
– Товарищ майор?..
В небе слышался ровный гул. Слегка приподнявшееся над линией горизонта солнце высветило лавину самолетов, идущих в плотных боевых порядках на полукилометровой высоте.
Ковыляя к аэродрому, комполка оглянулся, глянул в небо. Почувствовал, как похолодело в груди и сердце ухнуло куда-то вниз. Бешено закричал дежурному:
– Давай ракету! Быстро! Боевая тревога!
Со стороны оперативного дежурного, глухо хлопнув, взвилась красная ракета. Дежурное звено первой эскадрильи младшего лейтенанта Кокорева стремительно взмыло в сереющее небо. Навстречу своей смерти.
Надсадно выла сирена.
По полю в серых предрассветных сумерках уже мчались топливозаправщики. Чихнув, закрутился винт первой машины. Взревел мотор, второй, третий. Подкатила дежурная машина. Летчики полка прямо на ходу выпрыгивали из тентованного ЗИС-5, бежали к самолетам. Ревели двигатели. Техники тащили ленты к пулеметам БС и ШКАСам, баллоны со сжатым воздухом. Всюду шум моторов, крики команд, – полк готовился к бою!
Разбегаясь, взлетела первая пара. За ней вырулил очередной И-16, набрал скорость, кажется, сейчас оторвется от полосы… Но от летящей эскадры отделилось звено, и воющие самолеты с крестами пошли в атаку с пологого пике.
Полунин закричал:
– Давай! Ну давай же, родной, взлетай!
И в этот момент перед набирающим разгон самолетом набухла и вспучилась земля. И только тогда раздался звук взрыва. Машина подпрыгнула вверх и, разваливаясь на куски, вспыхнула ярким пламенем. Летное поле покрылось черными фонтанами взрывов.
Через двадцать минут полка уже не было. Восемьдесят машин сгорели, даже не взлетев с аэродрома. Вся полоса была густо усеяна воронками от бомб. Аэродромные постройки, ремонтные мастерские и склады горели. Черный дым клубами стелился над летным полем и высоким столбом уходил в небо. На краю поля лежала опрокинутая бричка с кастрюлями. Из пробитого пулей бака вытекало что-то темное. Чай или какао, похожие на кровь. По всему аэродрому дымились разбросанные обугленные обломки. Все, что осталось от авиаполка.
Внезапно откуда-то с высоты, со стороны солнца свалился маленький юркий истребитель МиГ-3. Пристроился в хвост немецкому самолету. Пошел на сближение, быстро сокращая расстояние, вцепившись в хвост мертвой хваткой.
– Кокорев? – поразился Полунин. – Живой?
И закричал, срывая голос:
– Кокорев! Димка-ааааа! Стреляй, сынок!
Словно услышав его крик, ударил 12,7 мм универсальный пулемет Березина, коротко тявкнули скорострельные ШКАСы – и все.
Младший лейтенант Кокорев, остервенело давя на гашетку, костерил себя сквозь стиснутые зубы:
– Учили тебя, дурака, стрелять экономно. Теперь кровью умоешься за то, что не слушал!
Полунин покрылся холодным потом. Он понял, что сейчас Кокорева разорвут. Порвут, как голодные волки. Но маленький юркий МиГ-3 упорно шел на сближение с врагом. Газ – до предела. Ближе… Ближе… Раздался треск, заглушивший на мгновение гул моторов. Винт истребителя за доли секунды «размолотил» хвостовое оперение «юнкерса», и тот, словно наткнувшись на каменную стену, тут же клюнул носом и рухнул вниз.
Полунин кинул фуражку о землю, заорал в восторге:
– Что, бля, получил на х…?!
Но МиГ-3 тоже дернулся и стал неуклюже валиться на крыло. Сломанный винт не тянул. Самолет падал, словно подбитая птица, но даже в падении летчик пытался планировать, чтобы не упасть и сесть на землю, сохранив машину. Но тут один из самолетов прикрытия ударил из автоматической пушки. МиГ-3 вздрогнул, выпустил узкую струю черного дыма. С каждым мгновением она становилась все гуще и гуще. Самолет скользнул к лесу и пропал за верхушками деревьев. Через несколько минут где-то вдалеке за лесом раздался взрыв.
На том месте, где располагался военный городок и казармы, рвались фугасные бомбы. Кричали умирающие бойцы, ржали раненые кони. Горели деревянные строения, крыши домов, заборы, деревья. Лопались стекла. Рушились балки. На одной петле со скрипом раскачивалась дверь кирпичного дома. В воздухе висели гарь и пепел. Казармы были разрушены, вокруг не осталось ни одного уцелевшего каменного здания.
В нескольких километрах от военного городка догорал самолет младшего лейтенанта Кокорева.
Проснулись жители, и на улицах началось столпотворение. По утренним улицам, в пыли и грохоте бежали обезумевшие от страха полуодетые люди. Среди них были старики и женщины, бегущие в одних сорочках и кричащие страшными голосами. У многих на руках плачущие дети. Листья деревьев обуглились и почернели от огня. Всюду на земле валялись осколки стекла, обломки кирпичей, поваленные деревья.
– Товарищи… без паники, товарищи. Это провокация! Сохраняйте спокойствие. – Не веря собственным словам, метался среди людей заведующий гарнизонным клубом старший политрук Мохов.
Вся площадь перед городком и казармами была перепахана воронками бомб. Лежали десятки убитых красноармейцев и мирных жителей. От двухэтажного здания казармы осталась лишь одна внутренняя стена, на которой висел покосившийся портрет Сталина. Но над развалинами штаба реял пробитый осколками красный флаг. Сильно пахло гарью. Черный дым стлался по земле.
Стоя на коленях, страшно кричала жена капитана Ракитина. Волосы ее были растрепаны, из-под халата торчала ночная рубашка. На земле перед ней лежала полуголая маленькая девочка с окровавленной светловолосой головкой.
Отбомбившись, самолеты развернулись и, пройдя по горящим развалинам пулеметными огнем, ушли за горизонт.
Наскоро перевязав раненых и торопливо оглядываясь туда, где скрылись самолеты, казаки вскакивали в седла, выстраивая лошадей в походную колонну, и двинулись на Белосток.
В воздухе осталось висеть облако пыли из-под конских копыт. Попав во время марша под очередную бомбежку, казаки решили разбиться на эскадроны, чтобы не быть мишенью для самолетов.
Капитан Ракитин был убит осколком. Командование эскадроном принял старший политрук Мохов.
Не доходя до Ломжи, где дислоцировался 130-й артиллерийский полк, выслали разведку. Через полчаса те вернулись. Старший группы сержант Борзенко доложил:
– Немцы!.. на мотоциклах с пулеметами… Наверное, разведка. Около взвода, наглые… хохочут. Прут…
Старший политрук почернел лицом.
– Хохочут, говоришь? – закричал. – Шашки к бою!
Через десять минут озверевшие казаки вырубили немецкую разведку шашками. Это был не бой. Была жестокая рубка. Свистела сталь клинков, слышались выстрелы обороняющихся, редкие вскрики. Под острыми блестящими клинками немцы валились как трава. Перебив мотоциклистов, казаки рассматривали порубленных немцев, вытирали клинки о конскую гриву. Вокруг лежали убитые, раненые, разбросаны немецкие ранцы, оружие, котелки. Немецкий офицер, рассеченный по груди, корчился в перемешанной с кровью пыли. Он не хотел умирать и страшно хрипел, выпуская из раны пузыри кровавой пены. Пулеметчик уткнулся лицом в ящик с пулеметными лентами. Красные волосы на его голове были похожи на задубевшую корку.
Дрожащими руками политрук пытался вложить шашку в ножны. С лицом, заляпанным кровью, подошел Борзенко. Мохов приказал ему собрать оружие и боеприпасы.
Сержант присел на корточки перед убитым офицером, вынул из его руки парабеллум, сунул себе за пазуху. Из разрубленного шашкой нагрудного кармана достал залитую кровью записную книжку с заложенным в нее серебряным карандашом. Хмыкнул. Сунул карандашик в карман галифе. Повертел в руках засаленную записную книжонку, полистал исчерченные непонятными каракулями странички. Бросил ее в пыль.
Порубив немцев, решили в город не входить, там уже наверняка были передовые части. Решили двигаться дальше и занять оборону вдоль железной дороги. Весь день отбивали атаки противника.
Но на казаков вновь свалились самолеты. Кони и люди были беззащитны от шквала огня. Появились новые убитые и раненые, и рвал сердца полный боли крик, от которого бросало в дрожь:
– Добейте меня!.. Хлопцы, родненькие!.. Пристрелите!..
До самого вечера слышались взрывы, стрельба, стоны раненых:
– Пить… пить…
Мохов почувствовал, как горячей болью обожгло левую ногу, в горячке он пробежал несколько шагов, пока не почувствовал, что нога ниже колена стала неметь. Сапог был полон теплой, хлюпающей крови. Присев на поваленное дерево, он позвал помковзвода.
– Сержант, подь сюда… Помоги снять.
Осколок застрял в правой ноге. На коже была видна рана, из нее шла кровь.
– Дай нож…
Сцепив зубы, полоснул по ране лезвием. Скривившись, подцепил ногтями зазубренный осколок, резко дернул.
– Надо бы порохом присыпать, товарищ политрук.
– Некогда. Надо уходить на Волковыск, там наши. Найди мне подорожник.
Борзенко порвал на себе исподнюю рубаху и перевязал политруку ногу. Рана распухла, болела. Сапог не налезал. Пришлось сунуть его в седельную сумку.
На усыпанной листьями земле тут и там лежали трупы убитых лошадей и тела казаков.
* * *
Дивизионные зенитчики так и не подошли. Выйдя рано утром с полигона, колонна повернула на боковую, обсаженную тополями дорогу. Двенадцать грузовиков с орудийными расчетами в кузовах тащили 37-мм зенитные пушки. Командир взвода лейтенант Сорока дремал в кабине ЗИС-5. Перед лобовым стеклом машины зеленым миражом дрожали, плыли у горизонта березовые колки, охваченные красным рассветным маревом. В утренней прохладе висел густой запах полевых цветов и земляники. Натужно завывали двигатели машин.
– Гляньте, товарищ лейтенант. И танкистам тоже не спится, – услышал Сорока голос водителя Даниленко.
Приоткрыв глаза, лейтенант увидел, что вдалеке навстречу их колонне движутся серые от пыли, низкие, тяжелые машины.
Лейтенант прикрыл глаза от поднимающегося солнца козырьком ладони.
– Тоже с учений идут, – предположил водитель.
Танки нырнули в ложбину возле ручья и внезапно появились совсем близко. Они развернулись в одну линию и двинулись по пшеничному полю, надрывно ревя моторами, приземистые как бульдоги, широкогрудые, с кургузыми стволами пушек. Отсвечивали на солнце их отшлифованные траки.
– Что же они делают? – мелькнула мысль. – По хлебному полю!
И тут машину подбросило вверх. Почти сразу же лейтенант услышал громкий взрыв. Машина осела на правую сторону.
– Это же!.. – мелькнувшая в голове мысль, так и не успев до конца оформиться в предложение, оборвалась новым взрывом.
– Немцы! – выдохнул водитель, поворачивая к командиру испуганное лицо.
Пальцы Сороки царапали, рвали тугую застежку кобуры нагана.
Застрекотали пулеметы. Из кургузых стволов пушек выпеснулись снопы пламени. Передний ЗИС приподнялся в воздухе, потом вдруг осел и рассыпался на части. Сороке почему то запомнилось катящееся по дороге колесо грузовика. Зеленело пшеничное поле, а впереди вспыхивали и вспыхивали огоньки выстрелов. Раздался пронзительный вой снаряда, взрыв в середине колонны. Уже горела соседняя машина, рядом колесами вверх валялась покореженная опрокинутая взрывом зенитка. Страшно кричали раненые и обгоревшие люди. На месте ЗИСа с бойцами первой батареи осталась лишь дымящаяся воронка с вколоченной в землю перекрученной, изрешеченной осколками рамой грузовика. Стоны, мольбы о помощи, лужи крови.
Оглохший от разрывов, Сорока закричал:
– Орудия к бою!
Но не так просто было развернуть громоздкие зенитки на узкой дороге. Серое утро освещалось пламенем горящих машин, стояла вонь тротила, горящей резины. Немецкие танки продолжали методично расстреливать зенитный дивизион на дороге.
Сорока уже понял, что они погибают и что жить им осталось всего лишь несколько минут. И тогда Сорока вместе с какими-то бойцами немыслимым усилием развернул ствол ближайшей зенитки в сторону выстрелов и, кое-как сорвав чехол, захрипел:
– Заряжай! В гробину, душу!..
Пыль и дым застилали обзор, невозможно было разглядеть, где танки. Горели машины, уцелевшие красноармейцы метались, ища укрытие. Между деревьями он все же увидел серую точку танка, который полз вперед и непрерывно стрелял в него. Сорока дрожащими руками довернул ствол и поймал в перекрестье прицела серый силуэт, плюющийся огнем из короткого хоботка орудия. Зенитка – это не полевое орудие, которое нужно заряжать после каждого выстрела. Зенитка автоматически выбрасывает целую кассету снарядов. Ударила короткая очередь. Башня ползущего танка вдруг взлетела на несколько метров вверх, медленно перевернулась в воздухе и упала среди пшеничных волн. За спиной Сороки вдруг оглушающе грохнуло, резкая волна взрыва швырнула его ниц и ударила спиной о землю. Лейтенант почувствовал, что ему нечем дышать. Краем сознания он сознавал, что еще жив. Что надо уползти как можно дальше от этого страшного места, укрыться, спрятаться от невыносимой боли, рвущей его тело. Из уголка его рта показалась кровь, но лейтенант не замечая ее сполз в канаву и затих, уткнув голову во влажную от ночной росы землю. Орудие, из которого он вел огонь, беспомощно повисло на краю воронки. Рядом с обугленным и еще дымящимся колесом лежали тела погибших бойцов. Валялись снаряды, гильзы, разбитые ящики. Рыча двигателем и гремя гусеницами, прямо на Сороку шел танк. Легкий утренний ветерок гнал на лежащего человека космы черного дыма от горящих машин. Тлела гимнастерка на спине погибшего лейтенанта.
* * *
Начальник снабжения кавалерийского корпуса полковник Козаков, оставленный в Волковыске для формирования второго эшелона корпуса, на восточном берегу реки Россь строил рубеж долговременной обороны. Серый от пыли и усталости Козаков хрипел и, размахивая пистолетом, останавливал отступавших бойцов. Заставлял рыть окопы в полный профиль и держать оборону. Он был одет в черкеску. На голове черная кубанка, лихо сбитая на самый затылок. Над дорогой стоял сплошной мат, звяканье лопат о камни, бряцание винтовок. Двое суток сводный отряд держал оборону Волковыска. К концу вторых суток казаки уже бились шашками, потому что кончились боеприпасы. Поняв, что подмога не придет, пошли на прорыв.
48-й Кубанский Белореченский полк во главе с подполковником Алексеевым пытался прорваться южнее Зельвы и в районе деревни Ивашковичи врубился в расположение немецкой части. Большая часть полка полегла под огнем немецких пулеметов, а остатки, потеряв обозы и коней, насилу вырвались через первую линию окружения.
Жеребцу комполка осколком срезало половину морды. Полные тоски и страха глаза смотрели на людей, а вместо ноздрей белели окровавленные кости. Коня пришлось пристрелить.
Недалеко от них, около деревни Горно так же неудачно прорывался 144-й кавалерийский полк 36-й дивизии. Оставшиеся в живых казаки, боясь, что знамя полка попадет к врагу, закопали его у безымянного ручья близ села Зельва.
Вечером 28 июня собравшиеся в Зельве части попытались с боем выйти из окружения. Из города двинулся бронепоезд, поддержанный несколькими танками Т-26 и двумя эскадронами кавалерии. За ними шла пехота.
Остатки кавалерийского полка, рассыпавшись в лаву, ринулись прямо на расположения штаба 2-го батальона 15-го пехотного полка.
Немецким саперам удалось подорвать железнодорожное полотно. Заблокировав бронепоезд, его расстреляли из 37-мм орудий 14-й противотанковой батареи. Так же расправились и с танками Т-26.
Одновременно с этим артиллеристы и пулеметчики открыли огонь по коннице и наступавшей пехоте.
Борзенко увидел, как старший политрук Мохов полетел через голову своего коня.
– Товарищ командир! – закричал он и, осадив коня на полном скаку, прыгнул к корчившемуся от боли политруку.
– Команди-иир!
Мохов был ранен в голову, его лицо залила кровь. Выпав из седла, он сломал себе шею. Глаза закатились, он потянулся, мелко засучил ногами. Рукавом гимнастерки, до локтя перепачканным чужой кровью, сержант вытер слезы. Несколько мгновений не мигая смотрел в уже сереющее лицо. Где-то невдалеке безостановочно бил пулемет. Пули визжали где-то в вышине. Борзенко встал и, размазывая по седлу кровь, качаясь, с трудом сел на коня. Его взгляд был безумен, руки дрожали, сердце бухало под горлом. Вцепившись занемевшей рукой в рукоять шашки, он дал коню шенкеля и поскакал на звук выстрелов. Прорыв уже захлебывался в крови.
Казаки пытались отойти и пробиться из окружения в другом месте, но разгром был полный. Загнанные, обессилевшие кони падали, поднять их уже не могли. Те, которые еще могли держаться на ногах, качались, еле переставляли ноги и роняли на землю густые белые хлопья пены.
Сержант Борзенко лежал на земле, захлебываясь кровью. Уже слышалась немецкая речь. В руке у него был трофейный парабеллум.
«Все… трындец! – подумал он. – Отбегался Борзик».
И поднес к виску ствол.
* * *
Группа майора Гречаниченко на рассвете вышла к реке. Его остановили вооруженные автоматами люди. Это был конвой Маршала Советского Союза Григория Ивановича Кулика, которого Сталин отправил на Западный фронт для выравнивания ситуации.
Конвой маршала пытался останавливать военных, ехавших и шедших вместе с беженцами. Но никто ничего не желал слушать. Зачастую в ответ на требования раздавались выстрелы. Уже прошел слух, что занят Слоним, что впереди высадились немецкие десанты, прорвались танки, что обороняться здесь уже нет никакого смысла. Маршал в парадном мундире и с тростью в руках на фоне отступающей армии смотрелся нелепо. Мимо него сплошным потоком шли разрозненные группы красноармейцев. В их глазах Григорий Кулик видел не только страшную многодневную усталость, вызванную бомбежками и боями, но и покорную безнадежность, как у скотины, которую ведут на бойню. Солдаты смотрели себе под ноги и что-то угрюмо шептали потрескавшимися, сухими губами. Слой мягкой бархатистой пыли вдоль дороги заглушал мерный топот солдатских ног. Ряд за рядом мимо Кулика и стоящей рядом с ним группы командиров шла колонна обвешанных оружием красноармейцев. Большинство из них были в сбитых на затылки кубанках. У некоторых в руках немецкие автоматы. Бойцы были в расстегнутых и разорванных гимнастерках. Отсвечивали серые от пыли повязки раненых. Товарищи помогали им нести скатки и вещмешки. Замыкал строй худощавый командир, с майорскими шпалами на петлицах, туго перетянутый ремнями портупеи. На темном лице с резкими чертами было какое-то жесткое выражение глаз.
Кулик приказал майору подойти к нему. Вертя в руках изящную трость и постукивая ей по голенищу блестящего сапога, спросил:
– Ты кто такой?
Придерживая рукой висевший на груди автомат, командир остановился, доложил:
– Майор Гречаниненко. Временно исполняю обязанности командира 94-го кавполка.
Голос его звучал хрипло, смотрел без страха, будто спрашивая: «Ну, чем еще вы сможете меня напугать?»
Геройский вид Гречаниненко и его сохранивших строй бойцов воодушевили маршала.
– Майор! Вы очень вовремя со своими бойцами, – сказал Кулик. – Приказываю вам организовать оборону за Россью севернее Волковыска, – маршал ткнул тростью куда-то в сторону реки.
– Люди на пределе сил, товарищ Маршал Советского Союза, – устало ответил майор. – Многие ранены.
– Не время отдыхать, казак, – Кулик недовольно прищурился. – Родина в опасности. Надо продержаться двое суток.
– Задача понятна, товарищ Маршал Советского Союза, – ровным голосом, словно речь шла о пустяковом задании, ответил майор Гречаниненко, глядя прямо в глаза маршалу. – Разрешите выполнять?
Гречаниненко понимал, что шансов выжить нет ни у него, ни у его бойцов. Но не было страха в его лице, только решимость и трагическая обреченность.
Кулик об этом уже не думал, посчитав свою миссию выполненной, он со своим штабом решил выходить из окружения. Бывший взводный унтер без сожаления содрал с себя роскошную гимнастерку с маршальскими петлицами, но не смог заставить себя снять роскошные хромовые сапоги. Он переоделся в крестьянское платье и теперь, с недельной щетиной на лице, казался деревенским мужиком. Так и шел. В крестьянской косоворотке и хромовых генеральских сапогах.
* * *
Григорию Кулику всегда везло. Еще в детстве дед Матвей, живущий по соседству и слывущий в округе за колдуна, нагадал ему долгую и счастливую жизнь. Во время Гражданской он был пять раз ранен. Выжил в Испании. Пережил чистки и террор тридцатых. Повезло и на этот раз, судьба уберегла его от встречи с немцами.
Сталин, опасаясь того, что Кулик может попасть в плен, отдал приказ разыскать его. На поиски пропавшего маршала были брошены специальные группы. Но в начале июля Кулик сам вышел из окружения. В потертых холщовых брюках с пузырями на коленях, в застиранной серой рубахе, с заплатами на локтях. В грязных, нечищенных сапогах со сбитыми каблуками. На голове – кепка, на лице многодневная щетина. Затравленный взгляд, в глазах вопрос – как встретят соратники?
На следующий день после возвращения в Москву он, выглаженный, чисто выбритый и переодетый, заявился к старому другу Ворошилову. Но красный маршал ему не обрадовался, напротив, нахмурился.
– Здравствуй, Клим, – дрогнувшим голосом сказал Кулик.
– Здравствуй, Гриша. Что скажешь?
– Вернулся вот…
– Для тебя было бы лучше не возвращаться.
– Это как же, Клим? К немцам?..
– Нет. Пулю в лоб. Тогда бы написали – героически погиб.
– Клим, что случилось?
– А то и случилось, что у хозяина на столе уже рапорт лежит, что ты, дескать, все просрал, документы сжег, оружие бросил и бежал с передовой, как Керенский в семнадцатом. Кстати, ты не в бабьем платье сбежал?
– Да я, Клим!..
– Ладно, ладно… Знаю, что ты! Завтра тебя хозяин вызывает. Молчи. Делай глупые глаза. Хозяин дураков любит. Может быть, пронесет.
На Кулика было страшно смотреть. Его лицо словно омертвело, глаза остекленели. Предстояло объяснение с хозяином.
Когда Кулик предстал перед Сталиным, тот, делая вид, что видит его впервые, спросил, пыхнув трубкой:
– Кто ви такой?
Кулик приосанился, одернул широчайшие галифе.
– Маршал Советского Союза…
– А гдэ ваши лапти, товарищ маршал?..
– Товарищ Сталин… Позвольте объяснить…
– Я спрашиваю вас, гдэ лапти, товарищ Кулик? Гдэ зыпун, в котором вы виходили из окружения?
Кулик молчал. Его солидная, полная значимости фигура как-то сдулась, стала даже меньше в объеме, лицо, наоборот, набрякло, щеки обвисли.
– Молчите? Правильно дэлаете. Потому что за вас говорят документы. Вот передо мной лэжит рапорт начальника 3-го отдела 10-й армии товарища Лося, который вместе с вами вишел из окружения: «Товарищ Маршал Советского Союза Кулик приказал нам всэм снять знаки различия, вибросить документы, затем сам переоделся в крестьянскую одежду. Сам он никаких документов с собой нэ имел, нэ знаю, взял ли он их с собой из Москвы».
«Сука чекистская! – думал про себя Кулик, разглядывая блестящие носки своих сапог. – Ну и сука же этот полковой комиссар. Зря я его вывел. Надо было там и бросить, пусть бы там с казаками и держал оборону».
Сталин продолжал ровным тихим голосом:
– «Прэдлагал бросить оружие, а мнэ лично – ордена и докумэнты, однако, кроме его адъютанта, майора по званию, фамилию забыл, никто докумэнтов и оружия не бросил. Мотивировал он это тэм, что, если попадемся к противнику, нас примут за крестьян и отпустят… Маршал товарищ Кулик говорил, что хорошо умеет плавать, однако отказался переплывать реку, ждал, пока сколотят плот, что было совершенно нэдопустимо, так как вблизи были фашисты, и создавало угрозу плена».
А вот вивод начальника особого отдэла 10-й армии комиссара госбэзопасности 3-го ранга Михеева, который проводил расследование: «Считаю нэобходимым Кулика арэстовать…»
Сталин смотрел на Кулика своими желтыми глазами.
– Что ви скажете на это, товарищ… генерал-майор?
Разговор был резким. Но вопреки привычке стирать людей в порошок и за гораздо меньшие прегрешения, Сталин Кулика не тронул. Хоть и дурак бывший унтер, но… услужливый. Если всех дураков стрелять, так можно и одному остаться.
Разжалованный маршал выкатился из кабинета. Сталин только вздохнул: «с кем приходится работать?»
Вскоре после своего рапорта полковой комиссар Лось был назначен на должность начальника 3-го Отдела НКО Управления Фронта Резервных армий Ставки.
Комиссар госбезопасности 3-го ранга Анатолий Михеев, настаивавший на аресте маршала Кулика, когда-то начинавший службу командиром саперного взвода, попросился на фронт. 23 сентября 1941 года, выходя раненным из окружения, он погиб под гусеницами танка. Но даже мертвый он продолжал сжимать в руке маузер, в котором не осталось ни одного патрона.
* * *
Смертельно уставшие и измученные казаки продолжали сражаться.
В ночь с 1 на 2 июля 1941 года командующий 3-й советской армией генерал-лейтенант Василий Кузнецов приказал прорываться из окружения в юго-восточном направлении через железнодорожную линию Барановичи – Минск. Казаков майора Гречаниченко зачислили в состав сводного отряда, который прикрывал прорыв на направлении разъезда Волчковичи. После жестокого и кровопролитного сражения вырваться из окружения удалось лишь немногим. Группа казаков до самого рассвета сдерживала германские части, стремившиеся «заткнуть» пробитый в котле узенький проход. После того как погибла большая часть отряда, раненый майор Гречаниченко с горсткой уцелевших отошел в глубь лесного массива. За несколько дней непрерывных боев и отступления бойцы дошли до предела своих сил. Измотанный Гречаниченко, у которого воспалилась рана, материл про себя героического маршала, на глаза которому он так некстати попал, и тоскливо думал про себя: «И какой хер принес на фронт этого вояку?» Не видя возможности выйти из окружения целым подразделением, Гречаниченко прохрипел сорванным голосом:
– Слушай приказ!..
Вокруг, среди кустов и деревьев, лежали люди. Вздымались от частого, хриплого дыхания их темные от пота и пыли гимнастерки.
Гречаниченко поперхнулся и, превозмогая кашель, повторил:
– Слушай приказ! Всем разбиться на мелкие группы. Отходить самостоятельно. Направление строго на восток!.. Передать команду по цепи!..
В лесу слышались осипшие от бега голоса, повторявшие приказ.
Сам Гречаниченко идти уже не мог. Казаки перевязали ему раны и оставили в ближайшей деревне. Он затерялся среди местного населения, а потом ушел к партизанам.
Генерал-майор Константинов при прорыве из окружения под местечком Рось был ранен в ноги и спину. Оставив его в деревне на попечение крестьян, казаки пошли дальше.
Жаркое июньское солнце стояло высоко над землей, выжигая ее иссушающим зноем. У горизонта над лесистыми зелеными холмами дрожащим маревом зыбился и плыл раскаленный воздух.
Казаки выбрали место на взгорке, где было суше. Завернули в брезент знамя корпуса и закопали его в землю, рядом с большим, покрытым мхом камнем. Грунт, слежавшийся за долгие годы, был плотным, неподатливым.
Казаки спешили, тяжело и хрипло дыша рыхлили твердую землю ножами и шашками. Срывая ногти, царапали землю пальцами. Из-под черных кубанок катился горючий пот. Последняя группа казаков численностью до батальона вышла из окружения в район Орши. Казакам пришлось оставить своих истощенных переходами коней и влиться в оборону советских войск как стрелковое подразделение.
6-я Кубано-Терская казачья дивизия имени Буденного почти вся полегла в июньских боях с превосходящими силы противника. Погибла, не запятнав казачьей чести. Ценой своей жизни казаки сохранили честь и славу своей дивизии.
* * *
Немецкий 39-й мотокорпус, сломив сопротивление не успевшей сосредоточиться 19-й армии в районе Витебска, наступал на Демидов, Духовщину и Смоленск. 13 июля танки корпуса дошли до Демидова и Велижа, заняли Духовщину и 15 июля прорвались к Московско-Смоленской дороге. В результате прорыва немецких танковых групп в окружении под Смоленском оказались советские 19, 20 и 16-я армии. Связь с тылом поддерживалась только через болото южнее села Ярцево. Немногочисленные части, которые шли на помощь окруженным советским армиям, смела лавина отступавших войск. Этот страшный поток вовлек их в обратное, паническое движение. То же самое было и на других фронтах.
Начальник штаба Юго-Западного фронта генерал-майор Василий Тупиков доложил начальнику Генерального штаба РККА Шапошникову: «До начала катастрофы пара дней». В ответ маршал Шапошников обвинил его в трусости и паникерстве. Но бывший военный атташе в Берлине Василий Тупиков, в последние часы успевший предупредить правительство о начале войны, не был ни трусом, ни паникером.
На другой день танки 1-й и 2-й танковой группы завершили окружение пяти советских армий. В плен попало около 300 тысяч советских солдат. Выходя из окружения, генерал-майор Тупиков и командующий фронтом Кирпонос погибли в рукопашном бою.
Страшное, роковое слово «окружение» двигало волей и поступками людей, совсем еще недавно марширующих, горланящих бравые песни, убежденных в том, что бить врага будут на его территории, а теперь бредущих куда-то лишь в одном направлении – куда все, туда и мы.
Волны людей ширились, словно горный поток, и текли, набирая силу и сметая все на своем пути. На восток, к своим. Немцы бомбили их с воздуха, непрерывно обстреливали снарядами и минами, загоняя в лес, непролазную топь и глушь. В первые дни, пока еще оставались снаряды, пушки окруженных частей остервенело и обреченно били по приближающимся танкам и пехоте.
– Слушай мою команду. Цель сто первая, пехота, основное, наводить по карандашу, два карандаша влево, осколочно-фугасным, взрыватель осколочный, прицел шестнадцать. Один снаряд – огонь!
– Левее два, прицел пятнадцать, батарея, веер сосредоточенный, один снаряд – залп!
– Бронебойным, по танкам – огонь! – хрипел закопченный и измотанный отступлением безымянный артиллерийский комбат, расстреливая последние снаряды.
– За нашу советскую Родину!.. За Колю Шевченко! За Сашку Семенова! Огонь!
– За всех ребят! В три господа… душу!.. Огонь!
– Получай, сука!
Наверное, что-то кричали и немецкие артиллеристы, но спор быстро заканчивался. На батарею набрасывались воющие бомбардировщики с выпущенными шасси, словно лапы у хищных птиц. И летели вверх комья земли, ошметки людей и куски железа.
Бойцы и командиры пробовали окопаться, но тут опять настигало людей страшное слово «окружение», и они снова группами и по одному покидали позиции, стараясь убежать от страшного и несокрушимого врага. Многие тысячи растерянных людей, оглушенных июньскими сражениями, бродили в лесах. Их, уцелевших от разгрома, ждали голодные скитания и страшная судьба в немецких лагерях для пленных. Но и тех, кому удавалось выйти к своим, ждали новые муки и страдания. Свирепствовали трибуналы. Особисты работали днями и ночами, выискивая паникеров, трусов, шпионов и вражеских диверсантов. И за бездарность советских генералов сполна платили своими жизнями простые русские парни и мужики. Кто-то должен был за это ответить. Чувство всеобщей вины требовало найти виновного. Политическая и военная элита страны готова была назвать любое имя, даже самое безвинное, лишь бы снять с себя тягостный комплекс ответственности перед гибнущей державой.
Генерал армии Павлов возвращался на фронт после беседы с Жуковым. Но в его судьбе уже была поставлена жирная точка.
Сталин вызвал к себе Мехлиса и Берию. Попыхивая трубкой, дал напутствие:
– Ви там хорошенько разбэритесь, кто еще, кроме Павлова, виновен в допущенных серьезных ошибках.
Берия и Мехлис все поняли правильно.
Берия распорядился:
– Немедленно арестовать Павлова и его окружение!
Не доезжая Смоленска, машина Павлова была остановлена офицерами НКВД, а он сам и сопровождающие его офицеры были арестованы. Генеральскую портупею с кобурой и пистолетом у него забрали сразу. В старинном белорусском городе Довске, где генерал армии Павлов принимал парад, заставили снять китель и взамен дали поношенную гимнастерку рядового красноармейца. Теперь только гладко выбритая голова да холеное лицо напоминали о прежнем высоком положении.
А как здорово все шло…
Павлова завели в кабинет. За столом сидели заместитель начальника следственной части 3-го Управления НКО СССР Павловский и следователь того же управления Комаров. Первый был в звании старшего батальонного комиссара, второй – младший лейтенант госбезопасности.
В углу притаилась худая, нескладная машинистка с погонами сержанта.
Еще со времен наркома Ежова следственный аппарат во всех отделах и управлениях НКВД делился на – кольщиков и сказочников.
Кольщики подбирались в основном из полных отморозков, тех, кто не гнушаясь черной и грязной работы мог выбить подследственному глаз, переломать пальцы или спилить напильником зубы. Как правило, «показаний» они добивались в кратчайшие сроки. Потом в дело вступали сказочники, которые умели грамотно и красочно составлять протоколы. Павловский был интеллектуалом, разговаривал по душам, писал протоколы. Высокий, крепкий, со сломанными, как у борцов, ушами, младший лейтенант мастерски орудовал кулаками. Иногда менялись ролями.
С машинисткой спал батальонный комиссар. Как старший по званию.
Павлов наотрез отказался разговаривать со следователями. Он всегда отличался крутым нравом.
– Я буду говорить только в присутствии наркома обороны или начальника Генштаба! Вы, – он ткнул пальцем в сторону младшего лейтенанта, – не имеете полномочий допрашивать генерала армии.
Внезапно открылась дверь, и в кабинет быстрыми шагами вошел армейский комиссар первого ранга Мехлис. Следователи и машинистка при его появлении встали.
– Это кто тут не хочет давать показания? – Мехлис повернулся к следователям своим носатым лицом.
– Я буду отвечать на вопросы только в присутствии наркома обороны или начальника Генштаба, – уже затравленно ответил Павлов, не поднимаясь с табуретки.
Лева Мехлис, хоть и начинал свою карьеру с конторщиков, но родился и вырос в Одессе, где периодически случались погромы еврейских домов и лавок. Взрослеть и мужать – пришлось быстро. Уже повзрослевший Лева прошел боевую закалку на политической работе в Красной армии, где не боялся вваливаться с маузером к пьяной матросне и крыть матом вооруженных, нанюхавшихся марафета анархистов.
Лев Захарович при случае и сам мог начистить рыло политическому врагу.
– Ах ты б…! Не бу-деееешь? – задохнулся Мехлис.
Павлов побледнел. Вскочил с места, сделал попытку одернуть гимнастерку.
– Тебе мало заместителя наркома обороны? Может быть, самого товарища Сталина вызвать? Много чести… Ты теперь говно от желтой курицы. Приказываю отвечать на вопросы следствия! – хлопнув дверью, Мехлис вышел из кабинета.
Повисла гнетущая тишина. Лишь изредка слышалось жужжание мух, ползающих по деревянному подоконнику, где стоял цветочный горшок.
Павловский потянулся к коробке с папиросами.
– Ты тут, младший лейтенант, поговори пока с гражданином Павловым, а я пойду обос… – Перевел взгляд на машинистку. – Обосмотрюсь, в общем.
После того как батальонный комиссар вышел из кабинета, Павлов стал разговорчивее.
Стоя у окна в коридоре, Павловский слышал срывающийся на крик голос Павлова, который пытался объяснить следователю, что причиной военных неудач и отступления войск округа стало значительное превосходство крупных механизированных соединений и авиации противника.
Но следователя такой ответ не устроил:
– Лучше расскажите нам о вашей предательской деятельности.
– Вы с ума сошли? Я не предатель. Поражение войск, которыми я командовал, произошло по независящим от меня причинам. И вообще, я настаиваю на вызове товарища Тимошенко.
Сквозь стекло, усеянное черными точками, была видна управленческая полуторка, широкая спина красноармейца Геращенко, крутящего ручку стартера.
Батальонный комиссар курил, лениво выпуская изо рта колечки дыма, и в голове его крутились такие же неторопливые мысли:
«Надо бы хозяйке сегодня белье отдать. Пусть постирает и погладит к утру».
Представил хозяйку – краснощекую, задастую, крепко сбитую. Усмехнулся, вспомнив машинистку, подумал: «Вот и сравним сегодня ночью».
Но тут совсем неожиданно мысли перескочили на другое.
Сам Лева Мехлис примчался контролировать следствие. А это значит что?.. Только одно, что делу бывшего генерала Павлова придается политическое значение и наверняка следователь, раскрывший заговор, будет представлен к государственной награде.
Павловский бросил папиросу на пол, загасил ее каблуком и резко открыл дверь кабинета.
Младший лейтенант в этот момент ударом кулака сбил с табуретки бывшего командующего фронтом:
– Сука фашистская! Я тебе покажу, блядине, кто из нас выше званием. Не предатель?! Ты хуже… ты сделал то, что не удалось Тухачевскому. Ты открыл немцам фронт!
Над Павловым склонилась фигура в новенькой коверкотовой гимнастерке. Он почувствовал запах кожи новой портупеи. От удара сапогом в лицо перед глазами заплясал потолок, и бывший генерал Павлов погрузился в безмолвие.
– Вот сука, квелый какой-то генерал пошел! – брезгливо сказал следователь, вытирая носок сапога о гимнастерку Павлова.
– Конвойный! Ведро холодной воды. Живо.
Через полчаса Павлов с затекшим лицом сидел на табурете. Вдруг он хрипло зарыдал, словно залаял. Павловскому стало жутко.
Батальонный комиссар подвинул Павлову коробку с папиросами. Зажег спичку. Подождал, пока тот сделает несколько затяжек.
Пальцы, державшие папиросу, дрожали. Жадно докурив папиросу, Павлов вдавил окурок в пепельницу и холодным бесстрастным голосом стал давать подробные признательные показания.
Машинистка в углу, деловито хмурясь от сосредоточенного внимания, быстро била пальцами по клавишам пишущей машинки, фиксируя показания арестованного генерала.
Довольный Комаров вытащил серебряный портсигар. Достал папиросу, размял. Закурил.
– Так бы сразу и говорил, что завербован сначала польской разведкой, а потом еще и германской. А то начал мне тут вола крутить!
У Павлова задрожали губы. Он обмяк, ссутулился. Никак не мог собраться с мыслями. Совсем еще недавно уверенное, жесткое лицо с крупными чертами резко постарело. Обвисли щеки, погасли глаза.
Через две недели дело было закончено, передано в военный трибунал.
Председательствовал армвоенюрист Василий Ульрих, членами суда были диввоенюристы Орлов и Кандыбин. Секретарь – военный юрист Мазур.
Просьба подсудимого направить его на фронт в любом качестве, где он докажет преданность Родине и воинскому долгу, грубо прерывалась Ульрихом:
– Пожалуйста, короче…
Его мучил приступ разыгравшейся мигрени. Правда о состоянии фронта и причинах отступления его совершенно не интересовала. Сталин дал команду – найти врага. Приказ был выполнен, враг найден.
Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила Дмитрия Павлова и руководство штабом фронта – Климовских, Григорьева, Коробкова – лишить воинских званий и подвергнуть высшей мере наказания – расстрелу, с конфискацией всего лично принадлежащего имущества.
Ознакомившись с приговором, Сталин сказал Поскребышеву:
– Пусть не тянут. Никакого обжалования. И обязательно сообщить по всем фронтам, пусть знают, что трусов и пораженцев карать будем беспощадно.
Той же июльской ночью Дмитрия Павлова расстреляли.
* * *
Группа танков 35-го танкового полка 6-й Чонгарской кавалерийской дивизии, идущих на выручку своей пехоте, заблудилась ночью среди болот и лесов. Танки сожгли все горючее и встали на дороге. Командир группировки, двадцативосьмилетний майор Николай Титаренко, одетый в замазученный черный комбинезон, матерясь, бегал по дороге от машины к машине, стуча пистолетом по броне машин. От безысходности он скрипел зубами и наконец отдал приказ слить оставшееся горючее в командирский танк, снять вооружение и идти на соединение со своими частями пешим порядком. Этому приказу неожиданно воспротивился батальонный комиссар Шпалик.
– Весь советский народ ведет битву с превосходящими силами противника, – как по написанному шпарил комиссар. – А мы вместо того, чтобы дать бой врагу, будем уничтожать свои танки? Товарищ майор, ваш приказ – вредительский и я буду докладывать об этом в штаб дивизии.
Титаренко плюнул, полез в танк. Но тут налетели самолеты, сбросили бомбы. Вспыхнул танк Титаренко. Люки танка заклинило. Экипаж не мог выбраться из горящей машины, и умирающие люди кричали от боли, сгорая заживо. Батальонный комиссар Шпалик метался между машинами. Схватил за руку ротного Милютина.
– Товарищ старший лейтенант! Машина командира горит. Помогите ему! Я приказываю!
Пламя медленно ползло по танку, и вдруг раздался сильный взрыв. Взорвался боекомплект. Танковую башню сорвало с погонов, приподняло и отбросило в сторону. Огонь полыхал прямо из чрева.
Командир роты устало поскреб трехдневную щетину на обгоревшем лице, махнул рукой:
– Поздно, комиссар, пить боржоми. Вы старший по должности в полку. Командуйте.
Когда черным жирным дымом занесло поросшую чахлым кустарником пойму, неспешный ветер донес до деревни не только звуки взрывов, но и крики горящих заживо экипажей. Танкисты погибли не напрасно. Они приняли на себя бомбовый удар самолетов, летящих на Москву. Советские солдаты остались верны солдатской присяге. Вечная им память.
Но местные жители еще многие годы обходили стороной эту растерзанную взрывами пойму, воняющую гарью, сажей и горелым человеческим мясом. На земле остались лежать трупы. Много трупов, несколько десятков. Горбились закопченные остовы сгоревших машин. Горестно покачивали на ветру зелеными кронами сосны с опаленной корой, словно удивляясь нежданно нагрянувшей смерти.
Оставшиеся в живых танкисты, обожженные и черные от копоти, пытались выйти из окружения – они уже понимали, что в этой войне слова «плен» и «смерть» означали одно и то же. Для одних – раньше, для других – позже. Многие из них продолжали сражаться. Биться и умирать с отчаянностью обреченных. Рвущиеся к Москве немецкие части снова наталкивались на отчаянное сопротивление, и гусеницы немецких танков вязли в телах русских солдат.
* * *
Рассвет 22 июня 1941 года Алексей Костенко встретил в одиночной камере Лефортовской тюрьмы. Сквозь зарешеченное окно камеры и железный намордник, надетый на окно, виднелся лишь сереющий кусочек неба. В камере круглосуточно горела лампочка. Ломаный, рассеянный свет падал на голые бетонные стены, серый каменный пол, железную стандартно-тюремную дверь с черным зрачком смотрового глазка, засовы. Утром, в обед и вечером в замочной скважине скрежетал ключ. С грохотом откидывалась дверца кормушки, и в проеме Алексей видел кусок тюремной стены, выкрашенной ярко-синей краской, мятые кастрюли с баландой и кашей, заключенного с биркой на груди, раздающего хлеб и сахар.
Пять шагов к двери: железная шконка, металлический ржавый стол, бак с парашей, умывальник. Пять шагов назад к черной решетке, впечатанной в тусклый прямоугольник окна. Пять шагов вперед, пять назад. Костенко размеренно шагал по камере, наматывая бесконечные километры. Хромовые сапоги скрипели, придавая мыслям хоть какой-то здравый смысл. Привычный скрип убеждал в том, что он не сошел с ума, ему ничего не кажется и не снится. Пять шагов вперед, пять назад. О чем можно подумать за это время? Оказывается, о многом – о прошлой жизни, о том, как много еще не успел сделать. В пять шагов вмещается целая жизнь, особенно если эти шаги все не кончаются и не кончаются. Примерно как у белки в колесе, которая все бежит и бежит по кругу, пытаясь то ли от кого-то убежать, то ли наоборот – догнать.
Каждые полчаса приоткрывался дверной глазок, к очку приникал человеческий глаз. Надзиратель заглядывал в камеру равнодушным, бесстрастным взглядом и сразу же исчезал. Ходит арестант по камере, ну и пусть ходит. Указания запрещать хождение не было. Перед заступлением на дежурство начальник корпуса инструктировал его:
– Смотри, Пелипенко. Это контрик особый, в самую головку НКВД пробрался. Ты с ним ухо востро держи, чтобы не удавился или еще какое членовредительство не сотворил. А то мы с тобой запросто на его месте окажемся.
На доклады подчиненного, что «контрик» не спит ночами, корпусной хмыкал и, усмехаясь, говорил:
– Ну и пусть не спит, может, ему его душегубства покоя не дают, совесть начинает мучить, что измену против Советского государства замышлял. Может быть, он походит, походит да и надумает сознаться в злодействе каком. Государству нашему рабоче-крестьянскому тогда польза, а тебе благодарность или даже медаль. Ну, ступай, Пелипенко, служи.
Осенью 1940 года Костенко неожиданно отозвали в СССР.
«Вот и все, – подумал он тогда, – меня возьмут прямо на перроне. Только бы успеть раскусить ампулу с ядом». Но обошлось. Не тронули.
Несколько дней он ждал вызова на Лубянку и каждую ночь ожидал ареста. Знал, что за ним могут прийти, и потому спал урывками. Не желал быть захваченным врасплох, сонным, раздетым. Готовился. Уничтожил, сжег все личные бумаги, записные книжки, письма и даже открытки. Там были имена и адреса друзей, и для них это было опасным. В ящике стола лежал заряженный пистолет. Молчаливый и подавленный, затянутый в скрипучие ремни портупеи, он ходил до рассвета по квартире – мрачно, обреченно сцепив за спиною руки. Чувствовал, что беда близко; она бродила где-то за порогом, и любой сторонний звук – шум автомобильного мотора за окном, стук каблуков на лестнице, дребезжание звонка – все напоминало о ней, дышало ею. За окном дворник в сером фартуке размахивал метлой по асфальту – шорк… шорк… шорк. Внезапно вспомнился плакат, как красноармеец в буденовке и гимнастерке выметает метлой врагов народа. Подумалось… вот так же и его. Уже, наверное, скоро.
Но его не тронули. Внезапно вызвали на Лубянку, приказали выехать в распоряжение управления НКВД по Ростовской области. И отлегло от сердца, ворохнулась паскудная мыслишка, может быть, обойдется, пронесет нелегкая, учтут заслуги, безупречное прошлое. Но оказалось – не пронесло, на следующий день взяли перед совещанием, прямо в приемной начальника управления НКВД Виктора Абакумова. Там же в приемной капитан госбезопасности, с серым нездоровым лицом, типичная кабинетная мышь, объявил:
– Вы – арестованы! – и тут же сорвал с него ордена и петлицы. Через несколько недель отправили в Москву. А до этого его допрашивал сам Абакумов. С пристрастием допрашивал. Крепко бил товарищ старший майор госбезопасности, во всю силу своих чекистских кулаков.
Пять шагов вперед, пять назад. Много это или мало? Много, если в эти пять шагов вмещается целая жизнь, страшно мало, если знаешь, что это конец. Было ли что-нибудь хорошее в прошлой жизни? Были революция, Гражданская война, кровь и бесконечные мечты. Будет ли что еще? Или только эти стены и камни? Грязь и холод, мрак и страх?!
Алексей слишком хорошо знал методы работы НКВД, органы не ошибаются. Значит, видится два исхода. Трибунал и приговор – высшая мера социальной защиты – расстрел. Или опять же трибунал и двадцать пять лет лагерей, что в принципе одно и то же.
Значит, выхода нет. В обоих случаях конечная станция – это зэковское кладбище с номерком на левой ноге вместо обелиска с красной звездой. Что остается? Перегрызть себе вены? Вздернуться на куске простыни? Так ведь не дадут, коридорный вертухай не отходит от глазка. Пять шагов вперед, пять назад. Много лет живя за границей и занимаясь разведкой, он конечно же слышал о существовании другой жизни, в которой арестовывали людей, судили, стирали в лагерную пыль. И хотя среди них было много знакомых, все равно не возникало мыслей о том, что же это за государство мы создали, если все руководство состоит из предателей? А если большинство арестованных не предатели, тогда что?.. Почему один человек обладает властью рубить головы полководцам Гражданской войны и соратникам Ленина? Но тогда он не задавал себе вопросов и не мучился сомнениями. Мир казался предельно ясным. А потом, будто топор палача из страшного сна, грубо и бесцеремонно отсек все самое дорогое, что у него было. Прошлую жизнь, настоящую, напрочь лишил будущего.
Кто виноват?.. Что делать?.. Два извечных русских вопроса, на которые нет ответа.
Ты ведь сам строил это государство, защищал его безопасность и охранял его интересы. Ты был готов умереть за власть Советов, но даже не мог представить, что умирать придется в советской тюрьме и от пули советского солдата. Это ведь при тебе создавался аппарат ВЧК, ОГПУ, НКВД. При тебе начались и продолжались репрессии, аресты старых товарищей, которых знал еще с Гражданской. Почему молчал тогда? Малодушничал или в самом деле верил в непогрешимость сталинского руководства и органов? Значит, виноват сам, получил то, что заслужил. И задавал себе Костенко один и тот же вопрос:
– Кто же ты, Сталин? Сумасшедший? Злодей? Кто-оооо?
На допросах он ничего не признал и не подписал. Он отрицал сотрудничество с французской разведкой, польской, английской, германской. Отрицал подготовку заговора, отрицал все. Знал, что сопротивляться бесполезно, переломают пальцы, ребра, зажмут дверями яйца, но ничего с собой поделать не мог. Сопротивлялся как мог, зная, что в случае признательных показаний последуют аресты его друзей и сослуживцев. Но совсем неожиданно его оставили в покое, может быть забыли, может, сделали вид, что не до него. А скорее всего, пошла охота на более крупного зверя. А тут еще в воздухе запахло войной, бывший ефрейтор наглел с каждым днем. Костенко еще в 37 году, после возвращения из Испании докладывал в Москву, что через три-четыре года Гитлер превратится в такую акулу, которую будет очень трудно остановить. Конечно, Сталин тоже готовился к войне, спешно перевооружал армию, разворачивал и комплектовал новые дивизии, подтягивал к границе войска, но и тут же рубил головы всем, кто мало-мальски умел воевать. Всем, кто сделал военную карьеру не на доносах, а ценой собственной крови.
В том же НКВД в последние годы появился новый тип людей с незапоминающимися лицами и такими же пустыми глазами, как у этого коридорного вертухая.
Немецкие самолеты уже бомбили советские города, пограничные заставы обливались кровью, ожидая, что с минуты на минуту подойдет на помощь могучая Красная армия. Танковые клинья генерала Гудериана в клочья рвали оборону войск, пылали села и города, а бывший капитан госбезопасности Алексей Костенко все шагал и шагал по своей камере, вспоминая и пересматривая всю свою жизнь.
В июле 1941 года Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила его к 25 годам исправительно-трудовых лагерей, с конфискацией имущества. В этом же месяце его этапировали в один из лагерей республики Коми. Воюющей стране не хватало леса, угля, нефти, золота. Все это должны были добыть вчерашние военные, профессиональные разведчики, дипломаты, партийные и хозяйственные работники. Советская власть уравняла их в правах с раскулаченными крестьянами, бывшими меньшевиками и эсерами, бандитами и налетчиками.
Алексей ничего не знал о судьбе своей семьи. Жена с сыном просто исчезли из его жизни, и он гнал от себя мысли, что они повторили его судьбу, судьбу изменника Родины.
* * *
Командир 6-го кавалерийского корпуса Иван Семенович Никитин при выходе из окружения был ранен и в бессознательном состоянии захвачен передовыми немецкими частями. Очнувшись, в сумеречном свете керосиновой лампы он увидел побеленные стены, кровати.
– Что это?.. Где я?.. В госпитале? Значит, у своих?..
Было жарко. В печи потрескивали сухие дрова.
На соседней койке метался раненый. Почему нет врача? Где медсестра?
Никитин сделал попытку встать, но ноги не слушались. Тогда он попробовал закричать, позвать на помощь. Но в ответ услышал немецкую речь. И Никитин понял – он в плену. От отчаяния сжалось сердце, и он заскрипел зубами, бессильный что-либо изменить.
К нему подошел врач в белом халате. Наклонился, взял за руку, нащупывая пульс. Блеснула золотая оправа очков.
– Вас волен зи?
Не получив ответа, врач вышел из комнаты. Скрипнула дверь. Почти тотчас раздался стук кованых сапог и к койке генерала подошли два офицера. На плечах блеснули серебром офицерские погоны.
Офицеры остановились. Один из них с погонами гауптмана наклонился к кровати и некоторое время смотрел в лицо Никитину. Затем сказал несколько фраз по-немецки. Второй офицер вытянулся и выпалил скороговоркой по-русски.
– Мы есть представители германского командования. Из ваших документов следует, что вы есть командир 6-го кавалерийского корпуса генерал Никитин. Вы готовы подтверждать это?
Слова доносились до Ивана Семеновича, как сквозь вату.
– Да… Подтверждаю, – тихо проговорил он. – Я генерал-майор Никитин.
– Вас будут лечить немецкие врачи. Кормить. Заботиться о вас. Когда вы пойдете на поправку, мы вас навестим. Ауфидерзеен.
После того как генерал-майор Никитин встал на ноги, к нему вновь приехали немецкие офицеры. На этот раз один из них был с погонами оберста, немецкого полковника. Сопровождавший полковника офицер остался во дворе, а он сам присел на принесенный санитаром стул. Потирая ладони, сказал, доверительно наклонившись к Никитину:
– Ну-с, господин генерал. Как ваше самочувствие?
Генерал открыл глаза. Приподнялся на локте.
– Хорошо, уже можете расстрелять.
– Ну что вы! В этом пока нет необходимости.
– А вы хорошо говорите по-русски, господин полковник.
– Это неудивительно, господин генерал. В свои молодые годы я служил в русской императорской армии. А сейчас предлагаю вам службу в германском вермахте.
– Это невозможно, и я не могу принять ваше предложение, – взвешивая слова, ответил Никитин. – Я генерал Красной армии.
– В мире нет ничего невозможного. Ваш маршал Буденный когда-то сказал, что лучше быть маршалом в Красной армии, чем офицером в Белой. Как знать! Может быть, вы тоже станете фельдмаршалом в русской армии.
– Нет, – мотнул головой Никитин.
Немецкий полковник смотрел на него долго и сочувственно. В его глазах отражался русский генерал, койка с серым солдатским одеялом, кружка с водой, стоящая на табурете.
У Никитина зазвенело в голове от напряженного мучительного ожидания. Показалось, что сейчас немец скажет или сделает что-то страшное, подлое. И генерал Никитин дождался. Полковник бросил на грудь Никитина стопку фотографий. На них был он сам, генерал Никитин в немецком мундире. В окружении офицеров вермахта и красивых улыбающихся женщин.
– А-а… – выдохнул из себя Никитин и сел на кровати.
Левая рука, напрягая синие жилы, вцепилась в железо койки, а правая метнула фотографии в лицо полковнику. Держась за дужку кровати, Никитин с трудом поднялся, встал, лицо его стало бледным. Ноги дрожали, глаза побелели.
– Во-оооон! – исступленно выдохнул он. – Генерал Никитин не предатель!
Его голос срывался, дрожал.
– Ах так?! Так? – бормотал сконфуженный полковник, пятясь спиной к двери. – Это вы напрасно! Напрасно!
Генерал Никитин не выдержал напряжения. Его ноги подкосились и он упал на пол.
– Суки-ииии! Твари-ииии! – хрипло мычал Никитин. Он упирался руками в пол, чтобы подняться, но ослабевшие руки подламывались. Хрипя, он кое-как забрался на койку и сидел на ней, дрожащий и страшный.
Через несколько дней генерал был отправлен в концентрационный лагерь Хаммельбург, где на все новые предложения о сотрудничестве ответил отказом.
6 января 1942 года его вывезли из лагеря и вскоре казнили в одной из тюрем гестапо.
Но уже мертвый, генерал-майор Никитин 23 октября 1942 года был заочно осужден советским военным трибуналом за измену Родине и приговорен к расстрелу.
* * *
436-й полк 155-й стрелковой дивизии был сильно потрепан в бою и отходил на восток. Отступал грамотно, отчаянно сопротивляясь и сохраняя боевой порядок. Остались позади отступающих бойцов стоящее среди полей старинное село с русским именем Погост и кирпичные стены старой сельской церквушки. Усталый комполка оглянулся назад. Сверкнул крест на трехъярусной колокольне, и неизвестно почему невольно потянулась рука неверующего майора, чтобы перекреститься.
Командир спохватился и, чертыхнувшись, крикнул:
– Ну-ка, ну-ка, ребята. Давай живей. А то насыпят нам фрицы на хвост соли.
3 августа 1941 года один из батальонов, уже больше похожий на роту, зарылся в землю у села Сурож. Батальон остался прикрывать отход полка. Вместе с ними остался командир полка.
Стояла утренняя прозрачная тишина. Бледное небо слабо розовело на востоке, и казалось, что за этой полоской кончается жизнь. Белый утренний туман легкими волнами струился над росистой травой поля, перекопанного солдатскими лопатами и перепоясанного траншеями, цепляясь за верхушки деревьев, стволы и лафеты орудий. Брустверы окопов, блиндажи. Рядом лес. В недалекой деревне горланили петухи. Из печных труб вился редкий дымок, хозяйки топили печи, пекли хлеб. Во влажном, холодном воздухе повисла тревога.
Лежа грудью на бруствере окопа, майор Кононов не отрывал глаз от окуляров бинокля, рассуждая про себя:
– Соседних частей рядом нет. До немецких позиций километров десять. Пойдут на нас они, скорее всего, во-ооон через ту балочку. И сколько мы продержимся? А главное, во имя чего?
Командира 436-го стрелкового полка никто не мог обвинить в трусости. Он прошел через кровь сабельных атак и жестокость рукопашной. Ему приходилось бросать своих бойцов против восставших тамбовских крестьян. Поднимать батальон и вести его на финские пулеметы. Но сейчас Кононов хорошо понимал, что это конец. Через несколько часов пойдут немецкие танки, подтянется артиллерия. Немецкие пушки и минометы перепашут жидкую линию обороны, а танки проутюжат ее своими гусеницами. Если удастся выжить, тогда окружение. Если повезет, тогда удастся выйти в расположение своих войск. Потом обязательная проверка в Особом отделе, допросы и вопрос, почему оказался в окружении? Рано или поздно всплывет настоящая жизнь майора Кононова, которую он тщательно скрывал от всех. Никто из сослуживцев даже не догадывался о том, что коммунист Иван Кононов ненавидит советскую власть. Ненавидит люто, истово, до умопомрачения. Почему?.. Ведь советская власть дала ему все – образование, уважение подчиненных, наградила орденом. И это была самая большая тайна, которую майор Кононов скрывал от всех, от командования, сослуживцев, немногих друзей, даже от жены.
Он родился в казачьей семье, в которой никогда не было того, что называется богатством, и в то же время его близкие не знали бедности. Отец, казачий вахмистр Никита Кононов, достатка и уважения добился своим трудом и казачьей доблестью.
В памяти Ивана Кононова словно фотографии навсегда сохранились картины детства. Пулеметные очереди за околицей станицы. Конский топот, ржание, выстрелы. Черные столбы дыма. Один из всадников, чернявый в кожаной куртке, соскочил с коня и, гремя шашкой, вбежал в хату. Заслышав выстрелы, мама затолкала Ванятку за печь. Он скрутился в клубок, затих в углу. Над станицей слышался крик, женский плач. Незнакомые солдаты в папахах и фуражках с красными звездами тащили из дворов мешки с зерном, вещи, одежду. Незнакомец рванул занавеску на себя и прищурив глаза долго смотрел на Ванятку. Потом перевел свой страшный взгляд на его мать и, стиснув до скрежета зубы, рванул на ней ворот платья. За окном послышалась пулеметная очередь. Нестройно и сухо защелкали выстрелы. Страшный человек выматерился и, придерживая рукой шашку, побежал во двор. Ванятка подбежал к плачущей матери и увидел через стекло, как черный человек выводит со двора лошадь.
Отряд полковника Назарова выбил из станицы красных и погнал их в сторону Дона.
После того как прогнали красных, старики на подводах привезли тела порубленных казаков. На первой телеге широко раскинув руки лежал босой человек. Его голова свисала через край подводы, деревянно подпрыгивала на ухабах. Запекшаяся кровь застыла на лице черной коркой.
Онемев, Ваня молча смотрел на своего отца, изуродованного сабельными ударами: отрубленная рука, оскаленные зубы, полуразрубленная щека. На заплывшем кровью лице сидели жирные синие мухи.
По улицам станицы везли и везли подводы с телами казаков. Трупы были окровавленные, разрубленные словно свиные туши. В воздухе как на бойне висел запах крови и парного мяса.
Мама умерла рано, от сыпняка, почти сразу же после гибели отца Ванятки.
Старшие братья сгинули в лихолетье Гражданской войны, и остался Ванятка один.
И наверное пропал бы, если бы не советская власть и не Красная армия.
* * *
Ранним сентябрьским утром 1941 года в ожидании немецкой атаки Иван Кононов принял главное решение в своей жизни. Он вызвал к себе командира пулеметного взвода Николая Дьякова, с которым служил и дружил еще с финской войны. Дьяков отодвинул шуршащий полог плащ-палатки и боком пролез в блиндаж. Свет из маленького окошка едва проникал в тесное пространство помещения. В углах блиндажа стоял полумрак, и лишь посредине он рассеивался светом керосиновой лампы. В углу остывала печка буржуйка, изготовленная из молочного бидона, и от нее тянуло теплом и домашним уютом. На бревенчатых стенах выступили капельки смолы. Посередине блиндажа стоял вкопанный крепкий стол, на котором лежала разложенная карта. Рядом со столом, в накинутой на плечи шинели сидел майор Кононов. Из-под воротника шинели – петлицы с рубиновыми шпалами.
Командир полка доверял Николаю. Но на всякий случай командирский ТТ с патроном в стволе лежал на столе под картой. Иван Никитич спросил глухим голосом:
– Родной, ты веришь своему командиру?
– Да…
Кононов зачастую был груб, мог обложить матом. Но при всем при этом его любили, считали своим. Майор Кононов умел расположить к себе людей.
«Война для командира – вот главная военная академия», – любил говорить он.
Ловкий и ладно скроенный, всегда в подогнанном обмундировании, он служил образцом для своих подчиненных. В полку было много кадровых командиров, строевиков до мозга костей, но такой выправки, такого строевого лоска, как у него, достичь мог не каждый. Военную службу он любил, служил охотно и добросовестно. Невысокий, ловкий. Отчаянный матерщинник. Подчиненных жалел и снисходительно закрывал глаза на небольшие проступки. Мог похвалить или дать подзатыльник. Но все знали, что может и пристрелить. Ходили слухи, что на финской он самолично пристрелил струсившего командира взвода. Его боялись, но им и гордились. Высшей похвалой и поощрением для каждого был глоток водки из его командирской фляжки. Командиры и красноармейцы полка называли себя – кононовцами.
– Ну что, славный мой? Пойдешь со мной туда, куда пойду я?
Славный мой – это присказка. И если суровый, жесткий комполка говорил так, все понимали, что тем самым он переходит со служебного тона на товарищеский. Так было и сейчас.
– Так точно. Пойду.
Замолчали. Огонек лампы, стоявшей на сосновом чурбачке, едва не задохнулся от жара и отсутствия кислорода, задрожал, как крылышки у мотылька. Но потом вдруг успокоился и засветил ровно, разливая тусклый трепетный свет вокруг себя. Однако в землянке все равно было глухо и сумеречно. Было слышно, как потрескивают угольки в остывающей печи. Наступил критический момент. Кононов решился. После недолгой паузы он сказал:
– Я не люблю советскую власть и никогда не любил. За что ее любить? За наших казненных отцов? За голод? За постоянный страх, что завтра тебя расстреляют? За то, что мы отступаем? Да и ты ее не любишь. Я это знаю точно. В общем, я решил, Коля. Я ухожу к немцам.
Кононов замолчал, испытующе смотря в лицо своему ротному.
– Большая часть командиров и бойцов идет со мной, они верят мне. Перейдя к немцам с оружием, мы получим возможность отплатить Сталину за все наши беды.
– Вы уже всем сказали?
– Нет. Только тем, кому доверяю.
– Рискуем, Иван Никитич. В нашей армии в последние годы мало можно кому верить…
– Один конец, Николай. Что так смерть за спиной, что этак. А в нашем случае, может быть, еще поживем и повоюем. Поэтому ставлю тебе задачу. Сейчас ты бежишь к немцам и сообщаешь их командованию, что командир 436-го полка майор Кононов вместе с полком хочет перейти на их сторону, чтобы вместе воевать против Советов. Только так… воевать против Сталина. Запомни. Все. Иди, родной. Лети пулей! Туда и назад!
Дьяков ушел.
Кононов вызвал к себе командиров. Первыми пришли командиры рот – рыжий и немолодой уже Зуев, болезненно кутающийся в плащ-палатку Нефедов, в лихо сбитой на затылок пилотке старший лейтенант Мудров. Ротные козырнули. Зуев раздраженно-небрежно, всем своим видом показывающий, не до козыряний сейчас, война. Нефедов, устало-болезненно, полусогнутой ладонью вперед, Мудров – с особым командирским шиком – выбрасыванием пальцев кулака у края пилотки с последними словами скороговорки-доклада.
– Где командиры взводов?
– Движутся следом, товарищ командир. С комиссаром.
Отвечает Мудров. Голос у него бодрый, веселый. Совсем не заметно, что он боится или переживает по поводу возможного окружения.
Зашуршал полог плащ-палатки, прикрывающей вход в блиндаж. Спустились командиры стрелковых взводов, взвода связи, помкомвзвода пулеметного взвода, уполномоченный особого отдела сержант госбезопасности Костенко, батальонный комиссар Панченко.
Кононов встал:
– Ну что, мои верные соколики?! Я не хочу от вас ничего скрывать, поэтому скажу честно. Наше дело – дрянь. Через пару часов на нас пойдут немецкие танки. Я смерти не боюсь, видел ее уже много раз. Но и умирать за Сталина тоже не хочу. Не хочу губить и ваши жизни за интересы большевиков и их мировую революцию.
Кононов говорил спокойно, не торопясь, взвешивая каждое слово. Чувствовалось, что он волнуется, но старается не показать волнения.
– Родные мои, настал час решительных действий! Я перехожу на сторону немцев, но не потому что струсил, а для того, чтобы вместе с ними воевать за уничтожение большевистской власти и возрождение нашей Родины. Я уже сообщил об этом немецкому командованию, и они дали согласие на наш переход.
Кононов блефовал, Николай Дьяков еще не вернулся, но люди не должны были об этом знать.
Командиры молчали. Слишком неожиданны были слова Кононова.
– Всем все понятно?
Никто не отвечал.
– Кто хочет остаться, неволить не буду. Но не забывайте, что мы в котле. Помощи ждать неоткуда.
– Не дури, майор, – рванулся к нему батальонный комиссар, правой рукой лапая себя за портупею, пытаясь нащупать кобуру пистолета. – Товарищи, это враг…
Майор Кононов побледнел. Его рука потянулась к карте на столе.
Мудров и Зинченко навалились на Панченко, вырвали из кобуры ТТ, повалили на пол. Все трое тяжело дышали, командиры держали Панченко за руки.
– Ну и сука же ты, Панченко! – почти ласково укорил Кононов. – Застрелить меня захотел? За что? За измену? Во вредительстве обвиняешь? – словно взорвавшись, вскочил, подбежал к Панченко. – А как ты на командиров доносы строчил? Забыл?
Кононов вытер пот со лба. Спросил:
– Кто еще? – Все молчали.
– Кто со мной?.. Встаньте…
Командиры медленно поднялись.
– Куда ты, туда и мы, командир…
Костенко растерянно спросил:
– А мне что делать?
– Не ссы, тебя запишем как интенданта… А сейчас командиры пойдут к своим подразделениям. Стройте батальон и приготовьтесь к сдаче оружия. Комиссара отпустить. Пусть уходит и живет. Если выживет.
Командиры рот и взводов вышли.
Над позициями стояла тишина. Такая хрупкая и звонкая, что война и предстоящая смерть казались чем-то нереальным.
Рядовые бойцы полка ожидали своей участи. Их построили в шеренги. Весь личный состав. Они еще ничего не знали, но вид растерянных командиров не сулил ничего хорошего.
Раздалась команда – смирно!
Комполка Кононов вышел перед строем.
– Товарищи бойцы и командиры, – прокричал он. – Мы с вами прошли через многое! И я всегда был для вас настоящим командиром, батькой. Вы знали, что я никогда не предам вас, и был уверен в том, что вы не предадите мне. Я верил вам, а вы верили и верите мне. Поэтому приказываю сейчас всем бойцам положить оружие в 3–4 метрах от бруствера, а самим ждать в окопах приказа командиров.
Гулкий выстрел разорвал вечернюю тишину – в своем блиндаже застрелился комиссар полка. Дмитрий Панченко был человеком идейным. Мог пустить пулю в лоб струсившему бойцу или командиру. Как оказалось, смог и себе. Пережить предательство всего полка и собственную трусость не сумел. Это было выше его сил.
Переждав эхо выстрела, Кононов скомандовал:
– Вольно-оооо!
Вместе с ним осталось несколько командиров. Потянулось ожидание, тяжелое, как перед боем. Все были напряжены. У каждого в голове была одна и та же мысль: «Что теперь будет со всеми?»
Кононов, взяв в руки бинокль, выполз на бруствер. Широко расставив локти и не отрывая от глаз бинокль, крутил окуляры – сначала в одну, а затем и в другую сторону, отыскивая ползущую фигуру Дьякова.
Огорченно махнув рукой и цепляя стены узкой траншеи полами шинели, Кононов сполз в траншею и быстро пошел к блиндажу. У входа в блиндаж его ждал ординарец. На его вопросительный взгляд Кононов приказал:
– Ты, Василий, посматривай по сторонам. Как только заметишь Дьякова, немедленно доложить мне.
Медленно тянулись минуты, мучительные, как боль. Сидя у сырого, из неошкуренной ели косяка двери, Кононов поглядывал в траншею.
Наконец через полчаса прибежал вспотевший ординарец.
– Ползеть… ползеть, товарищ комполка.
Обрушивая рыхлые стенки траншеи, Николай Дьяков свалился в окоп. Срывающимся от волнения голосом доложил:
– В лесу вас ждут немецкие офицеры.
На опушке леса стояли три грузовых и одна легковая машины. Кругом был сосновый бор с деревьями в два обхвата. За ним болото. В кустах колючая проволока, вкопанные в землю рельсы.
Влажная земля пахла прелой листвой угасающего лета и грибницей. Коротко простучал где-то вдали дятел. Плавно полетел к земле желтый березовый листок.
Тусклые луча солнца пробивались сквозь зелень сосновых иголок. Вспыхивали и гасли на свету микроскопические пылинки. Шустрая белка, привстав на задние лапы, настороженно наблюдала за движущимися людьми в военной форме. На мгновение замерла, потом молнией метнулась через тропинку и, мелькнув пушистым хвостом, взлетела по стволу дерева.
На дереве, дрожа и раскачиваясь от неуловимого движения ветра, висели сети паутины, усеянные точками мошкары.
«Точь-в-точь как мы, – подумал Кононов. – Кругом паутина, а мы в середине».
Рядом с машинами толпились немецкие солдаты. Они жизнерадостно хохотали, отмахиваясь ветками от полчищ комаров. Подошли немецкие офицеры. На Кононова потянуло запахом одеколона.
Группы сошлись, поздоровались. В немецкой группе было два капитана, три лейтенанта и переводчик.
Кононов заявил, что полк Красной армии переходит на их сторону совершенно добровольно, чтобы с оружием в руках воевать против Сталина. Сразу же поставил условие, чтобы с его подчиненными хорошо обращались.
Подали машины, и Кононова доставили в штаб танковой дивизии.
Командиры по его приказанию вернулись в траншеи, чтобы организовать сдачу.
Всем красноармейцам немцы выдали по буханке горохового хлеба и присоединили к колонне пленных, направлявшихся в лагерь для военнопленных.
* * *
Командующий охранными войсками тылового района группы армий «Центр» генерал пехоты Максимилиан фон Шенкендорф очень устал в этот день. Должностные обязанности командующего частями тыла всегда сложны и хлопотны, а здесь, в России, особенно.
Генерал склонился над бумагами. Теперь он читал рапорт командира 197-й пехотной дивизии о том, что на сторону немецких войск перешел 436-й стрелковый полк вместе со всем вооружением и командиром полка майором Кононовым. Генерал-лейтенант Герман Мейер-Рабинген докладывал, что доставленный в Смоленск Кононов заявил о добровольном переходе на сторону германской армии для того, чтобы сформировать вооруженный отряд и вступить в вооруженную борьбу против Сталина.
У русского майора был свой план: собрать полк из красноармейцев разбитых частей, военнопленных и казаков, питавших ненависть к советской власти. Сформировать из них регулярную боевую часть и выступить против Красной армии. Его убежденность завораживала и произвела на немцев столь сильное впечатление, что, несмотря на большое число командиров Красной армии, находящихся в плену и желающих сотрудничать с немецкими властями, он был отмечен как лицо, представляющее интерес для Рейха, и направлен в штаб 4-й полевой армии вермахта.
Генерал Шенкендорф расхаживал по своему кабинету в Смоленске и думал, думал. Внешне и внутренне он совсем не был похож на холодных и чопорных прусских военных с моноклем в глазу. Максимилиан фон Шенкендорф скорее походил на коммерсанта средней руки – полноватой фигурой с небольшим брюшком, круглым лицом, маленькими проницательными глазками. Только лишь красная полоса лампаса на его бриджах и значок Генштаба на мундире говорили о том, что перед тобой не коммивояжер, а один из самых образцовых генштабистов вермахта.
Шенкендорф был весьма неглупым человеком и прекрасно понимал, что война с СССР будет долгой и кровопролитной. Людские ресурсы Германии и ее союзников не безграничны. К тому же союзники – итальянцы, румыны, мадьяры – это… Шенкендорф усмехнулся своим мыслям – это не солдаты. Они мастера пить водку, воровать и тащить все, что попадется под руку, но в бою разбегаются при первом же выстреле.
Шенкендорф вспомнил, как один из командиров итальянских частей вместо того, чтобы окружить партизанскую базу и вступить в бой, отправился в совершенно другой район, где партизанами и не пахло. А потом, когда взбешенный Шенкендорф вызвал его к себе, итальянец долго и очень красноречиво врал, что не получил приказ. Одна из самых точных характеристик итальянского военного – «ловкач». Как там говорил Наполеон? «Если итальянцы заканчивают войну на той же стороне, что и начали, значит, они предали дважды».
Шенкендорф считал, что он хорошо знает русских. Его личный переводчик граф Сергей Сергеевич фон Пален говорил ему:
– У большинства русских, господин генерал, в крови заложена любовь к отеческим гробам, или чтобы вам было понятнее – любовь к родному пепелищу. Это вам только кажется, что русские воюют за идеи фюрера. Ничего подобного. Русские воюют за Россию. Они никогда не смирятся с гибелью своей страны и потому готовы заключить союз хоть с чертом, лишь бы победить большевиков.
Фон Шенкендорф не был национал-социалистом. Происхождение и воспитание предопределили его критическое отношение к теории относительно превосходства одной расы над другой.
Генерал Шенкендорф назначил русского графа Сергея Палена комендантом города Шклова. Но свои обязанности граф Пален исполнял недолго. Напившись, он в присутствии подчиненных сорвал со стены портрет Гитлера и плюнул ему на сапоги.
Природная немецкая воинственность, помноженная на приобретенное русское бунтарство, это действительно страшная гремучая смесь.
Наутро Шенкендорф вызвал Палена к себе.
Окончательно протрезвевший после ночи в холодной камере и ледяного душа, граф Пален стоял перед генералом.
– У вас ровно одна минута, граф. Если в течение этого времени вы не объясните мне мотивы вашего поступка, вас ждет трибунал.
Граф Пален прикрыл глаза. Прямо перед глазами он увидел подвал гестапо. Себя, подвешенного за ребро на крюк.
Пален глубоко вздохнул:
– Однажды один из нижних чинов, служивший у моего отца, напился в кабаке и стал буянить. Его попытались остановить, показывая на висящий на стене портрет Александра III, но солдат ответил, что плевал на государя императора, после чего был арестован. Отец вынужден был доложить об этом Государю. Но тот не стал давать ход делу, а повелел запретить развешивание своих портретов в кабаках, а солдата освободить и передать ему: «Я на него тоже плевал». Так вот, – закончил свою речь граф Пален. – Мне захотелось проверить, плюнет ли на меня наш фюрер.
Шенкендорф задумался.
– Вы, русские, непредсказуемы и безжалостны к себе. Но вы, ко всему прочему, еще обладаете и чувством юмора. Пожалуй, я отправлю вас в Париж.
Дело спустили на тормозах.
Принимая решение о создании казачьего подразделения в составе вермахта, немецкий генерал прежде всего учитывал то, что советский майор Кононов – из казаков. В Первую мировую войну он, командуя пехотным батальоном, уже сталкивался с ними и знал, насколько они ловки и по-злому упорны в бою.
Шенкендорф понимал, что у Кононова и его подчиненных после сдачи в плен нет дороги назад. Что эти люди будут биться до конца, а немецкая армия в их лице получит десятки и сотни тысяч отличных солдат. По его приказу Ивана Кононова в штабном, «опеле» привезли в Могилев, на встречу. Всю дорогу Кононов смотрел в окно машины. Город за грязным стеклом был похож на тяжелобольного человека. Разбитые взрывами дома. Повисшие на деревьях провода, словно нити, перепутанные нерадивым портным. Женщины в платках и ватниках, копающиеся среди обугленных досок и домашней утвари. Недоверчивые, мрачные лица с неразглаженными морщинами горя, страха и ненависти. И словно в насмешку, улыбающееся с киноафиши лицо Марины Ладыниной.
Встреча проходила в резиденции немецкого генерала. У подъезда старинного двухэтажного здания стоял часовой. Тротуар перед домом был вымощен булыжником. Камни тускло и влажно блестели, подошвы сапог скользили. Ветер гнал по тротуару осенние желтые листья.
Каменный особняк окружал яблоневый сад, вся земля была усыпана крупными красными яблоками.
В кабинете генерала Шенкендорфа находился и представитель абвера обер-лейтенант граф Ритберг. Шенкендорф был в очень хорошем настроении. Он потрепал Кононова по плечу.
– Знаете, господин майор… мы, пожалуй, удовлетворим вашу просьбу. Вам будет разрешено формирование подразделения из казаков, скажем… – генерал задумался, – эскадрона.
Это было не совсем то, чего добивался Кононов. В своем рапорте на имя командования германских войск он просил разрешения на формирование полка. Генерал вздохнул. Не мешало бы и полк. Может быть, хоть тогда в этой проклятой России стало бы меньше могил с немецкими крестами. Но Шенкендорф хорошо понимал, что в тот момент нечего и надеяться получить на это разрешение из Берлина. Генерал нашел компромиссное решение.
– Я не буду ограничивать вас в количестве людей, даже если вместо двухсот человек вы сможете набрать… две тысячи. Но на фронт мы вас не пошлем. Вы останетесь здесь. Подразделение будет находиться под вашей командой и использоваться в борьбе против бандитов. Вам надлежит показать германскому командованию, на что вы способны. А мы должны убедиться, что казаки не утратили своих навыков.
Майор Кононов встал.
– Надеюсь, господин генерал, что наши операции не станут сводиться к карательным акциям против местного населения?
Шенкендорф задумался. Вопрос выходил за пределы обычной беседы.
– Видите ли, – сказал он, строго и честно глядя в глаза Кононову, – армейские подразделения, каковыми будете являться вы, этим не занимаются. Карательные акции – это прерогатива исключительно войск СС. Вы можете быть спокойны. – Шенкендорф улыбнулся. – Я не отдам вам такого приказа.
А Кононову пришла в голову мысль, что обещания, данные таким тоном, забываются сразу же после того, как человек произнес их вслух.
Впрочем, какая разница?! Ведь все равно кто-то будет это делать. Война не бывает без убийства. – И, усмехнувшись, ответил: – Я верю слову немецкого генерала.
Шенкендорф тоже усмехнулся. Он читал личное дело этого майора. Энергичен, храбр, решителен. Несмотря на то что сам состоял в коммунистической партии, большевиков и комиссаров не любит. В бою жесток. Пользуется большим уважением среди подчиненных, которые между собой и в лицо называют его – батькой.
Немецкий генерал встал и, подавая русскому майору руку, сказал:
– Обер-лейтенанта Ритберга я прикомандировываю к вам в качестве офицера связи. Желаю удачи и как можно скорее отличиться в боях!
После разговора Кононов неожиданно попросил разрешения выйти в сад. Сад буйно зарос крапивою и бурьянистой травой. Пахло мокрыми от дождя лопухами, яблоками, дождливой и туманной влагой. Ветки старых покривившихся яблонь клонились к земле под тяжестью плодов. В дальнем углу, среди травы стоял старый покосившийся колодец. Захотелось прильнуть к ведру и пить, утопив губы в холодной колодезной влаге. Кононов подошел к колодцу. Заглянул в пахнувшую плесенью и сыростью темноту. Внутри оказалось темно – ни блика на воде, ни отсвета. Темень притягивала, звала к себе. Неожиданно стало страшно. Кононов вздрогнул, вытер холодный пот со лба.
– Тьфу, черт, – выдохнул он. – Вот же…
Вспомнился полковник Цветаев, преподававший тактику в академии Фрунзе. Его слова: «Если долго всматриваться в бездну, она начинает всматриваться в тебя».
– Ну точно, мать ее так. Бездна! А может быть, послать сейчас всех? И этого немецкого генерала тоже. Нет! Поздно. Я уже все про себя решил.
Придерживая ладонью крутящийся ворот, медленно опустил ведро внутрь сруба. Где-то внизу ведро тяжело плюхнулось в воду. Раздался всплеск, как всхлип. На непослушных ногах он отошел от потемневшего колодезного сруба, будто от края пропасти. Потянуло влажной прохладой. Изредка были слышны мокрые шлепки, это падала с деревьев вызревшая антоновка.
«Тихо… хорошо! Как дома… у нас на хуторе… Никакой тебе войны, никакой службы», – подумал Кононов и, потрясенный нахлынувшими воспоминаниями, молча опустился на колени, припав лицом к неласковой, пахнущей влагой и тленом земле…
Вернувшись, он подошел к графу Ритбергу и протянул ему полную пилотку сорванных в саду яблок. У графа Ритберга мелькнула в голове мысль: «Этот человек уже не повернет назад. Он сжег за собой все мосты».
Новое подразделение получило наименование 102-й казачий эскадрон. Его костяк составили бывшие подчиненные майора Кононова. Для обеспечения полка вооружением, техникой и боеприпасами была прикомандирована группа немецких унтер-офицеров.
Граф Ритберг не говорил по-русски. Кононов знал лишь несколько немецких слов. Но они понимали друг друга, изъясняясь на какой-то мешанине из русско-немецких слов, жестов и мимики.
Пополнение набирали из военнопленных, которые сотнями и тысячами умирали от дистрофии и дизентерии в близлежащих лагерях Могилева, Гомеля, Борисова, Невеля, Лепеля, Витебска, Смоленска и Орши.
Первое время на встречу с новобранцами Иван Никитич приезжал сам. Он видел перед собой страшно голодных людей, потерявших всякую надежду. Кости, обтянутые серой, обветренной кожей. Обросшие и завшивленные, одетые в грязные, прожженные шинели, замызганные и выцветшие гимнастерки с белесыми разводами от пота, стояли они перед ним, преданные государством и командованием, брошенные на произвол судьбы. И только от него зависело, умрут они сегодня или будут жить. Он всего лишь пообещал этим солдатам, превратившимся в живые скелеты, надежду. Предложил нормальный солдатский паек, чистое белье и человеческое отношение, и многие согласились одеть немецкий мундир.
Пусть их осудит тот, кто сможет!
Кононову пришлось просмотреть сотни личных дел, учетных карточек и опросных листов пленных. Из личного опыта и рассказов военнопленных он знал, что у каждого из них был свой путь в неволю. Многие сражались до последнего патрона и подняли руки лишь тогда, когда стало понятно, что не отбиться и не уйти. Кого-то захватили раненым или контуженным. Некоторые из них так и не вступили в бой, не сделали ни одного выстрела во врага, не увидели ни одного немца. Но страшное слово – «окружение» – парализовало волю. Устав плутать по лесам, бояться каждого шороха и отчаявшись выйти к своим, они сами шли к месту расположения немецких частей и сдавались в плен. Иногда какой-нибудь повар или связист вермахта брал в плен целую группу бойцов Красной армии.
Были и перебежчики. Одни из них переходили на сторону врага по идейным соображениям, другие от безысходности, от усталости, от невозможности терпеть дальше. Были и те, кто просто струсил и бросил оружие в минуту опасности.
В свой эскадрон Кононов старался брать тех, кто сражался. Предпочтение отдавал казакам. Знал, что несломленная, уцелевшая часть казачества так и не приняла советской власти и их было легче убедить в необходимости борьбы против Сталина.
Брал и тех, кто перешел линию фронта добровольно. Перелистывая личные дела, он вдруг наталкивался на человека, который был ему интересен. Но случалось такое, что у этого человека уже не было веры никому, ни своим командирам, ни немцам, ни Кононову. Была лишь обида на причиненное ему зло. И нужно было эту обиду переплавить в ярость, затмевающую сознание. В лютую ненависть и неутоленное желание отомстить всем – Сталину, Гитлеру, самому себе. Кононов знал, что такие солдаты будут страшны на войне, потому что чувство сострадания и жалости уже покинуло их. За такими он приезжал в лагерь по нескольку раз, пока не получал согласия вступить в эскадрон. Кононов садился среди пленных бойцов, доставал портсигар с сигаретами, потом еще и ординарца посылал за табаком. Раздавал курево в жадные, нетерпеливые руки. Рассказывал о себе, о причинах перехода к немцам. На жадные расспросы: как там на фронте, скоро ли конец войне, он рассказывал об успехах германских войск, говорил, что судьба Красной армии уже предрешена, не сегодня завтра Гитлер будет в Москве.
И обязательно кто-нибудь спрашивал:
– А когда Сталин будет менять нас на немецких пленных?
Горько усмехаясь, Кононов отвечал:
– А вы, мои родные, для этого усатого гада уже не свои. Не слыхали, что он сказал? Те, кто в плену, все предатели. Он даже своего старшего сына не захотел спасти из плена. Его жену посадил как жену предателя.
На возмущенный ропот пленных спрашивал:
– А чего вы возмущаетесь? Кто вы для Сталина? Всего лишь пушечное мясо, которое он готов положить под гусеницы немецких танков, лишь бы не допустить падения своего строя. Я помню Сталина, когда он приезжал к нам в академию. Еще тогда он говорил: «Жизнь солдата – казенное имущество и принадлежит государству». Так что вас, мои милые, всех уже списали как испорченное и утерянное имущество.
Пленные молчали, переваривая услышанное. Потом начинались вопросы, связанные с будущей послевоенной жизнью.
– А как насчет колхозов, товарищ командир? Ликвидируют их немцы после победы или оставят?
– Уже… дорогие мои! Уже! На днях из Берлина получено разрешение о создание на Кубани автономного казачьего района, в котором после ухода немецких войск будет восстановлено казачье самоуправление. Разрешена ликвидация колхозов и переход к частному землевладению. Казакам гарантируется полная свобода в культурной и религиозной жизни. После войны казачьи районы будут преобразованы в атаман-губернаторства. Такое же разрешение скоро будет и для донцов.
А вы, если хотите воевать за другую жизнь с оружием в руках, а не подыхать в грязи как бездомные собаки, тогда становитесь рядом со мной и моими боевыми друзьями. Но беру пока не всех. Нужны казаки. Или те, кто уже воевал, умеет сидеть в седле и обращаться с лошадью. Лошадь – это не велосипед. Ее надо кормить, поить, прятать во время боя.
Тем, кого Кононов брал к себе, он приказывал встать налево. Тем, кого оставлял в лагере, – направо. Одному из пленных он отказывал трижды. А тот снова и снова становился в строй. Пытаясь изменить внешний вид, набрасывал на себя чужую шинель, натягивал на глаза пилотку.
Майор Кононов видел его хитрости, молча и сдержанно посмеивался из-под усов. Потом спросил:
– Казак?
– Так точно, казак.
– А ну-ка лезь на лошадь!
После плена у казака нет сил, руки-ноги дрожат. Но он заходит с левой стороны, успокаивая лошадь, похлопывает ее по шее. Пытается закинуть ногу. Повисает на стремени.
– Ах ты, бисов сын! Валух ты, а не казак. Трам-там, тара-рам!
Худшего оскорбления для казака не придумаешь. Поднатужился, влез. Гордо сел в седле, подбоченился.
– Молодец. Теперь вижу, что ты донец, чистых кровей… Казачура! Правда, чуток приморенный, жидковатый, – майор сощурился при этих словах. – Но ничего. Оклемаешься. Харч у нас подходящий. Главное – чтоб порода казачья была! – Открутил крышку с походной фляжки, протянул подчиненному. – Ну-ка, глотни из батькиной баклажки!
* * *
К середине ноября у Кононова было уже больше двухсот сабель.
В эскадроне были не только казаки, но были украинцы и русские, несколько немцев колонистов и даже один грек. Когда в лагерях вызывали казаков, то таковыми записывались и ставропольцы, и нижегородцы, и плохо говорившие по-русски чуваши. Никакой собственной ущербности они по этому поводу не чувствовали. Казаки на родовые корни не обращали никакого внимания.
Отношения в батальоне были абсолютно боевые – товарищеские, истинно казачьи. Это понятно – по извечной казачьей традиции человек, попавший в казачье войско, уже становился законным казаком. Многие из них потом храбро воевали. Шла война. Как говорили донцы – «на войне синичке и ворона сестричка».
Эскадрон комплектовали, вооружали, одевали и мыли в бане. Получали ящики с оружием и боеприпасами. Чистили и пристреливали советские автоматы ППШ, мосинские винтовки.
Стучали молотки, скрипели отрываемые доски, что-то рвали клещи. Распаковывали тюки слежавшегося обмундирования, шинели, брезентовые немецкие сапоги с широкими голенищами, жесткие негнущиеся ремни, подсумки и фляги в сукне. Многим достались шинели и мундиры второго срока. Но все обмундирование было подшитое, чистое. Серо-зеленые солдатские шинели пахли каптеркой, мышами, суконной прелью.
Михей Шерстобитов, здоровенный, коренастый казак средних лет, выбирал себе мундир. Мял в черных заскорузлых пальцах добротное сукно, глядел на свет, нет ли где дыры. Пока выбрал – взмок. Был он в мышиного цвета штанах из грубого солдатского сукна, в больших тяжелых сапогах. Застегнувшись на все пуговицы, старательно раздвигал в сторону руки, боясь взять не свой размер.
Юрка Ганжа, молодой казак с быстрыми нахальными глазами, засмеялся.
– Ты, Михей, как бабу себе выбираешь, на всю жизнь. Не сегодня завтра немцы возьмут Москву, и мы по домам. Там свою, казачью справу таскать будем.
Шерстобитов молча водил глазами и напряженно сопел носом:
– Так-то оно так. Да токо в хозяйстве все равно пригодится.
Переодевшись казаки приходили в хорошее расположение духа и хлопали друг друга по спинам. Несколько дней прошло в суматохе. Во взводах подшивали теплое казенное обмундирование, подгоняли амуницию.
Переодевшись в немецкие мундиры, все с оживлением рассматривали выданные армейские наборы для умывания, чистое белье, толстое и теплое сукно.
Наибольшее смущение вызвали презервативы и подтяжки. Многие казаки видели их впервые в жизни. Они приходили в детское смущение, не зная, куда их применить, к немалому веселью немецких солдат и офицеров. Казаки крутили головами, а урядник Николай Базавов, человек бородатый и степенный, крутил в руках серо-зеленые с кожаными язычками шлейки подтяжек.
– Это шо же, я должон сверх исподней рубахи надевать на плечи эти постромки? Ну шо я – коняка? Ей-богу! А это как? К чему это пристроено?
– А это? – казак удивленно смотрел на серую коробочку с презервативами. Когда ему пояснили для чего, казак плюнул. – Тьфу! Срамота! – Бросил на пол.
Получив обмундирование и оружие, эскадрон стал назначаться в наряды на гарнизонную службу.
К концу месяца казаки получили коней. Они были больны и изнурены, с выпирающими костями и ребрами. Но постепенно отходили от плена люди, поправлялись и становились на ноги кони.
По приказу генерала Шенкендорфа прибыл немецкий саперный батальон. Началось оборудование казарм, стрелкового полигона, конюшен. Саперы вырубили часть деревьев, закрывающих обзор пулеметчикам. Выкопали рвы. Замостили дорожки. Все по ниточке, все углы – прямые.
И впервые за много месяцев люди, еще вчера бывшие на краю жизни, начали шутить и смеяться. Бывшие военнопленные увидели, что они не только пушечное мясо. Что государство, пусть и немецкое, заботится о своих солдатах. У людей появилась надежда.
Прямо на глазах происходило превращение. Забитые, голодные, униженные люди становились воинским подразделением. Из-за спин нестройно торчали стволы карабинов.
Каждый день, с рассвета и дотемна, до тех пор, покуда трубачи не просигналят зорю, потели казаки на занятиях в пешем и конном строю. Это изнуряло и изматывало, но приносило свою пользу. Со временем все научились неплохо стрелять, владеть холодным оружием, основательно усвоили приемы рукопашного боя.
Командир взвода Попов говорил:
– Чтобы в первом же бою не превратиться в дерьмо, окромя злости должно еще быть и умение!
И до седьмого пота заставлял рубить ветки деревьев, воткнутые в землю. Шашке он придавал особое значение. И всякий раз говорил:
– Пуля – дура, шашка – молодец.
Жилистый, низенький, кривоногий, с корявым и темным лицом, он напоминал клеща. И ходил так же, широко и цепко ставя ноги. Характер у него был злой, резкий, вспыльчивый. Жестоко гонял подчиненных и придирался к каждому пустяку.
– Как на коне сидишь? – яростно, вращая белками глаз, кричал он на какого-нибудь молодого казака во время выездки. – Ты казак или лапоть? Не слышу! А-ааа! Казак?.. Что тогда сидишь, как ворона на лозине?! Не заваливайся! Спину держи, спину! Шенкелями работай, козья морда!
И безжалостно гонял взвод до седьмого пота.
Растянувшись по полю, взвод разворачивался в атаку. Впереди шли опытные старые рубаки с поставленным ударом, их прикрывали стрелки с карабинами. Стучали копыта по мерзлой земле, клубилась снежная пороша. Пахло снегом, конским потом и ружейным маслом.
Качались и прыгали спины казаков, клубился пар из раззявленных ртов, тускло отсвечивали лоснящиеся, покрытые пеной крупы коней.
Сливались вместе песня и крики командиров, чтобы к вечеру превратиться в один сплошной и хриплый рев, способный устрашить врага.
Жители Могилева с удивлением смотрели на марширующих солдат в немецкой форме, распевавших казачьи песни.
Бухали сапоги, били коваными германскими каблуками по русской земле, терзая и мучая ее, как, повзрослев, мучает свою мать любимое, обидевшееся на нее дитя, причиняя ей боль, заставляя плакать и страдать.
Крестьяне качали головами и говорили, сожалея: «Э-ээх, что деется! Опять казаков против русских гонють!» – и была в этих словах хоть и горькая, но правда.
* * *
Шел крупный сырой снег. На околице деревни Абрамово красноармейцы рыли окопы. Все ближе и ближе слышалась стрельба. И вдруг налетели немецкие самолеты. Все бросились кто в лес, кто в деревню. Один из самолетов сбросил бомбу на крестьянские дома. Остальные самолеты ушли на Ржев.
Ревела обезумевшая от страха скотина. Плакали дети, кричали женщины. Над полями и березовыми колками проносились тревожные стаи грачей и галок, вздрагивала и звенела мерзлая земля.
А через несколько часов показались немцы. По большаку на город шли немецкие танки и мотопехота.
На булыжной городской мостовой лежали тела убитых осколками женщин и детей. Полыхало зарево пожаров. Молчаливо и страшно зияли разбитые витрины магазинов. Вдруг послышался цокот подков. На городскую площадь ворвалось несколько крестьянских подвод. Это были мародеры из ближайших деревень. На лицах азарт и испуг.
Никакой обороны не существовало. Последние части Красной армии ушли из города еще ночью. Лишь на въезде одиноко стояла 45-миллиметровая пушка, которую оставили для прикрытия отступления. На ящике со снарядами устало курил пожилой старшина. Рядом с ним стоял совсем молоденький солдатик и смотрел на старшину жалобными умоляющими глазами.
Старшина говорил успокаивающе:
– Ничего, сынок, не бойсь. Встретим немца.
Орудие было новенькое, полк получил его за неделю до войны. От ствола и лафета пахло свежей краской. Неласковое октябрьское солнце на прощание дарило им скупое тепло. Это были простые русские мужики, вставшие на пути врага. С винтовками против танков. Они успели сделать несколько выстрелов, пока 50-мм снаряд танка Pz-III не опрокинул пушку вверх колесами. На краю воронки лежал побитый осколками расчет. Развернувшись на месте, танк словно скорлупу смял лафет, проехал еще несколько метров и остановился. Хлопнула крышка люка. На башне появился командир танка, осмотрел поле боя, что-то пометил в блокноте и дал команду по внутренней связи. Танк плавно устремился вперед, забирая вправо. Со всех сторон, раскидывая комья грязи, за ним шли танки 3-й танковой группы генерала Гота.
Уже были окружены 19, 20, 24 и 32-я советские армии. Попавшие в котел войска еще пытались огрызаться, но, потеряв управление и командиров, прекратили сопротивление. Судьба бойцов и командиров была предрешена.
В окружение попал и сам командующий Брянским фронтом Еременко. Но он не захотел разделить судьбу своих подчиненных. Сталин приказал выслать за ним самолет и его экстренно эвакуировали в Москву.
Командующий Резервным фронтом маршал Буденный, растерявший все свои войска, улетел еще раньше. Его было не узнать – осунувшееся лицо, темные круги под глазами. Легендарные, всегда лихо закрученные усы уныло свисали вниз.
По армии пополз слух, что Сталин встретил своих разбитых полководцев неласково: побил палкой. Слух не соответствовал действительности, не царское это было дело собственноручно лупить палкой подданных, пусть даже и в маршальском звании. Но людям хотелось верить в то, что виновные в гибели и разгроме армии понесли наказание.
Но были в Красной армии и другие офицеры.
Командир 70-й стрелковой дивизии генерал-майор Федюнин, поняв, что из окружения не выйти и его ждет плен, сжег партбилет и, чтобы не попасть в руки врага, застрелился.
Расстреляв почти все патроны и поняв, что плен неизбежен, застрелился начальник особого отдела 2-й Ударной армии майор государственной безопасности Шашков Александр Георгиевич.
* * *
15 октября 1941 года немецкие войска вошли в старинный русский город Ржев. Первым делом немецкие солдаты постреляли всех собак и переловили кур.
Через несколько дней фронтовые части, взявшие город, ушли дальше, а в город вместе с охранным батальоном прибыла немецкая комендатура, возглавляемая полковником Кучерой, бывшим начальником штаба 69-го артполка особого назначения, и его заместителем майором Крюцфельдом.
Пост бургомистра комендант предложил Петру Сафронову, до войны работавшему в одном из колхозов техноруком. Он хоть и состоял до войны в партии большевиков, но предложение охотно принял.
Весьма неглупый и осторожный, он тут же назначил начальником полиции своего закадычного приятеля, бывшего белого офицера Дмитрия Авилова.
Скрываясь, он неоднократно менял фамилии и осел в Ржеве, где завел семью и устроился экспедитором в столовую. Через два дня после прихода немцев Авилов уже отдавал распоряжения, по-хозяйски расхаживая по зданию полиции и давая задания своим сотрудникам.
Из молодых мужчин в городе не осталось почти никого. Весь призывной возраст подгребли еще в первые месяцы войны. Кое-кто вернулся с увечьем, кто дезертировал, кто попал в окружение. Немецкая администрация начала вербовать в полицаи и отряд самообороны. Кто не захотел служить немцам, уходили в лес.
Люди остались один на один со своей совестью. Не все были готовы купить жизнь ценой предательства, но всем хотелось жить. И снова, как в годы Гражданской войны, русский убивал русского, сосед доносил на соседа, брат воевал против брата.
Борис Михайличенко родился во Ржеве и незадолго перед войной был призван в армию. Ушел служить, и соседи перекрестились. Не стало драк и пьяных криков по ночам.
13 октября 1941 года части Красной армии оставили город без боя, а поздно вечером в доме, где жила его мать, скрипнула калитка. Замерзший и голодный, вернулся Борька. Несколько ночей он просидел у матери в погребе. Потом появился на крылечке в командирских диагоналевых галифе, белом полушубке. Не спеша прогулялся по двору, дыша морозным воздухом и по-хозяйски посматривая на редких прохожих. Потом решительной походкой направился в городскую управу, к родному дядьке, который уже работал бургомистром. Дядя племяннику обрадовался. Долго мял и тискал его в своих объятиях.
– Ай да молодец, племяш! Утек-таки от красных! Правильно и сделал, что удрал. Сейчас наша власть. Заживем!
Борька жмурил свои рыжие ресницы, улыбался согласно. Мол, заживем, дядюшка!
– В полицию тебя определю! Человеком станешь, – говорил дядя и потирал ладони. – Мне надежные люди нужны. Скоро грянем по-настоящему.
Через неделю действительно грянули. Немецкий комендант приказал поставить виселицы на центральной площади города.
На площадь согнали население города. Женщины, старики, старухи, были и дети. Немцы и полицаи оцепили площадь, загородили выходы пулеметами. Люди пугливо жались друг к другу. Пугало предчувствие чего-то страшного и неотвратимого. Многие плакали.
Среди приговоренных была учительница городской школы, прятавшая у себя дома раненых солдат. У нее училась половина города. Учительница стояла босиком на мерзлой земле, в одной светло-зеленой комбинации. Ее лицо было в кровоподтеках, комбинация изодрана. Пожилая женщина стояла опустив голову и прикрывая грудь, покрытую синяками и ссадинами. Губы что-то истово шептали.
Раздетые до кальсон пленные бойцы смотрели исподлобья. Всех поставили на ящики. Накинули на шеи веревки. Никто не заплакал и не запросил пощады. Борька Михайличенко подбежал к виселице.
– Господа немцы, я эту училку хорошо знаю. Большевичка. Разрешите, я сам ее к богу отправлю.
Тихонько завыли бабы.
Михайличенко подошел к виселице, улыбнулся ласково:
– Ну, с-сука, как тебе? Холодно, бл-лядь? Ну сейчас согреешься.
Резким ударом сапога выбил ящик из-под ног. Из открытого рта выпал длинный лиловый язык. Глаза выкатились из орбит, лицо почернело, тело вытянулось в судороге.
Заплакали дети. У женщин, стоявших на площади, по лицам беспрерывно текли слезы.
Виселицы стояли в ряд и скрипели под порывами ветра. Качались на ветру замерзшие трупы в грязном нижнем белье.
Раньше на этом месте стоял памятник Ленину. В тот же день многие жители ушли из города.
* * *
Стычки между казаками и партизанами Кононова начались сразу. У партизан разговор был короткий – кого ловили, тех и убивали. Бывало, что обстреливали целые сотни, движущиеся в походном строю.
Казаки тоже не церемонились и в долгу не оставались – пойманных партизан запарывали плетьми или рубили шашками.
Проблему партизанских сел решали просто. Если в окрестностях села убивали немецкого солдата или офицера, местных жителей выгоняли на улицу, а их дома сжигали. Трудоспособную молодежь загоняли в колонну и конвоировали к немцам на станцию. Там их грузили в телячьи вагоны и отправляли прямиком в фатерланд. Партизаны в ответ устраивали акции устрашения в том же духе. Так и шло. Жестокость одних рождала ненависть и вражду других. Только не было среди партизан согласия, каждый командир отряда считал себя главнокомандующим. И казаки стали в районе силой.
Немцам с той поры не было необходимости контролировать всю территорию района, и они контролировали только линии радиальных и рокадных железных и автодорог, что позволило им высвободить из этой мясорубки довольно значительные силы.
* * *
Утро наступило морозное, звонкое и хрупкое, как тонкий лед. Прямо над селом тускло светило холодное солнце. Лежал первый снег.
Казаки толпились на площади вблизи казарм. Большинство было в мохнатых папахах, немецких брюках с красными лампасами.
Офицеры вышли из штабной избы на улицу. Небольшая кучка стариков и баб, в праздничной одежке, вышла посмотреть на казаков. Стояла в сторонке, не растекаясь по домам.
Снег хрустел под ногами. Из печных труб поднимались невысокие столбики дыма. Пар валил от невысоких деревенских лошаденок. От них шел острый запах пота и конского навоза.
Сотник Мудров поморщился и, взглянув на часы, скинул башлык. Повернулся к толпившимся на площади казакам, закричал:
– Стана-а-вииииись!
– Становись! Стройся! Первая сотня! Первый взвод! Вторая сотня, – закричали взводные командиры.
На правом фланге взвилось знамя дивизиона. Левее знамени – оркестр. Далее в форме буквы «П», в двух-шереножном строю – казаки и офицеры.
Группа всадников въехала в село. Впереди на сером жеребце, с белой отметиной на груди – командир батальона майор Кононов.
Его встречали стройные шеренги казаков. Лица, укутанные башлыками, покрытые морозным инеем усы, чубы, воротники шинелей.
– Смирна-а! Г-аааспада офицеры!
Сотник Мудров пошел навстречу Кононову, высоко вскидывая носки сапог и прижимая руку к папахе. Казаки замерли, сверля глазами своего командира. Оркестр заиграл «Встречный марш».
Кононов осадил жеребца. Тот подался назад, зло присел на задние ноги. На черной вздернутой голове дрожали уши.
– Доброго здоровья, казаки!
Строй рявкнул так, что дрогнули стекла домов.
– Здра… рра… жла… гдин… майор!..
Лихо заломив черную папаху с красным верхом, Кононов ухватисто сидел в кожаном седле с высокой лукой.
– Спасибо за службу!
– Рады стараться, гсдин майор!
Эхо прокатилось по селу, затихло в конце улицы.
Урча двигателями, подъехали и остановились несколько легковых автомобилей. Из машин, разминая затекшие от долгой езды ноги, вышли – генерал Шенкендорф с офицерами, корреспонденты с фотоаппаратами, бургомистр Могилева. Немцы, одетые в шинели с меховыми воротниками, ежились от холода и постукивали каблуками сапог. От них пахло сигарами и хорошим одеколоном.
Спешившись и передав повод коноводу, Кононов отрапортовал генералу.
Лучи холодного зимнего солнца отразились от блестящих погон.
Шенкендорф повернулся к казакам и сказал:
– Казаки и господа офицеры! Приветствую вас в нашей общей войне с большевиками. Уверен, что ваша часть под командованием майора Кононова окажется на должной высоте при исполнении поставленных ему задач. Поздравляю всех вас с вступлением в ряды вооруженных борцов с коммунистическо-советской властью!
Переводил обер-лейтенант граф Пален.
Вслед за приветствием генерал Шенкендорф зачитал приказ, согласно которого майор Кононов назначался командиром батальона, а все казаки зачислялись на те же нормы довольствия, что и немецкие части.
После этого майор Кононов обратился к казакам с речью:
– Братья казаки! Сегодня – наш день! И вы, стоящие здесь, являетесь подтверждением того, что в скором времени у нас будет своя армия. Не посрамим наших славных предков своими ратными делами! Да здравствует великая и свободная Россия! Слава казачеству!
Казаки приняли присягу, под музыку оркестра прошли перед генералом Шенкендорфом и разошлись по своим казармам.
После непродолжительного обучения батальон стали использовать в боевых операциях против партизан. От партизан казакам стало доставаться нещадно и сразу. Они обстреливали казачьи разъезды, жестоко и мучительно казнили тех, кто попадал к ним в плен. В ответ на разгром своих лесных баз находили, вешали и стреляли тех, кто помогал казакам.
Казаки тоже не оставались в долгу. Это был «гнев народа», «народная война».
Та и другая сторона в плен брала редко. Нередки были случаи расправ над пленными с той и другой стороны.
* * *
Сталин понимал, что чем страшнее будет политика Гитлера на оккупированной территории, тем сильнее будет сопротивление населения.
Была подготовлена спецоперация, о которой знали лишь несколько человек в руководстве НКВД. В район Могилева сброшен десантный отряд майора Яснова и старшего батальонного комиссара Гущенко, численностью около двух батальонов. Десанту ставилась задача, переодевшись в форму солдат вермахта, провести несколько карательных акций против местного населения. Данная операция должна была подтолкнуть местное население на организацию партизанских отрядов и сопротивление врагу. Все десантники прошли специальную подготовку. У каждого из них имелся комплект немецкого обмундирования, многие хорошо владели немецким языком.
* * *
Вечером 26 октября 1941 года у деревни Княжицы к казакам явились трое перебежчиков из отряда майора Яснова. Об этом доложили дежурному офицеру. Последний немедленно связался со штабом батальона.
– Перебежчиков немедленно ко мне! – приказал Кононов.
Допросив перебежчиков, он решил уничтожить советский десант. Тут же был отдан приказ о выступлении. К вечеру батальон выдвинулся в район деревень Круглое и Тетерев. На рассвете следующего дня сотни заняли исходное положение для атаки. В 6.00 батальон атаковал. Для советских парашютистов эта атака стала полной неожиданностью. Казаки заняли села Мортяновичи, Глубокое и Шепелевичи. 1-я и 2-я сотни после короткого боя выбили «Штабную» группу из укрепленного лагеря и стали теснить ее в направлении Полесье. 4-я сотня атаковала Полесье. Командир сотни бывший капитан Тихонов, нанеся главный удар с юга, открыл противнику проход на северо-запад. Он сделал это для того, чтобы «Полесская» группа противника не смогла уйти на юг или юго-запад, где она могла бы соединиться со «Штабной» или «Лесной» группой.
«Полесская» группа погибла полностью. Вскоре была уничтожена и «Штабная» группа. Комиссар отряда был убит, командиру удалось скрыться.
С «Лесной» группой бой затянулся почти до 13.00, и в него к этому времени в бой ввели весь батальон, кроме конвойной сотни. К вечеру бой утих. Казачий батальон отошел в Шепелевичи и стал на ночевку. Более двадцати казаков эскадрона были убиты. На крестьянском гумне лежали в ряд – двадцать шесть человек. Кто-то разложил их по росту, тщательно расправил окровавленные и измазанные грязью шинели. Бросались в глаза мозоли на скрюченных руках, вывернутые подошвы сапог, потеки крови на телах и на лицах. На правом фланге лежал, щерясь окровавленным лицом, Иван Ткач. Рядом с ним отец и сын Зенцовы. Словно в удивлении распахнул мертвые глаза бывший сержант Василий Нарышев, потом два брата Васильевых и около них – неизвестный, совсем маленький, почти мальчишка с распоротым осколком животом.
Старый усатый казак, с крупным носом и вислыми усами, привезший трупы, перекрестился троекратно, покачал головой:
– Ну вот и все, отмаялись хлопцы. Теперича ничего им не нать, ни землицы, ни свободы.
Во дворе эскадронные лошади жевали сено. К гумну подходили казаки. Вытирали замокревшие глаза рукавами шинелей, словно стесняясь своей слабости, кривились и тут же отводили глаза.
Нелепо смотрелось яркое солнышко на блекло-синем небе.
Погибших сложили на покрытые грязью телеги. Рыжий широкогрудый жеребец, запряженный в головную подводу, все время всхрапывал, до отказа вытянув на недоуздке голову, вздрагивая и прядая ушами. Маленький белобрысый казак с безбровым детским лицом удерживал его за узду. На нем была короткая немецкая шинель, а на голове – мохнатая черная папаха.
В партизанском обозе нашли более ста комплектов немецкого обмундирования.
После ночлега, утром следующего дня казаки выступили в Могилев. Через три дня хоронили погибших. На площади развернутым фронтом выстроились две сотни. Тут же были и те, кто согласился служить в казачьем батальоне.
На земле стояли струганные сосновые гробы. Они были усыпаны венками и цветами, на каждый положили казачью папаху.
– Смирно! – скомандовал Мудров и, вскинув руку к козырьку, шагнул навстречу майору Кононову. Хотел отрапортовать по всей форме, но Кононов сказал негромко:
– Отставить!
Все ждали от него каких-то высоких, торжественных слов, но он, повернувшись к строю лицом, сказал просто и незамысловато:
– Родные мои… казаки!.. Братья! Я горжусь, что командую вами. Три дня назад двадцать шесть наших товарищев погибли в борьбе за светлое будущее нашей Отчизны. – Кононов прошелся вдоль строя, заглянул каждому казаку в глаза. Кажется, что заглянул в самую душу. – Двадцать шесть, – сказал с расстановкой, – двадцать шесть… И где-то на Дону, на Кубани, Тереке заломят руки матери, завоют жонки, заплачут дети. Но, несмотря на их гибель… – Было холодно, ветер перехватывал дыхание. Кононов закашлялся. – …несмотря на их гибель, мы не сдадимся. Мы не будем задавать себе и другим один и тот же вопрос, почему мы, русские, стреляем в русских. Потому что знаем, мы стреляем не в людей, мы стреляем в жестокую людоедскую систему, которая погубила наших отцов, пыталась сделать нас рабами.
Казаки слушали с напряженным вниманием.
– Пусть будет пролито еще много крови. Пусть мы будем терять боевых друзей, но рано или поздно знамя нашей победы взовьется над нашей Отчизной! У нас нет выбора! Но лучше погибнуть в бою, чем в сталинском лагере. Вечная память нашим погибшим друзьям! Мы не забудем их подвиг. Сегодняшний день 28 октября отныне будет считаться днем боевого крещения нашего казачьего батальона. Слава казакам!
В селе зазвонил тяжелый колокол.
– Бум-бум!
Вслед за ним зачастил легкий, тонкоголосый. Печальные медные вздохи разносились по округе.
Вышел местный батюшка. Под золотой ризой у него была надета телогрейка, и потому твердая риза сидела мешком. Священник перекрестился, перекрестил людей.
– Во имя отца и сына и святого духа.
Толпа поклонилась, вздохнула, замахала руками. Отпевание началось.
– Со святыми упокой, Христе, души усопших рабов твоих.
Жители плакали, клали земные поклоны. Батюшка служил не торопясь, молитвы читал внятно, с чувством. Старики и старухи, стосковавшиеся по церкви, стояли довольные, с ласковыми, прояснившимися глазами. Скорбными, дрожащими вздохами падали в сердце толпы слова молитвы.
– И сотвори им в-е-е-чную па-а-а-а-мять!
Люди крестились, всхлипывали:
– Со святыми упокой, Христе, души усопших рабов твоих.
Гробы поставили на телеги. Похоронная процессия тронулась. Скрипели колеса подвод. Неслись над Могилевом траурные звуки похоронных мелодий, взлетая ввысь и опадая щемящей тоской. Сверкала медь оркестра, блестела позолота на парчовой поповской ризе.
Возле деревянной церкви свернули на боковую улицу, с заборами из жердей и почерневшего от дождя штакетника. Улица была мглистая от осенней сырости, серая. На земле лежали грязные листья, раздавленные сапогами. Вскоре оказались на окраине. Здесь деревянные дома вросли в землю. Над крышами торчали черные от сажи печные трубы. К плачущим от дождя стеклам прижимались носы горожан. Тянулась серая, грязная дорога. Лошади с каждым шагом привычно качали мордами, точно думали вслух. Шедшие за ними казаки привычно и обреченно месили грязь. За огородами стояла небольшая березовая роща. Напротив – бугор кладбища.
Перед кладбищенскими воротами стояли две рябины с качающимися от ветра багряными гроздьями. Меж березовых стволов неброско мелькнули деревянные кресты, синичка, чистящая клювик о деревянный крест, на котором дожди и время стерли надпись.
Гулко застучали молотки, забивая гвозди в крышки гробов, намертво спаивая ее с основанием. Заскрипели веревки, и, покачиваясь из стороны в сторону, задевая за края могилы, гробы стали медленно опускаться на дно. Ямы, в которые опускали гробы, были полны воды, к крышкам гробов прилипли опавшие желтые листья.
Несколько комьев земли шлепнулись на крышки гробов.
Прогремел прощальный винтовочный залп.
Казаки крестились, выходя с кладбища. Покосившиеся кресты тянули им вслед свои деревянные руки, словно о чем-то просили живых людей.
* * *
Утро 22 июня 1941 года перевернуло устоявшийся мир.
Через несколько месяцев Сергея Муренцова призвали в армию. Странно, но он вроде как даже обрадовался этому. Муренцов скинул с себя личину чеховского интеллигента, сбрил бородку, и оказалось, что его руки по-прежнему помнят тяжесть винтовки, как и прежде, он с закрытыми глазами мог разобрать и собрать пулемет, подняться в атаку. После краткосрочной подготовки он получил звание младшего лейтенанта, и в конце июля 1942 года вновь сформированную дивизию бросили под Ржев.
Гудериановские танковые клинья рвали линию советской обороны. Части Красной армии, потеряв штабы управления, обозы и расстреляв боеприпасы, отчаянно пытались выбраться из котлов, не зная, что линия фронта с каждым днем все дальше и дальше откатывается на восток.
Горела выжженная солнцем земля, над колоннами бредущих войск нескончаемой армадой шли бомбардировщики с крестами на фюзеляжах.
По обочинам дорог тянулись ряды огромных воронок с ровными краями, будто их вырезали в земле. Погибших хоронили тут же. По приказу политрука бойцы собирали красноармейские книжки убитых, потом стаскивали мертвые тела в воронки и слегка присыпали их выжженной, сухой землей. Картины разгрома и разрушений нередко тянулись километров на десять-пятнадцать.
У какого-то села на их колонну опять налетели самолеты. В воздух полетели изувеченные тела и винтовки. После шквала огня сложно было разобрать, кто живой и кто мертвый. Контуженый, оглохший Муренцов долго лежал в воронке, присыпанный землей, сжимая руками звенящую чугунную голову. Полк, посчитав его погибшим, ушел дальше. Потом он очнулся, пополз. Инстинкт самосохранения, все рефлексы кричали, что нужно как можно скорее оказаться подальше от этого места, от воронок, от мертвых тел, убежать, уползти, неважно куда – в кромешную темноту, в неизвестность. Муренцов полз очень медленно, с перерывами. Сознание мутнело и покидало его, потом вновь возвращалось. У проселочной дороги он наткнулся на отступающих артиллеристов. Уцепившись за лафет пушки, побрел вместе с ними.
Лошади, тащившие пушки, были худы и измотаны. На острых хребтах и боках виднелись следы струпьев от ударов кнутов и палок. Усталые животные обреченно тащили орудия, хрипя и приседая на задние ноги. Иногда они останавливались, затравленно дыша и раздувая ввалившиеся бока. Удар кнута срывал их с места. Присев на задние ноги, кони срывали пушку с места и волокли ее за собой. Цепляясь со всех сторон за щитки орудий, брели усталые, изнуренные бойцы.
Сколько прошло времени, Муренцов не помнил. Пришел в себя от громкого крика одного из красноармейцев:
– Товарищи, распрягай коней! Бросаем пушки и уходим!
Все разбежались, и Муренцов остался один в чистом поле, у брошенных пушек. Кружилась голова. Дрожали ноги, и он лег на землю с одной мыслью:
– Один. Один… Что делать?
Он сам не знал ответа на свой вопрос. Мысли путались в голове, и он то впадал в забытье, то вновь приходил в себя.
Непонятный шум привлек его внимание. Привстав и оперевшись на локоть, Муренцов увидел бредущую по дороге лошадь, запряженную в бричку. Увидев человека, лошадь стала. Сергей кое-как добрался до повозки и завалился на ее дно. Немного постояв, лошадь сама тронулась с места.
Муренцов не помнил, сколько времени он трясся в гремящей повозке. Лошадь неторопливо брела по обочине дороги, иногда наклоняя голову и срывая губами пыльную траву.
Воздух дрожал от зноя, трещали кузнечики. Ночью пошел дождь, мелкий, противный. Муренцов озяб, тело била дрожь, губы посинели. Лошадь остановилась в какой-то деревне. Пахло коровником, дождем и полынью. Дождь пошел сильнее. Муренцов натянул на голову ворот шинели, забылся. Деревня будто вымерла. Очнулся он на рассвете, кто-то тормошил его. С трудом открыл глаза – над ним склонилась какая-то закутанная в платок женщина. Было не до разговоров и не до вопросов. И так все было ясно, красноармеец, окруженец. Женщина помогла ему дойти до избы, усадила на лавку у теплой печи, дала кружку воды. Вскоре в избу вошли еще несколько красноармейцев с оружием и без. Среди них было несколько раненых. Кому-то помогали идти, кто-то шел сам, опираясь на винтовку или палку.
Прошло немного времени, и раздался крик: «Немцы!»
Все, кто был способен двигаться, побежали огородами к лесу. Немцы начали стрелять по бегущим людям, раздался хохот, крики на немецком:
– Рус, рус, хальт!
Потом стрельба прекратилась, и в избу ворвались фашисты. С криками и шумом они обыскали раненых, собрали оставшееся оружие и уехали.
К вечеру в избу пришли хозяин с хозяйкой, принесли ведро картошки, сваренной в мундире. Кто-то спросил о судьбе бежавших красноармейцев. Хозяин опустил вниз глаза:
– Постреляли почти всех. Наши деревенские, кто помоложе, копают им могилу на околице.
Прошло два дня неизвестности. Раненых красноармейцев местные жители разобрали по своим избам. Муренцова поселили у Семеновых. Хозяева дома – старики, у них была дочь Вера. Это она остановила лошадь и помогла Муренцову дойти до хаты. Лет ей было около тридцати, муж погиб в финскую войну. Муренцов прожил у стариков около месяца. Кормили тем, что ели сами, – картошка, хлеб, молоко. На полях и в лесу паслось много раненых и брошенных коней. Их забивали, туши разрубали топором и на телегах увозили домой, делали солонину. Этот «приварок» хорошо поддержал силы ослабевшего Муренцова. Спал он на мешках, набитых соломой. Укрывался шинелью и всяким тряпьем.
Однажды Вера сообщила, что в селе появились полицаи, которые ходят по домам и ищут раненых красноармейцев. На двери бывшего сельсовета вывесили распоряжение местного старосты, строго предписывающее сообщить о том, у кого содержатся раненые. За неисполнение грозили расстрелом. Вера сказала Муренцову, что ему надо уходить. Рано или поздно полицаи прознают и будет беда.
То же самое вечером сказал и отец: «Уходи от греха».
Он стоял, прочно расставив ноги в тяжелых сапогах, в одной рубахе, без шапки, и смотрел на Муренцова жалостливо и брезгливо.
В разговор вмешалась Вера и сказала:
– Как же он пойдет, батя? День-деньской на дворе, а он ведь и ходить-то почти не может, даже убежать не сможет.
Старик цыкнул на дочь, но выстругал палку и принес ее Сергею. Вера собрала котомку с едой. Стиснув зубы, он побрел по дороге. Примерно через час вдали показались серые избы. Там в селе он и натолкнулся на немцев. Загорелые и жизнерадостные парни радостно гоготали, выливая друг на друга ведра колодезной воды. Из-за зарослей деревьев торчал закопченный хобот танковой пушки. Муренцов попятился, но в спину ему уперся ствол винтовки:
– Ну шо ты заупынився, пийшов вперед!
У человека, обутого в немецкие брезентовые сапоги и одетого в гимнастерку, было очень нехорошее лицо. Он передернул затвор винтовки, досылая патрон в патронник. Едва переставляя ноги, Муренцов побрел по селу, сопровождаемый рыжеусым селянином с винтовкой, неожиданно вынырнувшем из пожара его молодости.
Немецкие танкисты не обратили на него никакого внимания. Немолодой унтер, сидя на башне запыленного танка, извлекал из губной гармошки какую-то грустную мелодию, двое солдат, раздетых по пояс, обтирались полотенцами, радостно кряхтя и подставляя солнцу свои счастливые, жизнерадостные лица.
В середине села, у какого-то здания или сельской конторы, стояли грузовики с натянутым тентом, слышалась гортанная немецкая речь. «Штаб, наверное», – зачем-то отметил про себя Муренцов, шагая по безлюдной, вымершей улочке. Серое бревенчатое здание, куда его привели, оказалось сельской школой. Во дворе дымилась полевая кухня, у дверей стоял часовой с автоматом. Муренцова втолкнули в подвал, в котором раньше наверное хранился школьный инвентарь – сломанные парты, краска, метлы. Защемило сердце от неповторимого запаха мела, мокрой школьной тряпки. На раскиданной по земляному полу соломе сидело и лежало около двух десятков красноармейцев. Многие были без гимнастерок, в серых от пыли и грязи нательных рубашках. Попав в полутьму подвала после слепящего солнца, Муренцов на мгновение ослеп и споткнулся, зацепившись за чьи-то вытянутые ноги. Лежащий человек что-то пробормотал сонным голосом и захрапел, перевернувшись на другой бок. Привыкнув к темноте, Муренцов увидел несколько человек, сидевших в дальнем углу. Они передавали по кругу самокрутку. По подвалу потянуло запахом махорки.
Сергей подошел, присел рядом. Умолкнувший было с его появлением разговор возобновился с новой силой.
– Эти сказки про скорую победу оставьте своим политрукам. Я немца знаю с 15-го года, хороший солдат, храбрый, умелый, дисциплинированный. Они будут переть до конца, тем более что воевать им есть чем, считай, вся Европа на них работает. Смотрите сами, немцы пешком не ходят, кругом танки, грузовики, мотоциклы, даже велосипеды есть. У каждого солдата автомат или карабин, в каждой роте минометы, пулеметы, поддержка с земли и воздуха. Но самое главное, у немецкой армии отличная выучка и уже двухгодичный опыт войны. Они берут не грубой силой, а отличной организацией, взаимодействием войск, тактическими приемами. А что у нас? Старая трехлинейка, с которой я еще против Врангеля воевал, да и то одна на десять человек. Есть еще обмотки, солдатское терпение да извечное русское «авось».
Самокрутка дошла до говорившего. Огонек цигарки высветил заросшее щетиной лицо, впалые щеки, уверенные командирские жесты. Он сделал несколько аккуратных, экономных затяжек, с сожалением посмотрел на оставшийся окурок, передал его дальше. Потом продолжил как видно давно начатый разговор:
– А у нас ни оружия, ни умения воевать. Война войне рознь. Я вот воевал в империалистическую, потом в Гражданскую. Тогда все было по-другому: заседлали лошадок, сабельки в руки и айда махать ими. А сейчас все решает техника, танки, самолеты. Пусть у нас хоть вся армия будет состоять из Буденных, но против танков они сделать ничего не смогут. Но не об этом болит душа! У Советского Союза огромный потенциал. Пока армия будет отступать, не драпать, а отступать, цепляясь за каждый бугорок, за каждую высотку, русские бабы нарожают новых солдат. Эвакуированные заводы начнут работать, и всего у нас будет в достатке – и танков, и пулеметов. К тому времени, глядишь, и воевать научимся. Мне другое обидно, почему проспали начало войны? Почему кричали, что войны не будет, а она – вот она! Немцы, считай, уже всю Украину завоевали. А у нас командир полка перед самой войной на построении сказал, что скоро кровью ссать будем, если вместо боевой учебы на политзанятиях штаны просиживать будем, так его на следующий день и замели.
Кто-то из красноармейцев подал голос:
– А нам что теперь делать, товарищ командир?
– Прежде всего, постараться не только не сдохнуть, но и остаться человеком. Доля пленного солдата несладка, потому надо будет держаться друг друга и помнить о том, что надо победить любой ценой.
Ближе к вечеру, когда большинство пленных уснуло, Муренцов подошел к нему снова. Гимнастерки на том не было, но возраст, властные манеры, грамотная речь выдавали в нем командира. Сергей Сергеевич протянул ему свою руку.
– Младший лейтенант Муренцов. Сергей.
Командир отвлекся от своих мыслей, встал.
– Подполковник Калюжный, начальник штаба 131-го полка. Староваты вы вроде для младшего лейтенанта.
– Я из запаса. В прошлой жизни был поручиком.
– Ну а я из прапорщиков. Можете звать меня просто Михалыч. Прошу садиться.
Проговорили почти до утра. Калюжный воевал с 15-го года, в 1918 году сознательно пошел в Красную армию. В их биографиях оказалось много общего, нашлись и общие знакомые. Калюжный оказался человеком тертым и бывалым, хотя и не сделавшим себе карьеры в Красной армии, но зато уцелевшим в период чисток и реорганизации армии. Муренцов не питал особых иллюзий по поводу своей судьбы.
– Понимаешь, Михалыч! – шептал он в темноте. – Я не хочу говорить это пацанам, но в любом случае и при любом раскладе наше дело дрянь. Сталин заявил, что бойцы Красной армии в плен не сдаются. Так что если нам даже удастся сорваться от немцев, придется потом объясняться с особистами. А там уж как получится, в лучшем случае разжалуют и на фронт, в худшем – лагерь или стенка. Хотя могут и так: сначала фронт, а потом, если выживем, – лагерь. Все тогда припомнят, и царскую службу, и плен.
– А что ты предлагаешь? Подыхать здесь? – отвечал Калюжный. – Деваться некуда. Надо выжидать момент, чтобы бежать и снова воевать. А там будь что будет.
Ночью несколько раз слышалась стрельба, под утро в подвал загнали еще человек 20–30 пленных. Муренцов тогда удивился, почему в подвале нет ни одного тяжелораненого. Калюжный пояснил, что тяжело раненных в плен не берут, таких добивают на месте.
– Нас здесь вечно держать не будут, не сегодня завтра отправят в какой-нибудь лагерь. Чтобы не доставлять себе хлопот в дороге, берут только здоровых, остальных добивают и бросают.
В подвале их держали несколько дней. Раз в сутки, обычно с утра, приносили ведро картошки, сваренной в кожуре. Однажды подняли рано утром, построили и погнали по серой пыльной дороге куда-то на запад. Колонна военнопленных двигалась нескончаемым людским потоком. Муренцов шел рядом с тяжело переводившими дыхание красноармейцами – усталыми, почерневшими. На некоторых серели запылившиеся повязки с пятнами засохшей крови. Кто-то опирался на палку, кто на плечо товарища. Люди шли с поникшими головами. Во всем чувствовалась обреченность.
Изредка взлаивали конвойные собаки, бдительно стерегущие несчастных усталых людей, мгновенно реагируя на отстающих или выпадающих из строя.
Охраняли колонну уже не те здоровые жизнерадостные парни, которых Муренцов видел в первый день, а пожилые солдаты, наверное, из каких-то тыловых частей.
Видно было, что и у Гитлера людские ресурсы не безграничны.
Их группу загнали в середину бредущих людей, и они тут же стали одной неразличимой массой.
* * *
Пленных, среди которых были Муренцов и Калюжный, загнали в полутемный барак, с щелястыми стенами, где на земляном полу кое-где была навалена солома, в углу валялись какие-то прелые матрасы и тряпки.
У противоположной от двери стены располагались нары из серых неструганых досок. В углу притулилась чугунная печка с ржавой трубой и без дверцы. Нар не хватало, и многие вынуждены были спать на земле. Холод заставлял людей спать вповалку друг на друге, в два слоя. В этом лежбище бурно размножались вши, свирепствовал тиф.
После первого построения комендант назначил старшего барака, капо. Был он среднего роста, очень крепкий, почти без шеи – бритая голова, как чугунная гиря, тяжело перекатывалась по плечам. Неподвижными оставались только глаза, холодные как у рыбы, пронизывающие человека насквозь, до дрожи всех внутренностей. На вид ему было слегка за сорок.
Многие командиры, попав в окружение, старались сбросить с себя хромовые сапоги и комсоставское обмундирование, чтобы затеряться среди красноармейцев. Но капо, напротив, щеголял в вызывающе хорошей гимнастерке серого габардина, почти достающей подолом до коленей.
– Кто такой? – в первый же день спросил Муренцов Калюжного, кивая в сторону капо.
Калюжный сплюнул:
– Х…р с бугра какой-то. Не знаю. Говорит, что интендант. Хотя по замашкам больше похож на политрука. Впрочем, разницы нет. Уже шашни с немцами крутит. Сука!
Два раза в день пленные, нетерпеливо переступая с ноги на ногу, медленно подвигались к бочке с баландой. Над котлом с мутным варевом стоял щекочущий ноздри запах еды, и пленные, заросшие щетиной, оборванные и грязные, канючаще упрашивали баландера, такого же пленного в грязном сером фартуке, но с широкой красной мордой:
– Добавь, земеля! Добавь… ради Христа… черпни со дна… добавь!..
Баландер не отвлекался на разговоры. Сосредоточенно небрежно расплескивал баланду по котелкам, консервным банкам, вывернутым наизнанку пилоткам и захлопывал крышку полевой кухни. Усмехался:
– Все, мужики, на сегодня ресторан закрыт.
По толпе прокатывался гул возмущенных голосов:
– Не-ету баланды?! Суки! Жрать дайте! Жрать хотим!..
Кое-кто, не веря, пытался открыть котел полевой кухни, запустить туда консервную банку или котелок и хоть что-то ухватить для своего измученного, голодного желудка. Баландер взмахивал черпаком. Вылетал из ослабевших дрожащих пальцев смятый оцарапанный котелок, выливалась из него серая похлебка, и человек падал на заплеванную затоптанную землю. Не обращая внимания на побои, скреб переломанными черными ногтями место, оттаявшее от пролитой баланды. Набегали капо и лагерные полицейские.
– По баракам, суки! – кричали полицейские, размахивая палками и опуская их на головы других пленных.
Те, кому повезло, молча доедали баланду, не обращая внимания на удары и крики.
Уборной в бараке не было, умывальника с водопроводом тоже. В течение дня, до вечера, можно было пользоваться большой выгребной уборной и водой с сильным запахом хлорки в умывальнике.
С наступлением темноты часовые загоняли пленных в бараки. Здесь пленных выстраивали и проводили вечернюю поверку, после чего запрещалось выходить из барака. Право на выход из барака имел только капо. Каждый вечер после проверки он уходил с докладом к русскому коменданту лагеря.
В бараках стояли страшная духота и вонь от параши. С рассветом дверь барака открывали и снова выстраивали всех на поверку. Затем несколько пленных выносили парашу и на тележке везли ее к выгребной яме. Пленных выгоняли с вещами во двор, и начиналась уборка помещения.
В середине ноября на землю лег белый холодный пух первого снега. Его съели и слизали на всем пространстве этого проклятого квадрата! Покорно и молча ожидали советские солдаты неумолимой смерти от голода. Кем и за что они были прокляты? Почему, умирая в грязи и холоде за рядами колючей проволоки, они были лишены не только покаяния, но и глотка воды?
Капо нацепил на рукав повязку и горделиво расхаживал по бараку, вкрадчиво перебирая короткими ногами в хромовых сапогах, обшаривая цепкими и липкими глазками лежащих и сидевших на корточках людей. Пленных бесконечно сгоняли с нар, выгоняли из барака, выстраивали, переписывали, заставляли стоять в строю. В перерывах между построениями они топили печку какими-то щепками, досками, оторванными от нар. Печка дымила и медленно разгоралась. От нее шло неуверенное, пахнущее дымом и угаром, душное тепло. Под нарами лежали самые обессилевшие и измученные голодом люди, потерявшие всякую надежду на спасение. Бесправный лагерный быт, каждодневно ломающий волю и убивающий слабых, будил в человеке все самое мерзкое и подлое, поднимая из глубины его души волны мерзости и ненависти. Вот и в свите капо уже через несколько дней крутилось человек десять таких же, как он, наглых, пронырливых, злобных. Они бесцеремонно сталкивали с нар своих бывших товарищей, отгоняли от печки. Пинками и тумаками выгоняли людей на построение, на холод и дождь.
Муренцов как-то вечером сцепился с капо прямо в бараке. Вступился за доходягу, которого толкнул капо. Тот в ответ ударил его ногой в пах. Тут же налетели шестерки. Сбили с ног, стали бить ногами. Скатившийся с нар Калюжный еле оттащил Муренцова в сторону.
– Это – плен, Сережа. Тут каждый сам за себя… За себя…
Муренцов сплюнул на пол кровавый сгусток.
– А как же остаться человеком, товарищ подполковник?
Калюжный лишь махнул рукой.
Но через несколько дней капо недосчитались на утренней проверке. Его шестерки обыскали весь лагерь, перевернули верх дном весь барак. Потом кто-то из них догадался поднять доски над отхожей ямой. Тело в длинной диагоналевой гимнастерке плавало в желтой вонючей жиже.
На допросе пленные показали, что узнали в капо бывшего батальонного комиссара и якобы он сам утопился в дерьме от страха перед разоблачением.
Переводчик, услышав эту версию, онемел, но дословно озвучил ее начальнику лагеря, попутно добавив подробностей из жизни этого дикого народа.
Комендант пожевал губами. Покивал головой:
– O-ooo! Ja, ja. Ich weiß! Russland ist das barbarische Land.
* * *
Однажды декабрьским зимним утром в лагере военнопленных начался переполох.
Ближе к обеду всех выстроили на поляне перед бараками. За спиной начальника лагеря стояла группа офицеров в форме вермахта, но с широкими красными лампасами на бриджах. На головах у некоторых были папахи и кубанки. Муренцов с каким-то болезненным щемящим любопытством всматривался в их лица. Словно угадав его мысли, черноморский моряк Семен Потуга прохрипел:
– Это что за масть такая? Я почти год воевал, а ни разу такой формы не видел.
Калюжный толкнул Муренцова в бок:
– Я так думаю, что это казаки, вот и мы им для какой-то цели понадобились. Давай смотри внимательно, может быть, кого из старых знакомых узнаешь.
– Уже узнал, – ответил Муренцов.
Справа от чрезвычайно полного, тяжело дышащего начальника лагеря стоял офицер в высокой фуражке, в начищенных с твердыми голенищами сапогах и стеком в руках. Это был бывший ротмистр Кречетов, сослуживец Муренцова по Добровольческой армии. На его плечах серебрились погоны немецкого полковника. Форма и погоны делали его лицо неузнаваемым, и если бы не косой сабельный шрам на его лице, Муренцов мог бы подумать, что ошибся. Слишком невероятным казалось, что Сашка, воевавший с немцами с 15-го года, ненавидевший все иноземное, бивший себя в грудь и кричавший: «Я русский офицер и умру за матушку-Русь!» – надел мундир вражеской армии.
Кречетов вопросительно глянул на начальника лагеря и, уловив его согласие, откашлялся и шагнул вперед:
– Соотечественники! Русские воины! Казаки! Братья! – Его голос был по-прежнему густым и властным. – Всю свою жизнь я посвятил защите нашей матери-России. Не моя и не ваша вина, что больше двадцати лет нашу отчизну насилуют грузины, жиды-комиссары, латыши, китайцы и прочая безродная сволочь, ненавидящая русский народ. Ленин и Сталин уничтожили десятки, сотни тысяч и миллионы русских людей, отобрали землю и загнали в кабалу крестьянина, разрушили храмы, заставили брата поднять оружие на брата. Русская земля стонет и вопиет об отмщении, она говорит, русский солдат – защити свою отчизну-мать. Я вижу вас – голодных, раздетых, разутых, обманутых, и сердце мое обливается кровью. Красные комиссары бросили вас на произвол судьбы и назвали предателями. Вы не нужны Советскому Союзу, но вы нужны России. Русские генералы Краснов и Власов объявили смертный бой большевизму. И те из вас, кто захочет поквитаться с большевиками за нашу поруганную Отчизну, может вступить в казачий дивизион. Вместе с нашими союзниками, немецкой и румынской армией, мы будем сражаться против нашего общего врага, пока не раздавим, не уничтожим красную заразу. А потом будем строить новую Россию!
Сейчас вас разведут по баракам. Хорошо подумайте, прежде чем принять решение, что вам ближе, большевистско-жидовские идеалы или матушка-Русь. Через час комендант снова построит лагерь. Патриоты, желающие воевать против Сталина, становятся отдельно, напротив общего строя, все остальные остаются на том же месте.
Полковник Кречетов достал из кармана большой клетчатый платок, вытер вспотевшее лицо, махнул рукой.
Майор Штольц, начальник лагеря, бросил отрывистую команду, закричали капо, рыкнули овчарки. Серая масса узников всколыхнулась, повинуясь команде, повернулась направо, двинулась в бараки. Время двигалось неумолимо, пленные разбились на кучки, обсуждая услышанное. Муренцов сидел на корточках. Калюжный стоял рядом, подпирая спиной стену.
– Пойдешь? – спросил он тихо и едко. Обреченно усмехнулся сухими губами.
Муренцов вздохнул и просто сказал:
– Пойду, Саша… Устал… умереть как солдат хочу… А сначала отомстить за все, за кровь, за смерть, за унижения… Сталину, а потом и Гитлеру. Может быть, и ты?..
– Нет, Сережа. Я офицер, присягу давал. Поэтому форму врага не одену. Разные у нас сейчас с тобой дороги.
– Я тоже присягал, только не Сталину. Поэтому пойду ту Родину защищать, которой в верности клялся. Прощай.
На середину барака вышел Никифор Зыков, молодой капитан с обожженным лицом, бывший танкист. Его экипаж сгорел в танке, он сам, задохнувшийся в дыму и полуживой, успел выбраться через нижний люк. Багровые щеки в струпьях, глаза голые, без ресниц, вид страшный.
Все замолчали.
– Товарищи бойцы и командиры, – сказал он хрипло. В бараке стояла такая звенящая тишина, что его слышали во всех закутках. – Нас поставили перед страшным выбором. Надеть вражескую форму и выжить. Или умереть, но остаться верным присяге. Выбор трудный, всем хочется жить. Я не знаю, что будет со мной дальше. Но я знаю, что не буду стрелять в тех, с кем в окопах делил последний сухарь и, как умел, делал свое солдатское дело. Что бы ни случилось в моей судьбе, моей матери будет не стыдно смотреть в глаза других матерей. И если мне суждено погибнуть, я хочу умереть от руки врага, а не от пули русского солдата. И знайте… если мне доведется встретить кого-нибудь из тех, кто уйдет к немцам, в бою буду их рвать зубами. Пусть запомнят это все!
Зыков закрыл обожженное лицо руками, пошел в свой угол.
Через час опять залаяли овчарки, послышались крики охранников. Добровольцев, желающих служить в вермахте, оказалось немного, человек двадцать, не больше.
Шеренга с пленными стояла, будто окаменев. Большинство из них давно утратило человеческий облик, они были измучены побоями, страхом, голодом, вшами. Лица заросли грязной щетиной. Но, несмотря на все мучения, бывшие советские солдаты, трижды преданные своей страной, из последних сил несли свой крест.
Они презирали и ненавидели тех, кто одел немецкий мундир. Понимали, что те проживут дольше, чем они. Но не хотели для себя их судьбы.
Опустив головы и глядя в землю, вышли еще трое.
Муренцов стоял в первой шеренге, стараясь не смотреть в противоположную сторону. Калюжный остался там. Белые от ненависти глаза узников, казалось, пронзали тонкую рваную одежду, доставая до самого сердца. Он опустил глаза к земле, сердце бухало у самого горла.
Кречетов прошел вдоль строя, внимательно вглядываясь в лица добровольцев, ткнулся взглядом в фигуру Муренцова. Остановился рядом, удивленно поднял брови, ткнул пальцем.
– Ваша фамилия?
– Младший лейтенант Муренцов, – заученно отрапортовал тот.
– Выйти из строя.
Муренцов сделал несколько шагов навстречу своей новой судьбе, четко развернулся через левое плечо.
– Узнаю старую русскую военную школу, – похвалил Кречетов. – Ведите людей к выходу из лагеря, грузитесь в машины, командуйте. После беседы с командиром батальона зайдите ко мне. Вас проводят.
Полковник хлопнул ладонью по кобуре и выкрикнул:
– Остальные будут работать и умирать на благо великого Рейха!
И шеренга вновь колыхнулась, загудела разноголосо.
Муренцов вытянулся, набрал в легкие воздуха, выдохнул:
– Равняйсь, смир-р-рно! Нале-е-во! Шагом мар-р-рш.
Небольшой взвод привычно и заученно колыхнулся, шагнул в сторону ворот лагеря. Охранники и овчарки их уже не сопровождали. Перед воротами стояло два накрытых тентом грузовика, рядом прохаживались несколько человек в форме вермахта и винтовками в руках, но говорящие по-русски.
«Ну вот, опять охрана», – подумал Муренцов, но эта мысль тут же пропала, так и не успев испугать или по-настоящему расстроить. У машин он приказал остановиться, подошел унтер-офицер, пересчитал людей, переписал их на лист бумаги, список отдал коменданту. Добровольцы полезли в кузова машин, охрана села по краям. Их никто ни о чем не расспрашивал.
Охранники достали сигареты, закурили. Потом пустили по кругу никогда до этого не виданную ярко-зеленую пачку. Выпуская дым, кто-то выдохнул:
– Итальянские, хорошо живет немецкая армия.
Из угла кто-то проворчал:
– Рано завидуешь, скоро за Гитлера воевать пошлют. Эти сигареты нам тогда слезами и кровью отрыгнутся.
– А пущай хоть и за Гитлера! За Сталина уже наваявали, хватит…
– Заткнись, сука, – сказал кто-то.
– Ага, не ндравится!.. Сам ты сука. Надо немцам сказать, что ты Сталина защишчаешь!
Муренцов коротко бросил:
– Прекратить разговоры. – Подумал про себя: «Не хватало еще драки».
Тот же недовольный голос все ворчал:
– Ну вот, уже и командиры нашлись. На нашу шею всегда хомут найдется.
Муренцов поискал глазами говоруна, вспомнил, это был один из шестерок капо, избивавших его в бараке. На всякий случай запомнил его лицо, белые, злые глаза, оскаленный рот.
Ехали недолго, около часа. Машины остановились у металлических ворот, за которыми стоял часовой с винтовкой. В глубине стояло несколько кирпичных трехэтажных домов, слышались русская речь, крики команд.
Всех построили в шеренгу, и каждый должен был по очереди подходить к столу, за которым сидел командир казачьего батальона Кононов со своими и немецкими офицерами. Подошедшему Кононов задавал вопросы:
– Казак?
– Какого Войска?
– Какой станицы?
– Сколько лет в армии?
Опрошенному Кононов приказывал отойти вправо или влево. Долголетняя служба в армии и жизненный опыт позволяли ему безошибочно определять, на что был способен стоящий перед ним человек. Казак он или не казак.
Было распоряжение немецкого командования – брать только казаков. Но Кононов охотно брал и тех, кто имел боевой опыт, ненавидел большевиков и хотел воевать. Тех, кто не подходил Кононову, направляли в полицейские части, зондеркоманды или обслугу воинских частей.
Подошла очередь Муренцова. Стараясь чеканить шаг и держать выправку, он подошел к столу. Доложил:
– Господин майор, младший лейтенант Муренцов по вашему приказанию прибыл.
– Казак?.. Какой станицы?
– Никак нет. Не казак. В прошлом офицер, поручик.
– Где воевали?
– Много где воевал, господин майор. Сначала в германскую, потом на Дону у Краснова, генерала Деникина.
– Как на Дону оказались?
– Был ранен, отлеживался в станице Новониколаевской. Спасибо станичникам, спрятали на хуторе от красных.
– Я беру вас к себе в дивизион. Зачисляетесь во второй эскадрон. Пока рядовым. Дальше посмотрим. Попозже я вас вызову. Погутарим. Я ведь сам рожак станицы Новониколаевской.
Он испытующе глянул бывшему поручику в глаза, помедлив, произнес:
– Становитесь в строй. После построения зайдите в штаб, вас ждет полковник Кречетов.
– Слушаюсь.
У штаба его встретил здоровенный, рыжеусый унтер-офицер, щелкнул каблуками, бросил растопыренную ладонь к виску.
– Вас ждут, следуйте за мной.
У двери кабинета он остановился. Постучал, толкнул дверь кабинета. Кречетов несколько секунд всматривался в его лицо:
– Ну, здравствуй, Сережа. Сколько же лет мы с тобой не виделись?
– Двадцать два, Саша. Помнишь? Мы вместе шли в атаку у какой-то кубанской станицы. Моя сотня впереди, вы за нами. Снарядом убило штабс-капитана Толстухина, а меня ранило. Спасибо твоим санитарам, подобрали.
Полковник обнял его за плечи.
– Ладно, ладно, Сережа. Садись, рассказывай. – Сам тем временем достал из стола бутылку коньяка, две рюмки.
– Давай, по русской традиции, сначала за встречу. Вечером еду в Берлин, к генералу Краснову. Ну давай, с Богом…
Выпили. Коньяк оказался хорошим. Муренцов ощутил во рту знакомый и уже забытый аромат. С наслаждением выдохнул, положил в рот кружок лимона, попросил:
– Расскажи, Саша, как сам все эти годы? Как здесь оказался? Что это за подразделения из русских в немецкой армии?
– Долго рассказывать, Сережа. Боюсь, что не хватит дня, да и ночи тоже. С последним пароходом я драпанул из Крыма. Потом Болгария… Наконец оказался в Германии, у меня там дальние родственники по маминой линии. Перебивался кое-как с хлеба на квас. Потом Гитлер пришел к власти. Я сразу понял, что за ним будущее и что конечная его цель СССР. Предложил свои услуги.
– Я вижу, ты в форме. Служишь?
– Да, служу. Военная разведка, абвер. Занимаюсь вопросами контрразведки. Шпионаж, диверсионные акты и все такое прочее. Лично я занимаюсь набором курсантов в разведшколы. В основном из всякой мрази. Но такие и нужны. Например, тебя бы я не взял.
– Почему?
– Ты слишком порядочный. Ребенка или женщину убивать откажешься. А нам приходится. Ладно, давай о дне сегодняшнем. Не сегодня завтра Сталин капитулирует. И это наш реальный шанс вернуться в Россию. Но вернуться мы должны как победители, в составе немецкой армии, а не в ее обозе. Нельзя допустить, чтобы немцы поставили нам своих гауляйтеров. Надо, чтобы это были русские патриоты, завоевавшие эту победу. Для начала мы с немецкой помощью освободим народ от большевистской диктатуры, от колхозов, освободим заключенных из лагерей, а потом, когда русский народ поймет, что мы его спасители, тогда спихнем и немцев. Немцы уйдут, но после них останется порядок.
За разговором время летело быстро. Отвыкшему от спиртного Муренцову коньяк уже кружил голову, приятным теплом расходился по всему телу. Уловив взгляд Кречетова на часы, Муренцов встал:
– Разрешите идти, господин полковник?
– Погоди, Сережа.
Подошел к раскрытому окну, крикнул:
– Ряжин!
Повернулся к Муренцову:
– Готовься, Сережа, к большим сражениям, скоро будем в Москве. Сейчас у тебя будет баня, парикмахер. Потом явишься в дивизион, доложишь, что прибыл. Кононов знает, что ты у меня. – Вошедшему уряднику он приказал: – Накормить! Одеть, обуть!
Муренцов повернулся через левое плечо, шагнул к двери. Вопрос застал его врасплох:
– Сергей, ты слышал что-нибудь о своих?
Сердце ухнуло вниз, он выдохнул:
– Галя, Сережка, что с ними?
Кречетов озадаченно потер переносицу.
– Не знаю. Я имел в виду твою мать и сестру. Мне довелось встретиться с Екатериной Владимировной, в 40-м, в Париже. Катенька живет во Франции, она теперь мадам Бусенар. Сергей Владимирович Муренцов, батюшка твой – погиб, подробностей я не знаю. А Мария Александровна еще ничего, очень бодрая и жизнерадостная женщина. Да ты что, брат? Никак раскис?
Муренцов смахнул с лица непрошеную слезу:
– Соринка, господин полковник. Разрешите идти?
Вышел, не чувствуя ног и не видя земли под ногами от застилающих глаза слез.
* * *
Апрельским утром 1942 года зэка Костенко почему-то не вывели на работу. На утренней проверке нарядчик отложил в сторону его карточку, приказал ждать в бараке. В десять часов в барак пришел старшина Скоробогатько, недовольно пробурчал:
– Живо одевайся, контрик, пойдешь со мной.
Лагерная жизнь отучила Костенко от высокомерия, даже с такой скотиной, как этот старшина, нужно было ладить и находить общий язык. Поэтому он спросил:
– Куда поведешь, Егорыч?
– Куды, куды? На кудыкину гору. Не бойся, не на расстрел. Стрелять у нас только капитан Митин водит, а все остальные добрые, гуманисты. Гы-ы-ы-ы! – Потом старшина подобрел, вспомнил, наверное, что этот контрик когда-то был в больших чекистских чинах. Иногда такие все же вырываются, и потому с ними особо грубить не надо. Вон товарищ Сталин тоже в царской тюрьме сидел, а потом… К тому же этот был вежливый и уважительный – несмотря на то, что с самим Дзержинским в свое время за ручку здоровался. – Хозяин тебя вызывает, майор Карпов.
У вахты уже стояло пятеро зэков, все бывшие военные. Полковник Сизов, прибывший с ним одним этапом. Комдив Рябушинский, добивающий четвертый год в зоне, комбриги Мильштейн и Арсеньев, дивизионный комиссар Ясулович. Все были не из новой поросли сталинских выдвиженцев, а люди опытные, тертые, успевшие повоевать. С Андреем Рябушинским Костенко в одно время был в Испании. Когда было время и хватало сил, они вместе вспоминали общих знакомых. Вот только учитывая специфику прежней службы и деятельности, Алексей лично знал франкистских и немецких генералов, Рябушинский – республиканцев и советских советников.
Они отошли в сторону, закурили.
– Как думаешь, чего нас хозяин вызвал? – затягиваясь, спросил Рябушинский.
– Тут и гадать нечего, либо расстреляют, либо воевать пошлют. Сам понимаешь, война, тут без вариантов, – ответил Костенко.
– Хорошо бы, конечно, второе, – усмехнулся бывший комдив. – Дорого бы я дал, чтобы снова как в Испании. Помнишь?
Бьют барабаны, в Европе рассеиваются сумерки, рассеиваются облака навстречу нашим солдатам.Алексей подхватил вполголоса:
Я вернусь, в дыму сражений я вернусь с песнями победы, которые я принесу оттуда.За серым дощатым забором виднелась колючая проволока, сторожевая вышка со скучающим часовым, поникшие под тяжелыми снеговыми шапками ветви сосен, а вокруг – блестяще-искристый белоснежный ковер. А перед их глазами стояла рыжая пустыня, камни, нищие деревушки, отделенные одна от другой перевалами. Жаркое испанское солнце, тяжелый, удушливый зной, шеренги испанских добровольцев и фалангистов. Испания…
Шепотом пели уже на испанском.
Resuenan los tambores, Europa rompe albores, aligerando nubes con nuestro caminar. Con humo de combate yo retornaré, con cantos y paisajes que de allÍ traeré.Помолчали, вспоминая каждый свое.
– Вы хорошо говорите на испанском, Андрей Петрович.
Рябушинский рассмеялся горько:
– Конечно. Я же не Гриша Кулик, который за год войны в Испании так и не выучил ни одного слова.
– Гриша Кулик?.. Он же генерал Купер? Военный советник командующего Мадридским фронтом Хосе Миаха?
– Он самый. Ни дна ему, ни покрышки.
Костенко хорошо знал Рябушинского и был уверен, что он не побежит с докладом к куму. Поэтому сказал то, что думал:
– Ты знаешь… зайца можно бесконечно учить игре на флейте, но музыкантом он все равно не станет. И конюха тоже можно бесконечно учить военной науке, но полководцем ему не стать. Ни-ко-гда. Ладно, пойдем, вон уже старшина по нашу душу бежит.
Послышался задыхающийся от быстрого бега матерок Скоробогатько.
Всех шестерых подняли на второй этаж, старшина доложил и вышел. Зэки стояли у стены, перед письменным столом начальника лагпункта. Майор Карпов сидел в своем кресле под портретом товарища Сталина и молчал. Он явно не знал, как себя вести. Только что ему доставили срочный пакет с распоряжением срочно подготовить к этапу: Сизова, Костенко, Ясуловича, Мильштейна, Рябушинского, Арсеньева. Одеть по сезону, строго соблюдать соцзаконность.
Шестым чувством старого чекиста Карпов догадывался, что для этих шести подул ветер перемен. Может быть, отыскались высокие покровители, может быть, понадобились для участия в каком-нибудь процессе. В любом случае они вряд ли уже вернутся обратно, и не исключено, что кто-нибудь из них не заедет обратно в свои высокие кабинеты.
Карпов откашлялся, вытер лицо скомканным носовым платком. Несмотря на апрельский холод, в кабинете начальника стояла жара. Снег, налипший на зэковскую обувь, растаял, превратившись в грязные лужицы. Карпов поморщился, его красное обветренное лицо стало почти багровым, запоздало бросил:
– Садитесь, товарищи!
Широким жестом протянул распечатанную коробку «Казбека». Это его вырвавшееся «товарищи», папиросы, уважительное отношение потрясли зэков. Все молчали, не решаясь закурить. Карпов снова откашлялся, вышел из-за стола, стал прохаживаться по кабинету, скрипя хромовыми сапогами.
– Приказано отправить вас всех на Большую землю, оттуда в Москву. Через три часа будет самолет, а сейчас баня. Это все, что я могу вам сказать. Но скажу больше, чем имею право. Думаю, что и вы тоже понадобились Родине, отсюда и такая спешка. На прощанье скажу: не держите на сердце худого, каждый из нас делает свое дело, то, что ему положено по закону. Волк ворует, собака лает, охотник стреляет. Извините, если что-то было не так.
Впервые за последние два года Алексей мылся в бане не торопясь. Он намыливал голову серым хозяйственным мылом и с замиранием в сердце спрашивал себя: «Неужели кончилась проклятая тюремная жизнь?»
Костенко вспомнил свой первый день в лагере. Весь этап тогда сразу загнали в баню. Помывочный зал кишел голыми татуированными телами. Он набрал в таз воды, закрыл глаза, намыливая голову, но когда решил смыть мыло, оказалось, что тазика нет, его уже украли. Хромовые сапоги сперли еще во время этапа. Вспомнил, в пересыльной камере дрался с урками, укравшими его мешок с вещами. Его бы зарезали ночью, если бы через час после драки не выдернули на этап.
В лагере Костенко увидел всю глубину падения человека. Странная проявлялась закономерность: чем храбрее и отчаяннее был человек в прошлой жизни, чем выше он занимал должность, тем тише и боязливее он вел себя в лагере. Люди, которые еще совсем недавно были директорами крупных заводов, военачальниками, партийными руководителями, ломались, не выдержав голода и непосильной работы. Некоторые начинали шестерить уркам, стирали им белье, вкалывали за них на повале. И ругались, дрались между собой, отстаивая свои партийные догмы, доказывая преданность коммунистическим идеалам. Это было страшно: голодные и усталые люди, сидя и лежа на вонючих от мочи матрасах, яростно спорили о том, кто из них более предан революции, забывая о том, что они все обречены на одинаковую судьбу.
Секретарь Выборгского райкома комсомола Горюнов, опущенный еще на пересылке и окрещенный женским именем Ленка, сипел, брызгая слюной откуда-то из дальнего петушиного угла:
– Партия не допустит того, чтобы мы, ее верные бойцы, оставались в стороне при обострении классовой борьбы. Мы виноваты перед ней тем, что либеральничали с троцкистскими выблядками, вместо того чтобы каленым железом выжечь этот гнойник на своем теле.
Блатные, наигравшись в карты, хохотали, наблюдая этот театр, мужики храпели, наработавшись и намаявшись за день. Старый вор Миша Крендель смотрел на происходящее поверх своих очков и укоризненно качал головой:
– Что делают революционеры проклятые?! Довели до ручки Россию-матушку, теперь вот уже педерасты рвутся к власти и кричат: «Мало мы вашей кровушки попили, хотим поболе».
Алексей Костенко не принимал участия в этих словесных баталиях. Он хотел только одного – не опуститься до уровня Горюнова, не стать шестеркой, а если суждено, то принять смерть достойно.
Выйдя в предбанник, они переоделись в новое белье, чистое солдатское обмундирование, валенки, полушубки. Всем выдали по пачке папирос. До аэродрома их везли в холодном грузовике, с натянутым тентом. В кабине машины сидел незнакомый лейтенант с хмурым обветренным лицом. В кузове по краям бортов уселись двое красноармейцев, с винтовками.
– Ну вот, только вышли за ворота, и уже опять охрана, – невесело заметил Мильштейн.
– А кто тебе сказал, что ты вышел из лагеря, – тут же сцепился с ним Арсеньев. – Вся наша жизнь как раз и есть настоящий лагерь, сначала детский сад, потом школа, армия, тюрьма… Везде ходим строем, по команде голосуем за и против.
Комдив Рябушинский не дал разгореться спору, властно приказал:
– А ну прекратить разговорчики, а то из-за ваших языков все сейчас обратно по своим баракам пойдем, разбазарились, как бабы.
Все точно по команде потянулись за папиросами. Красноармейцы не обращали на них внимания. Один дремал, подняв воротник полушубка и зажав между ног винтовку, другой чему-то улыбался, глядя на убегающую из-под машины заснеженную дорогу.
На аэродроме их уже ждал военный транспортный самолет, несколько красноармейцев грузили в него какие-то ящики. Хмурый лейтенант передал пакет с документами капитану госбезопасности, наблюдавшему за погрузкой. Козырнув, лейтенант укатил на доставившем их грузовике. В самолет кроме них забрались двое солдат, но уже не с винтовками, а с автоматами, капитан, принявший дела, и моложавый майор, который, судя по всему, был здесь старшим. Все расселись на ящиках. В самолете воняло бензином, и одного из солдат постоянно укачивало. Зеленый от подступающей тошноты, он сглатывал набегающую слюну, опасливо косясь в сторону майора. Завернувшись в полушубок и привалившись к вибрирующей стенке самолета, Костенко задремал, не обращая внимания на болтанку и воздушные ямы. Потом была дозаправка горючим на каком-то заснеженном аэродроме. Снова ровный и монотонный гул моторов.
Через несколько часов кто-то произнес – Москва. Пассажиры прилипли к иллюминаторам, но это была еще не столица. Самолет сделал круг и пошел на посадку. Приземлились они на одном из подмосковных аэродромов, у взлетной полосы уже стояли две черные «эмки».
С аэродрома их доставили на гарнизонную гауптвахту. Несмотря на поздний час, всех накормили горячим ужином, развели по комнатам для комсостава. В каждой комнате стояло по две солдатских кровати, застеленных белыми простынями, тумбочки, стол, большое зеркало. Засыпая, Алексей подумал, что, когда ехали по ночным улицам, не было видно привычных московских огней. Город жил в военном режиме, соблюдая светомаскировку. Но заснуть ему не дали, пришел радостный, возбужденный Рябушинский, присел на кровать:
– Алексей, а ведь живем! Я так думаю, что еще и повоюем. Веришь, до последней минуты не был уверен, что вырвались из этого ада. А теперь вижу, что самое страшное уже позади. Лешка! Нам поверили, значит, скоро снова будем бить фашистских гадов. Четыре года я каждый день и каждую ночь думал об этом. Пусть дают хоть полк, хоть батальон, роту, зубами буду рвать гадов, как в Испании.
Костенко нарочито зевнул:
– Я вам рекомендую пойти спать, Андрей Петрович. Думаю, что завтра у всех будет трудный день, и советую хорошо к нему подготовиться. Мне кажется, что если мы даже и вырвались из лагеря, нам будет ничуть не легче, чем прежде.
Рябушинский обиделся, вскочил с кровати и ушел в свою комнату, рассерженно стуча каблуками. Лежавший в углу Мильштейн подал голос:
– Зря вы так с Андреем Петровичем, он человек искренний, говорит то, что на сердце. В свое время именно за это и пострадал. А уж того, что на допросах перенес, это не каждый вынести сможет. Следователи пальцы дверями ломали, спать не давали, зубы напильником стачивали, стулья на голове ломали, но все выдержал, ничего не подписал и никого за собой не потянул. Может быть, это упорство спасло тех, кто сейчас врага бьет.
Костенко сделал вид, что спит. Мильштейн еще долго что-то шептал, но он не слышал. Глядя в зарешеченное окно на холодные московские звезды, Алексей сцепил зубы, чтобы не закричать и не заплакать от запоздалого страха:
– Господи, я ведь вернулся почти с того света.
Утро началось со звонка будильника. После завтрака вместе с сержантом госбезопасности пришел старик-портной в очках с толстыми стеклами и портняжным метром.
Не задавая лишних вопросов, он обмерил грудь, рост, талию, записал все в толстую дерматиновую тетрадь. Сержант выдал каждому по пачке «Казбека». Арсеньев не удержался и здесь. Едко заметил:
– Наша ценность возрастает с каждым днем, вчера курили Беломор, сегодня Казбек, не исключено, что завтра нам будут давать уже «Герцеговину-Флор».
Рябушинский резко оборвал его:
– Не исключено, что с таким настроением ты очень скоро будешь опять выпрашивать у блатных закрутку махорки.
Все сделали вид, что не заметили ссоры. Уже после обеда привезли новую форму. Алексей расправил перед зеркалом складки под портупеей. Из зеркала на него смотрело чужое, но страшно знакомое лицо, с посеребренными висками и упрямой складкой у рта.
Вечером привезли парикмахера, он постриг и побрил Костенко, побрызгал на него «Шипром», улыбнулся, оставшись доволен своей работой. Алексей прикрыв глаза оставался сидеть в кресле. Давно уже забытый запах одеколона, щелканье ножниц растревожили сердце. Неожиданно стало страшно от чувства, что это лишь сон, и ощущения близости пропасти. Костенко встал, одернул гимнастерку, кивком головы поблагодарил мастера.
С улицы донесся гудок машины. Появился тот же сержант, что привозил закройщика.
– Машина пришла, – сказал он.
Сержант проводил к машине, предупредительно приоткрыл заднюю дверь. «Эмка» мягко урчала мотором по непривычно тихим и пустым московским улицам, выхватывая светом фар серые стены домов, заснеженную дорогу, столбы фонарей. Автомобиль остановился у подъезда серого монолитного здания с множеством окон-бойниц. Наркомат обороны, Главное политуправление.
Сопровождавший предъявил охране пропуск, провел в здание. Несмотря на поздний час, в управлении шла работа. Стрекотали пишущие машинки, по коридорам сновали люди в военной форме.
Дежурный офицер проводил Костенко в приемную представителя Ставки Верховного. Здесь в напряженном ожидании сидели несколько генералов и полковников. Стояла звенящая, напряженная тишина – лишь было слышно, как одышливо свистят легкие тучного полковника в соседнем кресле.
Просидели в приемной около двух часов. Адъютант представителя Ставки, высокий и вышколенный, в блестящих как зеркало сапогах приглашал ожидающих в кабинет.
Тот, чью фамилию называли, испуганно вскакивал, одергивал складки кителя и скрывался за дверью. Все сидящие в приемной военные были в больших чинах, солидные, далеко не молодые, но сейчас напоминали провинившихся школьников, вызванных к директору школы. Из кабинета они выскакивали раскрасневшимися или, наоборот, побледневшими, как после хорошего нагоняя.
Подошла очередь Алексея Костенко.
– Костенко, пройдите, – сказал адъютант, открывая белую дверь.
Строевым шагом Алексей зашел в кабинет, застыл на мягком ковре. В полуосвещенном кабинете, за большим письменным столом сидел невысокий чернявый человек с растрепанными жесткими волосами. Электрический свет настольной лампы бросал на его лицо серую тень. Представитель Ставки был худощав, казался темным, мрачным, усталым. Зловеще чернели мешки под его глазами. Сопровождающий офицер бесшумно исчез, плотно прикрыв за собой дверь. Алексей вытянулся, щелкнул каблуками:
– Товарищ армейский комиссар 1-го ранга, осужденный по статье 58 УК РСФСР Алексей Костенко по вашему приказанию прибыл.
Армейский комиссар нахмурился, просверлил пронзительным взглядом, резко бросил:
– То, что вы еще можете шутить, это хорошо, Алексей Петрович. Значит, дух ваш не сломлен и вы не держите обиды на Советскую власть. Нам как раз такие люди и нужны. – Его голос был резким, отрывистым. – Должен вас поправить, представляться следует не осужденный, а подполковник Костенко. Тем более что мы с вами хорошо знакомы. Вы служили у меня в 46-й дивизии. Но здесь вы не по случаю нашего знакомства, а потому, что приговор по вашему делу отменен. Вы восстановлены на службе и в партии. Нам предстоят тяжелые бои на Юге и на Кавказе. А вы зарекомендовали себя храбрым и думающим командиром. Сейчас вы поступаете в распоряжение Инспекции пехоты РККА. С сегодняшнего дня назначены ответственным представителем Главного управления формирования и укомплектования РККА на Южном фронте. Потом будет видно, на какой участок вас необходимо направить. Сегодня ночью вы отправляетесь на фронт.
Нажал кнопку звонка. В кабинет мягко вошел полковник.
– Вот этот, – представитель Ставки кивнул головой в сторону вошедшего, – подготовит вам документы и все необходимое. Вы свободны!
* * *
По пыльной дороге шла пехота. Красноармейцы шли – как и положено пехоте – тяжелой и натруженной поступью пахарей войны; две редкие цепи – по обеим сторонам шоссе. Было видно, что все устали, еле тянут ноги и мечтают только об одном: свалиться, разуться, вытянуться на земле и закрыть глаза. У некоторых в руках были шляпки подсолнухов, и бойцы на ходу пережевывали сладковатую кашицу, пытаясь заглушить жажду и голод. Солнце висело над головой, выжигая все живое.
– Подтянуться!
– Не курить!
Подполковник Костенко, прищурившись, молча смотрел на двигавшуюся мимо колонну. Выгоревшие просоленные потом гимнастерки, засаленные пилотки, черные, обожженные солнцем лица. Разномастная обувь – сапоги и ботинки с обмотками, и даже гражданские штиблеты. Обвешанные скатками, подсумками, саперными лопатками, молча и сосредоточенно они обтекали одиноко стоявшую машину.
Младший политрук Давид Злотник, близоруко щурясь сквозь круглые очки в железной оправе, торопливо строчил в своем блокноте:
«Поднялись сыны тихого Дона, Кубани и Терека на защиту своей Родины. Было у старого казака Грачева Михаила Федосеевича из станицы Родниковской шестеро сыновей: Василий, Герасим, Иван, Михаил, Петр и Тимофей. Он построил их под густой кроной шелковицы, словно для присяги, и сказал:
– Вы надежда и защита нашего советского народа и земли нашей. Идите и бейте врага-супостата без жалости, насмерть, а обороняться придется, так и обороняйтесь насмерть. И еще помните: ждем мы вас с матерью всех домой только героями. Не было еще в нашем роду Грачевых трусов и не должно быть!
Благословила своих сынов и мать, Аксинья Григорьевна. Старый казак несколько дней ходил задумчивый. Чуяло женское сердце, к чему это. Потом собрал Михаил Федосеевич вещевой мешок, наскоро обнял жену и, отводя ставшие вдруг влажными глаза, чуть слышно сказал:
– Не к лицу казаку, отцу шестерых сынов, сидеть на печи. Не горюй, мать! Прогоним фашиста и вернемся домой с победой!»
Давид Злотник удовлетворенно поставил точку. Перечитал еще раз, очерк ему очень понравился. Убрал блокнот в планшетку. Два дня назад он, военный корреспондент дивизионной газеты «За Родину», прибыл в Краснодар, где его с группой корреспондентов в кабинете секретаря горкома партии принял первый красный маршал Семен Буденный, настоятельно порекомендовавший побывать на передовой и в казачьих станицах.
– Напишите, товарищи военные корреспонденты, о том, как дерутся с врагом наши советские казаки! – Семен Михайлович пригладил свои пышные усы. – А дерутся они геройски! Очень важно опровергнуть пущенный фашистами слух о том, будто казачество ненавидит советскую власть и собирается встретить гитлеровцев хлебом-солью.
Водитель в почерневшей от пота гимнастерке копался под капотом полуторки ГАЗ-ММ, матерился сквозь зубы.
Костенко, затянутый в ремни портупеи, стоял у подножки кабины. Солнце нещадно слепило ему глаза. Прищурившись, он смотрел на увлеченно строчащего в своем блокноте журналиста и думал:
«Вот подлючее журналистское племя. Сидят большей частью в тылу, кропают свои героические очерки и получают за них звания, ордена. А после войны пишут книжки, из которых становится понятно, что победили благодаря не солдату в обмотках, а только им. Так было в Испании, так и в России. Наверно, то же самое и у немцев».
По широкой степной дороге, называемой шляхом, показался ЗИС-5 с бойцами. Машина съехала на обочину и остановилась рядом с Костенко. Грузовик обдал запахом выхлопных газов, жаром мотора. Дверь кабины открылась, на подножке встал командир. Форма на нем была запыленная, серое уставшее лицо. Командир поправил фуражку, вскинул к виску руку, сжатую в горсть, качнув ею возле головы, резко выбросил из горсти пальцы.
– Товарищи офицеры, попрошу предъявить документы!
Костенко козырнул в ответ, задержал руку виска, внимательно рассматривая младшего лейтенанта. На темном от загара мальчишеском лице с ввалившимися щеками выделялись выгоревшие брови. На потемневшем от пота воротнике гимнастерки топорщились выцветшие петлицы с матерчатыми кубиками.
– Вы говорите со старшим по званию. Я подполковник Костенко. Кто вы? Представьтесь.
Младший лейтенант достал из нагрудного кармана удостоверение, развернул его и, протягивая левой рукой, еще раз устало козырнул:
– Младший лейтенант Спицын. Командир заградительного взвода 383-й стрелковой дивизии. Прошу предъявить документы, товарищ подполковник.
Красноармейцы из кузова смотрели на них веселыми детскими глазами.
Прочтя удостоверение, Костенко протянул свои документы.
– Ищу хозяйство Иванова.
– Это рядом. Можем захватить с собой, чтобы вам не бить ноги.
– Благодарю.
– Садитесь в кабину, а я в кузов к бойцам. Пусть обдует на ветерке, иначе засну. Двое суток не спавши, все диверсантов ловим, будь они неладны.
– Товарищ подполковник, а я? – закричал младший политрук.
– Садитесь в кузов. Проверьте оружие, рядом могут быть немцы.
Политрук, близоруко щурясь, вынул из кобуры наган. Зачем-то прокрутил барабан. Младший лейтенант покосился на него, осторожно отодвинулся от направленного ствола. Политрук неловко засунул револьвер в кобуру.
Шофер машины молча крутил баранку, бросал косые взгляды на сидящего рядом подполковника. Наконец не выдержал, спросил:
– Вы из госпиталя, товарищ подполковник?
– Нет. С чего ты решил?
– Лицо у вас белое. Незагорелое. Мы-то все уже как вобла копченая.
– Я на Севере служил. Там солнца мало.
– А я местный рожак, из станицы Ивановской. Передерий моя фамилия. В колхозе на тракторе работал. Сейчас вот шоферю.
Больше водитель не проронил ни слова. Перед поездкой он заскочил в дом своего кума Петра и наскоро опрокинул у него полстакана самогона, закусил хлебцем с луковицей и сальцем. Ему было неудобно от того, что командир в машине наверное сидел голодный, а от его дыхания в кабине висел густой сивушно-луковичный перегар. Водитель хмуро и виновато посматривал в висящее перед ним зеркало заднего вида, и в нем прыгали седые виски и усталые глаза подполковника.
Сначала сбоку от дороги шли колхозные поля с перелесками. Сплошная зелень была во многих местах перерезана то широкими, то узкими рыжими отвалами земли: по обеим сторонам шоссе местные жители рыли противотанковые рвы и окопы. Почти все работавшие были в гражданской одежде. Только иногда среди рубах и платков мелькали гимнастерки распоряжавшихся работами саперов.
Потом ЗИС въехал в яблоневые сады. И сразу кругом стало безлюдно и тихо. Над дорогой несколько раз прошли пара «мессершмиттов». Деревья стояли вплотную к шоссе, закрывая небо, и самолеты, стремительно выскочив из-за верхушек деревьев, промчались на бреющем полете над дорогой и стремительно ушли к линии горизонта, мгновенно превратившись в черные точки.
Костенко вытер ладонью холодный пот на лбу. Водитель сплюнул в открытое окно:
– С-сссуки! Как дома себя чувствуют!
Дальше ехали молча. Проехали еще несколько километров. На пересечении с узкой, уходящей просекой дорогу грузовику преградили три всадника в кубанках, в накинутых на плечи бурках. Старший, рыжеусый, судя по говору – кубанец, перевесился с седла, заглянул в кабину.
– Хто вы е? Куды прямуетэ?
В кузове встал младший лейтенант Спицын. Поправил ремни портупеи.
– Это что за махновцы? Кто старший?
– Мы – дозор войсковой группы. Старший дозора старшина Нечипорук.
– Возьмете с собой подполковника Костенко.
– Его и ждем. Гриша, дай Орлика товарищу подполковнику.
Алексей привычно и ловко, как в молодости, почти не касаясь луки и гривы, вскинул в седло свое сухощавое тело, поправляя портупею, сказал:
– Ведите, старшина. Показывайте дорогу. – Обернулся к машине. – Вам удачи, младший лейтенант. А ты, красноармеец Передерий, как следует чини машину. Чтобы до Берлина без поломок!
Через час благополучно добрались до первого «секрета», дозор остановили вооруженные пулеметами бойцы.
Дивизия глубоко зарылась в землю. Оборудовались противотанковые опорные пункты, устанавливались минные поля и проволочные заграждения. В ротах и батальонах создавались группы истребителей танков, вооруженные связками гранат, бутылками с горючей смесью, дымовыми шашками.
До командного пункта дивизии было километра три, большую часть в гору. Дорога в гору была завалена осыпями камней.
Уже перед самой темнотой Алексей Костенко добрался до места. Штаб размещался в нескольких домиках, приткнувшихся к плоскому каменному отвесу огромной скалы. Она являлась здесь господствующей высотой, и все называли ее «зубцом». Наверху этой скалы, в разных местах располагались наблюдательные пункты командира артиллерийского полка и один из наблюдательных пунктов командира дивизии.
Дивизией командовал старый знакомый Рябушинский.
Высокий жилистый подполковник, начальник штаба дивизии сидел за столом перед картой, рисуя и чертя на ней стрелки.
Подполковник оторвался на несколько секунд, чтобы вежливо, но очень коротко приветствовать Костенко, и сейчас же снова стал колдовать над своей картой.
Рябушинский пожал Алексею руку.
Костенко кивнул головой на шпалы в его петлицах.
– Что ж, Андрей Петрович, все еще не генерал?
Комдив засмеялся:
– Так и ты, Алексей, тоже не полковник. Сам знаешь, таким как мы, меченым, с оглядкой звания и ордена дают. Впрочем, это уже не важно. Не за звания воюем, за Родину.
Рябушинский закурил и, прикрывая ладонью папироску, стал рассказывать о дивизии, о том, как зенитчики сегодня сбили самолет. Он был полон впечатлений и, все более оживляясь, становился таким молодым и задорным, что Костенко никогда бы не подумал о том, что еще несколько месяцев назад шел с ним одним зэковским этапом.
На черном небе ночью высыпали крупные южные звезды. Костенко вспомнил, что в его прошлой жизни, на Колыме, звезды были мелкие и тусклые, словно замерзшие.
Силами семи пехотных и одной моторизованной дивизии 17-й армии Рихарда Руоффа немцы нанесли удар по Краснодару и захватили город. Были захвачены Ейск и Майкоп. Оккупированы районы: Ейский, Камышеватский, Пашковский, Ярославский, Упорненский.
По позициям дивизии ударили немецкие самолеты. После того как авиабомбы перепахали линию обороны танковые клинья стали резать ее на ломти. В окружение попали три полка. Всюду наблюдались пожары и взрывы, горело все, даже железо. Сама земля стала неузнаваема – покрылась какими-то лишаями, язвами, болячками. Там, где были позиции, все перепахано снарядами, опалено огнем. Догорал танковый батальон. Рвался боезапас в танках, скособоченно стояли брошенные орудия, всюду там и сям на земле виднелись обугленные бугорки сгоревших танкистов.
На штаб дивизии немцы сбросили немецкий десант. Совсем рядом затрещали автоматные очереди, началась винтовочная трескотня. Дверь рванулась, ворвался адъютант:
– Товарищ комдив!.. Там…
Глаза его растерянно бегали, ни на ком не останавливаясь. Офицеры смотрели на него. И, оробев под взглядами, адъютант совсем тихо закончил:
– Немцы на наш штаб десант сбросили.
Рябушинский, стягивая с околыша ремешок фуражки и затягивая его под подбородком, спросил:
– Сколько человек?
– Около батальона, товарищ комдив.
Глядя Костенко в глаза, Рябушинский сказал:
– Я не могу тебе приказывать, Леша, но во имя нашей старой дружбы прошу… – Вытащил из кобуры ТТ. – Бери знамя, трех бойцов. Заводи машину и уходи. Ты совершишь подвиг, если спасешь знамя дивизии. Даже если мы все поляжем здесь, – он махнул рукой. – Если будет живо знамя, то жива и дивизия. Никто не скажет, что мы струсили. Понял задачу?
Костенко махнул головой.
Рябушинский коротко обнял его, тут же отстранился, бросил начальнику штаба:
– Соберите всех офицеров штаба, охрану, поваров, вообще всех, кого сможете.
Начальник штаба встал перед ним.
– Не дури, Андрей Петрович. Отходите со знаменем. Мы вас прикроем.
Комдив оттолкнул его в сторону.
– Прочь! – закричал он, наливаясь яростью и злобой.
Перед штабом уже шла стрельба. Раздавались взрывы – немцы вели обстрел из ротных минометов.
Рябушинский шагнул за порог. «Только не тюрьма и не плен!» – успел подумать он.
– Впер-рррред!
Он шел в полный рост, сжимая в руке пистолет, бесстрашный, как в молодости, и знал, что в тюрьму уже больше никогда не попадет.
– Впере-ед!.. Ура-ааааа!
– Вперед!
Комдив побежал и, не поворачивая головы, чувствовал, что бегут рядом бойцы. В этот момент по ним ударили немецкие пулеметы. Что-то сильно толкнуло Рябушинского в бедро. По инерции он еще сделал несколько шагов, но почти одновременно почувствовал удары в плечо и грудь. Комдив словно споткнулся, повернулся боком и медленно упал на горячую пыльную землю.
Его мечта сбылась – он умер свободным.
Подполковник Костенко обмотал знамя вокруг своего тела. Метров пятьсот пришлось ползти по-пластунски под обстрелом. Следом за ним ползли автоматчики. У дороги наткнулись на несколько автомашин с пробитыми скатами. Бойцам удалось завести одну из них. Завывал перегретый двигатель полуторки, хлопали простреленные скаты, тошнотворно пахло горящей резиной.
Навстречу промчалось несколько грузовиков. В последнем, до пояса высунувшись из кабины, какой-то встрепанный человек без пилотки громко кричал:
– Там танки, танки-иии! Окружили!
«Не может быть, – подумал Алексей. – Откуда здесь танки?»
Не успел он приказать разворачиваться, как прямо на дороге один за другим начали рваться снаряды. Дорога вскипела воронками взрывов. Шофер, не ожидая приказаний, стал резко выворачивать руль. Скрипя зубами, он вперемешку с матюками выкрикивал:
– В гробину… душу мать! Попали… Немцы!
Но вдруг взрывная волна приподняла машину и опрокинула ее навзничь.
Стояла глухая тишина. Ни воя моторов, ни лязга гусениц, ни грохота разрывов, ни человеческих голосов.
Костенко очнулся от боли. Она током пронзила все тело. Его трогали руками какие-то люди. Может быть, фашисты? Рука потянулась к кобуре. Но послышалась русская речь. Он открыл глаза, увидел рядом бойцов в гимнастерках! С ними был военный корреспондент. Его очки разбились, на небритом лице остались одни близорукие глаза.
Сильно болела грудь, было трудно дышать. Из порванного сапога сочилась кровь. Кто-то из бойцов ножом сверху вниз распорол голенище сапога. Бриджи набухли кровью. Не сожалея вспороли и их. Крупный осколок пробил голень, задел кость. Рана покрылась кровяной коркой. Перетянули голень ремнем.
Группой командовал уже немолодой старшина с четырьмя эмалевыми треугольниками на петлицах. Он отдавал толковые распоряжения, группа подчинялась.
Младший политрук склонился над Костенко.
– Товарищ подполковник, у вас на груди кровь. Надо перевязать!
Костенко прохрипел:
– Потом… у меня под гимнастеркой знамя дивизии. Положи на рану под гимнастерку какую-нибудь тряпку. Будь рядом. Если помру, знамя понесешь ты. Командовать группой будет старшина. – Набираясь сил, молча смотрел снизу вверх, потом сделал короткое, слабое движение лежавшими на шинели белыми пальцами.
– Подойдите, – сказал корреспондент старшине. – Зовет.
Старшина наклонился, и Алексей, прикусив от боли губу, шепотом сказал ему что-то, что тот не сразу расслышал. Поняв это по его глазам, Костенко до пояса расстегнул гимнастерку, и бойцы увидели тяжелый, пропитанный кровью бархат с вышитыми золотом буквами: «…6-я Крас…»
– Командуй, старшина… Спасай знамя и выводи людей.
Старшина кивнул бойцам, двое из них из досок полуторки и шинелей слепили что-то наподобие носилок и, меняясь, по очереди понесли подполковника с собой. Он то терял сознание, то, очнувшись, смотрел на плывущие над ним облака, на черный от грязи и пыли бинт, которым была обмотана шея впереди идущего бойца. Мысли то неслись вперед, то замирали, и тогда казалось, что каждую минуту повторяется то, что уже было. Что время течет медленно… очень медленно. На несколько секунд он терял сознание и придя в себя испуганно вздрагивал, сжимая рукой пистолет. ТТ все время лежал у него на груди.
Младший политрук шел рядом.
Нести подполковника на самодельных носилках было страшно неудобно. Несколько раз его чуть не уронили. Рана на груди снова начала кровоточить.
– Ничего, ничего, – успокаивал старшина, – потерпите, товарищ подполковник. Скоро наши, там врачи.
Всюду развороченная земля, воронки от бомб, на земле изуродованные трупы красноармейцев, возле них обгорелые стволы винтовок и остатки солдатских лопат.
Перед рассветом вышли к Кубани.
Подходя к переправе, увидели, что на берегу творится что-то непонятное. Крики, ругань, выстрелы.
Переправой командовал майор в запыленной гимнастерке и сапогах. На поясе висела потертая кобура с ТТ. Он что-то кричал сорванным голосом и размахивал кулаками. За его спиной ощетинилась цепь бойцов с примкнутыми штыками. По сторонам от дороги стояло несколько пулеметов, нацеленных стволами на приближающихся бойцов.
У переправы стояли несколько полуторок и запряженных телег с ранеными красноармейцами.
Подойдя ближе, бойцы услышали сорванный хрип майора:
– Всем стоять. Мать вашу перемать! Кто может держать оружие, остаются на этом берегу. Сюда уже рвутся немецкие танки. Эвакуируем только раненых.
Переправа шла медленно; притащенный из соседнего колхоза второй паром оказался дырявым, с гнилым канатом, который рвался каждые полчаса. Саперы работали без устали. Срастили второй канат, заделали отверстие, и перевозка ускорилась.
Младший политрук с наганом в руках подбежал к майору.
– Товарищ майор, я военный корреспондент газеты «За Родину» младший политрук Злотник. Сопровождаю представителя Ставки подполковника Костенко. У него знамя части. Надо как можно скорее отправить его в тыл.
– Подполковника в машину с ранеными. Все остальные в оборону.
– Но я не могу бросить раненого старшего командира со знаменем дивизии.
Майор махнул рукой.
Подполковника Костенко, завернутого в шинель, кое-как уложили у борта, в кузов машины. Рядом с ним села медсестра с каким-то детским, жалобным лицом.
Младший политрук с наганом в руках вскочил на подножку, близоруко озираясь по сторонам.
* * *
На разбитых и пыльных степных дорогах день и ночь грохотали танки немецкой группы армий «A». Серым облаком катилась пыль, за ней двигались ряды пехоты, машины, пушки. А по обочинам дорог колыхались волны желтой высокой пшеницы. По ночам горели подожженные колхозные поля. Полыхало багровое зарево пожаров. На многие версты пахло паленым хлебом, и этот запах кружил, дурманил головы.
В последних числах июля, когда выжженная солнцем степь изнывала от зноя, горнострелковый разведывательный отряд, шедший во главе 4-й горнострелковой дивизии вермахта, вышел к станице Кущевской.
Первая немецкая атака была отбита огнем советских войск. Но немецкое командование во что бы то ни стало решило захватить и использовать для дальнейшего наступления перспективный плацдарм.
Утром 31 июля пехота вермахта начала наступление на позиции 12-й Кубанской и 116-й Донской кавалерийских дивизий, оборонявших станицы Шкуринскую и Канеловскую. Казаки перешли в контратаки и сумели отбросить противника, но соседняя 18-я армия дрогнула и начала отступать. 31 июля входившая в ее состав 216-я стрелковая дивизия оставила Кущевскую. С наступлением ночи 15-я кавалерийская дивизия попыталась выбить противника из станицы, но не смогла. Тогда-то командование и решило ввести в бой 13-ю казачью кавалерийскую дивизию полковника Бориса Степановича Миллерова, входившую в состав 17-го Кубанского казачьего корпуса. Корпус был сформирован из жителей Краснодарского края.
Ночью казаки переместились в высокие заросли кукурузы и подсолнухов, заняли исходное положение для атаки. Рыжела выжженная солнцем земля. Тянулись по небу бледные прозрачные облака. На зорьке выслали разведчиков. Трое пластунов скрылись в зарослях кукурузы. Через полчаса они вышли к ровному полю, заросшему травой. В бинокль были хорошо видны беленые казачьи хаты, скрытые фруктовыми садами. Где-то вдали подымался высокий журавль колодца. По пустой улице, покачивая ведрами на коромысле, прошла молодайка в белом платочке на голове.
Сержант Нефедов, закусив травинку, медленно переводил окуляры бинокля с хаты на хату.
– Вииииижу!
Из-за деревьев выглядывали хоботы танковых пушек. Вился дымок походных кухонь.
Разведчики вернулись, доложили – в станице стоят немцы. Готовятся к маршу.
Через час из станицы выдвинулась колонна грузовиков с пехотой. Впереди двигались мотоциклисты разведки и штабные машины.
Командир дивизии полковник Миллеров вызвал по рации штаб корпуса.
– Кипарис, это Береза… Ответь, прием!
– Береза, Кипарис на связи. Что у тебя, прием!
– Заняли позицию, оседлали дорогу, обзор на три километра вперед. Из станицы выдвигается немецкая механизированная группа, стоим, ждем.
– У них есть танки?
– Пока не вижу… Нет. Точно нет. Только грузовики с пехотой, бронемашины. До роты мотоциклистов.
– Твое решение?
– Атакуем лавой со стороны солнца. Заходим с правого фланга, по полю.
– Как ты без поддержки-то, Борис?
– Используем фактор внезапности. Немцы и опомниться не успеют. Порубим и отойдем.
– А если немцы подтянут танки или самоходки?
– На этот случай приготовил для них подарочек.
– Подарочек-то подарочком, но коробочки Орловской бригады тебя поддержат. Сейчас дам команду. Давай тогда вперед! Только не увлекайся чересчур, а то я тебя знаю. Все, конец связи.
Миллеров оглядел позиции.
Яркое утреннее солнце выкатилось из-за линии горизонта и медленно поднималось над стоящими и лежащими людьми.
– Васильев! Командиров полков ко мне. Срочно!
После получения приказа комдива майор Соколов построил свои эскадроны. Сказал коротко:
– Сейчас мы пойдем в атаку. Биться будем насмерть. Может случиться так, что погибнем все. Но если нам придется погибнуть, то умирать будем с казачьей удалью.
Командир полка еще молод, у него мальчишеские черты лица. А у рта уже тяжелые складки, и глаза взрослого, уже пожившего, много повидавшего в своей жизни человека. Большие, выпуклые, окруженные сеточкой морщин. Не отрываясь, словно прощаясь, долго смотрел на казаков. Знал, что многих видит в последний раз.
Перед атакой казаки сняли с себя все лишнее, что могло помешать в бою – котелки, саквы, плащ-палатки, лишнюю амуницию. Оставили только самое необходимое – оружие, патроны, примотали к прикладам карабинов пакеты с перевязочными бинтами.
Вытянули из ножен шашки. Освобожденная из ножен, жалобно и тонко взвизгнула сталь клинков.
В воздух взлетели три красных ракеты. Командиры полков подали команду: «Поэскадронно! Развернутым фронтом! Для атаки! Марш!»
Казачья лава, развернувшись на два километра по фронту и сверкая клинками, двинулась на немцев.
Поле вмиг запестрело разноцветьем казачьих черкесок, разномастьем скакунов. Над степью клубилась пыль, дрожала земля под ударами копыт. Бряцали клинки, громко фыркали и ржали кони. Вороной Соколова стлался в бешеном намете над горячей сухой землей. Его уши были плотно прижаты к голове, хвост вился по ветру черной лентой, тело напряжено так, что было видно, как под кожей дрожат мышцы.
Комполка на секунду отвел взгляд от ощетинившейся выстрелами колонны, оглянулся назад. Увидел за собой кричащую, визжащую, покрытую серой пылью пеструю лавину и закричал что-то неразборчивое, громкое, страшное, поднимающееся из самого нутра:
– А-а-а-а-а-а-а!..
Следом за конницей двинулась группа танков Орловской танковой бригады, приданная для поддержки атаки. Но уже через несколько минут танки отстали. Через некоторое время они остановились и отвернули в сторону.
Полковник Миллеров, увидев это, побледнел. Он знал, что сейчас несущуюся лаву перережет кинжальный огонь пулеметов, накроет волна осколков.
Но случилось чудо. То ли солнце ослепило наводчиков, то ли Господь на секунду прикрыл казаков своими ладонями, но немецкие пушки ударили с опозданием. И эта секундная задержка спасла многие жизни.
Лава перешла в галоп. И уже через мгновение казачью лаву накрыли разрывы пушек. Визжали над степью ротные минометы. Разрывалась под ногами земля.
Ротный немецкий 50-мм миномет – это страшное оружие. Вырвавшаяся из короткого ствола мина падала почти отвесно, и на месте взрыва оставалась лишь небольшая воронка, размером с десертную тарелку. Но ее осколки разлетались над самой землей и буквально сбривали все живое в радиусе семи-десяти метров. Такие минометы были в каждом пехотном взводе вермахта. Каждый делал до двадцати выстрелов в минуту.
Но конница шла в атаку с такой безрассудной бешеной яростью, что даже мертвые казаки не бросали шашек. Падали вместе с седоками казачьи кони. Но все ближе и ближе был враг. До него оставались считанные метры – сто… пятьдесят… десять.
Уже можно было разглядеть лица с той и другой стороны. Побелевшие от ненависти глаза, оскаленные в крике рты.
Первый ряд казаков врубился в немецкие порядки. Николай Калмыков, Бачир Бек-Оглы, Тихон Беззубченко, Рамазан Потоков, Тимофей Шевченко, Григорий Яворский, Аслан Тугуз, Хизир Дауров. Командир полка Иван Соколов ворвался в немецкую колонну с шашкой в каждой руке. Повод держал в зубах, управлял конем лишь одними шенкелями. Захлебываясь злобой и остервенением, бросал жеребца в орущую стреляющую кутерьму и, мгновенно выхватывая взглядом вражескую форму, крестил шашками налево и направо.
Рядом страшно ругался кто-то из казаков.
– В божину… в креста… сук-и-ииии их!
Взвизгивали клинки, со свистом рассекая воздух. Звучали выстрелы.
– Трах!.. Трах!..
Со звоном вылетали пустые гильзы. Зло ржали кони.
Лезла в глаза и глотку горькая степная пыль. Выжигала изнутри словно отвар полыни. А сверху палило проклятое солнце, и одинаково молили русский и немец: «Господи, за что?!»
– Руби! – слышался крик, и Соколов, не понимая, что кричит, сам бил, рубил, колол!
Рукояти шашек, потные и скользкие от крови, выскальзывали из рук. Лязг и стон висел над колонной, превратившейся в сплошной кусок окровавленного шевелящегося мяса, кричащего от боли.
Но Иван Соколов уже не видел, как дерется его полк. Шальная пуля ударила его в переносицу, и комполка медленно сползал с коня, запрокидываясь на бок. Жеребец под ним неожиданно взвился на дыбы и стал оседать на задние ноги.
После короткой и страшной стычки на поле остались лежать убитые казаки и немецкие солдаты. Там и сям валялись трупы лошадей, оружие, седла, разбитые мотоциклы.
На передних коленях стоял вороной жеребец командира полка. Поблескивающая серебром уздечка была оборвана, поводья болтались, седло сбилось на самую холку, а лопнувшие ремни нагрудника свисали до самой земли. Он тяжело поводил боками, хрипло с протягом дышал, издавая жалобные стоны. Под животом висели окровавленные кишки.
Какой-то казак в кубанке, с залитым кровью лицом лежал рядом с ним и безостановочно просил пить.
Казаки пришли в себя только возле пруда, затянутого зеленой ряской. Они жадно пили застоявшуюся, густую, пахнувшую тиной воду, черпая ее фуражками и кубанками, и из их глаз текли слезы. Никто не мог ничего с собой поделать. Старые казаки говорили, что так бывает всегда, когда в первый раз убьешь человека. Лица были в корке из пыли, пота, крови. На лошадях тоже была кровь.
Показалась группа всадников, впереди которой ехали командир дивизии полковник Миллеров и комиссар Борис Семенович Шипилов. Комиссар был очень возбужден. Поблескивали стекла очков в металлической оправе, в руке держал клинок, перепачканный засохшей кровью. Дрожа и захлебываясь, комиссар рассказывал о том, что только что зарубил семерых человек. Миллеров почти не слушал и смотрел влево вперед, в лесопосадку, где стояли танки, а у машин выстроились экипажи. Он был очень бледен, с осунувшимся худым лицом, глаза ввалились. Поравнявшись с танкистами, комдив остановил коня, спешился. Несколько мгновений он стоял под палящим солнцем, вытирая фуражкой серое от пыли лицо. Обметанные зноем губы вздрагивали.
Ткнув пальцем в сторону командира второго батальона, он скомандовал: «Майор, ко мне!»
Крепко сбитый крепыш в грязном промасленном комбинезоне сперва бегом, потом, четко печатая шаг, подскочил к Миллерову и взял под козырек: «Товарищ полковник… разрешите доложить… Я не смог…»
Миллеров его перебил: «Не смог?!. Ах ты!.. – Его лицо перекосилось. Трясущимися руками вырвал из кобуры пистолет и разрядил обойму в упор. Всем стало муторно. Экипажи с бледными лицами остались стоять навытяжку, но Миллеров проехал мимо, даже не взглянув в их сторону.
Никто даже в мыслях не осудил командира дивизии, законы войны суровы, и он поступил соответственно обстановке. Приказ танкистами не был выполнен, и кто-то должен был за это понести наказание. Был ли действительно виноват командир второго танкового батальона, или просто «попал под раздачу», этого никто не выяснял – на его месте мог быть любой.
Судьба распорядилась так, что за этот бой комбат-2 без суда и следствия получил в «награду» пулю в грудь и полное забвение, а командир первого танкового батальона капитан Березин – орден Красного Знамени на грудь.
Фамилию расстрелянного танкиста никто не запомнил. Да ее никто и не спрашивал. Много в те дни гибло красноармейцев, лейтенантов, капитанов, майоров. Всех разве упомнишь! Чьим-то родным написали в похоронке – «Погиб за Родину»! И за это спасибо. А кому-то – «Пропал без вести».
Примерно в то же самое время под Орлом обер-лейтенант Фридрих Хенфельд, командир самоходной артиллерийской батареи, по своей вине потерял три орудия, и они были захвачены советскими частями. Незадачливого офицера ждал приговор военного трибунала. Но командир 4-й дивизии генерал-майор Генрих Эбербах рассудил иначе. Он приказал офицеру отбить свои орудия. Обер-лейтенант был убит в бою через три дня, но умер героем.
Придя в себя, фашисты пустили на конницу танки. Взревели танковые моторы. Ощетинились взрывами стволы танковых пушек.
Осколком снаряда убило Бачира Бек-Оглы. Казак Мележиков на руках вынес из-под шквального огня тело своего политрука.
Когда до немецких танков оставалось всего 400 метров, командир конноартиллерийского дивизиона капитан Чекурда выкатил орудия из зарослей кукурузы.
– Орудия на прямую наводку. По танкам огонь!
Несколько машин вспыхнуло, остальные развернулись и, ведя стрельбу из орудий и пулеметов, пошли на батарею. Еще несколько танков вспыхнули факелами. Остальные через кукурузное поле двинулись назад и, забирая широким полукружием, вернулись в станицу. Пять немецких танков, воняя дымом и горелым мясом, остались стоять на поле. Рядом лежали тела убитых танкистов. На батарее перевязывали раненых.
Бой с танками – страшное дело. Обоюдно страшное.
Через полчаса, лязгая гусеницами и сотрясая землю, танки вновь пошли в атаку. Три раза Кущевская переходила из рук в руки. 216-я дивизия не оказала поддержки казакам. В итоге кавалерийский корпус отошел на исходные позиции. В ожесточенных августовских боях 1942 года и в результате Кущевской атаки казачьи части понесли тяжелые потери. Но эти смерти не были напрасными, атаки не были бессмысленными. 17-й кавалерийский корпус на четверо суток задержал наступление 17-й армии и отошел только по приказу командующего Северо-Кавказского фронта маршала Буденного.
За это время отступающие части Красной армии сумели привести себя в порядок, заняли новые оборонительные рубежи и вновь оказали сопротивление наступающему врагу.
За эти четверо суток Николай Байбаков, уполномоченный ГКО в Кавказском регионе, сумел уничтожить все нефтяные скважины и нефтеперерабатывающие предприятия. Вермахт не получил ни капли майкопской нефти.
* * *
9 августа 1942 года Красная армия оставила Краснодар и отошла на левый берег реки Кубани, в предгорье, к Горячему Ключу.
Полуторка, с прицепленной к кузову небольшой пушкой, пыля и скрипя тормозами, остановилась у переправы. Еще на ходу водитель выскочил из деревянной кабины, закричал от отчаяния. Прямо у него на глазах саперы взорвали переправу. До подхода немецких танков оставалось несколько минут.
Резко развернувшись, водитель дал газ, и машина рванула в сторону от переправы. Водитель выжимал из старого мотора все, что было можно. Машина с бешеной скоростью неслась по пыльной дороге.
Немецкая армия вошла на территорию Краснодарского края через северные станицы. Дойдя до Кущевской, немецкая колонны разделились. Одна вступила в бой, а другая колонна пошла прямиком на Шкуринскую и Канеловскую. На ее пути занял оборону спешно сформированный батальон, состоящий из добровольцев непризывного возраста, служивших в Красной армии еще во время Гражданской войны, и учеников 9 – 10 классов. Наспех переодетым в солдатское обмундирование, сыпанули им в пилотки по горсти патронов, дали одну винтовку на троих и послали в бой против немецких танков. Новобранцы просили оружие. Командир роты, из запаса, уже немолодой, высокий, сумрачный, молча вглядывался в их лица:
– Нету, хлопчики, нету, дорогие! Вот убьют кого, тогда и возьмете.
Обреченно махнул рукой и побежал командовать.
– Ну уж нет, – сказал себе Коля Протасов. – Я с голыми руками воевать не буду.
Выпросил у старшины гранату. Насколько мог заточил о подобранный где-то камень лезвие саперной лопаты. Проходящий мимо старшина долго смотрел на него, потом сказал:
– Вижу, сноровистый ты парень. Если не убьют, воевать хорошо будешь. Кто сноровке научил?
– Отец. Он еще в Гражданскую воевал.
– Понятно. Батька-то из казаков?
– Казак.
– Воюет?
– Воюет. Только где – не знаю. Ни одного письма.
– Ясно. Ладно, дам я тебе винтовку. Завалялась у меня одна. Пойдем со мной.
Винтовка оказалась без ремня, с побитым прикладом и налетом ржавчины на стволе. Коля раздобыл ружейное масло и любовно протирал затвор ветошью, добиваясь его свободного хода.
Кое-как окопавшись, новобранцы сидели в окопах притихшие, раздавленные.
В небе висело слепящее солнце. Серый коршун распластав крылья медленно парил над перекопанной землей, сидящими в окопах и ячейках красноармейцами, укрытыми стеблями кукурузы 47-мм пушками. К самому горизонту, насколько хватало глаз, уходила выжженная степь. Ветер раскачивал сухие будылья кукурузы и стебли горькой полыни. За рекой стояла тишина.
Старшина бережно и экономно курил самокрутку. Он знал цену последней затяжки перед боем. Последней минутки жизни.
– Мне-то што, – говорил он, – я уже пожил и повоевал, да и умирать приходилось. А вот вам придется… все… в первый раз. Я так думаю, что многим и в последний… Держитесь, хлопцы. Умирать не страшно.
Внезапно на дороге показалась полуторка. Машина мчалась по едва приметной дороге, затерявшейся среди выжженной степи. Ее трясло и мотало на ухабах грунтовой дороги, полуторка завывала перегретым мотором и скрипела рессорами.
– Танки!.. Тыща танков прорвалась! Окружили! – истошно орал из кабины водитель.
Комбат не раздумывал. Охрипшим голосом он закричал:
– Батальон! К бою! Командиры рот ко мне!
Политрук Орловский пошел по цепям, приказывая стоять насмерть.
Старшина Яшкин, начинавший воевать в 1915 году против немцев, а демобилизованный из Первой конной Буденного, только вздохнул:
– Семь винтовок на взвод… Конешно на смерть, товарищ комиссар.
Вернувшийся от комбата командир роты приказал старшине:
– Передайте по цепи. Огонь только по команде!
Старшина докурил. Бросил окурок и затоптал его сапогом. Передал:
– Жопы спрячьте, хлопчики. Стрелять только по команде или за мной.
* * *
Серо-коричневые танки T-3, поднимая облака пыли и почти не встречая нигде особого сопротивления, неслись по полевой дороге в направлении реки Кубань. Задача была простая: захватить и удержать до подхода основных сил переправу. Командир танковой группы майор Минх в пропыленном черном комбинезоне, остановил колонну. Он разглядывал в бинокль лежавшую перед ним бескрайнюю степь, окаймленную на горизонте редкими одиночными деревьями.
Рев двигателей, вздымающиеся вверх над пригорками облака желтоватой пыли.
Непонятная страна эта Россия. Жара здесь сменяется проливным дождем, дождь шквальным ветром, швыряющим пыль в лицо. Песок во рту, резь в глазах, кровоточащие веки. Сколько мы уже едем? Сколько километров позади?
Майор Минх задержал у деревьев свой взгляд.
– Макс, – сказал он в переговорное устройство. – Впереди нас ждут русские. Ты видишь деревья? Там и есть их окопы. Прикажи ударить из всех пушек – и обходим русских с флангов.
Майор соскользнул в башню, захлопнул люк. Колонна рассыпалась веером, взревев, танки кинулись вперед. Заметив цель, ударила танковая пушка командирской машины. Резко, с отдачей, потом еще раз и еще. Тотчас же, словно по сигналу, заговорили орудия других танков, выплевывая из стволов снопы пламени. Несколько 75-мм снарядов упали на батарею сорокапяток. Взрывом опрокинуло одно орудие. Возле свежей воронки вверх колесами валялось покореженное орудие, а рядом лежали обугленные взрывом трупы. На них кусками висели обгорелые обрывки одежды. Трое лежали неподвижно. Четвертый полз по полю и что-то кричал высоким голосом.
Расчет второй продолжал остервенело стрелять по движущимся танкам. Закрутилась на месте и вспыхнула командирская машина майора Минха. Распахнулся верхний люк, и с башни на землю сполз человек в горящем комбинезоне. Горящий танкист катался по земле и кричал от боли, закрывая лицо руками.
Один из танков на стыке взводов прорвался через линию окопов и двинулся на батарею, давя по пути людей и засыпая землей стрелковые ячейки.
Через полчаса все было кончено.
По всей степи лежали убитые люди, порезанные пулеметами, побитые осколками, застигнутые смертью врасплох. Картину страшного опустошения дополняла изрытая снарядами и солдатскими лопатами земля, зияющая окопами и свежими холмиками брустверов. Жаркое кубанское солнце стояло в зените и плакало янтарными нитями. К месту боя слетались тысячи мух, садились на лица, ползали по окровавленным гимнастеркам.
Рядом с контуженным старшиной сидел в своей ячейке Коля Протасов с головой, пробитой пулей. Мертвые побелевшие пальцы вцепились в приклад винтовки. Из-за брезентового ремня торчала граната. По всей степи лежали тела новобранцев. Кровь, еще алая, сочилась из ран, медленно сворачиваясь, рубиново поблескивая, подчеркивая невозвратность случившегося.
Слышался рык моторов, приближались немецкие танки.
Старшина, заваленный в окопе комьями земли, пришел в себя от дикой боли в голове и от того, что нечем было дышать. Он мучительно с хрипом вздохнул, закашлялся – рот и легкие его были забиты землей. С мучительным стоном старшина встал на колени, потом сел, вместе с хриплым стоном выталкивая изо рта грязь и кровь. Очумело потряс головой, вытряхивая из нее боль. Вытянул у мертвого Коли из-за пояса гранату. Страшно усмехнулся.
– Ну что, казак… покажем гадам, как умирают русские солдаты?
И пополз с гранатой в руках в сторону приближающихся танков.
Старшина Яшин остался лежать там же у неизвестной высотки в Кубанской степи, где принял свой последний бой его батальон. Вчерашние школьники, вооруженные лишь винтовками и саперными лопатами, не смогли уничтожить фашистские танки. Но ценой своих жизней они на целый час задержали их продвижение и шагнули в небытие… или в бессмертие.
Бог судья тем, кто послал их неподготовленными и плохо вооруженными на заклание и смерть…
* * *
Этим же вечером жители окраины Краснодара услышали шум мотора. В Казарменный переулок на большой скорости влетела полуторка с прицепленной к ней 45-миллиметровой пушчонкой «Прощай, Родина». Грузовик остановился под тополями. Из машины выскочил рослый водитель в пропотевшей на спине расхристанной гимнастерке, без пилотки.
По дороге бежали мальчишки:
– Немцы! Немцы-ыыы!
Доносился приближающийся шум двигателей, треск мотоциклов.
– Твою же мать!..
Солдат быстро отцепил пушку, развернул ее в ту сторону, откуда должна была появиться немецкая колонна. Открыл задний борт, вытащил из кузова ящик со снарядами.
Уже минут через десять появились фашисты. Впереди мотоцикл с пулеметом, за ним легкий разведывательный бронеавтомобиль «Панцер-222».
Пушка вздрогнула, блеснула пламенем, дыхнула дымом, глухо тявкнула.
Первый выстрел опрокинул мотоцикл. Башня броневика повернулась вправо, стволы 20-мм автоматической пушки и пулемета искали цель.
Опять не страшно тявкнула пушчонка.
Снаряд пробил 8-мм броню. Броневик вздрогнул, через мгновение раздался хлопок взрыва. Взорвался боекомплект. Из щелей и открытого люка вынесло сноп оранжевого пламени. Машину заволокло дымом.
Тут же в конце переулка показался танк. Водитель метнулся к ящику со снарядами и, зарядив орудие, стал торопливо крутить прицел.
Танк остановился, повел медленно стволом. Потом на мгновение замер и рявкнул глухим страшным басом. Сорокапятку подбросило вверх. В облаке взрыва мелькнули ствол, щит, лафет с колесами, медленно разлетелись в разные стороны. Оглушенный солдат на четвереньках подполз к машине, с трудом забрался в кабину, вывернул руль и нажал на газ. Деревянная полуторка, натужно ревя мотором и хлопая незакрытой дверью кабины, рванулась навстречу вражескому танку. Снова сверкнула огнем танковая пушка. Раздался грохот, задний борт разлетелся в щепки. Водитель, шатаясь, с трудом выбрался из кабины, и в следующее мгновение пулеметная очередь перерезала его тело. К перевернутой пушке и горящей машине подошли запыленные немецкие солдаты. Из подъехавшего вездехода вылез высокий худой обер-лейтенант. Неизвестный солдат был мертв.
Стоял душный вечер. Над городом повисла тишина, прерываемая лишь редкими выстрелами орудий и пулеметными очередями. Тишина эта была тревожной. В ней, как в грозовом небе, чувствовалась копящаяся сила грозового разряда.
Из домов вышли сердобольные бабы, и одна из них, постарше, тяжелая, рыхлая старуха, в черном монашеском платке на голове, строго сказала офицеру:
– Ты, мил человек, отдал бы нам солдатика. Вам он уже не страшен, а по христианскому обычаю похоронить надо. Слушай, что мать тебе говорит.
– Гут! Забирайт мат свой зольдат, – сказал немецкий офицер на ломаном русском языке. – Он есть большой герой.
На клочках залитой кровью красноармейской книжки смогли прочитать лишь несколько слов. Селяне разобрали лишь фамилию и то, что родился он в станице Ивановской.
Женщины выкопали могилу под тополями, возле исковерканной пушки. Тело бойца накрыли солдатской шинелью. На деревянной неструганой дощечке кто-то написал некрасивыми неровными буквами:
– Солдат Передерий из Ивановки.
* * *
Немцы установили в кубанских станицах свой порядок. Ввели комендантский час, сформировали полицейские участки из казаков, сформировали конные сотни для несения патрульной службы. Станицы и улицы стали называть старыми названиями, которые они носили до установления советской власти.
Большая часть населения появление немцев встретила хорошо. Еще свежи в памяти были голод, расказачивание, разрушения церквей.
С разрешения немецкого командования были вновь сформированы войсковые казачьи отделы. Атаманом 1-го Уманского отдела был назначен бывший член Кубанской Рады, Трофим Горб. Из казачьих сотен, сформированных атаманом отдела, началось формирование 1-го Кубанского казачьего конного полка. В станице активно работала Тайная полевая полиция, армейская полицейская структура, которая занималась выявлением диверсантов, партизан и подпольщиков.
Партизаны на Кубани были, но никакой активной работы не вели. Ввиду того, что казаки поддержали немецкие власти, действия подпольщиков в основном сводились к распространению сводок Совинформбюро, советских газет и листовок.
Не обнаружив партизан и диверсантов, полиция принялась выявлять коммунистов и евреев.
По ночам за городом слышались выстрелы.
* * *
Мишка Косоногов навсегда запомнил день, когда он стал полным сиротой. С самого утра он ловил в Дону раков. Пока его не было дома, к деду с бабкой прибежала соседская Дуняшка, нянчившая годовалого брата Степу. Закричала:
– Бабаня, бабаня! Чоновцы в станицу нагрянули. Сейчас к вам собираются, спрос за офицера держать.
Дед забегал по хате:
– Вот ведь, тадыт твою мать, доказал кто-то. Тадыт твою…
Бабаня прикрикнула:
– Ну что ты собачишься при дите, старый дурень? Садись рядом, может быть, не тронут старика со старухой.
Через час к речной заводи прибежали мальчишки.
– Мишка, Мишка, буденовцы твою бабку бьють и деда на воротах повесили, он аж обоссался! Гы-гы-гы!
Прибежав домой, Мишка увидел висящего в петле мертвого деда. Услышал, как страшно кричит бабушка, призывая на головы красноармейцев и лысую башку ихнего Ленина самые страшные кары.
Мишка прятался в кустах у сарая и видел через мутное стекло, как один из красноармейцев бил бабушку прикладом винтовки. В доме их было несколько, и все с оружием. Потом один из них наставил на бабушку винтовку и выстрелил. Красноармейцы вышли, обложили хату соломой и подожгли. Потом они ушли. Мишка сидел в кустах до темноты, глотал комок в голе, боясь заплакать. В голове стояли слова деда:
– Никогда не проси пощады, если даже будут тебя казнить! Не плачь, если на твоих глазах будут пытать близких или детей твоих! Молчи, если будут жечь твой дом, потому как гордость казачья сродни кровной мести.
Ночью он добрался до железной дороги. Прицепился к какому-то поезду. Началась беспризорная бродячая жизнь – поезда, крыши вагонов, угольные ящики. На Украине его сбросили с подножки. Хорошо еще, что состав только тронулся, и он упал под откос. Удачно упал, ничего не сломал. Потом его задержала милиция, отправили в приют Ростова. Там было голодно, Мишка бежал из детского дома, снова кражи. Побеги. Изоляторы. Опять кражи. Однажды в Ставрополе на путях его схватила железнодорожная охрана, после чего отправили в детский дом. Там он учился сначала в обычной школе, потом в школе фабрично-заводского обучения и до призыва в армию работал на заводе. В армии остался на сверхсрочную. Сентябрь 1941 года встретил старшиной эскадрона кавалерийской казачьей дивизии.
Однажды среди пополнения он увидел двадцатилетнего Степу Мозырева, младшего брата соседки Дуняши. Они оказались в одном полку.
На рассвете 17 октября 1941 года с западного берега Миуса сотни немецких орудий и минометов открыли шквальный огонь, перепахивая окопы 31-й Сталинградской стрелковой дивизии полковника Михаила Озимина. Десятки «юнкерсов» засыпали бомбами огневые позиции дивизии вдоль насыпи железной дороги Покровское – Марцево. Затем с захваченных плацдармов на Таганрог двинулись колонны танков и мотопехоты 3-го моторизованного корпуса танковой армии генерал-полковника фон Клейста.
Раздавленные массой бронетехники, поредевшие полки сталинградцев отходили к поселку «Северный», где в бой вступили подразделения таганрогского гарнизона.
Ближе всего к месту прорыва, в районе села Курлацкое и хуторов Садки, Бузина, Седовский, находились две легкие кавалерийские дивизии и вышедший из окружения 23-й стрелковый полк 51-й ордена Ленина Перекопской Краснознаменной дивизии.
В полдень командующий 9-й армией генерал Харитонов отдал приказ командирам 66-й и 68-й кавалерийских дивизий полковникам Григоровичу и Кириченко нанести удар во фланг противника в направлении станции Кошкино. Полки и эскадроны построились в ранжир.
В блекло-голубом небе застыло беспощадно палящее солнце. Ветер гнал по степи серебряные волны вызревшего ковыля. Горячий, прозрачный воздух поднимался вверх от поблекшей пожухлой травы. Хрипло и протяжно-запаленно свистели сурки.
В мареве горячего дрожащего воздуха словно растворялись коробки полков и эскадронов.
Полковник Григорович на пляшущем жеребце выдвинулся перед строем. Удерживая пляшущего и всхрапывающего коня, туго натянул поводья. Офицерская казачья шашка с вишневым темляком болталась на левом бедре.
Полк, затаив дыхание, ждал команды.
– Поступил приказ идти как на парад. Но парада не будет, идем на смерть! Шашки вон!
Полковник вырвал из ножен клинок. Шашка с визгом описала дугу и замерла острием клинка к низу.
– По-ооооолк, – приподнимаясь на стременах, пропел комполка, – в атаку марш-марш!
Глухо содрогнулась земля, раздавленная множеством копыт. И эскадроны пошли на танки. На смерть!
Командир немецкого танкового корпуса генерал Эберхард Август фон Макензен осматривал в бинокль лежащую перед ним равнину. Всего лишь пара километров отделяла немцев от стремительно несущейся на них казачьей лавы. Через цейссовскую оптику генерал Маккензен видел, как сверкая клинками по бескрайнему полю, прямо на его танки мчатся тысячи всадников. Растянувшись на несколько километров, над степью клубилась пыль. Казалось, что земля дрожит под ударами копыт. Барон фон Макензен опустил бинокль, выдохнул:
– Боже мой! Кто командует этими безумцами? На месте русского командования я бы отдал его под суд!
Командир моторизованной дивизии «Лейб-штандарт “Адольф Гитлер”» обергруппенфюрер СС Йозеф Дитрих рассмеялся:
– Барон, ну что вы, право?.. Зато смотрите, как красиво они идут на смерть. Прямо, как уланы в Польше!
Слева и справа на немецкую колонну с шашками в руках и полной тишине неслись казачьи эскадроны. Конница растягивалась, пытаясь взять в кольцо окружения вражескую мотопехоту. Но это продолжалось только мгновение.
Поморщившись, Маккензен приказал командиру 13-й танковой дивизии уничтожить русских. Генерал Дюверт немедленно развернул вдоль шоссе Покровское – Самбек колонну 93-го моторизованного полка оберст-лейтенанта Штольца. Со стороны развернувшейся немецкой колонны, с лихорадочной поспешностью опорожняя диск за диском, ударил кинжальный огонь десятков пулеметов. Ударили танковые пушки и минометы. Сотни снарядов и мин ударили по казачьей лаве. На полном скаку опрокидывались навзничь кони.
Краем глаза Мишка увидел, как жеребца командира эскадрона сбила какая-то обезумевшая лошадь и капитан Головкин пулей вылетел из седла. Его накрыл копытами следующий ряд лавы, и Мишка услышал дикий нечеловеческий крик. В середине лавы взрывы подняли вверх месиво из тел и комьев земли. Возле тачанок пулеметчики и кучера рубили постромки, а цепи, переломанные кинжальным пулеметным огнем, уже захлебывались в собственной крови. Метались по рыжей от солнца степи испуганные кони.
– Хлопц-ы-ыыыы! Держись!.. Тачанок не кидать!.. К перелеску уходи… К перелеску, в божину креста мать! – кричал командир полка, привстав на стременах.
Казаки развернули коней и пошли с места в карьер, прижимаясь к гривам, подгоняя лошадей криком и ударами каблуков.
Оскалив зубы, Мишка крикнул Степану:
– За мной держи! – и опустив шашку к земле, пустил коня в сторону от губительного огня.
Одним из недостатков гусениц танка «Панцер-4» было то, что кишки и куски мяса слишком плотно застревали между траками. Экипажи немецких танков блевали, увидев на броне и траках куски человеческих кишок. Это было самым неприятным на войне – чистить гусеницы танков и катки после боя. Чтобы очистить танки от крови, их долго гоняли по неубранному полю, безжалостно вминая в землю колосья и стебли пшеницы.
Почти вся русская конница полегла в той мясорубке. Лишь остатки сотен выметнулись через перелесок на бугор. Мишка увидел, что все еще сжимает рукоять клинка. С трудом, трясущимися руками, вложил его в ножны. Потом остановил лошадь, оглянулся и безотчетно бросил поводья. С бугра далеко виднелась тоскливая степь, на которую опускались вечерние сумерки. По всей степи насколько хватало глаз черной рябью лежали тела порезанных пулеметным огнем и передавленные гусеницами кони и люди. Яркими пятнышками крови рдели донышки кубанок да сиротливо бродили оставшиеся в живых испуганные и раненые кони… Шестнадцать оставшихся в живых всадников рысью уходили на восток. Темная ночь прятала и укрывала их своим одеялом. Скрипели подушки седел, резко и дробно били конские копыта о рыжую вытоптанную землю.
На иссиня-черном небе мерцали далекие звезды. Темнея обкусанным краем, светил украдкой месяц – казачье солнышко.
И крутились в голове у Мишки слова бабаниной песни:
Позади осталась смерть курносая, Впереди смеется мне раскосое. Волчье Солнце – Луна, Волчье Солнце – Луна.После боя бледный генерал Маккейзен спросил любимчика фюрера, Йозефа Дитриха:
– Ну что, натешились, барон? Получили удовольствие от зрелища?
Командир 13-й танковой дивизии генерал-майор Вальтер Дюверт, командовавший отражением невероятной кавалерийской атаки у станции Кошкино, дождался своего суда. После того страшного боя его каждую ночь неотвязно преследовал один и тот же кошмар. По бескрайней и порыжевшей от солнца степи мчались тысячи оседланных коней. Испуганные кони дико ржали. Громко и страшно кричали и хрипели изувеченные взрывами люди. А за ними гонялись ревущие танки, с черными от крови бортами. Они рычали словно дикие звери, перемалывая гусеницами тела людей с остатками солдатского обмундирования.
* * *
Коней пришлось бросить. Нечем было кормить. Да и приметно было очень на конях. Сменяли в какой то деревне на харчи, картошку и сало. Днем хоронились, отсиживались в лесу да в оврагах. Иногда стучались в избы.
Мишка смотрел на небо – с детства знакомое, блеклое, молочно-голубоватое, горячее летнее небо. По нему шли облака, мелкие, размытые, неясные, такие прозрачные, что сквозь них просвечивала голубизна воздуха. И это огромное поле и это огромное знойное небо взывали в великой тоске, просили помощи у солдат, прячущихся по лесам. И облака шли с запада на восток, словно кто-то невидимый гнал огромное стадо белых овец по русскому небу, захваченному немцами.
А ночью они шли, стараясь нагнать отступающие и огрызающиеся части. И пшеница шумела, кланялась в ноги отступающим бойцам, просила и сама не знала, о чем просить.
– Если бы только мог, не слезьми бы плакал, а кровью! – говорил Мишка. – Собственной кровью – не слезами!
Босой бородатый старик, с мешком на спине, и идущий с ним светлоголовый мальчик, встретившиеся им на пути, молча смотрели на устало бредущих солдат, и невыносим был укор в их застывших глазах – старчески беспомощных у старика, усталых и испуганных у ребенка. Так и остались они стоять, затерявшиеся в огромном мире.
Уже много дорог, деревень и поселков осталось позади. Разбиты были вконец сапоги, стерты ноги, голод и бессонница наложили свой отпечаток на лица отступающих солдат, но они упорно шли на восток. К своим. Через две недели скитаний вышли к нейтральной полосе.
Немцы всю ночь пускали осветительные ракеты. Изредка постреливали пулеметы. Но после полуночи ракеты начали взлетать реже, а потом, на какое-то время, и вовсе затихли. И все сразу потонуло в холодной тишине. Только звезды таинственно подмигивали в ночном небе, указывая дорогу к какой-то неведомой цели.
– Пора, – сказал Мишка и первым пополз в темноту.
Они уже были на нейтральной полосе, когда прямо над ними, шипя, вспыхнули осветительные ракеты и их накрыло минами. Казалось, что это конец, вздыбившаяся от разрывов земля сейчас присыплет его навсегда. Но вот наступила тишина, от которой зазвенело в ушах. Мишка зашарил вокруг себя руками. Степка, где Степка? Единственная родная душа на всем белом свете. Он нашел его под слоем земли на дне воронки. Степка лежал, поджав ноги, будто ему было холодно, по-детски подоткнув руки под грудь.
– Степ, – позвал Мишка, переворачивая товарища на спину. – Степа-ааа!
Тот молчал, будто заснул и видел сон, от которого невозможно оторваться, чтобы, проснувшись, не видеть действительности, голодной и тяжкой для его еще не вошедшего в мужскую силу тела. Сном без пробуждения.
И когда Мишка это понял, он завыл дико, по-звериному, хватая друга за плечи и пытаясь поднять.
– Встань! Слышишь, встань! Что я без тебя буду делать?
Голова болталась из стороны в сторону. Неожиданно из уголка рта вырвалась капля крови, набухла пузырем и, лопнув, красной дорожкой потекла по подбородку, покидая уже мертвое тело.
Подползли оставшиеся в живых. Их осталось трое.
Мишка не помнил, как они ползли через простреливаемое поле, как при ракете ныряли и прятались в воронках. Было ощущение холода, будто его сердце уже перестало биться и тело уже умерло. Ночью они свалились в свои окопы. Бойцы охранения, матерясь и злобясь, отобрали у них винтовки без патронов, а потом отвели к штабному блиндажу. Они долго сидели на корточках перед дверью, обхватив колени руками, и молчали, уставившись в землю.
– Заведи их в землянку, – наконец приказал ординарцу комбат.
Капитан сидел за столом, здоровенный, красномордый, в сдвинутой на затылок шапке. Рядом с ним сидел командир роты – высокий сутулый лейтенант, с тоскливыми и красными от бессонницы глазами.
Над столом горела фара, подключенная к танковому аккумулятору. На снарядном ящике в углу землянки притулился молоденький сержант радист, который монотонно вызывал «гвоздику». Рядом стоял котелок. Зеленая краска местами облупилась, белыми пятнами проглядывал алюминий.
– Ну вот что, мужики, – сказал комбат. – Лясы мне с вами точить некогда. Утром пойдем в атаку, там каждый боец будет на счету. Сейчас спать, если получится. А утром, если живы останемся, поговорим. Красин, забирай пополнение.
Сутулый лейтенант провел их в землянку. Часто моргая воспаленными глазами, приказал старшине накормить и выдать оружие. Старшина, рыжеусый рябой украинец, ворча принес котелок холодной серой каши, буханку хлеба, селедку, завернутую в серую толстую бумагу, похожую на картон. После этого выдал три винтовки без ремней, сыпанул в карманы по горсти патронов.
– Ну ладно, прощевайте, земляки… Воюйте геройски.
И исчез в темном лабиринте траншеи.
Кто-то из солдат бросил:
– Ну да, на войне у каждого свой маневр.
Бойцы спали, набираясь сил перед последней смертной дорогой. В землянке было холодно и влажно. Под низким бревенчатым потолком стоял запах дыма от закопченной буржуйки, махорки, провонявших потом портянок. Мишка укрылся старой шинелью и прилег между бойцами, пристроив под голову выданный старшиной котелок. Сна не было. Мысли были лишь об одном. Что будет утром? Всего лишь через несколько часов.
Перед рассветом батальон подняли и без артиллерийской подготовки, без поддержки танками бросили в атаку. Комбат скомандовал: «Вперед!» – и командиры рот и взводов где криком, а где и пинками погнали своих бойцов на немцев. Где-то в стороне неуверенно крикнули: «Ура-ааа!» Неожиданно батальон подхватил этот крик, и вперед понеслось: «А-аааааааа!»
Вот и немецкие позиции. Деревянные, потемневшие от дождей и солнца столбы были густо опутаны колючей проволокой. Бойцы рубили лопатами ржавую проволоку, били по колючкам прикладами, забрасывали шинелями, а немцы косили и косили их из пулемета. Рыжее пламя рваными клочками дрожало над бруствером немецкого окопа. Батальон залег. Оставшиеся в живых стали спешно окапываться, укрываясь за телами погибших. Кричали раненые. Лежали холмики убитых. Ветер шевелил полы их рыжих шинелей.
Мишка скатился в воронку. За ним следом влетел комбат. Заорал:
– Отсиживаешься, сука! А ну вперед!
Мишка навалился на него всем телом. Зашептал:
– Погоди, комбат. Видишь, вон оттуда пулемет садит. Мы от него сейчас как раз сбоку. Отсюда его не достать. А вот если подобраться поближе, тогда можно попробовать. Ты дай мне свой ППШ. А как только я пулеметчика уделаю, ты сразу поднимай батальон, и по трупам лезьте через проволоку. – Добавил: – Мертвым-то уже что? Им все равно. А мы, может быть, еще и поживем.
Помедлив, комбат отдал ему автомат. Прижимаясь спиной к стене воронки, достал из-за пазухи пистолет.
Мишка выглянул из воронки. Кругом тянулись спутанные ряды «колючки», линии окопов, каски там и тут, мертвые истерзанные тела.
Пулемет пока молчал. Раскаленный ствол был задран вверх и парил, перегретый от безостановочной стрельбы.
Первый и второй номер склонились над окопом, жадно докуривая сигареты. Теперь все решали секунды.
Мишка подхватил автомат, извиваясь ужом пополз к проволоке. Цепляясь за скользкую и мокрую шинель погибшего бойца, перелетел через ограждение и заскочил в немецкую траншею. Увидев вытаращенные глаза пулеметчиков, копошащиеся серо-зеленые силуэты, ударил из своего ППШ, наполнив траншею гулким автоматным треском. Он стрелял налево и направо, по всему, что двигалось и шевелилось. Расстреляв автоматный диск, схватил немецкий пулемет, не слыша протяжный и страшный рев:
– Ура-а-а! Ура-а-а-а! А-аааа! Мать-перемаааать!!
И только когда закончилась пулеметная лента, заметил, что рядом с ним бойцы батальона. Но вскоре страшный, как обвал, налет артиллерии обрушился на траншею и перемешал бойцов с землей. Потом подошли несколько танков и стали утюжить окоп гусеницами, добивать из пулеметов тех, кто уцелел. Оставшиеся в живых человек двадцать поползли в свою траншею. Грязных в крови и копоти, их осмотрел комбат.
Увидев Мишку, заулыбался:
– А ты молодец. Хорошо дрался. Но траншею не удержали, значит, подождем пополнения и снова пойдем.
Только теперь Мишка почувствовал, что страшно, мертвецки устал.
На следующий день пригнали несколько сотен казахов и опять подняли в атаку. Мишка был ранен и после госпиталя попал в кавалерийский корпус генерала Белова. Остатки батальона сняли с позиций и отправили на переформирование.
* * *
Июль 1942 года. Зной. Сушь. Над степью дрожало зыбкое марево.
Сотни и тысячи танков тянули за собой тяжелую серую пыль на грунтовых дорогах. К Дону неудержимо ползла стальная бронированная армада 6-й полевой армии под командованием генерал-лейтенанта Паулюса. 14 пехотных, 1 танковая, 2 моторизованные и 2 охранные дивизии шли вперед, сметая все на своем пути. Даже степные суслики, напуганные тяжелым гулом двигателей и лязгом гусениц, спрятались в свои норы. Из открытых башенных люков выглядывали немецкие танкисты.
Шел второй год войны. Красная армия отчаянно сражалась за города, села, станицы. Измотанные и обескровевшие в непрерывных боях, части 62-й и 64-й советских армий прикрывали путь к Дону, зная, что все они навсегда останутся лежать в раскаленной солнцем степи. По плавучему мосту, на паромах и лодках переправляли раненых бойцов на другой берег Дона. Бойцы и командиры яростно закапывались в сухую обожженную землю. Перед ними лежала широкая, просторная степь, лишь на горизонте обрамленная лесом. В стороне виднелся казачий хутор – несколько беленых хат, окруженных садами, – и широкий плес запруженной степной речки. Отсюда, с высоты, ярко белевшие домики казались точками. Кладбище. И – во все стороны поле, продуваемое сильным ветром. Тишина. И качались стебли ковыля как серебристые волны.
Измотанные боями и ночными переходами, без горячей еды, без сна и отдыха части Красной армии не смогли остановить вражескую лавину и уже к 23 июля были выбиты с занимаемых позиций, частично окружены и уничтожены.
* * *
При подходе немецких войск к пограничным казачьим станицам Донского войска казаки станицы Синявской достали из схронов винтовки, выкопали запрятанные в землю шашки. Перебив и перестреляв местную милицию казаки ушли в Донские плавни. Это была огромная территория старых болот, заросшая камышом, зарослями тальника и осокой, среди которой иногда возвышаются сухие гряды, а кое-где открывалось чистое водное пространство. Топкие болота на несколько десятков верст, заросли. Трясина, покрытая мелкой зеленой травой, заросли осоки, – и камыш, камыш кругом. Дрожали и звенели на ветру жесткие острые листья, кланялись коричневые султаны осоки и отражались в черной воде. Беда ждала того, кто не зная тропок, хотел найти здесь прибежище. Скольких людей засосала трясина и поглотила бурая вонючая грязь, знает лишь темная вода. По ночам сырой ветер приносил в станицу печальный крик журавлей и запах озерной влаги.
Немецкие солдаты, пыльные и загорелые, шли через казачьи станицы и советские города. Облака пыли, поднятые тысячами ног и колесами машин, медленно оседали на землю, осыпая ею придорожные тополя.
Узнав о приближении немцев, казаки вышли из своего укрытия им навстречу, приветствуя их как союзников.
В этот день Ерофей Павлов проснулся рано. Он открыл глаза и увидел над головой низкий беленый потолок, засиженный мухами. Старый поцарапанный комод, накрытый кружевной накидкой, обшарпанные рамы окон. Сквозь пыльные шторы в комнату вползал жидкий серый свет.
Внезапно в дверь постучали. Павлов инстинктивно сунул руку под подушку, пальцы нащупали рубчатую рукоять нагана. Осторожно ступая босыми ногами по скрипучему полу, он скользнул к окну. Взвел курок. Осторожно выглянув из-за занавески, увидел неторопливо отходившую от крыльца квартирую хозяйку. Каждое утро она приносила ему кринку молока. Облегченно выдохнув, Павлов медленно и осторожно, придерживая большим пальцем, спустил курок нагана. Излишняя осторожность в его положении не была лишней. Как говорил в тюрьме Никифор Рык – «береженого Бог бережет, а не береженого конвой стережет».
Его арестовали в августе 1936 года. От большого срока спасло чудо. В сентябре был снят со своего поста и через несколько месяцев расстрелян нарком внутренних дел Генрих Ягода. После его ареста Сталин поспешил объявить о том, что ЦК партии раскрыл банду шпионов, стоявшую во главе наркомата. Некоторых арестованных даже выпустили. Но после ареста и нечаянного освобождения Павлов стал вдвойне осторожней.
Жена, Феона Андреевна, роптала:
– Сережа, мы с тобой живем как в сундуке.
– Ну, сундук – это, слава Богу, не тюрьма, – усмехался Павлов и спешил перевести разговор на другую тему.
Внезапно вспомнилось, как в феврале 1920 года он, подъесаул Павлов, стоял на причале Новороссийска и плакал, провожая последний пароход, уходящий из России. Места на пароходе ему не нашлось.
Красные мобилизовали его на службу в свой авиаотряд. Однако уже в июне бывших офицеров вызвали в Особый отдел IX армии. Бог уберег или какое-то шестое чувство подсказало, что его ждет арест. Сославшись на болезнь, он отпросился в отпуск и в часть не вернулся. Впоследствии узнал, что предчувствие не обмануло. Все вызванные офицеры были арестованы.
Ерофей Павлов перешел на нелегальное положение. Поменял имя, стал Сергеем. Придумал себе новую биографию. Ожидая ареста, постоянно менял адреса и место работы. За последний год это было уже четвертое жилье.
Всю последнюю неделю днем и ночью слышалась канонада. Красная армия отступала, и Павлов ждал, что вот-вот в Новочеркасск войдут немцы. Встав с постели, он побрился и надел белую рубаху. Потом выкурил утреннюю папиросу и решил выйти в город, чтобы понять, что происходит. В районе Азовского рынка делегация из местных жителей встречала немцев. Впереди делегации стояли несколько стариков в казачьих фуражках и нетрезвый высокий батюшка в помятой рясе, с большим крестом на груди. За ними две молодые девахи с длинными косами. Они были в темных кофтах и пестрых юбках. Обуты в тяжелые башмаки с подковками. Одна из них держала в руках каравай на вышитом полотенце. Местные жители толпились у стен домов, заборов, в зарослях деревьев, наблюдая за входящими частями. По улицам тянулись бесконечные вереницы мотоциклов с пулеметами на колясках, кюбельвагены с командирами и штабами, грузовики с солдатами, полевые кухни, обозы тыловых служб. Между всем этим скопищем техники текли ручейки пехоты армейских частей.
К стоящим на площади людям подкатил запыленный бронетранспортер, за ним серый «опель-капитан» в окружении мотоциклистов. Из «опеля» вышел немецкий офицер. Это был военный комендант города полковник Грюнвадьд. Рядом с ним стояли адъютант и переводчик. Деваха передала каравай седому бородатому казаку с серьгой в ухе. Он открыл рот, хотел произнести речь, но от волнения смешался и начал совсем не так, как репетировал ночью.
– Ваше высокоблагородие… господин офицер!
Приветствия не получилось. Ревели мотоциклетные двигатели. Слышался топот сапог сотен людей, крики команд.
Над колонной висело облако пыли. Она оседала на броню машин, лица солдат, грязными ручейками скатываясь за шиворот черных от пота немецких мундиров.
Переводчик что-то сказал коменданту.
Смущенный казак неловко ткнул офицеру полотенце с караваем. В толпе засмеялись. Немец мотнул головой в сторону адъютанта. Тот ловким движением перехватил каравай, сунул в открытую дверь машины. Усталым бесцветным голосом комендант сказал:
– Гут! Ка-ра-шо, – и махнул рукой.
Вперед выступил переводчик. Он достал из кармана мундира тщательно сложенный листок, развернул его и громким голосом стал читать текст обращения:
– Доблестные сыны славного Дона. Германская армия пришла к вам, чтобы спасти от большевистского ига. С сегодняшнего дня в городе и на всей донской земле устанавливается справедливый порядок, без жидов и коммунистов.
Его было еле слышно. Треск мотоциклетных двигателей и шум проходящей колонны заглушали слова. Стоящие на площади люди крутили головами, стараясь уловить смысл сказанного.
– Каждый из вас, кто будет честно трудиться на благо великой Германии, будет достойно награжден за свой труд и преданность фюреру. Большевикам скоро будет конец.
Переводчик перевел дух, оглянулся на офицера. Продолжил:
– Немецкое командование имеет вас предупреждать… за саботаж, убийство немецких солдат и совершение прочих преступлений виновные будут караться смертной казнью.
Листок с речью переводчик снова убрал в карман. Опять оглянулся на полковника.
Тот вяло поднял вверх правую руку, произнес:
– Хайль Гитлер!
Стоящие казаки вытянулись во фрунт.
Через несколько часов на площади поставили виселицу.
По углам площади стояли немецкие мотоциклы с установленными в колясках пулеметами.
С рынка и близлежащих улиц немецкие автоматчики пригнали толпу людей. Немцы никого не били, не приказывали. Они просто взяли толпу в кольцо, и желающие выйти за него тут же натыкались на стволы автоматов.
Немцы изредка покрикивали:
– Шнель, шнель.
На площади перед виселицей остановился грузовик Из кузова выскочили вооруженные карабинами немцы и несколько человек в гражданской одежде, с повязками на рукавах – полицаи. Потом, поддерживая друг друга, спустились пятеро избитых людей, в порванной одежде, без сапог. Среди них была одна женщина, в гимнастерке, изодранной юбке.
Казнью руководил офицер в форме гауптштурмфюрера Ваффен-СС. Гладко выбритый, с аккуратно подстриженными тонкими усиками. Он стоял рядом с несчастными и постукивал палочкой по голенищу сапога. Октябрьское солнце нежно согревало кожу его лица. Офицер наслаждался последним теплом осени, расслабленно подставив лицо теплому солнцу.
– Эти люди совершили преступления против Третьего рейха. Сейчас они будут повешены, – объявил переводчик.
К офицеру обратился один из приговоренных.
– Разрешите по малой нужде, господин офицер. А то согрешу в петле. Неудобно будет перед станишниками.
Один из полицаев ударил его в спину прикладом винтовки.
– Ничего, краснопузый, ссы в штаны!.. На перекладине просохнешь!
Казнь проходила быстро. К офицеру подтаскивали очередного приговоренного. Он произносил несколько слов, потом кивал головой в сторону виселицы. Человека тут же подтаскивали к перекладине, приподнимали, всовывали в петлю и дергали вниз. Петля была не из веревки, а из проволоки. На некоторых повисали, для верности, но быстро отпрыгивали – из тел повешенных текла моча.
На грудь цепляли табличку с надписью: «Он убивал немецких солдат».
Места на перекладине уже не осталось.
Павлову запомнились почему-то голые ноги женщины. Варикозные прожилки. Грязные пятки в протертых носках. Ноги дергались, выворачивались в ступнях. Моча текла по ногам, стекая в носки. И лишь когда она затихла, из носков начало капать…
Казалось, что вместе с казненными умер весь город. Глаза людей на площади были мертвыми. На крышах домов ворковали голуби, под ногами шныряли воробьи. Живые были только они.
Через полчаса все было кончено.
– Да-ааа, – сказал сам себе Павлов. – Серьезная власть пришла. Эти шутить не будут.
* * *
Линия фронта все дальше и дальше откатывалась на восток. В городе и станицах налаживалась мирная жизнь. Везде был установлен новый немецкий порядок. Снова заработали кинотеатры и появились вереницы у театральных касс. В ресторанчиках и пивных сидели немецкие солдаты. Заработали магазины, стали заполняться продуктами опустевшие витрины. Но у хлебных магазинов длинные очереди.
Военный комендант вызвал к себе бургомистра.
– Доблестная немецкая армия движется на восток. Мы не можем иметь здесь большой гарнизон, солдаты нужны на фронте. Поэтому вам нужно организовать работу полиции. И еще. Меня очень беспокоят случаи преступлений, совершенных немецкими солдатами. Это разлагает дисциплину. С мародерством можно бороться, если солдат хорошо кормить. Но если мы будем требовать от германских солдат и офицеров, чтобы они были аскетами, то они будут воевать гораздо хуже.
Бургомистр внимательно слушал каждое его слово, согласно кивая головой.
– Вам надо как можно скорее организовать бордели для военнослужащих вермахта и наших союзников. Вы хорошо поняли меня?
– Всенепременно, – вытянулся бургомистр.
В станицах выбрали и назначили старост. Провели набор в полицию. Открыли два борделя. С помощью крестьян убрали пшеницу, подсолнечник, кукурузу и сахарную свеклу. Собрали урожай яблок. Часть раздали крестьянам, остальное немцы оставили на нужды гарнизона и отправили в Германию. Вспахали землю, засеяли озимые.
Приезжавшие из станиц и хуторов женщины меняли картошку, овощи, пшеницу на вещи, одежду, мебель. Ругали полицаев, требующих самогонку. Жены полицаев хвастались одна перед другой тряпками, отобранными у евреев.
По ночам за городом слышалась стрельба, расстреливали цыган, евреев, подпольщиков, заложников. По вечерам немецкие офицеры прогуливались с местными девушками по центру города. В городе открылся кинотеатр, где показывали немецкое кино.
По ночам у дверей борделей горели красные фонари. Там обслуживались немецкие солдаты и унтер-офицеры. Офицеры обслуживались на квартирах. Обслуживающий персонал набирали из местных. По соображениям соблюдения режима секретности в город их не выпускали.
Для союзников – итальянцев, румын, мадьяр – были предусмотрены отдельные дома терпимости. Попроще. Победнее. С менее красивым персоналом. Казаки обслуживались в тех же домах, что и союзники. Но казаки любили подраться, и скандалы происходили часто. Седьмого ноября, как раз в день Великой Октябрьской революции, между казаками и румынами оказалось что-то более серьезное. Рядом с борделем послышалась отчаянная стрельба. На крыльце заведения матерился раненый казак. С криками и свистом примчались конные казаки, подхватили своего товарища и умчались прочь. Нетрезвых румын арестовал подоспевший немецкий патруль. Организованно отступившие казаки, выпив еще, двинулись штурмовать публичный дом для немцев. Через час арестовали и их.
В связи с тем, что в городе находились на отдыхе фронтовые части, повысили нормы «выработки» для проституток. Они должны были обслуживать по 20–25 клиентов в день.
Капрал Штайнер жаловался своему земляку, Эриху Клюге, бывшему учителю из Кельна:
– Эти русские женщины жутко закомплексованы. Никакой фантазии. Во Франции у меня была подружка, Мари. Ты представляешь, она кончала уже от того, что я клал руку ей на грудь. А эти русские лежат как бревна. Я вчера использовал свой талон, но моя нимфа была худа и неуклюжа, как велосипед. Впрочем, это не помешало мне использовать все три презерватива. Ха-ха-ха!
Капрал предавался воспоминаниям. Вздыхал.
– Даааа! Франция, это были лучшие месяцы в моей военной жизни. А теперь русский бордель, где после проститутки надо мазать член какой-то вонючей дрянью.
Ефрейтор Клюге утешал:
– Мазать свой член – это еще не самое страшное, что совершает солдат на войне. Это так, к слову. Гораздо хуже, когда нас заставляют превратить в бордель целую страну, и мы, солдаты великой Германии, пускаем по кругу девочек-школьниц и старух.
После того как на вокзале в деревянной уборной под досками нашли убитого финкой немецкого ефрейтора, в центре города построили еще и большой туалет с надписью на русском и немецком языке: «Только для немецких солдат».
Шли дни. Возвращались казаки, дезертировавшие из Красной армии, и те, кто прятался от советской власти. Среди казаков пошли разговоры, что раз большевистская власть закончилась, на территории Войска Донского надо вводить казачье самоуправление, выбирать атамана. Иногороднее население притихло, как будто его и не было.
Прошло две или три недели. В сентябре 1942 года на казачьем сходе избрали штаб Войска Донского во главе с полковником Ерофеем Васильевичем Павловым. Он тут же обратился к немецкому командованию с просьбой разрешить организацию строевых сотен и полков для борьбы против Сталина. Немцы дали неофициальное согласие и разрешили вооружать казачьи части трофейным советским оружием. Павлов поехал по станицам Белокалитвинского района агитировать казаков.
Камышовые крыши казачьих куреней станицы Екатериновская выглядывали из густых зарослей деревьев. За тополями и кривой акацией прятались плетни.
Павлов сидел в углу на колченогом стуле, с тоской посматривал в окно. Его исхудавшее, давно не бритое лицо с опущенными углами рта говорило о крайней усталости. В комнате расположились, где кто сумел, десятка два казаков. На широкой лавке возле окна, искоса посматривая то во двор, то на улицу, сидел станичный атаман.
Павлов перевел на него взгляд:
– Ну, станичники! Что будем делать?
Атаман поднял голову, прищуренными глазами обвел присутствующих.
– Походного атамана выбрать – раз! – загнул один палец. – Конную сотню сформировать – раз! Вооружить – два! На присуде казачью власть установить – три! Правильно я гутарю?
Казаки зашевелились, загалдели:
– Давно пора!
– Чего там мусолить!
Павлов поднялся с места.
– Ну вот и очень хорошо. Давайте прямо завтра Круг и проведем. У нас сегодня вроде казаки от всех станиц. Вот пусть и оповестят казаков по всем хуторам.
На следующий день как в старь с улицы ворвался тревожный гул набата. Из дворов, на ходу надевая на головы фуражки, шли казаки. Иногородние, с хмурыми лицами нерешительно выглядывали из-за плетней и из-за занавесок окон, не решаясь выйти на улицу. Около здания станичного правления уже собралась большая толпа. Густой, тяжелой волной плыл в воздухе набат. На крыльцо станичного правления в сопровождении помощника и других казаков вышел Павлов. На его плечах серебрились погоны, на боку в потертой кобуре висел наган. Окинув пристальным взглядом притихшую толпу, он шепнул что-то писарю. Тот опрометью бросился с крыльца и скрылся в толпе. Набат смолк. Павлов, поправив кобуру, шагнул вперед.
– Господа станичники! – голос его звучал властно, словно он командовал сотней. – Пришел наш час, большевики бегут…
В группе стоящих у крыльца казаков началось движение. Кто-то из них крикнул:
– Сволочь белогвардейская!
На них зашумели пожилые казаки:
– Замолчите, бисовы дети! Дайте человеку договорить.
– Идите вы к чертям собачьим с вашим человеком! Сука он фашистская, а не человек!.. – слышались ответные выкрики.
Павлов, делая вид, что не слышит, продолжал:
– Так вот, станичники, эти самые большевики бегут, и власти бесовской пришел конец. Наше приходит время, и власть на Дону должна быть наша – казацкая! Я и говорю, надо как в старь организовать отряды и сотни казаков, которые смогут стать на защиту Тихого Дона.
Высокий, сутуловатый казак Сазонов решительно пробивался вперед к крыльцу. Станичники плотнее придвигались к крыльцу, ожидая, что он скажет. Сазонов был свой. Казак! В прошлом вахмистр и георгиевский кавалер. Шум постепенно смолкал. Притихли даже старики. Сазонов властно поднял руку, и все замолчали.
– Станичники! Вот он… – в его голосе зазвучала боль. – Вот он, – палец Сазонова ткнул Павлова в грудь, – куда он вас зовет?! Воевать с Красной армией?! С той армией, в которой воюют наши сыны? И мы вновь, как в двадцатом годе, будем рубить своих братов и лить казачью кровушку?
Павлов перебил его.
– Не сынов, а и всякую красную сволоту, тех, кто наших братов в балках стрелял! А потом наши куреня занял. Да мы сейчас тебя!
Рябое лицо Сазонова побагровело. Он сунул руку в галифе. Крутанул пальцем застрекотавший в кармане барабан нагана.
– Охолонь! – в его голосе слышалась угроза, – кровушку пущать мы тоже умеем. Сейчас мы уйдем с майдана. И если кто из вас посмеет тронуть наши семьи… берегитесь… вырубим всех до единого! Не помогут вам тогда ни Гитлер, ни вермахт! Прощевайте, станишники!
Собиралась гроза. Где-то далеко прозвучал глухой раскат грома. Старики закрестились. И не понять было отчего – в страхе ли перед громом или от дерзких слов Сазонова.
От крыльца отделилась небольшая группа казаков. Впереди, держа руку в кармане, шел Сазонов. Колыхнувшаяся толпа пропустила их через свои ряды. Когда площадь осталась позади, Сазонов остановился, спустил курок старенького вороненого нагана.
– А теперь, хлопцы, бегом до дома и седлать коней! Собираемся у моста за мельницей. У кого имеется оружие, берите с собой! Патроны тоже несите. У кого нет коней, приходите пеши. Коней добудем! По домам ма-р-р-ш!
Через десять минут он прискакал к станичной мельнице. В темной и густой воде плавали желтые листья. Соскочив с коня, Сазонов присел на большой камень. Представил, что будет сам лежать в этой холодной слизи и его мертвое тело будут обсасывать затонные сомы. Представил и отвернулся в смущении. Стало стыдно перед самим собой за то, что страх с тусклыми, как у мертвеца, глазами на секунду захватил его сердце в свои липкие лапы.
Через час на мельнице собралось около десяти конных казаков. Вздыхали тяжело. Одинокие… Чужие… На своей родной казачьей земле. Тяжелые, страшные вставали перед ними вопросы. Куда идти? Где зимовать? Где взять оружие? Страшились непонятного, чужого слова – оккупация.
Сазонов достал из кармана кисет с табаком.
– Покурим хлопцы перед дорожкой. Командование отряда я принимаю на себя. Мы уходим в плавни. Когда отряд организуется полностью, вы сами выберете себе командира. А теперь говорите – согласны или нет?
– Согласны! Командуй, командир!
– По ко-о-оням!
Партизанам на Дону было не выжить. Кругом степь. Редкие кустарниковые заросли и лесные полосы не могли укрыть ни пеших, ни конных. Укрытием могли стать только приазовские плавни. Плавни – извечное прибежище непокорных. Здесь партизаны чувствовали себя как дома. За несколько дней они оборудовали базу, устроили землянку для жилья, баню и кухню. Выкопали колодец и замаскировали базу от авиации. Со временем там вырос целый поселок, выстроенный из камыша, с жилищами партизан и огневыми точками.
* * *
После ухода Сазонова старики нерешительно топтались на месте, не зная, что предпринять.
Павлов снова взял слово.
– Господа станичники! В правлении у нас имеется пятьдесят винтовок и десять цинков с патронами.
Казаки молчали. Павлов обвел взглядом заметно редеющую толпу:
– Кто хочет записаться в отряд и получить оружие, прошу вперед.
Писарь развернул толстую тетрадь, приготовясь записывать фамилии. Расталкивая казаков, к нему подошли Семен Лукин, Степан Сушенко с сыном и еще пять-шесть пожилых казаков. Остальные стали расходиться. Когда писарь, записав подошедших добровольцев, поднял голову, то около крыльца оставалось уже не больше двух десятков казаков. Павлов, все время презрительно смотревший на уходящих, крикнул:
– Ну, кто следующий? Подходи!
Желающих больше не нашлось. Павлов круто повернулся и, не прощаясь, пошел в станичное правление; за ним молча поплелись помощник, писарь и немногие добровольцы.
Павлов вызвал к себе станичного атамана.
– Ты вот что. Срочно проведи реквизицию лошадей по станицам и хуторам. Наверняка колхозных лошадей растащили по дворам. Сроку даю два дня. Портные в станице остались? Машинки швейные есть?
– Да, с пяток точно. Может быть, семь.
– Срочно собери всех, освободи им помещение, положи паек и пущай обшивают казаков. Папахи, кубанки, черкески, чекмени. Чтобы в сотне все были одеты и обуты. Сколько у тебя сабель? Сорок семь? А что же так не густо? Что?.. Казаки воевать не хотят?
– Да как вам сказать, господин полковник. Осторожничают.
– На то они и казаки, чтобы сначала прикинуть что к чему.
– Это верно, – согласился атаман. – Выжидают!
– Как с оружием?
– Трохи имеется, но в основном херня – берданы, обрезы. В общем, сплошной раритет. Нам бы шашки, тогда бы всех порубалы!
– Шашки это вчерашний день. Завтра проедься по станицам. Поговори со стариками. Организуй сбор оружия у населения. А я побеседую с немцами, автоматов не обещаю, а вот с карабинами постараюсь пособить.
Павлов помолчал, посмотрел на атамана.
– Значит так, через неделю конную сотню должен довести до полутораста сабель!
– Слушаюсь.
– Исполняй!
В этот же день Павлов издал приказ, что все казаки, способные носить оружие, должны явиться на местные пункты сбора и зарегистрироваться. Атаманы станиц были обязаны в три дня произвести регистрацию личного состава. Каждый доброволец имел право заявить свой последний чин в Российской Императорской или в Белой армии.
Станичные атаманы, как и в старину, должны были обеспечить казаков строевыми лошадями, седлами, шашками и формой. Откуда-то появились винтовки, заржавленные шашки.
Задымились кузни. Целыми днями в них звенели молотки, хрипло дышали мехи. В станках зло ржали кони.
Настроение станичников улучшилось. Будто вернулось старое время. Казаки готовились на службу. Ковали лошадей, чинили сбрую, чистили и смазывали винтовки.
День и ночь безостановочно как пулеметы трещали швейные машинки. Появились погоны, фуражки, лампасы и даже папахи.
* * *
Из-за линии горизонта выкатывалось медленное солнце. За плавнями начинала брезжить заря. Начинали галдеть и кружить птицы. Над Доном стремительно промчалась пара чирков. Сверкнул чешуей золотистый сазан и играясь ушел на илистое дно. Что-то настороженно крикнула в камышах болотная птица.
По пыльной дороге, тянущейся вдоль Дона, рыжие, белолобые быки тянули подводу. Подложив под чубатую голову объемный чувал, дремал на подводе молодой казак. Дорога свернула в сторону и пошла через поросшую терном балку.
Поеживаясь от утреннего холода, с земли быстро поднялись двое мужчин в телогрейках, с винтовками в руках. Прячась между деревьями, залегли на обочине.
Один из них остановил быков, сказал вознице:
– Здравствуй, Петро.
Казачок встрепенулся, соскочил с телеги.
– Доброго здоровья, хлопцы.
Подошел второй казак.
– Что нового на хуторе, Петро? Немцы не забижают?
– Да не, немцы не забижают. У нас атаман главный, немцы и не появляются. Казаки, кто с фронта прибег, опять служить пошли, только теперь у немцев. Справу им немцы выдали, оружие. Говорят, что скоро на фронт отправят. Краснюков бить.
Первый казак замахнулся на него.
– Ты говори да не заговаривайся, кулацкое отродье.
Петро замолчал насупясь, потом порылся в сене, вытащил чувал и подал казаку:
– Вот возьми, Наталка сеструха передала. Сказала, чтобы я в дупле вяза оставил. А ты тут как тут. Там чистые простыни для перевязок, харчи.
– Ну, паняй, Петро! Зайди к моей, скажи матери, чтобы белье передала, а то овшивели мы тут. Наши хлопцы на этом месте каждую ночь будут дежурить.
В ноябре 1942 года было получено официальное разрешение немецких военных властей на формирование казачьих полков. В Новочеркасске были сформированы 1-й Донской полк под командованием есаула Шумкова и пластунский батальон. Впоследствии они вошли в группу Походного атамана Павлова. В Белокалитвенском районе был сформирован 1-й Синегорский полк в составе 1260 офицеров и казаков под командованием бывшего вахмистра Журавлева. Осенью 1942 года в станице Каменской сформировали две казачьих сотни. Первой командовал подъесаул Кривогузов, второй – сотник Сытин, рожак станицы Базковской. Заместителем сотенного командира стал хорунжий Щербаков, проживающий в Старой станице. На станции Репная был собран казачий взвод из молодежи с ближайших хуторов.
Через несколько дней тишину станичного утра разорвали звуки трубы. Горнист играл тревогу. На площади строились сотни. В лунном свете мелькали лошади, казачьи лампасы, папахи и разномастные фуражки. В темноте раздавался тихий лязг и скрежет. Казаки прыгали в седла. Привычно вытягивали шашки из тугих ножен, чтобы в нужный момент их не заело, когда нужно было обнажить для удара.
– Хлопцы, куда это нас?
– Куда… куда… Таскать верблюда!
– Г-га-а-ах, гы-гы-ха.
Кругом хохот. Крики, лошадиное ржание, звон металла.
Командир полка на разгоряченном коне вертелся перед строем.
– Пооооолк… Поэскадроннооооо!.. Марш! – пролетела над площадью команда. Зацокотали копыта лошадей. Сотни на рысях пошли к плавням.
Блестела ледяная вода, освещаемая луной. Шуршал прошлогодний камыш, похожий на заросли леса. Конные казачьи секреты перекрыли выход из плавней. Группа разведчиков шла впереди, ставила вешки. Группы пластунов двигались следом. Одна за другой, след в след, не сворачивая ни влево, ни вправо.
Оступаться было нельзя. Можно было с головой уйти в ледяную воду или попасть в трясину. Боялись преждевременного обнаружения партизанами. Стрелять можно только с того места, где стоишь. Кругом было болото.
Больше двух часов брели в холодной воде. Уже под утро, когда промерзли до костей, увидели шалаши из камыша, дымки костров.
Дождавшись, когда подтянутся все группы, ударили по партизанам из ротных минометов, пулеметов «МГ-34».
Пулеметы отказывались стрелять из-за забитых грязью приемников. Мины, попадая в воду, не взрывались, и часть партизан, огрызаясь огнем, смогла отойти в глубь плавней. Основные базы были уничтожены, многие из партизан убиты.
Бой против партизан в плавнях стал первой боевой операцией, проведенной казаками Синегорского полка.
Через несколько дней на площади выстроился спешенный полк. Казаки стояли в разномастных советских и немецких шинелях, армейских шапках, донских папахах и с винтовками за плечами.
В начале улицы в окружении мотоциклистов показался грязный автомобиль. Затормозил, глухо рыча двигателем.
Колонна немецких мотоциклистов, растянувшись по сторонам, встала сзади, развернув пулеметы на строй казаков.
– Смиррно, равнение на средину! – Строй замер.
Из машины вышли немецкие офицеры, полковник Павлов в шинели с немецкими унтер-офицерскими петлицами.
Павлов крикнул весело, на всю площадь:
– Поздравляю вас с первой победой, донцы! Молодцы, хлопцы!
Вечером того же дня, выставив караулы и дозоры, растормошили казаки свои переметные сумы, жонки натащили еды, и пошли по рукам кувшины с ароматным и терпким донским вином. Обмывали победу, новые чины и лычки. Павлов на ночь остался в полку с казаками. Еще с вечера притащили двухрядку, и загуляли казаки. Здорово загуляли! Будто и не было никакой войны. Пили и гуляли почти до самых петухов. Плясали, так, что гудела донская земля. Казаки били с носка, бабы и девки крутили подолами. Всю ночь слышались пьяные вскрики, хрип гармони и лихой разбойничий свист.
Уже перед рассветом Павлов вышел на морозный воздух, закурил, и долго слушал, как где-то вдалеке гремят артиллерийские залпы.
В начале 1943 года Синегорский полк участвовал в оборонительных боях на Северском Донце, а затем отступил на территорию Украины. В апреле 1943 года казачьи сотни синегорцев вошли в состав 1-й Казачьей кавалерийской дивизии фон Паннвица.
* * *
Помощник начальника Управления НКВД по городу Пятигорску старший лейтенант госбезопасности Шибекин получил задание подготовить для проведения диверсионной и террористической работы в городе агентурные группы. Предстояло согласовать с руководством кандидатуры агентов, которых предстояло оставить для работы в немецком тылу.
На столе Шибекина лежало дело Тимофея Доманова. Он имел позывной «Филин» и считался надежным, перспективным агентом. То обстоятельство, что его жена, Мария Ивановна Брук, была немкой, фольксдойче, имело свои плюсы.
Мария Ивановна тоже состояла на связи как секретный сотрудник НКВД. Завербовали ее еще в 1940 году. Начальник НКВД города Пятигорска лично проверял ее лояльность и преданность советской власти.
Майор государственной безопасности Василий Михайлович Панков предпочитал это делать прямо на своем рабочем столе. Сказывались привычки, приобретенные за годы комсомольской работы в Центральном институте труда. Одно было плохо. Мария Ивановна была плохим конспиратором и, потеряв бдительность, так громко и страстно стонала, что сбегались все сотрудники управления.
На конспиративной квартире, в маленькой и темноватой комнате с задернутыми шторами, Доманова встретил человек средних лет, в военной форме. Близоруко щурясь, он вгляделся в лицо Доманова и встал, протягивая ему руку.
– Здравствуйте, товарищ Доманов. Присаживайтесь. Хотите чаю?
Его рука была теплая и влажная. Доманов незаметно вытер ладонь о скатерть.
Размешивая ложечкой сахар в стакане, Тимофей Николаевич рассеянно слушал своего куратора:
– Вы должны остаться в городе… Как только придут фашисты, вам надо будет появиться в бургомистрате… Расположить к себе. Не стесняйтесь, ругайте СССР, правительство, советскую власть.
Доманов встрепенулся:
– А товарища Сталина можно?..
– Что товарища Сталина?
– Товарища Сталина можно ругать?
Шибекин поперхнулся. Смущенно кашлянул.
– Нет. Товарища Сталина ругать воздержитесь. Расскажите немцам лучше о том, что страдали при советской власти, преследовались. Но не стоит рассказывать о своих уголовных статьях, упирайте на то, что боролись против советского строя.
Доманов в это время думал совсем о другом. Почему то вдруг вспомнилось, как несколько лет назад застал жену в кровати с собственным братом. Сашку пришлось посадить. Дурак, сам виноват. Хотя брательник, конечно, еще та шкура. Доманов вспомнил свой арест в 1934 году. Наверняка его работа, больше некому.
– Ваша задача любым способом втереться в доверие к новой власти. Выявляйте имена предателей, их домашние адреса, состав семей и прочее. Вас найдет наш связник.
Доманов смотрел мимо следователя. Опять шпионить, подглядывать, писать донесения. Неужели они не видят, что он способен на большее? Доманов вспомнил, как в 1915 году сам командующий вручал ему Георгиевский крест.
Внезапно снова вспомнилась жена. Перед его уходом она красила губы, вертя задом перед зеркалом.
«Б…дь! Наверняка побежала к этому сапожнику Ашоту, и он сейчас бьется своими волосатыми яйцами об ее голую задницу. Брошу суку! – решил Тимофей Иванович. – Вот устроюсь у немцев и брошу».
Несмотря на то что Доманов к своим 52 годам за спиной имел жизнь лукавую, мутную и путаную, воевал и за белых, и за красных, но все равно твердо верил в свою счастливую звезду.
– Так, говорите, когда взорвать электростанцию? Как только немцы войдут в город? Сделаем в лучшем виде.
Ухмыльнулся.
– Вы уж не забудьте про мой солдатский подвиг, товарищ старший лейтенант. Хоть и не за медали воюем, но все же. Похлопочите о награде!
Важный стратегический объект Доманов взрывать не стал, а вместо этого отправил жену навстречу немецким передовым частям, чтобы она сообщила о заминированной электростанции.
На следующий день он сам явился в комендатуру.
– Я, герр офицер, имею важную информацию, хочу донести ее господину коменданту лично, – прямо с порога заявил Доманов дежурному офицеру. Комендант был занят, в его приемной уже сидело несколько человек, среди них только что назначенный начальник полиции, директор гимназии и местный священник. Батюшка пришел жаловаться на немецких солдат, которые вчера вечером смеха ради расстреляли его гусей. Поп шевелил губами, репетируя про себя речь и входя в образ, смотрел на посетителей горько и жалостливо.
Начальник полиции тоже волновался и, беспрестанно потея, ходил по приемной, скрипя хромовыми сапогами. Искоса он посматривал на портрет Гитлера, висевший на стене. У фюрера было надменное лицо – сверху вниз он холодно смотрел на начальника, тот робел и потел еще больше.
Дежурный брезгливо поморщился и направил Тимофея Ивановича в жандармерию. Дескать, иди прямо по коридору, там сам увидишь.
Доманов читал таблички на дверях. Следователь гестапо… Зябко поежился, поспешил пройти мимо. Потом – начальник полиции… Жандармерия.
За столом сидел немолодой обер-лейтенант и играл спичечным коробком. Клал его на край стола и щелчком ногтя переворачивал на бок. В кабинете было тихо, только гремели спички.
– Я слушайт вас, – сказал офицер.
Доманов, волнуясь и робея, сообщил, что вчера в городском парке видел старшего лейтенанта НКВД Шибекина, которого большевики наверняка оставили в городе для подпольной работы.
Немец поднял трубку телефона и сказал несколько фраз по-немецки. Через несколько минут в кабинет вошел немецкий фельдфебель. Обер-лейтенант приказал ему прочесать парк, но никакого Шибекина там конечно же не оказалось.
После этого Тимофея Николаевича еще несколько раз вызывали в комендатуру и допрашивали. Но несмотря на его рассказы о том, что он – бывший белый офицер и за это подвергался репрессиям в тридцать восьмом году, никакой должности ему не предложили. Более того, с электростанции его уволили, и остался Тимофей Иванович без работы. Поначалу он было запил, но быстро взял себя в руки. Вскоре пришла весточка от Георгия Кулеша, с которым познакомился в 1938 году, в лагере. Сейчас Жорка работал начальником полиции в городе Шахты. Звал к себе, дескать, приезжай, как воздух не хватает умных и надежных людей.
Кулеш поселил его у себя в доме. Всю ночь просидели за столом. Доманов с натянутым лицом, позевывая, слушал приятеля. Кулеш говорил что-то о перспективах, о немцах, золоте, которое есть у евреев. Доманов едва улавливал обрывки фраз, концы мыслей. Сегодня он весь день провел в дороге, устал, а тут еще изрядно выпил. Мутило. Его взгляд, скрытый за толстыми стеклами очков, подернутый налетом безразличия, следил за шевелящимися, словно крупные пиявки, губами Кулеша. Доманов взял большой соленый помидор, надкусил. Соленая влага залила рот, брызнула на брюки. Доманов помял во рту холодную мякоть, жадно проглотил. Налил стопку водки, выпил. Немного полегчало. Прислушался к тому, что говорит Кулеш.
– Ты пойми, Тима. Немцы – это наш шанс, твой и мой. Вспомни, кто я был шесть лет назад. Фраер! Фуцан!
– Ты выпей, Жор.
Начальник полиции замолчал. Опрокинул стопку. Сипло с шумом выдохнул.
– А сейчас? Весь город у меня в руках. Захочу, любого в бетон закатаю. В общем, так, тебе надо ехать в Новочеркасск – представляться Павлову. За казаками скоро будет большая сила. Ты человек башковитый, должен пригодиться. Ну и я словечко замолвлю.
* * *
В конце ноября 1942 года перед домом, где располагалось войсковое правление, остановилась бричка. Уже немолодой, начинающий полнеть мужчина в очках ступил начищенными хромовыми сапогами в колею, полную дождевой воды, и, поморщившись, зашагал в штаб походного атамана Войска Донского полковника Павлова.
В деникинской армии Доманов из прапорщиков военного времени выслужился всего лишь в сотники, но решил, что кашу маслом не испортишь. Представился подъесаулом.
Дежурный офицер сообщил, что Павлов в настоящее время вотъезде, и направил Доманова к заместителю – бывшему полковнику Белой армии Попову. Тому Доманов глянулся. Попов сразу же сунул ему анкету для заполнения.
Заполнив анкету, Тимофей Иванович заикнулся было насчет отпуска, дескать, жену перевести, вещи, то да се. Но Попов отрубил:
– Ты, Доманов, это брось, антимонь разводить. Время не то. Вот тебе приказ о присвоении есаульского чина, и поезжай в Шахты, с богом. Назначаешься там представителем штаба. Найдешь сотника Лукьяненко. Это заместитель Кулеша. Передашь ему приказ о том, что он назначается твоим заместителем. Будешь вместе с ним набирать казаков в наши части. Оружие добудете сами. Кулеш подмогнет если что. Свободен, есаул. Действуй!
Доманов вытянулся, козырнул и вышел вон.
* * *
С осени 1941 года на территории Смоленщины и соседней Белоруссии появились партизаны. Вначале это было несколько малочисленных отрядов, состоящих главным образом из коммунистов и сотрудников НКВД, оставленных по партийному заданию, окруженцев, вынужденных скрываться в лесах, потому что в тылу немецких войск можно было спрятаться и выжить только в районах больших лесных массивов, которые были недоступны полному немецкому контролю.
Народ относился к партизанам по-разному. Одни их поддерживали, другие на них доносили немцам. В каждой деревне находились пострадавшие от советской власти и доносившие на тех, кто лояльно относился к партизанам.
Само собою разумеется, и партизаны тоже были разные. Одни боролись против оккупантов и с населением вели себя терпимо, другие не жалели и не щадили никого. Были и такие, кто ушел в лес, чтобы переждать войну. Им было все равно, кто в конечном счете будет править страной – Сталин или немцы, – лишь бы пересидеть, пока война. А там будет видно, к кому прислониться.
Многие отряды почти не участвовали в боевых операциях, ограничиваясь только «снабженческими походами».
Москва не снабжала партизан продуктами, пропитание и одежду они добывали в основном у местного населения. Во время этих операций зачастую вели себя как обычные грабители. Именно так и воспринимало их население. Продовольственные реквизиции проводились регулярно. Из крестьянских домов постепенно исчезла живность: переставали кудахтать куры и по утрам петь петухи. Но быстрее всего прекратили хрюкать свиньи. Свежатину любили все – и партизаны, и немцы с полицаями.
Партизаны могли прийти ночью в деревню, вытащить старосту из постели и тут же на глазах жены и детей повесить его за то, что он, по решению односельчан, разделил между ними колхозную землю. Или просто за то, что пошел в услужение к немцам. Бывали и случаи расстрела партизанами жителей деревень, чьи родственники сотрудничали с немецкой администрацией или служили в полиции.
Вся эта бессмысленная бойня и сведение счетов приносили горе и тем и другим. Но эти несчастные, нищие люди не были виноваты в том, что каждый хотел жить. Виноваты были те, кто их обманул, предал и превратил их в зверей. Только дьявол мог посеять в России такую дикую вражду, когда односельчанин, сосед или родственник доносил на своих близких.
Сложное было время, тяжелое. Оступись на одной тропинке – немцы повесят, сделай что-то не так – партизаны могут застрелить. Тем, кто на фронте или в партизанах, было легче – у них был один враг. А вот мирное население обитало даже не меж двух огней – меж многих.
Постепенно командование Красной армии стало перебрасывать через линию фронта кадровых командиров и политработников, которые возглавили отряды, и партизаны перешли к активным боевым действиям. Они захватывали полицейские участки, резали телефонные провода, пускали под откос воинские поезда, убивали немецких солдат и офицеров. Немцы в отместку останавливали направляющиеся на фронт воинские эшелоны и прочесывали лес. Устраивали облавы, уничтожали партизанские базы, но отряды и отрядики, хорошо зная местность, рассыпались по лесам, чтобы вновь встретиться на запасной базе. Не найдя партизан, немцы и полицаи срывали свою злобу на мирном населении. Жгли деревни, стараясь запугать дикими расправами и массовыми публичными казнями беззащитных, безоружных людей.
Жители сел и деревень, спасаясь от немцев и полицаев, уходили в глубь лесов. В лесной чаше, среди болот беженцы копали землянки, ставили шалаши. Многие уводили с собой домашнюю скотину – коров, овец, коз. В лесном лагере бегали дети, кричали младенцы, женщины готовили на кострах, тут же стирали, случалось, что здесь же рожали и умирали.
Часто появлялись вооруженные люди в гражданской или полувоенной одежде. Партизаны навещали свои семьи, стремясь хоть как-то облегчить им жизнь.
В лесных чащах можно было встретить одиночек – окруженцев, дезертиров и просто людей, отставших от эшелонов, или тех, чьи дома были сожжены.
* * *
В лесной чаще чуть теплился огонь в костре, на остывающих углях запекались грибы, нанизанные на ветку дерева. Рядом с костром опустив голову сидел светлоголовый подросток. Уже несколько месяцев он скитался по лесам голодный, никому не нужный. Поезд, на котором он ехал вместе с матерью, разбомбили, мать наверное погибла. Отец погиб на границе. Мальчик об этом вспоминал уже без волнения. Его больше пугала приближающаяся зима. Через месяц, два выпадет снег.
«Помру я, наверное, – думал мальчик. – Замерзну».
Незаметно для себя он задремал. Снилось ему море, на котором он был за год до войны с родителями, шум прибоя, кричащие чайки.
Хрустнула ветка под чьим-то сапогом.
Из-за кустов за ним наблюдало две пары глаз. В зарослях прятались двое. Один помоложе, с винтовкой. Другой постарше, с седой щетиной на лице и немецким автоматом за спиной. Оба были обуты в немецкие сапоги, на одном вместо гимнастерки немецкий китель мышиного цвета. Окруженцы или партизаны.
– Малец… один. Запах духмяный, грибы печет, – шептал тот, что помоложе, сглатывая голодную слюну.
– Вижу, что один. Давай двигаем отсюда.
– Может, грибы прихватим, старшой. Вторые сутки не жрамши.
– Малец ведь тоже жрать хочет! Пошли.
– Ты иди, я портянку перемотаю. Догоню.
Мальчик открыл глаза. Вдали слышался удаляющийся хруст валежника. Грибы исчезли.
Старший с автоматом покосился на напарника.
– Сука ты, Никифоров. Ничего для тебя святого нет, ни своих, ни чужих не жалеешь.
* * *
65-летний генерал Шенкендорф морщился как от изжоги.
Позавчера при патрулировании участка дороги Смоленск – Могилев исчез наряд фельджандармерии в составе фельдфебеля Шульце и унтер-офицера Мюллера. Предпринятые розыски не дали результатов. Вчера из штаба 9-й танковой дивизии в управление фельджандармерии округа поступила информация о не прибывшем в пункт сбора грузовике с амуницией. Груз сопровождали пятеро военнослужащих, включая водителя, во главе с унтер-офицером Шнитке.
Взвод фельджандармерии обнаружил грузовик с расстрелянными солдатами на лесной дороге, в нескольких километрах от трассы. Груз исчез, в кузове лежали тела немецких солдат. Трупы раздеты до белья, обмундирование и документы погибших исчезли. Жители близлежащей деревни показали, что не слышали звуков боя, что выглядит правдоподобно и объясняется сильной метелью, бушевавшей в ту ночь. На основании результатов розыска был сделан вывод: наряд фельджандармерии и группа сопровождения груза танковой дивизии стали жертвами партизан.
Все как всегда. Взрывы на железной дороге, убийства солдат и полицейских, листовки в городе.
Генерал нажал кнопку звонка, приказал возникшему в дверях адъютанту:
– Сегодняшнюю сводку происшествий мне на стол!
– Слушаюсь, господин генерал.
– Карту! Благодарю, можете быть свободны, – генерал кивнул адъютанту и склонился над картой. На нее кружочками были нанесены места нападений бандитов. Их обилие показывало, что бандиты уже стали хозяевами в немецком тылу. Снятие крупных войсковых подразделений с маршрута следования на фронт и прочесывание лесов не давало никакого эффекта. Обычно такие операции заканчивались тем, что удавалось повесить заложников или тех, на кого падало подозрение в пособничестве партизанам. Сжигались целые деревни, а партизаны, ухитрившись избежать открытого столкновения, просачивались через цепь облавы и уходили в только что зачищенные районы.
Генерал Шенкендорф задумался.
А что там казаки? Может быть, хватит им прохлаждаться в тылу и бесконечно горланить свои казацкие песни? Пора проверить их в деле!
* * *
Долго не спали казаки, а заливисто хохотали по углам. Снова и снова кто-нибудь просил Толстухина Елиферия рассказать очередную байку.
Было ему чуть за пятьдесят. По меркам молодых казаков – дед. Его все так и звали. Серьезный был человек, обстоятельный. Много чего повидавший на своем веку. Рассказывал о Гражданской войне. В своих рассказах не щадил никого. Ни белых, ни красных. Ни казаков, ни мужиков.
– В первом лагере, в Славуте, нас охраняли не немцы, а казаки. Говорили, что кубанцы. Только врали, наверное. Я одного спрашиваю: «Ты чьих будешь»? А он белюки вылупил и меня вместо ответа – прикладом. День и ночь ходили вдоль проволоки с винтовками.
Елифирий улыбался горько.
– Отличиться хотели. Выслужиться! Так понимаю.
– Немцы на вышках сидели. С пулеметами. Нас не стреляли. Не помню такого случая, чтобы с вышки огонь открывали. А вот казаки в нас стреляли. Будто специально выжидали. Я напраслину не наговариваю – говорю то, что видел и пережил. Подойдет, бывало, пленный к проволоке и палочкой к травинке тянется. Голодали ведь страшно! И травинке душа рада! А тут казак с вентарем: «Стрелять буду!» Пленный ему: «Стреляй! Твою мать! Все одно от голода подыхать!» А самому не верится, что выстрелит. Недавно ведь вместе, в одном окопе сидели! Бах! Глядишь, и отмучился сердечный. Другой охранника по матери: «Что ж ты делаешь, лярва?!» Снова, бах! И еще один дергается в кровище. Так что правильно старики наши говорили: «Страшен не царь, страшен псарь!»
Любил Елифирий рассказать и смешное. И какой бы смешной не была история, преподносилась она всегда обстоятельно и серьезно. Это только добавляло веселья.
Елифирий вопрошал:
– Вот, к примеру, лампасы. Что же это такое? Откуда они взялись? Кто знает? – И тут же сам отвечал: – Во-ооот! Не знаете. Потому как казаки вы тряпошные. Воевать научились, а ни традиций, ни истории своей не знаете. Это я не в упрек вам, хлопцы. Нет вашей вины в том, что батьков ваших постреляли и рассказать о вашей истории было некому. Так вот слухайте деда.
Толстухин устраивался поудобнее. Доставал бумагу для закрутки. К нему со всех сторон тянулись кисеты, пачки с сигаретами.
– Для казака лампас был важен… ну как крест для попа. Его нашивали казачатам на первые штаны. Все! С этого момента он уже считался казаком. Хотя и малым.
Сидят старики на бревнах, курят. Пробегает мимо какой-нибудь казюня. От горшка два вершка. Сопли до пояса. Но в штанах с помочами. И обязательно с лампасами.
– Мать честная, царица небесная! – таращат глаза старики. – Никак казаки с лагерей возвернулись?!
Казачонок останавливается.
– Да это не казаки, это я, Мишанька.
Старики всплескивают руками.
– А мы тебя и не признали, Михайла Григорич! Ты в штанах с лампасами ну прямо взаправдашний казак!
– Как взлослый? – спрашивает Михайла Григорич.
– Как взрослый, – подтверждают старики. – Ты отцу передай, пусть тебе коня готовит. Пора на цареву службу собираться.
Вот потому-то большевики и бесились, когда на казаках лампасы видели. Знали, что воин перед ними. Потому за ношение лампасов, также как и за ношение погон, фуражек и за слово «казак» – стреляли на месте. А чтобы страху нагнать, лампасы и погоны казакам вырезали прямо на теле. Вот, ей-богу, не вру, – и дед размашисто крестился во всю грудь. – В первом полку есть казак по фамилии Гусельников. Поглядите на него в бане. На одной ноге лампас ему все-таки вырезали, пока его не отбили.
Покуривая толстенную самокрутку, Елифирий излагал складно. Молодые казаки слушали его раскрыв рты. А Елифирий перекуривал и начинал новую байку.
* * *
Кровати Муренцова и Елифирия стояли рядом. По вечерам Толстухин любил рассказывать Муренцову о своей жизни.
– Казачья жизнь что на Дону, что на Яике, что на Кубани ничем не отличается, – неторопливо излагал Толстухин. – Был мальцом – помогал отцу по хозяйству, в ночном коней пас. Хозяйство-то у нас большое было.
Муренцов, слушая незатейливые рассказы, и сам вспоминал отцовское имение, сенокос, выгулку лошадей. Картины прошлого приятно кружили голову. Они были сладостны, как первые и чистые впечатления детства.
Елифирий продолжал:
– У нас в Сибири строгое воспитание было. Бывало, в прощеное воскресенье, перед Великим постом подойдешь к родителям и в ноги: «Тятяня, маманя, простите меня Христа ради…» А тятя отвечает сурово: «Бог простит, сынок». Потом царя скинули и началась чехарда, то красные петуха пущают, то белые саблями машут. Надоело меж двух огней вертеться, и ушел я к полковнику Сладкову, он тогда полком командовал. Потом Уральскую казачью дивизию принял.
– Стой, Елифирий! – перебивает его Муренцов. – А в Лбищенском рейде ты участвовал?
– А как же! Участвовал. Мы тогда же и чапаевскую дивизию в пух разделали!
Муренцов приподнялся на локте.
– Ну-ка, расскажи, Елифирий.
Толстухин, плечистый, лицо серьезное, привалился к стене.
– А что рассказывать, Сергеич? Все как на войне. Казачий разъезд поймал двух красных с секретным пакетом. Так и поняли, что в Лбищенске расположился штаб красных. Собрали добровольцев и той же ночью отправились в рейд. Уже под утро вырезали красные караулы и вошли в Лбищенск. Взвод подхорунжего Белоножкина шел в лоб, мы немного левее…
Елифирий замолчал, вспоминая.
– Я потом видел это место. Везде кровь, мебель разбросана и порублена. Чапаев, стерва, отчаянный был, – здорово бился, пока его в живот не ранили… То, что в кино показывают, будто плыл он через Урал, брехня. Проспал красный начдив свое войско, хотя рубака был знатный. Типа нашего комполка Ивана Никитича. Он и обличьем на него шибает.
А-ааа, вот еще помню. Трофеев тогда богато взяли, пленных немеряно, одних только комиссаров в кожаных куртках шесть или семь. И это… – Елифирий насупился, – целый взвод девок-машинисток. Очень уж любили комиссары декреты писать. Одно название, что борцы за народное счастье, а на самом деле шляндры! – Толстухин сплюнул. – Тьфу ты, прости Господи, как есть – шляндры!
Перед Муренцовым продолжала разворачиваться вся нелегкая казачья судьба.
– В конце 1919 года переболел сыпным тифом… Но выкарабкался. Потом отступление. Через солончаки отошли к Каспийскому морю. Что по дороге пережили, страсть господня. От голода и мороза люди теряли человеческое обличье. От ветра прятались за верблюдами, спали под фургонами или в выкопанных ямах. Люди на глазах превращались в зверей. Представляешь, Сергеич, казак доходит в яме. А его еще живого вытаскивают на мороз, чтобы занять место. Слава Богу, дошли. Не успели опомниться, тут как тут красный десант с кораблей Раскольникова и ультиматум. Полная капитуляция или всех постреляем. Сдались два генерала, два десятка офицеров, нижних чинов несколько сотен. Я их не осуждаю. Устали, да и войне уже конец походил. А жить всем хочется. Но наш атаман Толстов собрал две неполных сотни, кому терять уже было нечего, и ушли мы в Персию. Во время перехода жрали одну мерзлую конину и верблюжатину. Слава Богу, хоть это было. Потом – Персия, лагерь для русских беженцев, каменные скалы на острове Русском, потом Австралия.
Елифирий рассказывал о своей жизни без прикрас, с легкой грустью.
– В Австралии поначалу показалось, что попали в рай. Круглый год тепло, за окном океан. Красивые женщины. Купил себе костюм, велосипед. Даже жениться собирался. Но тут такая тоска меня загрызла, что хоть волком вой. Закрою глаза, снится березовая роща за станицей да кладбище, где все родовье лежит.
Толстухин поднялся с кровати, стал вертеть цигарку. Муренцов смотрел на его лицо, с жесткими морщинами по обочинам щек, с усмешливо-умными глазами, слегка дрожащие пальцы. Да уж, переехала жизнь по казачьей судьбе!
– Что только не делал. Нет! Как будто морок вселился, уеду и все. В 1928 годе купил билет на пароход – и в Россию. Долго ехал, всякое пережил, наконец добрался до родной станицы. А ее не узнать. Казаков почти не осталось, кто в отступ ушел, кого убили. В их домах пришлые, киргизы. Кругом разруха, нищета. И тут я прозрел. Куда приехал?.. Зачем? Что хотел здесь найти? Но делать нечего. Стал работать. Ломил как проклятый. Рубаха от пота расползалась. А тут коллективизация. Вызвали в сельсовет и сразу вопрос ребром – выбирай, казак: или в колхоз, или на Соловки. Всю ночь думал, курил. Вспоминал всю прошлую жизнь, войну, отступление. Выбрал колхоз, хотя хрен редьки и не слаще. Утром отвел на колхозный двор лошадь, коровенку, пяток овец.
Потом опять война, теперь уже с германцами… Мобилизация… Ну а уже на передовой показал я кукиш нашему комиссару и под Харьковом перешел к немцам, подальше от счастливой жизни при социализме. Ну а потом как у всех. Лагерь для военнопленных в Славуте. Формирования казачьих частей под Винницей и казачий эскадрон вермахта.
* * *
Идея о формировании крупных подразделений из казаков интересовала не только Розенберга. Разыграть казачью карту стремился и Генрих Гиммлер. С их подачи Гитлер отдал команду о срочной разработке теории о том, что казаки, также как и немцы, являются потомками готов. Казаки были признаны арийской нацией.
После занятия Дона и Кубани в распоряжении германского командования оказались казачьи эскадроны, батальоны и даже полки. Весной 1943 года в Берлине был подписан о приказ о создании 1-й казачьей дивизии. Местом формирования был выбран учебный лагерь в Милау, расположенный на территории Польши. В мае – июне 1943 года туда начали перебрасывать самые боеспособные казачьи части вермахта – 1-й Атаманский полк, казачий конный полк «Фон Юнгшульц», казачий конный полк «Платов», 600-й казачий дивизион майора Кононова. Офицерские кадры для штаба дивизии были взяты из временного штаба боевой группы «Паннвиц».
Полковник Платон Духопельников получил полномочия от управления Добровольческих формирований OKW на вербовку в казачью дивизию добровольцев из числа местных жителей и военнопленных. На Украине Духопельников развернул бурную деятельность. Во всех комендатурах, сельских управах, отделениях полиции посадил своих вербовщиков.
Дмитрия Мокроусова задержали местные полицаи, после того как он, устав от блуждания по лесам и отощав, пришел в деревню.
В управе за дощатым столом сидел какой-то бородатый мужик, в папахе и немецком кителе. В углу стояла железная кровать, застеленная лоскутным одеялом. Вешалка у двери. На ней висел карабин на засаленном брезентовом ремне. На побеленной стене растеклось желтое пятно. От стен тянуло холодом и сыростью.
Бородатый смотрел неприветливо. Нахмурился грозно:
– Ты чей будешь? Партизан?
– Никак нет. Красноармеец Мокроусов.
– А-а-а… Красноармеец… Ну-у-у-у тогда в камеру. А потом в лагерь… или к стенке. Годков-то тебе сколько?
– Семнадцать… Восемнадцать скоро.
– Жалко… Не жил совсем. Как зовуть?
– Митрий.
– Откель?
– Сибиряк… Из Омска.
– Из Омска, говоришь?.. Так ты казак?.. Или из мужиков?
Дмитрий решил, что назваться казаком безопаснее.
– Га… Из казаков… Мокроусов… – Бородатый задумался. – Мокроусовы – это казацкая фамилия. Никак не мужицкая… На германской был у нас вахмистр – Мокроусов… тот еще зверюга. Не батя твой? Нет? Ну тогда ладно.
Казак задумался, почесал бороду. Внезапно просветлел лицом.
– Слушай… А давай к нам в сотню! Ты в живых останешься, а мне сотник благодарность объявит, что тебя завербовал.
Дмитрий молчал.
Казак демонстративно бросил взгляд на винтовку.
– Ну, вольному воля. Не пойдешь?
Дмитрий тоскливо вздохнул.
– Пойду… Куда же деваться?..
Полковника Донскова отправили в Кривой Рог – там, на Карачунах, немцы начали собирать казаков из лагерей военнопленных для дальнейшей вербовки их в дивизию Паннвица. У военнопленных был даже выбор. Казаки, не желающие идти к Паннвицу, вербовались полковником Донсковым в полки Павлова.
Казаки записывались во множестве. Обида на советскую власть за расказачивание и геноцид, а также надежда на создание при помощи немцев независимого государства «Казакии» привлекли в казачьи части вермахта тысячи сторонников.
Доманов их первично формировал и отправлял в Кировоград почти полностью вооруженными – его заместитель Лукьяненко добывал оружие как фокусник, и вскоре о Доманове заговорили в штабах походного атамана и немецких. Всего Доманов навербовал в Запорожье около тысячи казаков, которые отправились в Кировоград, где находились еще тысячи две, из которых Павлов сформировал два полка.
Однажды вербовщики обнаружили в группе беженцев ординарца генерала Шкуро времен Гражданской войны. Когда генерал ушел в эмиграцию, его ординарец остался в Советской России. Ординарца тут же отправили в Германию, в штаб Казачьего Резерва на Курфюрстендамм. Подняв глаза на вошедшего незнакомого посетителя в штатском, Шкуро спросил его: «Чем могу быть вам полезен?»
Обтрепанный и полуоборванный человек сделал шаг к столу, за которым в черной черкеске с немецкими генеральскими погонами сидел Шкуро. Дрожащим голосом произнес: «Чы, ты нэ впизнаешь мэне, батьку?» Шкуро медленно поднялся, посмотрел в упор и, напрягая память, вспомнил. Выскочил из-за стола, обнял. Посреди кабинета стояли и плакали обнявшись два казака – старый генерал и его старый ординарец. Офицеры штаба прятали глаза, потом осторожно вышли из кабинета, тихо прикрыв двери. Генерал и его ординарец остались вдвоем. Им было что рассказать друг другу.
* * *
Направленный в Херсон для формирования казачьих частей полковник Петр Донсков напился и учинил там скандал. Донскова задержали и посадили в кутузку.
Павлову пришлось подключать немецкое командование и выручать помощника начальника штаба. Полковник Донсков вернулся в штаб Павлова и занял там должность начальника отдела пропаганды – у Павлова это было традиционным местом ссылки для тех, кого больше уже некуда было пристроить. На замену Донскову прибыл начальник военного отдела – войсковой старшина Платон Духопельников.
По приказу Муссолини, с целью активизации боевых действий на Восточный фронт было направлено около десяти итальянских дивизий. Они были подчинены группе армий «В» немецкого генерала Максимилиана фон Вейхса. Одна из них, дивизия «Виченца», была задействована в тылу, для обслуживания военных коммуникаций. Питание итальянцы получали от немецкой части, но оно было настолько плохим, что солдаты не гнушались воровать по ночам мелкий скот, овощи, птицу. Немецких офицеров раздражал расхлябанный внешний вид итальянцев и их неспособность соблюдать железную дисциплину.
Дергая острым кадыком на шее, генерал Гальдер говорил:
– Если вы увидите небритого солдата, с расстегнутым воротом и выпившего, не торопитесь его арестовывать – скорее всего, это наш итальянский союзник.
По приказу бургомистра города оккупационные власти начали выдавать молоко женщинам, имеющих грудных детей. Каждое утро в специальных пунктах выстраивалась очередь. К ней стали пристраиваться вечно голодные солдаты итальянской пехотной дивизии. Они мирно стояли вперемешку с беременными женщинами, не требуя себе лишнего. Получали общую норму и чинно удалялись.
Полковник Духопельников, будучи в состоянии легкого подпития, проходил мимо и обозвал итальянцев жидами. Когда союзник что-то возразил, подбил ему глаз. Прежде чем его успел скрутить наряд полевой жандармерии, Платоша успел оторвать погон фельдфебелю. По телефону был вызван дежурный офицер из русского отдела комендатуры. Переночевав ночь в холодной камере, Духопельников осознал, что был неправ, о чем утром заявил прибывшему за ним офицеру:
– Зря я с этими макаронниками подрался. Надо было их шашкой рубануть.
* * *
В Виннице и Запорожье сам Тимофей Доманов собрал до полка казаков, с женами, детьми и скотиной. Боеспособных казаков призывного возраста направили в Проскуров, а нестроевых отправили пешим порядком в местечко Лесное – что находилось в Белоруссии.
Павлов вручил Доманову сразу два приказа: о присвоении ему чина войскового старшины и о назначении его на должность заместителя походного атамана по строевой части.
В Проскурове находилось пять тысяч казаков вместе с семьями. В конце апреля начали прибывать кубанцы атамана Науменко и терцы полковника Тарасенко. Вместе с Тарасенко в Проскуров явился Георгий Кулеш.
Тем временем непосредственный начальник Павлова – генерал от кавалерии Каплер – подал в отставку по состоянию здоровья. Павлов выехал в Берлин к Краснову – для получения указаний, поскольку казаки Павлова были выведены из подчинения штабов местных частей вермахта и штаба Каплера и были переподчинены генералу Краснову. И еще дошли слухи, что генерал Шкуро просил у Краснова должность походного атамана. Павлова это расстроило, и он приказал Доманову прекратить переброску батальонов на Лесное, а направлять их в Новогрудок.
Майор Мюллер добился приказа о создании оседлых казачьих поселений в Лидском, как наиболее партизанском округе Белоруссии. Краснов же настаивал на том, чтобы размещать казаков в Балине, Каменец-Подольской области, но Павлов решил посылать туда только самых никудышных, больных или старых. Как только Павлов уехал, в его штабе начал распоряжаться Мюллер. Он отослал Доманова в Балино с дивизионом военного охранения и приказал находиться там до выяснения обстановки. В бои не вступать. Доманов себя не обидел – взяв две сотни шахтинских казаков и сотника Лукьяненко, выехал на Балино. Еще одна сотня осталась в Проскурове. Сотенный Анфимов получил приказ добыть коней и догонять конным строем. В Балине скопилось четыре тысячи невооруженных, голодных беженцев и членов их семей. Доманов решил увести их в более спокойное и сытное место, но отступающие немецкие части реквизировали у него почти всех верховых лошадей. Немцы не стеснялись. Дело дошло до мордобоя, и несколько коноводов было избито. Чудом не начали стрелять. Доманов побежал жаловаться в штаб фельдполиции, но его никто не стал даже слушать. Лошади были нужны немецкой армии, она отступала, оставляя в котле своих союзников – румынские и венгерские части.
А в лагерь Доманова все прибывали и прибывали беженцы – голодные, больные, измученные вшами. Несдержанный Лукьяненко ярился и все чаще говорил о том, что по немцам давно уже пора открыть огонь. Среди казаков забродили похожие настроения. Доманов в поисках выхода метался между своим штабом и немецким командованием. Немецкие офицеры, занятые эвакуацией, отмахивались от него, как от назойливой мухи. Наконец Доманов решился и приказал выдвигаться пешим маршем на Проскуров, но было уже поздно – кольцо окружения замкнулось. Деваться было некуда.
Рядом с казаками занимали оборону два мадьярских пехотных батальона. Доманов побежал к мадьярам и предложил прорываться вместе. С венгерским майором, командовавшим мадьярами, обговорили план прорыва из кольца. Фронт уже ушел вперед, и нужно было выходить в тыл Красной армии.
Доманов выговорил себе такие условия: он с конной разведкой пойдет в атаку с венграми, а пешие казаки с обозом будут прикрывать тыл. Атака удалась. Казаки и мадьяры вышли из окружения. При этом взяли в плен несколько офицеров штаба полка Красной армии, которых потянули за собой. Отступившие немцы тем временем закрепились и, слегка собравшись с силами, пошли в контрнаступление, и домановцы вышли прямо в расположение немецких частей. Выяснив, кто они такие, казаков направили в Лемберг, где Павлов их встретил как героев. Казакам была устроена торжественная встреча. После молебна походный атаман объявил казакам благодарность за то, что сохранили дисциплину, боевые порядки и с оружием в руках вышли из боя.
Мадьярский майор охарактеризовал Доманова с самой лучшей стороны и особо подчеркнул, что большевистский штаб был пленен его казаками. Мюллер пришел в восторг и подал представление в штаб о награждении Доманова и всех его казаков. За храбрость во время боевых действий и вывод из окружения своего подразделения Доманова наградили Железным крестом 2-го класса, бронзовым «Знаком отличия за храбрость для народов Востока» и присвоили ему чин оберст-лейтенанта германской армии. Это было серьезным признанием его заслуг. Даже Павлов не имел чина старшего офицера вермахта.
Потом домановцы в полном составе были направлены в Новогрудок. Всего туда свели 5 полков, из которых было два донских, кубанский пластунский под командованием полковника Тарасенко и два сводных. Общая численность строевых казаков составила 5000 человек.
* * *
Но также как в далекую Гражданскую войну, и сейчас не было единства среди казаков. В штабе полковника Павлова не доверяли его заместителю Тимофею Доманову. Офицеры штаба говорили Павлову, намекая на мутное прошлое Доманова:
– Чертовски ловок наш Тимофей. У белых служил, и у красных, и у серо-буро-малиновых. Неизвестно какому дьяволу служит сейчас и кому еще служить будет. Можа, и сейчас с красными нюхается?..
Павлов огорченно махал рукой.
– Пригрел змею на своей груди. Но трогать нельзя. Любят его немцы. Неизвестно, чем глянулся?
Немцы Доманова действительно любили. Вернее, не его. Представитель восточного министерства Радтке поручал его жене Марии Ивановне возить доклады для доктора Гимпеля.
Казаки многозначительно улыбались. Знаем, мол, чем.
– Спит с Эдуардом Генриховичем, сука!
Всегда деликатный и осторожный полковник Павлов темнел лицом:
– Господа, оставьте эти бабьи сплетни. Это абсолютно не наш уровень.
Не отставал и Доманов. С самых первых дней знакомства с походным атаманом его съедало чувство зависти. Он, как паук паутину, плел интриги против Павлова. И в случае какой-либо неудачи Павлова он многозначительно вздыхал:
– Нисколько не удивлен! Полковник Павлов не в состоянии организовать работу, потому у него частенько и случаются такие казусы.
Павлову докладывали об этих разговорах, и он темнел лицом. В штабе была полная нехватка командных кадров и заменить Доманова было некем.
* * *
Стряхнув с фетровых бурок снег, к Доманову зашел походный атаман Павлов. До этого он никогда не был у него в гостях. Все переговоры с ним вел только в штабе. В комнате было сильно накурено, пахло пролитым вином, и от голосов, сигаретного дыма у Павлова резко начала болеть голова. Слышен был пьяный гомон, какие-то ничего не значащие слова, звякала посуда. За столом сидели Доманов, сотник Лукьяненко, еще несколько офицеров. В доме была жарко натоплена печь. Воротники мундиров у всех расстегнуты. Лукьяненко о чем-то спорил с сотником Житненко, услышав стук двери, повернул лицо – короткие волосы слиплись от пота. Доманов удивился приходу атамана, но не подал вида. Вскочил со стула и, помогая снять шинель, пригласил откушать с ними блинков, которые напекла его супруга, Мария Ивановна.
Павлов присел за стол. Разговор с каждой минутой становился все напряженнее и постепенно перешел на повышенные тона.
– Н-нет! – мычал Лукъяненко, держа за пуговицу сотника Житненко. – Н-нет, ты поясни, почему они забрали наших коней, а нас бросили? Почему? М-ммы для них что, затычка? Так?!
Голос его был клейкий, вязкий, каким бывает голос очень нетрезвого человека.
Доманов ерзал на стуле и увещевал Лукьяненко:
– Не стоит сейчас об этом, тем более что я уже подал рапорт на имя Радтке.
Павлов насторожился и уже закипая тоже стал пытать Доманова, почему тот ведет переговоры с Радтке за его спиной? Доманов стушевался еще больше и начал оправдываться, дескать, это все слухи.
Павлов не унимался.
– Какие же слухи, если ты у нас уже оберст-лейтенант, не сегодня завтра станешь полковником. Это за что тебе такая милость? За красивые глаза?
Неожиданно в их разговор вмешался пьяно икающий Житненко:
– Сережа, да не волнуйся ты так. Мы и тебя сделаем генералом!
Павлов вскипел:
– Я как-нибудь обойдусь и без твоей протекции!
Доманов толкнул в бок офицера.
– Ты чего это, черт, с ума спятил? Пошел вон отсюда.
Посрамленный сотник обиделся, встал и ушел в соседнюю комнату.
Павлов вскочил из-за стола, схватил фуражку, накинул на плечи шинель и выскочил из дверей. За ним выбежал Доманов. Поймал его за локоть, пошел рядом, что-то объясняя и доказывая.
В соседней комнате что-то затрещало, зазвенели разбитые стекла. Мрачный сотник, наморщив лоб, со злобой рубил стеклянную дверцу книжного шкафа. Жажда разрушения овладела офицером. Оскорбленное самолюбие искало выхода. Руки горели.
– С ума, говоришь, спятил? – кричал Житненко. – Меня! Офицера, на х…р посылать?! – Молодое красивое лицо было перекошено злобой.
Закончилось тем, что услышав шум, основательно пьяный, но еще стоящий на ногах Лукьяненко дал сотнику в ухо и отправил его спать.
Затея Доманова подружиться с Павловым и усыпить его бдительность не удалась. С каждым днем отношения между ними становились все хуже и хуже.
* * *
Немцы в деревню Прохоровка наезжали всего один раз. Приехали на двух грузовиках, мотоциклах с пулеметами. Ни гусей, ни кур не тронули. Посреди деревни на перекрестке дорог поставили стол, собрали сход и заявили, что с советской властью покончено. Теперь наступил новый порядок. Назначили старосту – Жердева Федора.
Староста должен был собирать по домам хлеб, яйца, молоко, мясо и отправлять в город. На нужды доблестной германской армии. Жители деревни не возражали. Какая разница, кому сдавать? Раньше советская власть все отбирала, теперь немецкая.
Для защиты от бандитов и оказания помощи немецкой администрации крестьяне по распоряжению немецкого офицера организовали отряд самообороны и полиции. Записались все взрослые мужики. В немецкую администрацию и полицию шли ведь не только из ненависти к большевикам и из стремления отомстить советской власти за прежние гонения. Очень часто на службу к врагу шли и самые обычные люди, желающие выжить любой ценой. Оружие у каждого было свое – немецкие карабины, винтовки, советские автоматы. Этого добра в лесу было в избытке. Но отряды самообороны и полиции всегда были основным объектом нападения для партизан, антифашистского подполья и советских диверсантов, которые жестоко расправлялись с пособниками оккупантов. Но казаки и полицаи тоже не отставали от партизан в своей беспощадности. У заподозренных в сочувствии партизанам, у семей красноармейцев безжалостно отбирались вещи и продукты. Как в Гражданскую, перед тем как расстрелять пленных, их раздевали до нижнего белья.
Градус обоюдной ненависти превышал все мыслимые пределы.
Зимой 1942 года партизанский отряд на самой зорьке окружил Прохоровку.
Староста деревни уже не спал. Лежа в кровати, он с усилием щурился на тусклый холодный рассвет за окном. Кряхтя, дотянулся рукой до стоящего рядом с кроватью карабина, приложил его металлической стороной ко лбу, пытаясь унять головную боль. Прошлой ночью он вместе с начальником полиции усидел бутыль самогона.
На закопченной деревенской печи тихо похрапывала жена. На металлической кровати разметавшись во сне сопели дети. Свернувшись колечком, на сундуке дремал кот. В подполе шуршали и пищали мыши.
Скрипя полозьями, в деревню ворвалось несколько саней с партизанами. Погода выдалась тихая, с морозцем. Часть партизан по нетронутому снегу, как волки, след в след направились к избе, где жил староста.
Худой, жилистый партизан в сером заячьем треухе на голове перекрестился: «Помоги, Господи!» Ножом нащупал накинутый дверной крючок в сенях. Осторожно, стараясь не греметь, снял его. Дверь открылась с легким скрипом. Постояли, прислушиваясь. Тишина. Только поодаль, через несколько домов лениво взбрехнула собака. Изнутри – ни звука. Запаленно дыша, осторожно двинулись к двери в хату. Загремело под ногами ведро. Идущий первым рывком распахнул дверь. На печке – шорох дерюги, встревоженный бабий голос:
– Кто там, Федор? – И тут же: – Ой, люди добрые!.. Бандиты!
От кровати в сторону двери хлестко ударил выстрел. Партизаны выкатились на улицу. Чтобы не тянуть время, кинули в открытую дверь гранату. Грохнуло на всю деревню. Со звоном вылетели оконные стекла.
Всполошились собаки, послышалась трескотня выстрелов.
Полицейские, отстреливаясь, укрылись в здании школы. Заняли оборону.
Видя, что к осажденным может подойти помощь, партизаны собрали семьи полицейских и, используя их как щит, попытались вновь взять школу приступом. После того как штурм не удался, школу обложили соломой и подожгли. Почти все полицейские и заложники погибли или сгорели в огне.
Партизаны под страхом расстрела увели в лес несколько десятков мужчин и девушек. Дом старосты сгорел вместе с детьми.
Казаки в отместку окружили партизанский отряд. Оставшийся в живых командир отряда и двое бойцов засели в развалинах старой мельницы. Казаки кричали:
– Сдавайтесь, суки!
Пули смачными шлепками впивались в деревянные стены, зарывались в землю, свистели в воздухе. Казаки лежали сосредоточенно, спокойно. Знали, что партизанам уже не вырваться.
Партизаны молчали. Почти не имея патронов, они берегли каждый выстрел, выжидая, когда кто-нибудь из казаков неосторожно высунется и можно будет снять его наверняка.
Казаки сделали попытку взять мельницу штурмом. Партизаны опять открыли огонь. Под их ногами как горох катались стреляные гильзы. Трое казаков были ранены, один убит. Казаки примолкли. Потом, обозленные потерями, пошли на хитрость: пообещали отпустить партизан, если те сдадутся. Патроны подходили к концу, партизанам больше ничего не оставалось. Бросив винтовки, они вышли во двор. Пленных выстроили у стены.
Григорий Астахов заметил на одном из них хромовые офицерские сапоги.
– Раздевайсь! Будя, покуражилась ваша власть над казаком!
Пленный поглядел в его рыжие, злые глаза. Проговорил трясущимися губами:
– Что же вы делаете, суки? Хотите убить – убейте. Но не измывайтесь!
Астахов неожиданно шагнул вперед и ударил партизана по лицу. Постоял, сопя, сжимая и разжимая кулаки, наблюдая за тем, как пленные с серыми, помертвевшими лицами стягивают с себя одежду. Пальцы не слушались, дрожали. Пуговицы, крючки не расстегивались. Путались шнурки, завязки. Казаки хмурились, молча ждали.
Лишь Астахов терзал шашку, торопил:
– Живей, живей.
Полуголые партизаны, еле сдерживая крупную дрожь, стояли опустив головы. Страх тонкими иглами колол спины. Остро пахло потом.
Астахов вырвал из ножен мерцающую шашку. Сердца провалились куда-то вниз, на секунду перестали биться. Тонко и зло взвизгнул клинок. Разрубленные тела, словно сырые туши мяса, рухнули на землю. В прыгающей руке Астахов держал окровавленную шашку. Тяжело дыша, вытирал лицо свободной рукой. Его круглые и белые от бешенства глаза незряче смотрели на окружающих казаков.
На следующий день местные жители похоронили убитых там же, у старой мельницы. Выкопали неглубокую могилу, установили большой чисто струганный крест. На кресте надпись:
«Господи, прими их дух с миром».
* * *
В молоке тумана рядами высились искристо-синие снежные сугробы. Снег, налипший на ветках, лохмотьями свисал с промерзших деревьев.
На лесной дороге партизаны перехватили партизанский обоз. В обозе было трое саней с мукой, крупой и кое-каким реквизированным барахлом. Охраняли обоз двое конных казаков, на санях урядник.
Каурая лошаденка, впряженная в передние сани, резво бежала, взбивая копытами комья снега. Урядник лежал на мешках, дремал, завернувшись в тулуп. Партизаны, прячась в лесу, обстреляли обоз из винтовок. Первым выстрелом был убит здоровый бородатый возница на передних санях. Пуля попала ему прямо в голову, и он упал лицом на дорогу. Крестьянин на вторых санях замахнулся кнутом на лошадь кнутом, но хлестнуть ее не успел. Второй выстрел уложил и его.
Верховых сняли несколькими очередями из пулемета. Билась в постромках каурая лошадь. Неказистый мужичонка в рваном полушубке соскочил с саней и петляя как заяц укрылся в лесу. Испуганные лошади понесли. Последовало еще несколько выстрелов сразу из двух винтовок. На скаку, через голову упала срезанная пулей лошадь, сломав дышло, опрокинула накатившиеся на нее сани.
Урядник был ранен, прикусив губу, тоскливыми глазами смотрел в небо. Боец партизанского отряда стаскивал с его ноги сапог. Остальные партизаны грузили в сани рассыпавшиеся рогожные мешки с продуктами. Сапог не снимался, и партизан изо всей силы дергал ногу раненого. Наконец он стащил оба сапога, вытер с них рукавом телогрейки кровь и сунул в вещмешок. К нему подошел комиссар отряда Пятницкий.
– На хрена тебе сапоги зимой? – спросил комиссар и переступил с ноги на ногу. Снег захрустел под его валенками. – В пимах же теплее.
– Так офицерские! Пригодятся. Летом носить буду.
– Убьют тебя до лета. А не убьют, так я сам пристрелю. За мародерство! Закругляйся с барахлом. А то нас сейчас казачки за своих прищучат. Я казаков в деле повидал. Звери еще те. Кроме своих никого не жалеют. А партизаны для них не свои. Обида у них на советскую власть. Уходим!
Сплюнув на снег, комиссар отошел. Партизан выматерился вполголоса:
– Пристрелит он! Много вас тут таких командиров. Я тебя сам скорее пристрелю, курва жидовская.
Вытащил из-за пазухи наган, деловито прижмурив левый глаз, прицелился. Хлестко ударил выстрел. За ним второй. Раненый урядник дернулся, мелко засучил ногами и затих.
* * *
Партизанский отряд «Красное знамя» на санях уходил от погони. Каратели висели на хвосте. Погиб командир отряда. Несколько партизан было ранено. Отрядом командовал комиссар отряда Пятницкий. Уходили на запасную лесную базу.
Скрипели полозья, иногда подбрасывало на жестких ледяных кочках, сани заносило на поворотах дороги. Стучали конские копыта, шипел снег под полозьями.
Комиссар нервничал, погиб командир, а у него самого почти не было никакого военного опыта. До войны он был учителем истории в школе. Знал местность, людей и неплохо справлялся со своим комиссарскими обязанностями. Комиссар молчал. Ехали долго. Отсидел одну ногу, устроился по-другому, на другой бок. Тронул возницу за рукав.
– Григорий, поворачивай на хутор. На базу не пойдем, не довезем раненых. Поморозим их в землянках.
В санях вместе с партизанами сидел мальчишка, которого подобрали в деревне. Местные сказали, что он сирота, из беженцев. Как-то прибился к деревне. Да так в ней и остался. Хотя никому он там был и не нужен. У селян самих детей мала меньше. Мужики кто на фронте, а кто и в лесу. Ел, что дадут, спал, где придется.
Сотня есаула Щербакова, словно волк вокруг овчарни, кружила вокруг хуторов. Причем как волк, уверенный: здесь прячется добыча.
Ночью к Щербакову прискакал верховой с информацией о месте нахождения партизанского отряда. Казаки были подняты по тревоге и, развернувшись в цепь, начали прочесывать лес.
Сотне был придан отряд отряд полицейских из зондеркоманды.
Дозорное охранение, отец и сыновья Алпатовы, бросили караул и ночью ушли в свою деревню. Усталые партизаны спали, не зная, что их предали и они уже обречены.
На рассвете верховые разведчики заметили в лесу несколько стоящих домов. На натянутой веревке висело заледеневшее на морозном ветру белье.
Щербаков спешился. Передал повод ординарцу.
– Тут они, голубчики! – выдохнул Щербаков, рассматривая в бинокль безмолвный лес, серые молчаливые избы.
– Почему так решили, господин есаул? – потянулся к нему ординарец.
– А вон посмотри. Вишь, бельишко висит? Да не простое бельишко, все сплошь мужское исподнее. Откуда в этой дыре мужиков-то столько?.. Вот я и говорю. Здесь они.
Сотня спешилась, передала лошадей коноводам и перебежками двинулась в этом направлении.
Пятницкий всю ночь не спал, курил, писал донесение в штаб. Печь еще не остыла, но по полу тянуло холодком. Раздевшись до нательной рубахи и оставшись в ватных штанах и валенках, он ходил взад и вперед по деревянному скрипучему полу.
Хозяйка с детьми, еще с вечера взяв с собой тулуп и подушку, ушли спать в натопленную баню.
Мальчик забился за печку. Пятницкий укрыл его полушубком.
Уже под утро комиссар разулся, развесил носки и портянки над печкой. Забылся тревожным солдатским сном.
Перед рассветом из одной избы по нужде вышел партизан, увидел приближающуюся цепь вооруженных людей и закричал:
– Немцы! Немцы-ыыыы! Каратели!
Пятницкий открыл глаза. За дверями слышался шум, крики, выстрелы. Кто-то куда-то бежал. Мальчишки нигде не было видно. Комиссар чертыхнулся и схватив винтовку бросился к двери.
Между избами и постройками метались партизаны и, сраженные выстрелами, падали на снег. Пятницкий замер в дверях, не зная, что делать. Пуля ударила его в плечо. Выронив винтовку, он попятился назад, пытаясь здоровым плечом закрыть дверь. Пуля в живот бросила его на пол. Передергивая затвор винтовки, Муренцов заскочил на крыльцо, через полуприкрытую дверь увидел, что комиссар еще дышит, всхлипывая и крупно дрожа. На мертвенно пожелтевшем лбу его выступили крупные капли пота.
Следом за Муренцовым в избу заскочили двое полицаев из приданой зондеркоманды.
– Чего стоишь, казак? Добивай эту суку! – закричал один из них, с прыщами на лице. – Дай мне, я сам его стрельну!
Муренцов склонился над умирающим…
– Не тронь его. Видишь, доходит.
– Кровишши-то!..
Из раны в животе Пятницкого лезли бледно-розовые с кровавыми сгустками кишки, перемазанные собственным дерьмом. Рука умирающего скребла и скребла грязными ногтями по земляному полу.
Второй полицейский не успел отвернуться и его вырвало прямо на стол.
Грохнул выстрел, прыщавый передернул затвор. Тело чуть вздрогнуло, вытянулось, взгляд застыл на потолке.
– Вояки, мать вашу… одного тошнит. Второй – гуманист.
Не обращая на него никакого внимания, Муренцов прикрыл лицо убитого какой-то тряпкой. Повернулся на крики и шум. Прыщавый вытягивал из-за запечья мальчишку.
– Нашел! Наверняка комиссарский выродок. Щас я и этого в расход.
Металлически звякнул затвор. Полицай поднял глаза, прямо в лицо ему глядело дуло винтовки. Попятился назад, пытаясь укрыться за деревянным столом. Муренцов держал палец на спусковом крючке. Суровея глазами, тихо сказал:
– Оставь мальца. Опусти винтарь. Я не шучу. Ну-уу!
В землянку ворвался взводный:
– Муренцов, что у тебя тут? Сам-то живой?.. А это что такое? Между собой сражаетесь? А ну… отставить!
– Господин хорунжий, мальчишку в землянке нашли. Куда его?
– Малого с собой. В штабе разберемся.
Казаки забрали из комиссарской избы командирский планшет с документами, пистолет и бинокль. Погрузили на сани оружие и продукты. Оставшиеся полицаи из зондеркоманды долго искали самогон, потом выгнали всех жителей на мороз, а избы подожгли.
Выезжая на дорогу, прыщавый полицай оглянулся. Дома горели изнутри. Крыши обвалились. Из окон выбрасывались острые язычки пламени, лизали черные стены. Со звоном лопались стекла. Через полчаса почерневшие срубы уже дотлевали.
Убитых сложили на месте сгоревшего амбара на оттаявшей после пожара земле. Глухо и обреченно выли старухи. Глядя на мертвых, истово крестилась беременная баба с обожженным лицом, второй рукой придерживая выпирающий живот. Рядом с ней девочка в прожженной фуфайке и надвинутом на лоб платке доила корову. Голова девочки тряслась, как у немощной старухи, молоко цвиркало в закопченное ведро.
Корова испуганно косила в сторону мертвых печальным лиловым глазом и тоскливо мычала.
На месте пепелища остались только печные трубы. Уцелевшие погорельцы рыли землянки, у них сгорело все – и дома, и нехитрый скарб.
* * *
В расположении казачьего батальона – в казармах, на конюшнях, складах – был налажен идеальный порядок. Заработали сапожная и портняжная мастерские.
В воскресный день на церкви били колокола, плыли, колыхаясь над проснувшейся землей, торжественные и праздничные звуки, напоминали о жизни.
Маленького роста звонарь, замерзнув на ветру, приплясывал на звоннице, дергая за веревки. Из пристройки вышел священник, прищурившись, посмотрел на звонницу, перекрестился и вошел в храм.
Свободные от нарядов и караулов казаки постарше тянулись в церковь. Молодежь расходилась по знакомым, кому некуда было идти – сидели в казарме, чистили оружие, занимались лошадьми.
Командир сотни доложил Кононову о найденном мальчишке. Тот спросил:
– Ну-ууу?.. И зачем нам хлопец? Что мы с ним будем делать?
Щербаков шагнул вперед.
– Давайте у себя оставим, господин майор. Хороший хлопец, Борисом кличуть. Заместо сына казакам будет.
Кононов покрутил ус.
– Хорошо. Я подумаю.
Через несколько дней Кононов сам заехал в сотню Щербакова. Приказал привести к нему мальчика.
– Ну, говори, сынок. Что мне с тобой делать? Родные-то есть?
Мальчишка уже слегка отъелся на казачьих харчах. Отогрелся. Курносый, из-под шапки выглядывал рыжевато-пшеничный чубчик. Было видно, что робеет перед командиром, но держался храбро.
– Никак нет. Круглый сирота. Оставьте меня у себя, дядя. Казаком хочу быть.
Кононов улыбнулся.
– Казаком, сынок, стать невозможно, им можно только родиться. Да и служба у нас дюжеть чижолая. Иной раз сутками с коня не слезаем. Бывает, что и убивают. И в плен нас не берут. Сдюжишь? Не передумаешь?
– Никак нет! Не передумаю. Хоть «житье собачье, зато слава казачья».
– Вот пострел! Где услышал?
– Казаки говорили.
– Ну и ладно тогда. Зачислите его на довольствие. Пусть при штабе сотни пока будет. Чтобы сегодня же одели и обули. Выполняйте.
Казаки подарили Борису маленький бельгийский браунинг. Тот сразу почувствовал себя взрослым, сильным, без конца чистил, разбирал и собирал пистолет. Жил он в одной избе с Муренцовым. Пока Муренцов целыми днями пропадал на службе, Борька смотрел за лошадьми, носил воду из колодца, колол дрова, топил печь.
Почти каждый вечер в комнатах штаба батальона кипела учеба. Майор Кононов лично обучал офицеров работе с картой, тактическим играм в ящиках с песком. Он говорил:
– Запомните, господа офицеры, партизаны не могут жить без еды. Своего подсобного хозяйства у них нет, баз с продуктами тоже. Поэтому все снабжение обеспечивается за счет крестьян. В местах, где выявлена активность партизан, блокируем деревни и дороги между ними. Таким образом создаем квадрат поиска. Площадь в сто километров вы можете прочесать одним эскадроном в течение недели. А ежели обзаведетесь трезвой и добросовестной агентурой, тогда можно управиться и в три дня. Ну а после того как отыщем базу, подтягиваем основные силы и рвем на куски. Всем понятно, как нужно действовать?
И Кононов улыбался в свои рыжие от табака усы.
Через месяц в батальоне открыли краткосрочные курсы по подготовке урядников.
Немецкое командование все более активно стало использовать казачий батальон в антипартизанских рейдах.
* * *
В январе 1942 года советское командование решило перебросить в тыл немецкого фронта кавалерийский корпус генерала Белова.
Используя подвижность и маневренность кавалерийского корпуса, командование решило провести «казачий» рейд: через стыки во флангах зайти в тыл, разгромить обозы, вырубить небольшие гарнизоны и вновь вернуться на крайний фланг армии.
Конникам ставилась задача перерезать коммуникации наступающей немецкой армии, посеять панику и хаос в немецком тылу.
Выступали на заре.
6-й кавалерийский полк подполковника Князева должен был идти первым. Полк спешно готовился к маршу. Кони топтали грязно-навозный снег, туда и сюда сновали кавалеристы. В отличие от пехоты все они были обуты в сапоги и валенки, а вместо шинелей на них были белые полушубки. В дополнение к винтовкам и автоматам ППШ каждый кавалерист был вооружен шашкой.
Со стороны штаба полка запела труба горниста: «Седловка!» Протяжный звук трубы то затихал, то, наоборот, становился все громче и требовательней. «Хло-о-пцы, казаки-иии, сед-ла-ай ло-ша-дей!» – выводил трубач, обещая долгий и трудный поход.
Стоя на крыльце в овчинном полушубке и полном снаряжении, Аркадий Васильевич Князев глядел на мрачное, в ветреных тучах, угольно-красное зарево рассвета.
Через несколько минут суета вдруг резко оборвалась и перед командиром полка уже стояли одетые вооруженные люди, а позади них оседланные кони.
Ординарец подвел командиру его лошадь.
– По ко-ням! – звонко крикнул подполковник Князев.
Строй сломался, и уже через несколько секунд бойцы сидели в седлах. Князев разобрал поводья, похлопал коня по гладкой шее. Вспомнились слова отца, которые он всегда говорил перед каким-нибудь делом: «С Богом!» Вспомнил и засмеялся.
«С Богом, сынки!» – произнес про себя и громко закричал:
– Ма-а-арш!
Мягко цокая копытами по плотному снегу, полк двинулся за ним следом.
Под утро, когда уже стало брезжить, остановились в лесу, не расседлывая коней, не разжигая костров.
Следующей ночью углубились в тыл немцам, вышли на коммуникации 4-й армии вермахта в районе Ельни.
Немецкое командование сняло с фронта крупные войсковые соединения и бросило их против корпуса Белова. Им удалось окружить корпус и нанести по нему удар, но разгромить корпус не удалось. Советская конница, сопротивляясь и вырубая шашками немецкие заставы, пошла на прорыв из окружения.
* * *
На постой кавалеристы Белова остановились в одной из деревень. Стоял мороз, хозяйки затопили печи, дым стлался по ветру. Голодные, мокрые и смертельно уставшие бойцы набились в крестьянские избы, чтобы обсушиться и немного поспать. В крайней хате, где жила полуглухая бабка Зинаида с дочерью, расположилось человек пятнадцать.
Деревянная лавка. Железная кровать. Печь. Стол с вымытой и перевернутой донцами вверх посудой. Ларь для хлеба и прибитая к стене деревянная солонка.
Оказавшись в тепле, бойцы сразу же поснимали сапоги, рядом с печью развесили портянки. Дочь хозяйки, молчаливая, закутанная в серый платок, предложила постирать портянки и белье. Нагребла золы из печи, всыпала пригоршнями в ведро и сняла со стены деревянное корыто.
Старшина остановил ее.
– Не надо, мать. Не успеет высохнуть, мы, может быть, через час двинемся дальше. Придется мокрые портянки одевать. Беда тогда будет, поморозим ноги. Ты бы лучше нам чего-нибудь перекусить сварганила.
Бойцы достали из вещмешков хлеб, сахар. Дочь хозяйки принесла кусок сала, достала из погреба соленые огурцы, поставила на стол чугунок с горячей картошкой.
Теперь старшина увидел близко ее тонкие руки с узкими длинными пальцами, худые плечи, тонкую шею. Молча, с каким-то мучительным волнением он смотрел на женщину. Она почувствовала его взгляд, быстро оглянулась и отвернулась.
Бойцы сели ужинать.
Старуха хозяйка лежала на печи, слушала разговоры, свесив с лежанки покореженные простудой венозные ноги, прижимала к ушной раковине темную от работы ладонь.
– А вы, солдатики, за кого, за белых или за красных?
Отвечает Коля Баранов.
– За красных, бабушка. Казаки мы.
– Ась? Какие такие казаки? Донские?
– Нет, мы не донские, мы советские. Я – из Калуги, а ребята из Подмосковья. У нас только товарищ старшина с Дона.
– А-ааа!
В избу вошел черноволосый и черноглазый комиссар, затянутый в ремни портупеи.
– Приятного аппетита, товарищи.
Ему нестройно и вразнобой ответили:
– Спасибо, товарищ комиссар. Садитесь с нами вечерять.
– Да нет, хлопцы. Некогда. Надо еще посты проверить. Ужинайте, приводите себя в порядок и располагайтесь спать. На ночь остаемся в деревне. Утром выступаем. Старшина, проводите меня.
Тот взглянул на комиссара, торопливо натянул шинель, вышел. Комиссар, спустившись с крыльца, спросил, потирая лоб:
– Как настроение бойцов, старшина?
– Боевое, товарищ батальонный комиссар.
– Это хорошо, что боевое. Ты бы попросил хозяйку, пусть баньку соорудит ребятам. Завтра будет тяжелый день. А для солдата на войне баня – первое дело. Ну давай, иди.
Старшина сломал веточку красной, схваченной морозом рябины. Отщипнул ягодку, затем другую, взял на язык, разжевал кисловатую горечь. Пахнуло домом, родным хутором. Вернувшись в избу, попросил:
– Мать, нам бы водички подогреть. Мы бы хоть помылись немного перед походом. Судя по всему, он будет долгим.
Голос женщины неожиданно оказался молодой, глубокий, с легкой хрипотцой.
– Что ты все заладил, казак, мать да мать. Я ведь не старше тебя. – Повернулась к казакам. – Давайте, солдатики, я вам баньку по быстрому истоплю. А когда помоетесь, я и простирну кому что надо. До утра перед печкой все и высохнет.
Банька была старая, небольшая. Предбанник с лавкой, моечная и узкая парилка. На стене висели березовые и дубовые веники. Нагретые полки пахли распаренным деревом. В бане орали и ликовали. Люди парились, фыркали, плескались в ушатах с горячей водой впервые за все время тяжелых переходов. Слышались крики:
– Ах ты! Ух ты! Едрена матрена!.. Поддай, Петро! Ишшо! Ах ты! Ух ты! Ишшо маленько! Ишшо! Плесни из ковшика на камни! Ах ты, господи!.. Ах ты, ух ты!..
Старшина мылся последним. Можно было без помех насладиться жаром печи и березовым духом. После горячей парилки он вылил на себя ведро ледяной воды, простирнул исподнее и портянки. Развесил их на веревку, натянутую над горячими камнями, и вышел в предбанник. Сидя на лавке, не спеша одевался. Натянул запасные сподники, хранимые в тощем вещмешке.
Скрипнула дверь предбанника. В распахнувший проем двери шагнула дочь хозяйки.
– Не помешаю вам, товарищ командир? Я за горячей водичкой. Постирать солдатикам хочу.
Она скинула с головы платок и оказалась не старой еще женщиной лет тридцати.
Старшина, опытный вояка, знающий цену скоротечному солдатскому счастью, привстал со скамьи, немея от близости женского тела.
– Милости просим… как вас звать-величать?
– Зовите Анной, – благосклонно молвила она, вынимая из волос гребешок, заколки и забрасывая за спину копну русых волос.
Не выдержав, он впился губами в ее шею, хмелея от запаха женской кожи и желания близости.
Анна выгнулась дугой в его руках. Одно мгновение, и он почувствовал ее твердую грудь, горячий живот и будто прилипающие колени… И уже ничего не соображая, он толкнул ее на пол, одной рукой роняя на пол шинель, другой срывая с нее одежду нетерпеливыми, жадными руками.
Очнувшись, она прижалась к нему горячими сосками и какое-то время не двигалась, будто пытаясь удержать подольше свое нечаянное счастье. Наконец, коснувшись губами его руки, шепнула:
– Тебе пора отдыхать! А мне еще работать.
Но старшина уже спал беспробудным и нечаянным сном без всяких сновидений, которым спят лишь уставшие солдаты.
Женщина сняла с его груди прилипший березовый лист, налила ковшом горячей воды в ведро, накинула полушубок и вышла, тихо притворив дверь.
В избе все уже легли. Старуха спала на печке, слышался ее храп. Бойцы, прижавшись друг к другу и укрывшись шинелями, вповалку лежали на полу.
Анна долго стирала за занавеской в передней, развешивала мокрое белье перед еще теплой печкой. Уже под утро прилегла на лежанке в передней, кухонной части избы, но долго лежала без сна, смотря через разрисованное морозными узорами окно, как в холодном небе падают одинокие звезды. Вспомнилось старое поверье: увидел падающую звезду – загадай желание. И если сделаешь это быстро, покуда она не погасла, желание исполнится. И она загадала, пусть он останется жив…
Утро было морозное, сквозь его сизую морозную пелену с трудом пробивался багровый диск поднимавшегося солнца. Анна принесла вареную картошку, хлеб и кусок вареного мяса. Сухое белье и портянки, сложенные в стопку, лежали на лавке.
– Возьмите, ребята, когда еще поесть доведется. И берегите своего командира.
Выйдя во двор, она долго стояла рядом со старшиной, держась двумя руками за стремя его седла. Озябла, стоя в худых валенках, губы ее посинели, нос заострился.
– Не соскакивай с седла – нечего тебе зря прыгать. Спасибо тебе за ласку нечаянную, казак. Жаль, не поцеловались мы на прощание! Как звать-то тебя? За кого свечку Господу ставить?
– Молись за Михаила Косоногова!
Она перекрестила его с тоской.
– Если жив останешься, приезжай. Я буду тебя ждать. Храни тебя Господь!
– Прощай. – Мишка хлестнул коня плетью и прикрикнул взводу: – На конь, хлопцы. Вперед!
* * *
Корпус Белова вышел в тыл армейского корпуса генерала Шенкендорфа вдоль реки Сожь, между Смоленском и Пропойском.
Генерал Шенкендорф приказал окружить и уничтожить русских кавалеристов. Немецкие пехотные части начали охватывать корпус с флангов и медленно зажимать его в клещи.
Майор Кононов вывел свой батальон к домику лесника, строго в семнадцати километрах на север от Пропойска. Поступил приказ от генерал-лейтенанта Шенкендорфа поступить в распоряжение командира 88-й стрелковой дивизии генерал-майора Рихарда.
Конники Белова, стараясь вырваться из кольца, весь день шли маршем. Неширокая проторенная конями тропа на занесенной снегом просеке хрустела под копытами, уходила в бесконечную даль, ограниченную лишь серо-зелеными соснами.
Температура опустилась до двадцати ниже нуля. Морды лошадей покрылись инеем. Снежинки колюче серебрились на бровях, на ушанках бойцов и командиров. Колонну обогнали несколько всадников, среди них на высокой донской кобыле генерал Белов. Его белый овчинный полушубок мелькнул перед глазами бойцов. Впереди лежало поле. Днем немецкий самолет сбросил на пути продвижения корпуса несколько десятков тысяч листовок с призывом Кононова к кавалеристам Белова.
Кавалеристы остановились. Опустив уши своих шапок и подняв воротники полушубков, молча смотрели, как легкая поземка засыпает свежей порошей черную рябь немецких листовок. Лица бойцов выражали различные чувства: кто хмурился, кто смотрел равнодушно, другие испуганно поглядывали на командиров.
Красный от ветра Белов в натянутой на самые глаза шапке вздыбил коня. Махнул рукой. Ординарец спешился, подал ему присыпанный снегом листок. На серой рыхлой бумаге перед глазами прыгали слова:
«Дорогие братья кавалерийского корпуса ген. Белова!.. Мы, казаки, и не казаки, сейчас объединились в отряды и в будущем создадим армию освобождения…
Мы не наемники Гитлера… мы такие же сыны России, как и вы.
Вы все окружены… Не нужно крови… переходите к нам, и вы найдете у нас родной и братский прием.
Ждем вас…
Командир 600-го Донского… Бывший командир 436-го стрелкового полка… Красной армии майор И. Кононов».
Белов читал молча, затем, поддаваясь нахлынувшему тяжелому чувству, скомкал листовку и отшвырнул ее в сторону. Дернув белыми заиндевевшими усами, крикнул:
– Почему встали? Вперед!
В его голосе прозвучало озлобление.
Всадники двинулись вперед. Из-под копыт вылетали ошметки грязного снега. В позах кавалеристов угадывались смертельная усталость и надломленность.
На лес опускалась темнота. Поднявшийся ветер гнал тяжелые черные тучи, и они закрывали собой тусклое мерцание редких звезд.
* * *
Ранним утром 16 февраля началась редкая артиллерийская, минометная и пулеметная стрельба. Германские части начали наступление и совместно с казачьими подразделениями нанесли по корпусу Белову тяжелый удар. Казачий батальон захватил первых пленных вместе с батальонным комиссаром Кочетовым.
– Куда их? – спросил Ганжа взводного Лесникова.
– Куда, куда! Дело известное… к стене! – Взводный сдвинул на затылок кубанку, выругался матерно, крикнул: – Тащите пулемет. А вы, гаврики, давайте к яме и становляйтесь ко мне спинами.
Воцарилось гробовое молчание. У казаков глаза сделались круглыми. Ганжа дышал трудно и часто.
Елифирий Толстухин придержал взводного за рукав.
– Нет! Так дело не пойдет. Погодь малость.
Вбежал на крыльцо дома, где были офицеры. Из двери уже выходил Кононов. Поправил на груди ремни, глянул на пленных. В их глазах – тоска, не то чтобы страх, скорее растерянность, подавленность. Усмехнулся, сказал Лесникову:
– Погодь трохи. Расстрелять всегда успеешь… Нехай они лучше к нам идут. Хлопцы, казаки есть?
Из толпы пленных раздался хриплый голос.
– Ну!.. А если есть, тогда что?
Кононов вновь усмехнулся.
– А то! Служить будете?
Тот же голос откашлялся и спросил громко:
– Кому? Великой Германии?
– Нет! Свободной России.
Несколько человек вышли из толпы. Остальные смотрели мрачно, исподлобья.
Кононов повернулся к взводному.
– У тебя самые большие потери, возьмешь хлопцев в свой взвод. Одень, обуй. Присмотрись. До оружия пока не допускай.
– А остальных?
– Остальных запри в сарае. Я в штаб дивизии. Бувайте, хлопцы.
Рано утром за селом раздались пулеметные очереди. Казаки было спохватились, но стрельба кончилась так же внезапно, как и началась. Через час в избу, где ночевал Муренцов, вбежал урядник Соколов, бывший лейтенант. Следом за ним в открытую дверь потянулся февральский сырой, пахнувший морозом воздух. Соколов хотел что-то сказать, но задохнулся и рванул на груди застежки шинели, ворот мундира и нательной рубахи. Хватая ртом воздух как рыба, бухнулся на лавку. Долго сидел молча, обхватив голову руками.
Толстухин спросил его:
– Ну?.. чего молчишь, как Буденный перед Сталиным?
– Пленных-то убили, Лиферий.
Казаки загомонили:
– Брешешь!
– Как же так?.. Как убили?.. Там же и казаки были!
– Час назад. Приехала зондеркоманда, наши же, русские, и немцы. Сказали, что поведут в лагерь, а сами в елошник… и в распыл. Сам видал!..
Толстухин враз затрясшимися пальцами стал сворачивать самокрутку.
– Ничего, хлопцы, ничего. Мы сначала Сталину-б…не кишки выпустим! А потом и с остальными разберемся.
Белов с остатками корпуса сумел вырваться из окружения и вышел в расположение советских войск.
На опушке леса, припорошенной легким снегом, вповалку лежали пострелянные бойцы генерала Белова. Вся поляна была истоптана множеством ног. Они лежали внахлест, друг на друге. В тех же позах, что настигла их смерть. Чернели раззявленные в последнем крике или стоне рты. Из-под снежного покрывала торчали раскинутые в стороны мерзлые руки со скрюченными пальцами. Бугрились шинели. Из дыр в продырявленных телогрейках торчали клочки ваты. Слабая поземка заметала следы. Снег залепил глаза и брови, набился в волосы, превращая убитых людей в седых стариков.
– Каррр! Каррр!
Хрипло, простуженно каркали вороны, зорко посматривая по сторонам, чтобы не упустить добычу.
Старшина Косоногов лежал чуть в стороне раскинув руки. Шумели сосны, и угасающим сознанием старшина вдруг услышал шум надвигающейся казачьей лавы. Потом послышался плеск океана. Мишка успел удивиться, откуда ему знаком этот звук? Ведь он никогда не слышал, как шумит океан. Но набежавшая волна принесла запах Анны, ее тела и соленый вкус капельки пота на ее груди.
* * *
6 мая есаул Гнутов отмечал день своего рождения. На именины были приглашены походный атаман Стана и старшие офицеры. Пили много, и все уже изрядно опьянели. Павлов нервно порывался уйти. Но Доманов цепко удерживал его за рукав и снова садил за стол.
– Прошу всех налить! – требовал изрядно захмелевший есаул Трофименко, ближайший помощник Доманова. – Я хочу выпить за войскового старшину Доманова, настоящего героя, который вывел из окружения и спас своих казаков.
К Гнутову наклонился войсковой старшина Неделько:
– Брэшет же Сашка, как кобелюка. Выслуживается перед Домановым. В окружение хлопцы и попали только благодаря Тиме.
Трофименко налил полный фужер коньяку и выпил залпом.
– Да-ааа! – ударил кулаком по столу Трофименко. – Доманов наш настоящий батька. А другим насрать на казачью кровушку.
Его пытались успокоить, но он грубо перебивал всех, кричал, толкался, пока сидевшие рядом не усадили его на место.
Павлов встал из-за стола и, хлопнув дверью, вышел. За ним следом выскочил Доманов. Вышли еще несколько офицеров. Во дворе они увидели, что бледный как полотно Павлов таскает Доманова за грудки и кричит:
– Ты хочешь свалить меня и занять мое место… в бога, в креста!.. но тебе не удастся. Ты ответишь за все!
Их оттащили друг от друга и развели в разные стороны. Походный атаман, оттолкнув Доманова, пошел домой. Всем стало ясно, что конфликт зашел слишком далеко.
* * *
Усиленный казачий батальон проводил регулярные рейдовые операции против партизан на территории Смоленской, Витебской и Могилевской областей, действуя в составе немецких охранных дивизий.
Подразделения Кононова находились в армейском резерве, выполняя задачи разведывательной службы, или бросались на те участки, где была угроза прорыва.
С октября 1942 года 102-й батальон был преобразован в 600-й казачий дивизион, состоящий из трех конных эскадронов, трех пластунских, одной пулеметной роты и двух батарей. Почти до конца 1942 года казачий дивизион в основном обеспечивал охрану железнодорожных коммуникаций по ветке Витебск – Полоцк и Борисов – Орша.
Один из командиров эскадронов рассказывал Кононову:
– Прибежала на днях ко мне бабочка из села, кричит, ваши всё пограбили! Дети без куска хлеба остались! Спрашиваю: «Какие такие наши?» «Да казаки!»
Поскакали в деревню. Выяснили, что изголодавшиеся в лесу окруженцы под казаков работают. Но на всякий случай я, конечно, еще своих предупредил, чтобы мирное население трогать даже в мыслях не держали!
А однажды заскочили верхи в село, а там амбар с пособниками партизан догорает. Мы к деревенским с расспросами, а они от нас в разные стороны разбегаются. По деревне вой стоит, крики, слезы. Местные кричат: «Ваши казаки потешились. Только что ушли из села». – Мы на коней и вдогон. И хоть больше смерти боялись они погони, но достали мы их и порубали. Оказалось, заброшенные парашютисты энковэдэшные, но в настоящей казачьей форме. А командиром у них – русский…
* * *
Дивизион Кононова был на особом счету у немецкого командования, считаясь одним из самых боеспособных подразделений среди «восточных частей», и неоднократно отмечался в приказах и сводках высшего командования вермахта.
Располагался он в селе Круча Круглянского района Могилевской области. Штаб дивизиона находился в центре села, в крепком деревянном пятистенке под железной крышей. Над выкрашенным крыльцом висела выструганная доска. Сквозь замазанные сажей буквы читалась надпись: «Правление колхоза имени товарища Ворошилова».
Казармой служила бывшая школа. В коридоре и классах пахло пылью, мелом и табаком. Казаки вытащили из шкафов и столов книги, журналы, ученические тетради. Висевший в кабинете директора портрет Сталина расстреляли и бросили в угол. Там же валялся и портрет Льва Толстого. Муренцов поднял его. Бережно поставил на тумбочку рядом со своей кроватью.
– Это хто такой бородатый будить, Сергеич? Карла-марла?
– Да нет. Русский офицер. За Россию воевал, также как и мы.
– А-ааа! Тада ладно.
По вечерам свободные от службы казаки собирались на крыльце школы. Здесь же крутились местные мальчишки. Приходили женщины, из тех, кто побойчее.
Иногда свободные от службы казаки устраивали концерт. Оркестр состоял из немецкого аккордеона и гармошки. Иногда и Муренцов брал в руки гитару. Казаки просили его:
– Давай офицерскую, Сергеич.
Муренцов мягко, осторожно трогал струны. Запевал:
Я увидел его сквозь прицел трехлинейки, Но не стал нажимать на курок. Не стрелять же в того, кто спасал вас от смерти, И сегодня я отдал должок.Казаки подсаживались ближе, закуривали.
На германской войне Братство было в цене. Дни летели в кровавом галопе. Бывший штабс-капитан, Почему же Вы там?! Почему Вы не в нашем окопе?Гитара плакала и рыдала. Муренцов пел и спрашивал:
Нас октябрь разметал, как жемчужные бусы, Оборвавши истории нить. Бывший штабс-капитан, Вы же не были трусом! Что ж заставило Вас изменить? Вместе с красной ордой Вы – могильщик державы, Почему Вы среди воронья? Под кровавой звездой нет ни чести, ни славы. Но Господь Вам судья, а не я.Затихали последние аккорды, оцепеневшие казаки и местные жители долго молчали, вздыхая, не желая освобождаться от волшебства гитарных струн и пронизывающего душу голоса.
Муренцов долго смотрел в даль. В памяти вставал запах степной пыли, тротила, горелого мяса и гари. «Сколько? – спрашивал он сам себя. – Сколько это будет еще продолжаться? Кровь… Война… Слезы. И есть ли во всем этом хоть какой-нибудь смысл?»
* * *
Ночь прошла спокойно, без стрельбы и тревоги. Утро выдалось тихим, воздух был влажен и прохладен. Расстилался волнами молочный туман. Поскрипывали суставами старые березы. По унавоженной улице казаки вели к озеру лошадей. К крыльцу подошла старуха. Нерешительно потопталась на месте, отошла.
Часовой, скрытый кустами, лениво окликнул:
– Чего тебе, старая?
Старуха испуганно завертела головой в платке, пытаясь понять, откуда доносится голос.
– Атамана вашего самого главного, который с усами.
– Не могу, мать. Он занят.
На деревянное крыльцо из плохо оструганных щелястых досок, брякнув щеколдой, вышел ординарец Кононова.
– Чего тут у вас?
– Да вот старая к батьке просится.
– Ты по какому вопросу, мать?.. А-ааа! Казенному? – ординарец усмехнулся. – Ну тогда проходи.
Войдя в избу, старуха стала креститься на передний угол.
– Здравствуйте, крещены которы. Здорово живете.
Кононов пригладил усы.
– Слава Богу, мать. Что случилось? Обидел кто?
– Обидели! Обидели, касатик. Еще в 30-м годе арестовали и расстреляли мужа. А дом конфисковали. Одна с детьми малыми осталась на улице. Сейчас сыновья в армии, где-то воюют. А я так и живу в соседской баньке.
Кононов выслушал, кивнул ординарцу:
– Собери через час людей. Говорить буду.
Регулярно Кононов проводил собрания, выслушивал жалобы и просьбы местного населения. В эти дни народ валил к школе. На школьное крыльцо вышел Иван Никитич. Он стоял, не сходя к толпе, поглаживая рукой прокуренные усы. Лицо у него было веселое, глаза блестели, усы торчали как пики. Весь ладный, подтянутый, как знак новой прочной власти.
Крыльцо окружила толпа крестьян и деревенских баб.
Ординарец махнул рукой старухе. Та поднялась на крыльцо, стала что-то говорить.
– Громче говори! – крикнул чей-то молодой голос.
Кононов поднял вверх руку.
– Тихо, граждане крестьяне!
Селяне затаили дыхание.
– Вы все знаете вопрос данной гражданки. Советская власть расстреляла ее мужа, отобрала все имущество и дом, оставив босой и сирой с малыми детьми на руках. Перво-наперво скажу так. Конфискация имущества и смертная казнь без приговора суда является незаконной. Потому требование вдовы о возврате ей дома признаю обоснованным.
Собравшийся народ встретил это решение одобрительным гулом.
В это время к Кононову протиснулся крестьянин, которому продали этот дом. Он размахивал документами о том, что заплатил за дом сто рублей, и настаивал на том, что он приобрел его на законных основаниях.
Крестьяне и казаки выжидающе смотрели на Кононова. Он сунул руку в карман, вынул банкноту в сто рейхсмарок и отдал ее крестьянину со словами:
– Это тебе компенсация! Не огорчайся.
Толпа загудела. Женщины одобрительно зашушукались. По мнению крестьян, было принято справедливое решение.
* * *
Казачьему дивизиону вновь было приказано направить два эскадрона на прочесывание лесов с целью ликвидации партизанских баз и отрядов. После разгрома кавалерийского корпуса партизаны немного успокоились.
Кононов понимал, что его планы относительно войны на передовой терпят крах. Его казаки, которых он тщательно отбирал все эти месяцы в концлагерях и пунктах сбора военнопленных, и впредь должны будут выполнять самую грязную работу, какая может быть на войне.
Вот сегодня предстояла самая обычная карательная операция. Нужно будет стрелять не в вооруженного врага, а в крестьянина, деревенского мужика, или его жену, ребенка. Но как отличить простого крестьянина от партизана? Неоднократно у него на глазах из крестьянской избы вытаскивали простого деревенского мужика, а на нем гроздьями висели жена и малолетние дети. Местные указывали, что это враг. А кто он был на самом деле, ни Кононов, ни его подчиненные не знали.
Кононов знал, что такие операции разлагают дисциплину. Люди перестают ему верить. Он, кадровый командир, сам принимавший участие в подавлении выступлений курских крестьян, знал, какими возвращаются бойцы из подобных операций. И еще казалось Кононову, что его используют в качестве дубины. Ведь выходило так, что любой человек, затаивший зло на своего соседа, всегда мог поквитаться с ним чужими руками. И он чувствовал себя бездушным орудием для убийства, не раздумывающим над тем, кого убить.
В январе 1943 года в казачий дивизион заехал генерал-лейтенант Власов. Его поездку организовал помощник командующего группы армий «Центр» полковник фон Тресков.
Кононов и Власов в прошлом оба были советскими офицерами и им было легко найти друг с другом общий язык. Они сидели в просторной избе, которую занимал Кононов со своим штабом.
Ординарец Кононова полез в погреб. Поднял наверх сало, квашеную капусту, миску соленых огурчиков, и началась обыкновенная пьянка, свойственная всем русским людям, как генералам, так и пролетариям.
Время от времени из-за неплотно задернутой занавески, перегораживающей избу, выглядывал ординарец, спрашивал глазами, не нужно ли чего. Кононов жестом прогонял его.
– Какой же дурак?! Нет, не дурак, какой идиот придумал воевать не с большевиками, а с целым народом? – наклоняясь к подполковнику, вопрошал изрядно подвыпивший Власов.
Ему было за сорок. Высокого роста. О таких обычно говорят – каланча. Самое обычное невыразительное лицо. Высокий лоб с залысинами. На носу большие роговые очки с толстыми стеклами. Это было бы лицо бухгалтера или счетовода какой-нибудь конторы. Если бы не глаза. Цепкие, настороженные, глаза очень умного человека.
Власов вышел из-за стола – высокий, слегка сутулый, в черных тусклых сапогах, прошелся по комнате, потянулся, поглядел на улицу. По дороге змеилась легкая поземка. Ветер посвистывал в печной трубе, постукивали ветки деревьев. Во дворе казак, подвесив на перекладину ворот баранью тушу, сдирал с нее шкуру окровавленными руками. Свернувшись в клубок и укутав нос пушистым хвостом, выжидающе выглядывал из будки лохматый пес. Из трубы соседней избы стлался белый дымок. Урядник с красным смеющимся лицом вел в баню взвод казаков.
Генерал сел поближе к печке. Сидя на стуле, подложил в топку березовые поленья.
– Люблю, знаешь ли, Иван Никитич, на огонь смотреть. Мое детство ведь в деревне прошло. Помню, смотришь на огонь и мечтаешь.
Угольки весело постреливали в печи.
Кононов наблюдал за ним, внимательно слушал.
Власов придвинулся к собеседнику вплотную, оглянулся на занавеску и, вдруг побледнев, заговорил полушепотом:
– Я тебе прямо скажу, немцы наверное никогда не поймут, что воевать против русского народа – это самый верный способ, чтобы проиграть войну, чтобы погубить свою армию и еще миллионы ни в чем не повинных людей. Гитлер – идиот!
Власов возмущенно захлопнул дверцу печки.
– Но силы немцев уже на исходе. Скоро они побегут от Красной армии как нашкодившие кутята. И у нас есть только одна возможность победить большевиков – это превратить войну Отечественную, как ее назвали большевики, в войну гражданскую. Желающих свести счеты с большевиками в России предостаточно. Надо бросить десант на сталинские лагеря! Дать оружие военнопленным, которых предал и бросил Сталин!
Власов прислонился к стене, говорил глуховато:
– И вот тогда понадобится авторитетный человек, вождь, который поведет за собой русский народ. Я, генерал Власов, и есть такой человек. Но для для этого надо иметь сильную и вооруженную армию. Такая армия есть, это – РОА. Но… Немцы никогда! Ты слышишь, ни-ко-гда! Не пойдут на это добровольно. Никогда они сами не додумаются до того, чтобы разрешить русским вооружить свою армию, даже корпус! Дивизию! Своими правильными немецкими мозгами они никак не могут постигнуть той мысли, что для нас большевизм еще более страшный враг, чем для них.
Власов глотнул кадыком. Продолжил:
– Немецкий «сапожник» упрям и недалек, он лучше изувечит ногу по сапогу, чем будет перешивать сам сапог по ноге. Прийти к такому решению их может заставить только Красная армия. Скоро наступит перелом, Гитлеру сломают хребет, и тогда он вспомнит о нас, о Русской освободительной армии. Но боюсь, что тогда будет уже слишком поздно.
Андрей Андреевич пристальным, спрашивающим взглядом смотрел Кононову в глаза и поправлял на переносице большие роговые очки.
Кононов согласно кивнул.
– Дивизион – это хорошо, – говорил он, тоже порядочно захмелев. – Полк еще лучше. Но вы правы. Нам нужны русские дивизии, дивизии, армии… Причем не бутафорские, не на бумаге, а боевые, вооруженные. Вы генерал, главнокомандующий Русской освободительной армии, и должны довести это до мозгов германского командования! А мы поддержим вас. Вот тогда мы и посмотрим, кто победит.
Кононов и Власов понравились друг другу. Наутро расстались очень большими друзьями. С этого дня Кононов стал убежденным сторонником подчинения всех восточных добровольческих формирований командованию РОА. И Власов тоже не забудет потом этой встречи.
* * *
Наступивший перелом после поражения немцев под Сталинградом отбросил немецкий фронт назад, к Таганрогу. Стремительное наступление Красной армии заставило немцев покинуть оккупированный Северный Кавказ и Кубань.
В середине января 1943 года в станицу Уманскую прибыл полковник фон Кольнер и собрал на совещание всех станичных атаманов Севера Кубани. Полковник объявил о том, что немецкие войска оставляют Кубань.
Уже в последних числах января 1943 года генерал-полковник Эвальд фон Клейст, командовавший группой армий «Юг», предложил атаманам Трофиму Горбу и войсковому старшине Саломахе эвакуировать своих казаков вместе с семьями. И часть казачьего населения, не ожидая ничего хорошего от советской власти, решила уйти вместе с немцами. Это была настоящая трагедия – покинуть свои дома, свое Отечество – и уйти в неизвестность. Но это решение пришло не потому, что враг заставлял идти за собой – нет. Бежали от Красной армии – от своих, от русских. Вместе с наступающей советской армией шла та самая власть, которая осиротила казачьи семьи. Страх перед ней был страшнее страха перед тем неизвестным, что ждало их впереди в незнакомом, чужом краю.
Тысячи беженцев днем и ночью тащились по степям Кубани. Многие шли пешком по заснеженной степи, по обледеневшим дорогам, а весной – по колено в вязкой, липкой грязи: женщины, дети, старики, старухи. Больных, немощных и малых детей тянули на санках, на тележках, а то и несли на руках. Изнемогшие, потерявшие силы падали и, прижимая к себе малых детей, тоскливым, полным ужаса взглядом провожали уходивших. По обе стороны большаков и проселочных дорог тянулись гурты скота и обозы беженцев. Все было забито повозками с детьми и домашним скарбом. Обреченно мыча, шли привязанные к телегам коровы. Совсем недавно этих коров немецкая администрация передала из колхозного фонда в многодетные казачьи семьи для прокорма детей. Долго решали, давать ли скотину тем, у кого мужья воюют в Красной армии. Решили – давать. Детишки не виноваты.
Колеса телег цеплялись друг за друга. Слышались крики возниц:
– Нн-ооо! Чего встал, дьяволюка? Эй, ты! Ну-ка двинь его кнутом!
– Тпрууу! Ептыть! Куда прешь, екарные ушки!
Пройдя десяток-другой километров, поток беженцев разделялся.
Некоторая часть обозов продолжала двигаться по дороге на запад. Другая следовала на ближайшие железнодорожные станции. Вместе с ними шли колонны солдат, одетых в немецкую униформу. На их кителях были щитки шевронов – Дон, Кубань, Терек. На головах солдат были форменные кепи, на некоторых красовались кубанки и папахи. Солдаты шли вразнобой, нестройными, ломаными шеренгами. Но в этих нестройных рядах чувствовался особый порядок боевых, обстрелянных подразделений, в любую минуту готовых развернуться цепью и вступить в бой. Солдаты были вооружены старыми трехлинейками, немецкими карабинами, советскими и немецкими автоматами.
Изредка слышались команды:
– Сотня-яяя! Не растягивайся! Подтянись!
– Взво-ооод! Шире шаг!
Следом двигались повозки с пулеметами и боеприпасами, несколько полевых кухонь. Обозы скрипели, похрапывали кони. На железнодорожных станциях их уже ожидали составы и товарные вагоны. Техника и люди спешно, с криками и шумом грузились на платформы и в теплушки.
Части вермахта и казачьи сотни отчаянно сопротивлялись, сдерживая наступающие советские войска и давая возможность беженцам и отступающей армии отойти к Краснодару.
Екатеринодар, переименованный большевиками в Краснодар, был окутан дымом и пламенем. В воздух взлетали взрываемые дома. Немцы, оставляя город, старались разрушить его как только могли. Они сжигали все, что не могли взять с собой. Взрывались городские учреждения, военные склады, казармы, театры, административные здания. Спиливались телефонные и телеграфные столбы. Уничтожалось все, чем могли бы воспользоваться следовавшие за немцами советские войска. Пламя и дым сопровождали уходившие войска. Сильный с морозом ветер раздувал пламя, и огненное зарево далеко освещало кубанскую степь. Взрывы, нескончаемый шум двигающихся людей, конское ржание, хрип, цокот копыт, скрип подвод и телег, плач детей сопровождали страшную картину всеобщего исхода. Наводя страх и ужас на беженцев, день и ночь звучала канонада.
Грохот пушек был все ближе и ближе, но приближал не освобождение, а новые мучения, расстрелы, лагеря, голод.
С гробовым молчанием брели люди через раненый, горящий город. Даже кони шли, понуро опустив головы. По обочине дороги, в стороне от бесконечной вереницы беженцев шла на рысях казачья сотня. Вооруженные шашками, в бурках и нахлобученных до бровей папахах, казаки были похожи на огромных хищных птиц, случайно оказавшихся среди людей.
И вдруг, совсем неожиданно для всех, заставив встрепенуться и оторвать глаза от пламени, кто-то, ехавший в первых рядах сотни, затянул:
Прощай ти, уманська станиця! Прощай, родная сторона! Прощай, козачка, Бог з тобою! Прощай, голубушко моя! Козацькиий конь далеко скачить, козачка ноченьку не спить, не спить вона, ще й гірко плаче печально в хижині своїй.Многие беженки, слушая песню, плакали, пряча лица в черные платки и шали. Казаки до крови кусали губы, сморкались и матерились.
А мать красотку утішаe, не плач, козачка, доч моя, тобі давно жених готовий, ти будеш в золоті ходить. Нельзя, нельзя, родна мамаша, такії речі говорить, останусь милому верна я, нельзя, нельзя дружка забить.Полковник Штайнер ехал в штаб группировки. Он оцепенело смотрел в окно, на носу отблескивал монокль. Внезапно разболелась голова. Штайнер потер виски.
– Проклятая мигрень. Лейтенант, откройте окно.
Заляпанный грязью черный лакированный «хорьх», пропуская сотню, пристроился в хвост колонны беженцев. Немецкие офицеры с удивлением смотрели на поющих людей.
Полковник спросил адъютанта:
– Почему они поют? Мы же вернемся.
– Это русские! С ними все не так. Когда они умирают, то поют песни. Когда кто-нибудь возвращается – плачут, – ответил ему лейтенант.
Поравнявшись с машиной, в салон заглянул пожилой, уже седой, невероятно худой мужчина.
– Не поют они… плачут… езжайте себе… Христа ради.
В его руку вцепился закутанный в платок мальчик лет десяти.
– Деда! Дедуня… Ты по ихнему понимаешь?
Мужчина вздохнул. Крепче сжал детскую ручку.
– Понимаю, внучек. В Германскую два года у них в плену провел. Но лучше уж у них в плену, чем у красных на Колыме.
Над дорогой взлетала песня, тоскливая и безнадежная, как рыдания измученного и истерзанного народа, оплакивавшего свою судьбу и любимую, покидаемую разоренную родину.
Уходя с Кубани, казаки видели лежавших сбочь от дороги труппы расстрелянных советских пленных. Не успевая угонять их в тыл и не желая оставлять советским войскам, пленных просто уводили с дороги и косили из пулеметов, как траву.
Немецкие офицеры и унтер-офицеры казачьей сотни старались не смотреть казакам в глаза, понимая, что одно неосторожное слово может привести к взрыву.
Тянулась до самого серого неба поросшая голыми будыльями степь, присыпанная снегом. И над равниной висело солнце, освещая в своих неярких осенних лучах бесконечно усталые, унылые колонны.
* * *
Заявившись с утра в штаб, невыспавшийся и злой Доманов приказал вызвать к нему Лукьяненко. Тот незамедлительно явился, увидел, что начальство сердится. Не в духе.
– Тута я, Тимохвей Иванович. Звал?
Доманов напустил на себя строгий вид. Прикрикнул на своего заместителя.
– Где шастаешь? Почему не докладываешь по всей форме? Ты офицер или кто?
Рыжеватый и голубоглазый пройдоха Лукьяненко непонимающе топтался у порога.
– А как же, Тимохвей Иванович. Охфицер… а як же… сотник.
Доманов чуть остыл.
– Ладно. Жаль, времени на тебя нет. А то прописал бы я тебе плетюганов.
Лукьяненко вытер ладонью вспотевший лоб. Кажется, пронесло.
– Ты знаешь, что у нас завелся большевистский агент?
Лукьяненко удивился.
– Иде? У нас? Да ты шо-оооо?
– Вот тебе и шо-ооо. В самом штабе засел, подлюка. Только что Радтке сказал. Говорит, что уже абвер в курсе. Скоро всех допрашивать начнут. Надо нам раньше немцев эту гниду вычислить. А то вскорости либо партизаны шкворку на шею наденут, либо немцы.
Лукьяненко напряженно думал.
– А сам-то ты как думкуешь?
– Я думаю так. Мы с тобой про многих гадали…
Сотник важно кивнул головой.
– Це було!
Доманов хлопнул себя кулаком по колену.
– Вооооот! А на кого не думали?
– На кого?
Доманов, похожий на сельского счетовода, сморщился складками своего простодушного лица. Бесхитростный, доверчиво-задумчивый лик выдавал в нем опытного карточного шулера.
– Да на Павлова же, дурная твоя голова!
Лукьяненко вытаращил глаза.
– Да иди ты!.. На атамана?
– На атамана. Сам посуди. Самолично во всех операциях участие принимает, а пули его не берут. Красных пытать запретил. Пленных не расстреливает. И все такое.
Лукьяненко размашисто перекрестился.
– Ну ты, Тимохвей Иваныч, голова! А мне чого робить?
– Да-ааа, голова, – горделиво покивал головой Доманов. – А ты пока язык прикуси, молчи. Наблюдай. И с Павлова глаз не спускай. А то он уже того, под меня копать стал. Чувствует, сука, что у меня под прицелом, вот и хочет устранить до срока. Помнишь день рождения у есаула Гнутова?
– Ну!
– Вот тебе и ну! Нажрался Павлов как свинья и давай меня за грудки тягать. Кричал, что я ему поперек дороги стою. Убить грозился. Трофименко его еле оттащил.
Лукьяненко долго думал. Выпил водки. Наконец сказал:
– Слухай, Тимохвей… Иваныч.
Доманов наклонился к нему правым ухом.
– Так можеть… его того?..
– Можеть… А кто исполнит?
Лукьяненко помолчал, прикидывая про себя.
– Можно Юськина. Или лучше Богачева. Он ведь с ним завсегда рядом… адъютант никак. Да и тебя уважает.
– Можно и Богачева. Только смотри, чтобы наверняка.
– Не журись, Тимохвей Иванович. Сделаем наверняка. Прощевай.
– Прощевай, односум. Вызову, если что.
Доманов был доволен состоявшимся разговором. Все, что было нужно – сказано. Оставалось только ждать.
* * *
В начале февраля 1943 года, в 15 километрах северо-восточнее Витебска 600-й казачий дивизион принял участие в операции против партизан. Перед началом операции стоявший на левом фланге дивизиона отдельный татарский батальон перестрелял немецких офицеров и перешел на сторону партизан. Казаки открыли огонь по этому батальону, перестреляв около 80 татар и взяв в плен 23 человека. Пленных тут же расстреляли.
Вплоть до июня 1943 года дивизион Кононова участвовал не только в антипартизанских операциях и в охране немецких коммуникаций, но и воевал с регулярными частями Красной армии.
С 15 мая по 20 сентября дивизион участвовал в операциях под Великими Луками и потом до весны 1943 года под Смоленском.
Казаки постоянно несли потери, которые восполняли за счет вербовки военнопленных. Несмотря на неудачи германской армии, в лагерях военнопленных все еще находились желающие служить на стороне немцев. Но зачастую настроение среди казаков, и особенно в тех эскадронах, где основную массу составляли не казаки, было подавленным.
Опорой Кононову служили проверенные в боях 1-й и 2-й эскадроны, основу которых составили те, кто воевал с Кононовым еще с начала войны. Во всех же остальных подразделениях были не только те, кто пришел в дивизион по убеждению, но и те, кто любой ценой стремился вырваться из лагеря, где их ждало только одно – голодная смерть. Попав в дивизион и отойдя от плена, они начинали метаться и думать о том, как заработать прощение перед советской властью. Настроение зачастую было подавленным.
За многие месяцы войны казаки насмотрелись всякого. Видели они поведение немцев на оккупированных территориях, сами прошли через голод и унижения в лагерях и понимали, что воюют не против «бандитов и их пособников», а против таких же, как они сами, людей, ни в чем не повинных в их бедах и защищающих свою землю.
Воюя на стороне германской армии, многие казаки не доверяли немцам и мучительно искали выход. Это не могло не отразиться на моральном состоянии, и были случаи перехода казаков на сторону партизан.
Ранним мартовским утром нескольких легкораненых казаков отправили в город для того, чтобы из столярной мастерской забрать гробы для погибших казаков. Гробов было много. В кузов они не поместились. Пришлось делать несколько рейсов. Когда грузовик ушел в город, казаки присели. Пахло струганым деревом, подтаявшим снегом, приближающейся весной.
– Ну вот и порядок! – разворачивая кисет, выдохнул кто-то из казаков. – Теперь можно и перекурить.
Крупными корявыми крестьянскими пальцами вертели аккуратные цигарки. Качали головами: «Без курева совсем беда, хуже, чем без хлеба. Затянулся дымком, и вроде жизнь полегче. Казаку без табаку никак невозможно».
– Отвоевались хлопцы, – сказал один из них, пожилой, заросший седой щетиной, и стал щелкать самодельной зажигалкой, изготовленной из гильзы. – Повезло, в домовинах лежать будут. Помню, под Вязьмой телешом в мерзлую землю бросали.
– Да уж, повезло… А нам скоро крышка, – отозвался второй, помоложе, с бледным до синевы лицом. – Прут красные!
– Картина, – насмешливо выпячивая губы, вновь сказал пожилой, – дешевая трескотня… – Ему очень хотелось верить в немецкую мощь, в несокрушимость Третьего рейха. – Советы только и умеют, что пыль в глаза пущать.
– Советы еще и драться умеют, – отозвался высокий. Голова его была перемотана бинтом. Он стоял, жадно вдыхая запах подтаявшего апрельского снега.
– Ну да, умеют, – трупами солдат дорогу к победе гатить! А так – бардак… С немцами им не сравняться, – пожилой казак помотал головой. – Нипочем не сравняться. У немцев танки, самолеты, везде орднунг. Снарядов они никогда не экономят. Бьют и бьют, и ты уж не смерти ждешь, а когда обстрел кончится. И все-то у них отлажено, покрашено, подогнано, предусмотрено, крутится и вертится… Силища, одним словом!
– А все же бегут! – зло оскалился парень. – Как же так?
– А очень просто, – раздался насмешливый голос со стороны. – Немецкая техника утонула в русской грязи, а их порядок разбился об наш русский бардак…
Говоривший задумчиво смотрел в сторону леса, выпуская клубы густого дыма.
– А-а-а, – отмахнулся седой. – Это все ненадолго. Они еще вернутся! Оклемаются, отдышатся малость и беспременно вернутся. Наверстают свое. Вот тогда посмотрим, что вы скажете, герои, как запоете!
– Замри, тварь, – грозно, медленно проговорил парень и резко шагнул к щетинистому. – Завали свой рот! Понял? И если еще вякнешь…
– А чего ты прешь, чего залупаешься? – удивился пожилой. – О чем переживаешь? Думаешь, ты лучше меня? Мы же с тобой оба одинаковые, и висеть на одной перекладине будем.
И опять встрял смешливый голос:
– А чего удивляетесь? У большевиков уравниловка, всем поровну. Землю – крестьянам, воду – матросам, а предателям – веревку. Основной закон социализма!
Поздним вечером несколько фигур в белых рубахах и накинутых на плечи шинелях сидели в сарае на тюках соломы, привалившись спинами к бревенчатым стенам. Курили, шептались вполголоса в темном углу дома, наклонившись друг к другу.
– Как в гробу сидим! – тоскливо проговорил высокий рябой Фефелов. – Тикать надо!
Никитин недоверчиво крутил головой, сосал цигарку.
– Пустят нас красные в распыл.
– Не пустят! Мы же в акциях участия не принимали, – вскидывался Фефелов. – Не могут нас пострелять. Дадут лет десять. На одной ноге отстоим.
В темноте вспыхивали вспышки самокруток, освещали невеселые щетинистые лица.
– Все, хватит. Послужили на Гитлера. Уходим, – подвел итог Аникушин.
* * *
В середине апреля 1943 года несколько казаков из дивизиона Кононова, захватив с собой оружие, ушли в лес к партизанам.
Через два месяца в партизанский отряд Королева, действующий под Могилевом, перешли с оружием еще 16 казаков из бывших военнопленных. Уговорил их на переход к партизанам заместитель командира эскадрона Николай Гагарин. Был он из князей. Его отец служил в имперской разведке и носил оперативное имя Бархан. Сразу же после революции семья Гагариных покинула Россию. Семья жила в Турции, Франции, Бельгии, Югославии.
Повзрослев, Николай Гагарин-младший закончил военную академию. Знал французский, немецкий, сербский, словенский и русский языки. Попав в плен, заявил, что ненавидит большевиков. Немцы предложили ему должность заместителя командира эскадрона в казачьем дивизионе. Его личное дело легло на стол Виктора Абакумова. Перелистывая листы, тот спросил:
– В самом деле князь? Или за границей все, кто Гагарины – князья?
Адъютант подтвердил:
– Так точно. Князь. Кроме того, все близкие родственники – мать, братья, сестры, живут в Америке, Франции, Бельгии, Польше, Австрии. Братья Дмитрий и Алексей – офицеры американской армии. Один из братьев, Сергей – служил во Франции, пропал без вести.
Князь Гагарин был идеальным объектом для вербовки.
Абакумов приказал разработать систему агентурно-оперативных мероприятий по его привлечению к сотрудничеству. Через линию фронта был отправлен лейтенант госбезопасности Бескаравайный, в прошлом выпускник филфака Ленинградского университета. Но подкупить Гагарина оказалось невозможно. Князь – молодой, холеный, с тонко подбритыми усиками – любил и ненавидел совершенно искренне.
Бескаравайный, по легенде Михаил Смирнов, это понял сразу же. С интеллигентным образованным Гагариным он сразу же перешел на ты. В первое же воскресенье они пошли вдвоем в увольнение. Гагарина очень интересовал Ленинград, или Санкт-Петербург, в котором он когда-то родился. Был морозный солнечный день. Холодно. Решили зайти в ресторан.
Гагарин не отказался от приглашения. Через три часа Бескаравайный привел его на явочную квартиру и там показал фотографии умирающих от голода ленинградцев. Лица убитых и умерших детей, распоряжения немецкого командования об уничтожении города.
Князь закурил, жадно затянувшись, выпустил дым из ноздрей тонкого породистого носа. Сказал:
– Чего-то подобного я ожидал. – Потом спросил: – А если я откажусь?
Бескаравайный не ответил.
Князь Гагарин усмехнулся.
– Впрочем, не отвечайте, алягер ком алягер.
Загасил сигарету и дал согласие работать на советскую разведку.
После перехода к партизанам его срочно доставили в Москву. Князь прошел подготовку в разведшколе и был вновь отправлен в Европу, с заданием от Главного разведывательного управления Генерального штаба Красной армии.
* * *
Из штаба командующего тыловым районом группы армий «Центр» прибыли несколько офицеров с переводчиком. Опрашивали Кононова, Ритберга, офицеров, рядовых казаков. Уехали.
На следующий день дивизион получил приказание сдать оружие. Личному составу ждать в казармах. Увольнения и отпуска запретить. Карабины, пулеметы сдали и опечатали в оружейных комнатах. Выставили усиленный немецкий караул. Через несколько дней поступил приказ сдать личное оружие офицерам. Те ответили отказом. Назревал бунт. Немцы взяли под арест несколько казаков. Для этого дела срочно оборудовали арестантскую. На окна спешно поставили ржавые решетки. Возле дверей поставили часового, толстого немца в каске. Арестантская была маленькая, сырая, в первый же день стены исписали и исцарапали гвоздем. Надписи были разные, но в основном имена, фамилии, родной город. Кто-то нарисовал голого Сталина, стоящего раком.
По утрам стояли табачная вонь, смрад, пахло несвежим мокрым бельем и портянками. Арестованных поднимали в шесть часов утра. Они убирали матрацы, завтракали, и их выгоняли на строевые занятия. После обеда вновь раскладывали соломенные тюфяки, стелили на них одеяла. Лежа смолили самосад и сигареты, коротали время рассказами о прошлой жизни. Гадали, что будет дальше, отправят обратно в лагерь или, может быть, пошлют на работу в шахты.
Кутаясь в шинель, Кононов вышел на улицу, постоял возле крыльца, слушая, как вдоль здания прохаживался часовой. Под его ногами шуршал гравий, часовой шумно сопел и что-то тихо насвистывал.
Дул сильный ветер, внезапно пошел холодный апрельский дождь. Тревога притаилась в казарме, на конюшне.
«Что делать? Сдаться? Смириться со сдачей оружия? Позволить, чтобы казаков, поверивших ему, вновь отправили в лагерь военнопленных?»
Выскочил ординарец.
– Господин полковник, куда вы? Дождь… Промокнете!
– Ты вот что, братец. Через полчаса собери-ка мне офицеров.
– Слушаюсь!
Собравшимся офицерам Кононов объявил план действий. Приказал соблюдать дисциплину.
Граф Ритберг по телефону срочно связался с генералом Шенкендорфом и следующим утром вместе с полковником Кононовым выехал в Могилев. Их принял адъютант командующего войсками тыла майор Краузе, выслушал, тут же по телефону доложил о них генералу. Шенкендорф подумал. Закурил сигарету.
– Через десять минут я их жду у себя. И пришлите ко мне переводчика. Полковник Кононов хорошо воюет, но никак не может выучить немецкий. Впрочем, точно так же, как и я – русский.
Офицеры вошли в кабинет возбужденные, с покрасневшими от холода и волнения лицами. Звеня шпорами, полковник Кононов прошел к письменному столу. Граф Ритберг неотступно следовал рядом. Потемневшие и облупившиеся кожаные ножны висели на боку у Кононова. В ножнах была кривая кавказская шашка. Он был в черной заломленной папахе, немецкой шинели. Лицо его было серьезно.
На улице внезапно похолодало. Дождь за окном сменился снегопадом. Но в генеральском кабинете было тепло и уютно. Он был обставлен с военным изыском. Высокие книжные шкафы, черный кожаный диван, несколько массивных стульев и большой дубовый стол. На нем стояли телефонный аппарат, бронзовая чернильница, стакан с цветными карандашами. Настольная лампа с зеленым абажуром разливала мягкий свет. Со стены строго смотрел Адольф Гитлер в коричневом мундире.
Командующий войсками тыла группы армий «Центр» генерал Шенкендорф сидел за столом усталый и встревоженный. Он был не в духе, нервничал. Мучил застарелый простатит. Ему уже давно предлагали лечь на операцию, но место солдата на войне, а не на госпитальной койке. За его спиной стоял переводчик.
Кононов отдал честь и негромко, но четко представился. Вслед за ним щелкнул каблуками и представился граф Ритберг.
– Чем обязан? – спросил Шенкендорф офицеров.
Кононов положил на стол генерала написанный с вечера рапорт.
Полковник Кононов и граф Ритберг, вытянувшись в стойку, стояли перед командующим войсками тыла.
Генерал водрузил на нос очки в золотой оправе и, пожевав задумчиво губами, склонился над столом. Внимательно прочел, снял очки, спросил:
– Поясните, господа офицеры, как могло получиться, что в одном из самых надежных подразделений вермахта в течение двух месяцев случилось два перехода на сторону партизан?
Кононов шагнул вперед.
– Набором людей я занимался лично. Костяк 1-го и 2-го эскадронов состоит из тех, с кем я воевал с первого дня войны. Многих знаю еще с финской войны. За этих ручаюсь полностью. К партизанам перешли несколько казаков 4-го эскадрона. На предательство их подтолкнул князь Гагарин, который, судя по всему, является агентом НКВД. Гагарина нам навязало немецкое командование. Я был настроен категорически против этой кандидатуры.
– Вот как? – Генерал Шенкендорф встал, прошелся по скрипучему паркету, посмотрел в окно, выходящее в сад. За окном падали редкие снежинки, подходил к концу короткий день. В саду слышался писк синиц. Они прыгали на ветках и заглядывали в окна с веток рябины.
– Я подтверждаю слова полковника Кононова, экселенц. Дивизион кишит советскими агентами, – подал голос Ритберг. – И это не наша вина. Нам этих людей навязывает СД. Они рассчитывают, что эти люди будут шпионить на них, но они работают на Советы.
– Да! Я знаю это. Но среди перебежчиков есть и рядовые казаки, чьих родных уничтожил Сталин!
– А что вы хотели, господин генерал? – прохрипел Кононов, дрожа от напряжения. – Вы ведь не хуже меня знаете, что верой и правдой, до конца, служат только подонки, кому уже обратной дороги нет. А честный человек, он всегда будет метаться между добром и злом. Он всегда будет стоять перед выбором между честью и совестью! В целом же дивизион на протяжении длительного времени воюет очень хорошо.
Генерал Шенкендорф внимательно слушал. Кононов замолчал, перевел дух. Затем продолжил:
– Я помню и никогда не забуду о том, что наше подразделение было создано исключительно благодаря вашей поддержке, господин генерал. И это обстоятельство не позволяет мне забывать и о личной признательности вам. Многие из моих казаков, господин генерал, добровольно перешли на сторону великой Германии для борьбы с большевизмом, с режимом Сталина, который считаем бесчеловечным. Возьмите любого казака и спросите его, почему он у нас. Ответы у всех одинаковы. Одного коммунисты лишили семьи, у другого убили отца, третий сам прошел тюрьму, у четвертого мать умерла с голода. Это счета, которые можно оплатить только кровью. Моих казаков привело к вам только лишь желание отомстить ненавистному режиму.
Генерал, словно забыв об офицерах, ходил по кабинету. Он думал.
«Не стоит обольщаться и считать, что этот казачий полковник так же предан Германии, как и я сам. Его Родина – эта русская земля, Казакия, а не Германия. Но этот казак – солдат, и хороший солдат. К тому же в этом офицере есть не только выучка, но еще и способность к риску. То, чего так не хватает немецким офицерам. А какие у него казаки!»
Шенкендорф вспомнил кононовских казаков, ловко орудующих двумя шашками на скаку, и сравнил с пополнением, полученным из Германии неделю назад. Поморщился.
«Ну их к дьяволу, этих партийных бонз! Они, видите ли, озабочены тем, что союзниками великой Германии станут эти унтерменши, как называет их Гиммлер. Но от пуль и диверсий партизан гибнут именно немцы. К сожалению, у Германии нет такого количества солдат, как у этих проклятых русских. Пополнение никак не может восполнить понесенные потери».
Он уже пытался убедить командование дать разрешение пополнить бригаду русскими добровольцами, но берлинские умники запретили даже думать об этом! Но если так пойдет дальше, то Германия скоро начнет призывать детей.
Прислушался к звукам на улице. На колокольне тоненько бил колокол, наполняя звуком всю округу. Шенкендорфу нравился перезвон русских церквей. Порадовался, что решение пришло вместе с колокольным звоном. Значит, оно было правильным.
– Да, господин полковник. Я знаю о ваших подвигах. И прошу вас, не оправдывайтесь. Это не к лицу офицеру. Мы здесь, на передовой, должны иначе и проще понимать друг друга. Завтра утром вам вернут оружие, – сказал Шенкендорф. – Пришел приказ о направлении вашего подразделения в Польшу и включении его в состав 1-й казачьей дивизии. На базе вашего дивизиона будет развернут полк. Надеюсь, что мы вместе еще послужим великой Германии. – Генерал вздохнул. – Вы свободны, господа офицеры.
Кононов и Ритберг, козырнув, сделали четкий полуоборот и пошли к дверям. На сапогах Кононова нервно и зло позвякивали шпоры, шашка с глухим стуком ударялась о сапог.
* * *
Дивизион подняли по тревоге.
Рядом рвануло так, что Муренцов мгновенно перестал слышать.
Сверкнувший перед глазами красный огонь с черным дымом и страшный удар по барабанным перепонкам – вот что было его первым ощущением от разорвавшейся примерно в полусотне метров мины. Он даже не услышал звук взрыва, а просто почувствовал, как что-то тупо и зло ударило его в грудь. На какой-то миг закружилась голова, ослабли ноги, и он рухнул на холодную землю. Как сквозь вату слышались взрывы и выстрелы, раздавались чьи-то крики и топот. Он силился открыть глаза и не мог. Очнувшись и придя в себя, он удивился тому, что несмотря на боль еще может двигаться. Сильная боль в груди не парализовала тело, давала возможность хоть с трудом, но дышать. Кровь на груди просочилась через шинель и засохла коричневой коркой. Муренцов с трудом нащупал в кармане шинели нетронутый перевязочный пакет. Кривясь от боли, затолкал его под шинель на рану и медленно, отдыхая у каждого дерева, пошел по лесу в сторону тыла, где стояли санитарные машины. Из раны снова начала сочиться кровь. И Муренцов чувствовал, как с каждой каплей крови из тела уходит жизнь.
Навстречу попались немецкие санитары с носилками. Они ловким движением закинули его на носилки и понесли по обочине дороги. Санитары смеялись и разговаривали между собой, но Муренцов не слышал их. Взрывной волной ему повредило барабанные перепонки. Его принесли на полевой санитарный пункт. Подошел человек в окровавленном белом халате. Расстегнул пуговицы шинели, разрезал китель и обмыл рану. Сделал несколько уколов, сделал разрез. Долго ковырялся в ране пинцетом, вытащил осколок. Потом врач зашил рану, смазал рану какой-то вонючей мазью. Санитары забинтовали грудь. Его погрузили в машину с другими ранеными и повезли в медсанбат, расположенный в бывшей школе.
Принесли чистое нижнее белье, переодели и перенесли на койку. Палата была небольшая, квадратная, с дощатым некрашеным полом. В ней стояло шесть коек и пахло лекарствами. Это был новый незнакомый запах, и он уже был не поручик, не военнопленный и не рядовой казачьего эскадрона, а просто немолодой, страшно усталый человек, раненный в грудь. В палате, за стенами и за дверями, стояла тишина, точно ее где-то нарочно поймали и разместили здесь.
Ночью Муренцов потерял сознание, ему сделали еще одну операцию и вытащили маленький осколок, величиной с булавочную головку, который засел рядом с сердцем.
Под наркозом ему виделся длинный низкий коридор, солома, окровавленные бинты, кучи тел, свет тусклых керосиновых ламп над головой. Перед ним стояла женщина в белом. Это была она. Сестра милосердия. Мария, его Маша.
Забытье продолжалось. Слева и справа стонали и тянули к ней руки:
– Сестраааа… Сестрица…
Через несколько часов он пришел в себя и понял, что это всего лишь сон. Его Маши нет. Она уплыла на корабле в другую страну. В другую жизнь.
Утром было трудно открыть глаза. Все в глазах двоилось, плохо доходили звуки. Кругом ходили и разговаривали люди, за окном рычали моторы, лаяли собаки. Звуки доносились словно через ватную подушку. Ему дали чашку горячего горького кофе и несколько кусочков печенья. Позже санитар принес котелок густого, хорошо пахнувшего супа, большой кусок хлеба и пачку сигарет. Поев, он задремал.
Крутились, вертелись перед глазами разноцветные блестящие колеса, без шума, без дороги. Отчего-то стало совсем тихо, свободно, просто и легко. Колеса крутились и везли его куда-то вдаль.
Муренцов пришел в себя, когда лежачих раненых грузили в санитарные машины. Почти месяц он лечился в госпитале. Постепенно восстановился слух. После выписки в канцелярии ему выдали проездные документы и отпускной билет. Все казаки, также как и немецкие военнослужащие, получали обязательные отпуска, которые проводили на родине, а холостяки или те, кому некуда было ехать, направлялись в дома отдыха Восточных частей вермахта.
На следующий день его и еще нескольких солдат на грузовике довезли до Житомира. Там Муренцов расстался со своими попутчиками и поездом доехал до Ковеля, то есть почти до польской границы. В Ковеле Муренцов явился в русский отдел военной комендатуры и получил проездные документы до Берлина.
Вагон покачивало, перестук колес убаюкивал, навевая воспоминания прежней, довоенной жизни. Было ощущение почти неземного блаженства сидеть вытянув ноги, не бежать по команде, не ждать выстрелов. Все дальше и дальше удалялась опостылевшая война. Снега, сосны, дымы костров, обгоревшие печные трубы, мертвые скрюченные люди, дохлые кони, всюду окровавленные, грязные тряпки. Все это путалось в его воспоминаниях, сливалось в одну долгую книгу нескончаемых бедствий.
«Нет! Не так я мечтал вернуться. Не так. Но эта жизнь тоже часть моей Родины, моей страны, великой России».
Муренцов сидел на жесткой деревянной скамье, отгородившись своими мыслями и воспоминаниями от других пассажиров.
Через некоторое время в окне вагона начали мелькать аккуратные немецкие домики с черепичными крышами, готические здания, зеленеющие поля, на которых паслись кони и коровы. Поезд останавливался на станциях и полустанках. На каждой станции в вагон входили и выходили женщины, солдаты, католические монашки в серых платьях.
Пассажиры вели себя тихо, никто не кричал, не скандалил, разговаривали вполголоса. Кондуктор вставил зажженную свечу в длинный фонарь, и ее пламя робко осветило часть деревянного простенка с красной запломбированной ручкой тормоза, часть скамьи, на которой сидел Муренцов.
Через вагон прошел офицер военной жандармерии, проверил документы военнослужащих. Муренцов встал, застегнул мундир на все пуговицы, подал офицеру свой зольдбух.
В Берлине, в русском отделе комендатуры Муренцову выдали ордер на комнату в небольшой частной гостинице. Фрау Шеффер дала ему ключ от комнаты, попросила не опаздывать на завтрак. Там же в комендатуре он получил адрес виллы, где проживал генерал Краснов.
Через несколько дней Муренцов поехал в городок Далвиц. Он находился в предместье Берлина, в получасе езды по железной дороге.
Этот весенний день апреля 1943 года выдался удивительно теплым. Поезд медленно приблизился к маленькой, аккуратной и ухоженной станции. На перроне было чисто и пусто, станционный кондуктор с седыми пушистыми усами, носильщик с тележкой, два скучающих шуцмана. Муренцов увидел дома с островерхими крышами из ярко-красной черепицы. Дома, конюшни, коровники и сараи были кирпичными или каменными, а не деревянными, как в СССР.
Был слышен звон колоколов католических и протестантских церквей с пирамидальными шпилями. Всюду висели плакаты, призывавшие быть верными фюреру. Удивляли порядок и чистота покрытых каменной брусчаткой улиц немецкого городка, добротность домиков, приличная одежда жителей. Людей, одетых в фуфайки, в грязную или рваную одежду, Муренцов не увидел. На улицах городка было тихо, мирно и размеренно. Как будто и не коснулась его своим крылом война, пролетевшая над миром.
Генерал Краснов жил в небольшом двухэтажном доме с садом. Дом был старый, с большими окнами, покрытый черепицей. Тут же жили сотрудники штаба Краснова. Окна дома были ярко освещены. Сквозь двойные рамы на улицу пробивались глухие звуки пианино. В тесном коридоре-прихожей, коленом уходившей вглубь, было полутемно. У порога его встретил высокий стройный адъютант, с погонами есаула. Муренцов ощутил на себе взгляд, холодный, как винтовочное дуло.
– Я к его превосходительству генералу Краснову, – сказал, слегка запинаясь, Муренцов.
Есаул изогнул правую бровь.
– Кто вы?
– Урядник Муренцов… 600-й казачий дивизион. Вам телефонировали из комендатуры по поводу меня.
– Ах да, да! – спохватился адъютант. – Вы с фронта. Петр Николаевич непременно примет вас, но придется немного обождать.
Есаул проводил его в просторную комнату с окном, выходящим в сад. Распахнул перед ним белую дверь. Это был генеральский кабинет. И все здесь было на своих местах: небольшой платяной шкаф, конторка красного дерева с бронзовым чернильным прибором, рядом с ним телефонный аппарат. На стене три книжные полки с любимыми книгами. икона Донской Божьей Матери. На полке камина стояли мраморный амур и две вазы. У широкого окна стоял заваленный рукописями и книгами письменный стол. Бросалось в глаза громадное полотно в тяжелой позолоченной раме, с видом на донскую степь. Мерно тикали старинные с боем часы. Солнечный свет из окна падал на иконы. Мягким, едва заметным светом светились лица святых.
Через минуту в дверях появился сам Петр Николаевич. Поздоровался за руку и предложил сесть. Спросил, не желает ли Сергей Сергеевич чаю?
Муренцов поблагодарил, вежливо отказался.
Разговор начался с того, что Петр Николаевич начал расспрашивать о прошлой жизни. В какой воспитывался семье? Какое учебное заведение окончил и где воевал? Как сложилась судьба близких?
Муренцов за многие месяцы смог наконец-то выговориться. Рассказал о боях в Гражданскую, о лагере военнопленных, из которого почти чудом удалось вырваться, о маме и сестре, следы которых обнаружились в Париже. Старый заслуженный генерал слушал Муренцова с большим вниманием.
Муренцов не видел Петра Николаевича более 20 лет. Первая и единственная встреча была весной 1918 года, в Новочеркасске. Петр Николаевич постарел. Он стал как-то меньше ростом, немного сгорбился, было заметно, что его мучает больная нога, и он ходил, тяжело опираясь на палку. Но вместе с тем его осанка и офицерская выправка говорили о том, что он еще бодр телом и духом. Одет он был в немецкий мундир, с погонами генерала русской императорской армии. У Петра Николаевича была совсем не генеральская, а интеллигентская приятная манера общения.
Выслушав Муренцова, он сказал:
– А я думаю вот о чем. В июне 1942 года под Харьковом полегло несколько кавалерийских дивизий, которые носили названия казачьих. Были это только «ряженые» казаки или были это казаки, у которых в голове был большевистский дурман, – это все равно. Факт остается фактом. Казаки погибли за батьку Сталина! Меня мучает вопрос, почему, вместо того чтобы восстать против жидовской власти, казаки кинулись в безумную атаку на немецкие пулеметы за советскую власть, возглавляемую жидами? Я еще могу понять, когда кончает самоубийством оболваненная жидами Россия, но наш родной, милый Тихий Дон?!
Как только Петр Николаевич заговорил, то сразу же стало ясно, что ни возраст, ни годы эмиграции не смогли затуманить его ум. Красивая, правильная речь, полные глубокого смысла мысли. Вполне обоснованные, логические заключения.
Проговорили часа два. Время пролетело незаметно. Потом, взглянув на часы, Петр Николаевич выразил сожаление, что уже так поздно, а у него еще много срочной работы. Поняв, что аудиенция окончена, Муренцов встал, начал прощаться. Петр Николаевич спросил, был ли Муренцов уже в Главном управлении казачьих войск? Услышав, что еще нет, порекомендовал сделать это как можно скорее.
– Через несколько недель в Польше начнет формироваться 1-я казачья дивизия под командованием генерала фон Паннвица, и лучше всего, если бы вы продолжили службу именно там, – сказал Краснов. – Кстати, подразделение полковника Кононова тоже войдет в состав дивизии. Желаю вам хорошей службы. До скорой встречи на театре военных действий. – Петр Николаевич задержал его руку в своей: – И вот еще что… Я советую вам написать письмо своей матушке, а я постараюсь через ставку переправить его в Париж. Занесете письмо в штаб и обратитесь к моему адъютанту, войсковому старшине Моргунову. Заберете также железнодорожный билет и предписание. Я распоряжусь. Ну те-с, всего наилучшего. Храни вас Господь. Ступайте.
Проводив Муренцова, растроганный его посещением Петр Николаевич отправился к Лидии Федоровне. Она наигрывала на пианино какую-то мелодию. Ее бледное, уже увядающее лицо было печально. В густых темных волосах пробивались серебряные нити. Петр Николаевич смотрел на жену и спрашивал себя, сколько же еще счастливых дней им отпустит Господь?
Взглянув на него, Лидия Федоровна пропела мягким грудным голосом:
…Но спят усачи-гренадеры — В равнине, где Эльба шумит, Под снегом холодной России, Под знойным песком пирамид.– Лида… Лидуша, – сказал Краснов, когда жена остановилась. – Прекрасно! Пожалуйста, играй дальше.
И маршалы зова не слышат: Иные погибли в бою, Иные ему изменили И продали шпагу свою.Тяжелое предчувствие холодом сжало сердце генерала.
Лидия Федоровна встала. Захлопнула крышку рояля и, полузакрыв глаза, устало протянула генералу руки.
– Мне отчего-то страшно, Петя!..
Осторожно прикасаясь губами, он целовал ее тонкие, слегка холодные, мраморные пальцы.
* * *
Муренцов вышел на улицу. Весеннее солнце резало глаза. Сидя на вокзале в ожидании поезда, он услышал звуки флейты. Это была «Элиза» Бетховена, музыка нежности. У стены, закутанный в одеяло, сидел музыкант, с лицом в оспинах, в черных очках. Муренцов увидел его руки. Они были в шрамах от ожогов. Музыкант горел в танке. Танкист. Рядом с ним преданно лежала большая черная собака, в глазах которой застыли человеческая тоска и усталость.
Вернувшись в гостиницу, он долго сидел за письмом. Ближе к полуночи отложил его в сторону, закурил: «Большевики изломали мою жизнь, отняли и погубили жизни близких мне людей, превратили нас в изгоев. Чтобы вернуться в свой дом, я вынужден был надеть мундир вражеской армии. Только за одно это меня бы прокляли мои предки. А что делать? В России правит хам – обманом, жестокостью захвативший власть, заливший страну потоками крови. Что делать? Господи, вразуми, как жить!»
Он вспомнил сына. Показалось, что он почувствовал молочный запах светлой головки. Но запах явился и тут же исчез. Наверное, показалось. Померещилось.
Стало одиноко. Решил выйти на улицу, встретить хоть одну живую душу. Муренцов натянул сапоги, накинул шинель, за спиной хлопнула дверь.
* * *
В этот ночной час было совсем тихо, – ни шагов, ни шума мотора, ни звука шагов. Тишина. Укрытые ночной темнотой спали дома. В темной небесной бесконечности словно от озноба мелко дрожали звезды. Муренцов, спрятав подбородок в воротник шинели, шел по мощеной булыжником берлинской улице. Над головой повисло небо, наполненное ледяной влагой, изредка протекающей падающими каплями.
Женщина, маленькая и хрупкая, как девочка, неторопливо шла ему навстречу. В лунном свете были видны ее узкие плечи, шляпка, серое тонкое пальто. Ее каблуки неторопливо стучали по булыжной мостовой. Женщина прошла мимо, сучьими зелеными глазами мазнула по лицу Муренцова. Свет фонаря осветил ее лицо. Муренцов увидел белую кожу, тонкие, словно нарисованные брови, накрашенный порочный рот.
«Проститутка, – решил он. Усмехнулся, вспомнив Толстухина, его рассказы. – Шляндра». Проводив ее взглядом, он отвернулся и пошел по улице.
Горели редкие фонари на пустынной улице, но ни один не освещал ее. Кругом была белесоватая мгла, которая расстилалась по земле.
Ночью шаги гулки, и те же знакомые шаги через некоторое время послышались вновь. Та же маленькая женщина в нелепой шляпке шла навстречу, покачивая бедрами. Одинокая, как он сам, как все вокруг. Она вновь прошла мимо. Только лишь замедлила шаг. И опять бросились в глаза ее узкие плечи, тонкая талия, запах духов, прямые складки длинного серого пальто. И Муренцову пришла в голову мысль, что она каким-то образом почувствовала его потребность оказаться сейчас с кем-то рядом. Не сумев решиться, он долго смотрел ей вслед и, лишь когда в свете дальнего фонаря растаяла ее фигура, пошел за ней.
* * *
Павлов по совету Доманова решил ехать в Берлин к генералу Краснову. Доманов настоял на том, чтобы походный атаман, выезжавший до Новоельни в автомобиле, взял с собой усиленную охрану. Павлов согласился и поручил подобрать ему наиболее надежных казаков. Полусотню охраны возглавил Лукьяненко. Хорунжий Лукьянов и сотник Юськин выполняли роль телохранителей. Они сидели в машине рядом с Павловым. Недавно назначенный адъютант Богачев сел напротив, на откидном сиденье. Рядом с водителем сел Лукьяненко. Впереди колоны двигался трофейный ЗИС с закрепленной в кузове машины счетверенной пулеметной установкой. За ней – автомобиль Павлова. Замыкал – грузовик с казаками охраны.
Через пятнадцать километров колонну обстреляли. Пока на головной машине разворачивали пулеметную установку и длинными очередями били по зарослям, Богачев аккуратно всадил Павлову в лоб пулю из парабеллума. Вторым выстрелом был убит водитель.
Походный атаман умер мгновенно. Богачев вытащил из машины окровавленное тело и с криком «Убили! Атамана убили»! поволок его к грузовику в хвосте колонны. Ему помогали Юськин и Лукьянов. Напоследок Богачев еще умудрился бросить в салон машины гранату.
Немного постреляв, нападавшие отошли в лес. Их не преследовали. Кроме убитых Павлова и водителя были легко ранены трое казаков. Ревя клаксонами и стреляя в воздух, машины с казаками вернулись на территорию Стана. Немедленно были приспущены все флаги.
Вдова Павлова Феона каталась по земле и страшно кричала на все село. Казаки, узнавшие о гибели атамана, гуртом повалили к штабу. Несмотря на то что Павлов умер мгновенно и не успел произнести ни слова, Лукьяненко объявил, что перед смертью атаман завещал Доманову не бросать казаков и возглавить казачий Стан.
Юськин и Лукьянов подтвердили. В тот же день Доманов принял на себя обязанности походного атамана, тут же издав приказ, в котором отметил героизм сопровождавших Павлова казаков и не бросивших его на поругание врагам.
Вначале все прошло как по нотам.
В казачьем Стане был объявлен трехдневный траур.
Походного атамана Павлова отпели по православному обряду и похоронили с воинскими почестями. Впереди, в голове похоронной колонны несли венки из цветов. По старинному казачьему обычаю за гробом атамана вели коня убитого хозяина. К седлу коня были приторочены винтовка и шашка. За гробом шел Доманов, за ним офицеры штаба, старшие офицеры, Доманов произнес речь. Старики переломили пополам и положили в гроб подаренную генералом Красновым шашку. С обнаженными головами казаки подходили к могиле и бросали в нее горсти чужой, холодной земли.
Но через три дня все пошло не так. В казачий Стан заявился уполномоченный СД унтерштурмфюрер Кербер и очень заинтересовался тем, как партизанский снайпер мог стрелять пистолетными патронами калибра 7,65. Кроме того, его очень заинтересовал вопрос, как партизаны с расстояния 150–200 метров смогли закинуть гранату в машину Павлова.
Доманов испугался не на шутку. Пришлось подключать тяжелую артиллерию – Радтке и доктора Гимпеля. Срочно была подготовлена версия о том, что атаман Павлов дрогнул и начал искать контакты с советским командованием. Доманов, узнав об этом, спланировал операцию по его нейтрализации. Этого было достаточно для того, чтобы Кербер арестовал сотника Богачева, обвинив его в том, что он является внедренным в окружение Павлова офицером НКВД.
Богачева увезли в Лиду. Чтобы не наболтал лишнего, его той же ночью придушили в тюрьме гестапо и подвесили к решетке камеры.
Доманову тут же был присвоен чин оберста. Прямо перед строем был зачитан приказ и ему вручены сплетенные из серебристого двойного жгута погоны полковника вермахта. Лукьянову приказом Доманова был присвоен очередной чин сотника, а Юськину и Лукьяненко – войскового старшины.
* * *
В Берлине Муренцов получил маршбефель в формируемую в Милау 1-ю казачью дивизию.
Поезд прибыл в Варшаву. Милау лежал к северу от города. Следующий поезд ожидался только ночью.
Муренцов расположился в зале ожидания для военнослужащих. Здесь же был пункт питания, где можно было по талонам получить порцию горячего супа. А вот пивом можно было хоть залиться. Кружка стоила двадцать пфеннигов. Главное, нельзя было напиваться, потому что по вокзалу ходил патруль фельджандармерии. Подошли к Муренцову, в солнечном луче тускло блеснули служебные жетоны. Высокий немолодой офицер с желтым нездоровым лицом проверил у Муренцова документы. Полистав его солдатскую книжку, отдал честь. Потом как-то незаметно повернулся, стукнув каблуками, и отошел. Сопровождавшие его солдаты повернулись следом.
Раним утром Муренцов прибыл на вокзал Милау. Выйдя из вагона, он несколько минут стоял на платформе, осматриваясь по сторонам. Тускло светило солнце. Муренцов пошагал по грязной брусчатке к одинокому зданию с надписью на немецком и польском – «Комендатура». На заднем дворе какие то люди в гражданской одежде разгружали машину с ящиками. В коридоре было пусто, лишь какая-то женщина мыла пол. На одной из дверей висела табличка «Russischer Abteilung» – русский отдел.
Офицер русского отдела комендатуры посадил его в телегу к местному крестьянину, который вез в лагерь продукты. Возница неторопливо махнул кнутом, и сытая справная лошадь дернула телегу. Колеса стучали на выбоинах, и Муренцов, перекрикивая шум, спросил:
– Долго ли до лагеря?
– Дале́ко, пан.
Через полчаса они были на месте.
Лагерь находился примерно в 9 километрах от города, на месте огромного полигона. Раньше там находились склады снаряжения польской кавалерии, где осталось множество помещений, в которых могли разместить людей и лошадей.
Местность кругом была невеселая. Жесткая песчаная земля под ногами, редкие низкорослые приземистые деревья – и казармы со всех сторон.
У ворот КПП огромного военного лагеря стояли вооруженные карабинами и шашками казаки. Развевались казачьи знамена. На утреннем солнце алыми и синими цветами выделялись казачьи лампасы, донышки папах и кубанок. Лагерь был похож на большой городок, состоящий из длинных рядов деревянных бараков, в которых жили казаки, немецкие солдаты и офицеры. Полки разместили в бывших польских казармах, старых, некомфортных и, что самое неприятное, буквально кишащих блохами.
Муренцов доложил дежурному, и тот отправил его в столовую на завтрак.
От кухонного наряда Муренцов узнал о том, что сразу же после Пасхи в Милау прибыли Терский, 1-й Донской полки общей численностью более 6 тысяч казаков, которые стояли в Херсоне. Созданные без учета войскового принципа, все эти части по прибытии в Милау подлежали переформированию по принадлежности к Донскому, Кубанскому, Терскому и к Сибирскому казачьим войскам.
Из казаков других казачьих войск формировались сводные казачьи полки и эскадроны. Примерно через час горнист заиграл сбор. Полки были выведены на большую площадь и построены повзводно. Казаки разных возрастов, в кубанках и папахах, были одеты в форму вермахта серого полевого цвета, с нашитыми на брюки лампасами. Лампасы указывали на принадлежность к казачьему войску, отличительные щитки на рукавах о том, к какому он приписан полку. Папахи носили только донские и сибирские казаки. Терцы и кубанцы – кубанки. При приближении генерала Паннвица была подана команда: «Смирно!»
Поздоровавшись, он вполне четко на русском поздоровался с казаками. Однако потом говорил уже только на немецком. Переводчик переводил. Командир дивизии был немногословен. Он сказал о том, что счастлив командовать такими храбрецами. О необходимости подготовки к новым боям с большевиками. О том, что дивизии нужны грамотные и инициативные офицеры. И что он, как командир дивизии, намерен сейчас же назначить казакам командиров.
Генерал фон Паннвиц приказал всем строевым офицерам выйти на правый фланг и построиться в одну шеренгу. Потом подошел к ним в сопровождении переводчика и нескольких немецких офицеров. Командир дивизии расспрашивал офицеров об образовании, службе в строевых частях, их названиях, местах дислокации, наличии боевого опыта, а затем самолично распределял офицера в полк и назначал его на должность. При принятии решения генерал Паннвиц руководствовался исключительно военным образованием офицера и его боевым опытом, независимо от того, на чьей стороне он воевал до этого. По окончании назначений офицеры заняли свои места в формируемых полках. Те же офицеры, которые остались по разным причинам без должностей, были переведены в резерв с правом службы в дивизии на нестроевых должностях.
К полкам, построенным поэскадронно, направились члены специальной комиссии. У каждой группы на руках были списки всего рядового состава будущего полка по дивизионам, сотням и взводам. Тут же начали выкрикивать фамилии казаков, называя им номер его подразделения. Казак занимал свое место в строящейся сотне и своем взводе.
Комиссия подошла к группе вновь прибывших казаков. Муренцов стоял в первой шеренге, видел перед собой группу офицеров. У старшего комиссии на плечах погоны полковника, морщинистое лицо, большие зализы на висках. Муренцов подтянулся. Ветер принес запах талого снега, влаги, солдатской столовой. Щекотали лицо весенние лучи солнца.
Офицеры остановились напротив.
Муренцов стоял вытянувшись во фрунт. Офицеры и полковник внимательно его рассматривали.
– Куда его? – спросил писарь, наклоняясь головой к председателю. – Только прибыл. Может быть, в резерв?..
– Боевой казак… Воевал еще в Гражданскую, да и сейчас повоевать успел. Но возраст. К тому же офицерских вакансий нет. – Полковник раздумчиво качнул головой.
Члены комиссии, посоветовавшись и покивав головами, решили:
– К Кононову, на его усмотрение. Тем более что они уже вместе воевали. Вы слышите, Муренцов?
Муренцов занял свое место в полковом строю.
После разбивки полков казаков распустили перекурить и оправиться.
Командиром 5-го Донского полка был назначен подполковник Кононов, командирами остальных полков – немецкие офицеры, среди которых были выходцы из Прибалтики, владеющие русским языком.
Командирами дивизионов были в большинстве также немцы, а эскадронами и взводами командовали преимущественно казаки. Только в 5-м Донском полку, у Кононова, все офицеры были из казаков, ни одного немецкого офицера в полку не было.
После оправки полки вновь построили. Кононов в новенькой немецкой шинели, лихо заломленной папахе стоял перед полком. Во всем его облике как всегда щеголеватая подтянутость. За спиной барон фон Ритберг.
– Равняйсь! Смииирно!.. Напрэво!
Строй колыхнулся. Разом шоркнули подошвы. Стукнули каблуки.
– Поэскадронно. Шагоооом. Мэрш! – пропел Кононов.
Полки были разведены по своим кварталам. Каждая сотня разместилась в указанных ей дощатых казармах. Командирам и штабам сотен были отведены отдельные помещения. Но через некоторое время пришел приказ командующего группировкой немецких войск о том, что казачьих офицеров необходимо снять с командных должностей и назначить вместо них немцев.
– Снова мы не ко двору, – роптали старые казаки.
– Ага, как при старом режиме. Опять черная кость, рожами не вышли, – поддерживала молодежь.
Вспыхивали перебранки. Старики грознели лицами.
– Что вы можете знать о старом времени, сосунки?! Тогда порядок во всем был. Привыкли в своем комсомоле языками ляскать и прежнюю власть рвать! Нечего тут зазря сопли распущать. Ну-ка цыть!
Молодежь ретировалась. Казачьи старики были суровы. Проявление непочтительности расценивалось как предательство казачьих идеалов и пресекалось жестко.
* * *
К середине июня 1943 года 1-я Казачья дивизия была сформирована.
Но подготовка казаков в Милау продолжалась. Казаки стреляли из пулеметов и минометов, отрабатывали действия на местности во время столкновения с противником. При этом все немецкие инструкторы как один пришли к выводу, что казаки это прирожденные разведчики, настолько профессионально они использовали складки местности, низины, заросли кустарника.
Муренцов обзавелся хорошим конем – караковой окраски, с подпалинами вокруг губ и глаз. По пятому году, со звездочкой – отметиной на лбу и белыми бабками.
В середине сентября в Милау приехал генерал Краснов. Он прибыл в дивизию Паннвица в качестве почетного гостя. Планировалось, что Краснов пробудет не меньше декады – ему отвели особняк. С ним прибыли офицеры его штаба, личная атаманская охрана из казаков-ветеранов.
Немецкое командование выделило Краснову бронированный вагон с зенитной установкой на крыше, помещенный в состав легкого бронепоезда. Немцы были одеты по парадному расчету – в касках, с примкнутыми к карабинам штыками и с саблями наголо. Казаков по этому случаю одели в новую парадную форму, введенную для казачьей дивизии, с нашитыми на мундирах орлами вермахта и шевронами восточных добровольческих соединений. Вместо фуражек на их головах были германские каски с темно-синими полосами над обрезами.
Реяли красно-бело-голубые знамена с исконными гербами казачьих войск. Развевались на ветру знамя вермахта и красное партийное знамя со свастикой в белом круге. Над зданием вокзала подняли национальный флаг Германии. Немцы и казаки закричали «ура». Затрещали барабаны, ударили и заухали литавры. Оркестр исполнял марш финляндского кирасирского полка.
Генералы Паннвиц и Краснов были в германской военной форме. На офицерах, в том числе и немецких, – казачьи папахи и кубанки. На некоторых – черкески с серебряными газырями.
Петр Николаевич Краснов в сопровождении фон Паннвица, оберлейтенанта Пикенбаха и полковника Берзлева бодро обошел строй почетного караула. Краснов специально говорил по-русски, чтобы его понимали окружающие казаки. Свита генерала стояла поодаль. После приветствия он сделал несколько шагов к строю, крикнул старческим, но еще зычным, властным голосом:
– Кто служил под моей командой в Империалистическую и 1-ю Гражданскую – шаг вперед!
С десяток казаков вышли из строя. Краснов снял фуражку, обнял и троекратно расцеловал самого ближнего к нему немолодого, седоусого казака. Тот замер оторопело, не смея дышать на генерала прогорклым запахом табака. Краснов тут же, также троекратно перецеловался со всеми сослуживцами, щекоча колючими усами. Немцы были поражены, недоуменно переглядывались. Но Краснов пояснил:
– Это односумы, полчане мои. Я с ними побеждал еще в прошлую войну. Даст Бог, и сейчас победим.
Машину с почетным гостем, рядом с которым занял место Гельмут фон Паннвиц, сопровождал эскорт конных казаков ротмистра Мосснера на белых лошадях. Это вызвало бурю восторга у собравшихся казаков и гостей. Приезд генерала Краснова своим блеском напомнил казакам старые давние времена, прежнюю вольную и свободную жизнь.
Атаман Краснов был растроган сердечной встречей, подготовленной ему казаками. Весь день он провел среди казаков, наблюдая за стрельбами, выводкой лошадей, расспрашивая казаков об их житье-бытье. Но вечером казачьи офицеры, снятые с должностей, стали требовать возврата на фронт.
В штаб дивизии прибыл командир 5-го Донского полка. Когда он вошел в канцелярию, демонстративно, как на параде чеканя шаг, командир дивизии проводил совещание с командирами бригад. Петр Николаевич Краснов молча сидел рядом и рисовал какие-то крестики на карте. Звеня шпорами, Кононов подошел к генералам. Бросил ладонь к виску.
– Господин генерал-лейтенант, разрешите обратиться к командиру дивизии генерал-майору фон Паннвицу.
Генерал Краснов, склонившись над столом с картой, устало махнул рукой.
– Господин генерал-майор, вынужден доложить вам, что в случае необоснованного снятия с командных должностей офицеров моего полка, я не отвечаю за действия казаков и прошу немедленно направить меня на фронт. В любом качестве, хоть рядовым!
Голос Кононова дрожал, он говорил взволнованно и резко. Кончики его щегольских усов дергались.
Переводчик наклонился к уху фон Паннвица. Генерал Краснов развернулся к Кононову всем телом, вцепился в него взглядом. Повисла тишина. Подполковник побледнел до синевы, до боли сжал челюсти, но явно не трусил. В нем чувствовалась уверенность бывалого человека, всегда готового драться. И обмундирование на нем сидело как влитое, словно родился в ремнях, начищенных сапогах, при кобуре. Сразу было видно, что перед Паннвицем стоял опытный, тертый и храбрый офицер.
Командир бригады полковник Рентельн – сутулый, с вытянутым красным недовольным лицом – хотел что-то сказать, но только покачал головой.
– Отчего же самому не отправиться на фронт! – фон Паннвиц задумался и как будто с сожалением посмотрел на Кононова. – Тем более что вы храбрый офицер и наверняка совершите много подвигов.
Кононов слушал молча.
– Но в армии все должно быть разумно, и грамотный офицер должен командовать, а не идти самому в атаку. – Помолчал, раздумывая. – Я отвечу вам завтра. Ждите приказ.
Генерал Краснов кинул на стол карандаш, воскликнул:
– Смотрите! Вот он, настоящий казачий характер. Может вытерпеть все, но если это будет боль извне, а не из сердца…
После совещания Кононов подошел к командиру бригады. Щелкнул каблуками, прищурившись, заглянул ему в глаза.
– Вы, кажется, хотели мне что-то сказать, Эвальд Вольдемарович?
Фон Рентельн ногтем мизинца потрогал свой щеголеватый ус.
– У нас в русской императорской армии говорили так: «Не задирай голову вверх, чтобы не показаться выше начальника». Сейчас говорят проще: «Не залупайся!»
Кононов внимательно слушал, склонив голову вбок.
– Так вот, хочу вас остеречь, Иван Никитич. Вы храбрый офицер. Но не залупайтесь. Берегите себя.
Кононов как-то неопределенно сощурился, дернул усом:
– Ну что ж… Учту на будущее. Спасибо за разъяснение, господин полковник.
Шутливо щелкнул каблуками. Офицеры откозыряли друг другу.
Поднятый шум и скандал заставил немецкое командование пойти на уступки. На следующий день генерал Паннвиц приказал построить офицеров. Построение заняло несколько минут. Оглядев строй, генерал фон Паннвиц начал говорить:
– Господа офицеры. Я знаю, что вы все храбрые воины. И ваша замена немецкими кадровыми офицерами осуществлена исключительно из-за отсутствия у многих из вас военного образования, опыта и знаний немецкого языка.
В установившейся тишине по-военному четко звучал его негромкий низкий голос. Переводчик переводил.
– Но я заверяю вас, что немецкие офицеры останутся на своих должностях в дивизии лишь до тех пор, пока им не будет подготовлена замена из казаков. В 5-м же Донском полку все офицеры остаются на своих местах. Они уже давно воюют и хорошо зарекомендовали себя в бою.
Простое крестьянское лицо генерала фон Паннвица внушало доверие. Он говорил с казаками совершенно искренне, как и подобает настоящему отцу-командиру, и казаки поверили ему.
– Я обещаю вам, что лично отберу самых способных офицеров и отправлю их на ускоренные курсы в Германию, а потом, когда к полученным знаниям добавится боевой опыт, поставлю их на командные должности в дивизии.
Генерал Паннвиц не забыл своего обещания. Через несколько недель от каждого полка были откомандированы по два командира эскадрона и направлены на учебу в военное кавалерийское училище города Бромберга. Со временем они должны были занять должности командиров дивизионов.
Некоторым казачьим офицерам и унтер-офицерам нашли более или менее подходящие должности. Участника 1-го Кубанского похода полковника Петра Кадушкина назначили командовать эскадроном.
В соседнем местечке Мохово начал формирование 5-й учебно-запасной полк. Полк насчитывал около полутора тысяч человек и командовал им майор Штабенов. В полку был эскадрон, который называли школой юных казаков. Там было собрано уже около ста казачат, большая часть которых состояла из маленьких кубанцев, вывезенных весной и летом с Таманского полуострова. Большинство из них потеряло отцов, и полк заменил им семью. Этим казачатам было по 14–17 лет, и их обучение проходило по образцу прусского кадетского училища. Гельмут фон Паннвиц лично следил за тем, чтобы воспитатели юных казаков регулярно рассказывали им что-нибудь о славной истории казачества. Необходимо было сделать все, чтобы они никогда не забывали, откуда пошли корни их народа. Мальчика Бориса, подобранного в Гришинском лесу, казаки стали называть крестником Муренцова. Его собирался усыновить сам генерал фон Паннвиц.
В 1944 году «Школу юных казаков» передислоцировали во Францию.
После разгрома Франции германским командованием вдоль европейского побережья Атлантики была создана система долговременных и полевых укреплений длиной свыше 5000 километров. Они стали самой грандиозной системой береговых укреплений в истории человечества. Береговые батареи, бетонные подземные сооружения и средства противодесантной обороны представляли собой неприступный вал.
Шестого июня 1944 года англо-американские войска союзников высадили с моря десант. Их целью были пологие пляжи в Нормандии, которые стали воротами через систему укреплений «атлантический вал» Адольфа Гитлера.
«Школу юных казаков» бросили на оборону Атлантического вала. После ожесточенных боев «Школа юных казаков» перестала существовать. Часть казаков погибла, многие попали в плен. Трагедия казаков, начавшаяся в октябре 1917 года и постоянно продолжавшаяся с тех пор, набирала новый виток.
* * *
Высокий, плотного телосложения, с зачесанными назад темными волосами, генерал-лейтенант сидел за большим столом и перелистывал какие-то бумаги. Стол был дубовый, старинный, обтянут дорогим зеленым сукном. На стене висел огромный портрет Сталина в форме генералиссимуса. На противоположной стене – портрет Лаврентия Берии. В простенке между окнами, закрытыми темно-красными бархатными гардинами, портреты членов ЦК ВКП(б). Напротив письменного стола стоял маленький столик и два стула. Полковника Костенко поразила полная тишина. Как будто все здание притаилось, замерло где-то вне времени и вокруг него не бурлила, не шумела, не двигалась Москва.
Вытянувшись по стойке «смирно», застыл.
– Костенко? – спросил генерал, не глядя на вошедшего.
– Так точно, товарищ Абакумов.
Генерал поднял глаза и как будто удивился.
– А я тебя знаю, полковник.
Его голос был властный, грубый.
– Сороковой год, дело вредителей и шпионов в Наркомате внутренних дел. Выпустили, значит? Вижу, и орденов прибавилось. Ну ладно.
Абакумов встал, порывшись в шкафу, достал бутылку водки, два стакана, хлеб, огурцы в банке. Предложил:
– Давай. Кто старое помянет…
– Так точно, товарищ генерал-полковник. Не вы, так другой бы.
Алексей опрокинул стакан в рот. Водка была теплой, неприятной на вкус.
Абакумов хмыкнул, аккуратно выпил следом. Похрустел огурцом, словно осмысливая сказанное собеседником.
– Ладно, об этом позже. Поступили разведданные, что в Польше в районе Милау немцы формируют казачью дивизию из казаков-добровольцев, военнопленных, перебежчиков и насильственно мобилизованных на временно оккупированной территории. По национальному составу – больше всего казаков с Терека, Дона и Кубани, но есть там и русские предатели, а также украинцы, армяне, грузины и прочая нерусская шваль. Командиром дивизии назначен немец, генерал-майор вермахта Гельмут Паннвиц. Твоя задача знать об этой организации все. Ты должен внедрить туда свою агентуру, опутать своей сетью. Понял меня?
Оперативную работу Абакумов всегда выстраивал предельно просто, считая, что многоходовые операции для предателей не нужны. Подход был кавалерийский: руби – и делу конец.
Костенко встал.
– Так точно, товарищ генерал-лейтенант. Понял.
Абакумов поднял стакан.
– Вот за это давай и выпьем.
Выпили не чокаясь. Генерал махнул рукой.
– А теперь давай за работу. Сейчас тебя ознакомят со справкой о всех интересующих нас фигурах. Свободен!
На пороге стоял адъютант Абакумова.
– Прошу следовать за мной, товарищ полковник.
В глухой полутемной комнате с большим дубовым столом и лампой с зеленым абажуром адъютант Абакумова положил перед полковником на стол пухлое дело.
Костенко перелистал справку.
«Совершенно секретно.
Начальнику ГУКР НКО “Смерш” СССР
комиссару госбезопасности 2-го ранга В. Абакумову
…Наш зафронтовой агент сообщил, что при Имперском министерстве оккупированных восточных территорий в марте 1943 г. создано Главное управление казачьих войск (ГУКВ). Имеет статус правительства “Казакии” союзного Германии государства.
Начальник ГУКВ – генерал от кавалерии П. Н. Краснов-старший.
Походный Атаман Всевеликого Войска Донского – полковник (генерал-майор) С. В. Павлов.
Начальник штаба ГУКВ – генерал-майор С. Н. Краснов-средний.
Члены ГУКВ:
Атаман Войска Кубанского генерал-майор В. Г. Науменко.
Походный Атаман Войска Терского – полковник Н. Л. Кулаков.
Заместители:
Атаман округа Донских станиц Казачьего Стана – войсковой старшина М. М. Ротов.
Атаман отдела Кубанских станиц Казачьего Стана – полковник В. И. Лукъяненко.
Атаман отдела Терских станиц Казачьего Стана – полковник В. И. Зимин.
Начальник 4-го отдела Управления контрразведки НКО “СМЕРШ” полковник госбезопасности Тимофеев П. П. 24 мая 1943 г.».* * *
В 3-м кубанском полку произошло убийство.
Немецкий унтер-офицер, лет сорока, тяготился службой среди дикарей. Унтер был пакостный и ждал перевода в немецкую часть. Казаки не обращали на него особого внимания, не тронь говно, оно вонять не будет.
Унтер Вельц, брызжа слюной, махал перед носом замершего по стойке казака Теплова костлявым, чрезвычайно волосатым кулаком, распекая за недостаточно вычищенное на его взгляд оружие. Наконец-то он сумел найти законный способ отыграться на этих тупых русских. Теплов стоял руки по швам, каблук к каблуку. Он совсем недавно прибыл с пополнением и ни слова не понимал из того, что кричал немец, но его жестикуляция, красное лицо объяснили все совершенно ясно.
– Ферфлюхтер шайзе! – унтер-офицер был неистово злобен.
«Сам ты шайзе», – думал про себя казак, закаленный Красной армией, и вздыхал.
– Тупое животное, ты меня не понимайт!.. Отвечать мне! Почему ты молчать?! Ты глухой? Немой?!! Молчать!!
Теплов молча выслушивал лающую речь унтера. Эта сцена происходила в присутствии всей сотни. Стоявшие в стороне казаки потешались над унтером. Пока наконец один из них не крикнул:
– Саня, да пошли ты его на хер! Чего он до тебя пристебался!
Теплов подобрался, переступил с ноги на ногу и вздохнул:
– Иди ты на хер!
Казаки заржали. Унтер-офицер по голосу и смеху понял, что смеются над ним. У него вдруг хищно задрожали ноздри носа. Он размахнулся и ударил казака по лицу наотмашь. Рукоприкладство на фронте было большой редкостью. Солдата могли расстрелять за трусость, за строптивость, но ударить – ни-ни! Попробуй ударь – в первой же атаке заработаешь пулю в затылок! Но главное – необходимость вместе разделять опасность, вместе идти на смерть вырабатывала уважение друг к другу. Казак дернулся всем телом назад, от сильного тычка в зубы ударился головой об стену. В глазах потемнело. Медленным и страшным движением потянулся к висевшей на боку шашке. Ужас плеснулся в глазах немецкого унтера. Он побледнел, растопырил локти, попятился.
Стоявший чуть в стороне казак кормил коня из полы шинели. Капли крови брызнули на шинель. Конь, почуяв кровь, захрапел и встал на дыбы.
К Теплову кинулись, навалились, повалили на землю.
Пришли немецкие офицеры, набежали казаки и немецкие солдаты. Немцы наскакивали, размахивали руками, трясли оружием, но казаки взяли Теплова в круг, сказали, что если кто-либо из немцев попробует тронуть казака, то убьют и его. Немцы растерялись, не зная, что ответить.
Паннвиц разбирался во всем самолично. Вызывал к себе казаков и разговаривал с глазу на глаз. Переводчик переводил.
Казаки все как один были недовольны грубостью немецких унтеров. Между собой вели разговоры: «А что вы хотите, станичники, не житье и собаке с волком, а теленку так и продыху нет. Так и мы с немцами. Вроде как вместе, а на самом деле – врозь».
Офицеры из прибалтийских немцев – полковник фон Рентельн, Константин Вагнер – поддержали казаков.
Паннвиц действовал жестко. Он построил немецких солдат и офицеров отдельно от казаков. Заявил, что в случае повторения жалоб казаков на рукоприкладство или грубость виновный будет незамедлительно отправлен на Восточный фронт. Казаков заверили, что впредь подобного не повторится. С этого дня на всех разбирательствах в военном суде стали присутствовать казачьи офицеры. На этом инцидент был исчерпан.
Дело об убийстве немецкого унтера представили как несчастный случай.
Часть третья
За несколько лет до начала новой мировой бойни к советской границе медленно подошел пассажирский поезд.
Мир уже стоял на пороге новой Мировой войны. По Германии маршировали штурмовики Рема, а Сталин, боясь, что живчик Гитлер может стать оружием империалистов, решил заключить с ним союз. Сталин писал:
«Дорогой фюрер, Адольф Гитлер.
Я давно уже слежу за вашими успехами на посту главы Национал-Социалистической Рабочей Партии Германии и на посту Рейхсканцлера Германии. Я выражаю вам свое глубокое восхищение. У нашего и вашего народа общие враги – Англия и Франция. У наших партий схожие цели. И потому я, как глава своей страны и своего народа, предлагаю вам свою руку дружбы. Вместе мы можем добиться большего, чем по отдельности. Я приглашаю вас посетить нашу страну с визитом, чтобы вы увидели своего друга и союзника. Жду встречи, дорогой фюрер.
С уважением И. Сталин».Под мир уже была заложена бочка с порохом. Медленно и неуклонно к ней подбирался тлеющий огонек фитиля, но люди этого еще не знали.
Стоявшие в коридорах поезда пассажиры смотрели в окна. Они с любопытством смотрели на деревянную арку, украшенную флагами и гербом СССР, под которой проходил состав. На одной ее стороне виднелась надпись: «Привет рабочим Европы!», а на другой, советской: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Советские пограничники в зеленых фуражках попросили пассажиров предъявить паспорта.
Хорошо одетый господин средних лет, похожий на коммивояжера, протянул им свои документы. Они были выписаны на имя Йозефа Гофмахера. Строгий сержант взял в руки паспорт, внимательно сличил лицо владельца с фотографией, козырнул и вернул документ владельцу. Все было в порядке. Но респектабельный коммивояжер на самом деле не имел никакого отношения к господину Гофмахеру. В Москве этого человека звали товарищ Вальтер. На самом же деле он имел много имен и псевдонимов – Георгиевич, Иван Томанек, Джон Карлсон, Славко Бабич, Спиридон Мекас, Карл Зайнер, Иван Констанынек, Иван Кисич. Это был профессиональный сотрудник Коминтерна по имени Иосип Броз. Всего лишь через несколько лет весь мир будет знать его под новым именем – Иосип Броз Тито, маршал Югославии.
За несколько дней до поездки Иосип Броз получил указание срочно прибыть в Москву. В СССР шли аресты.
Было ожидание того, что Коммунистическая партия Югославии вот-вот будет расформирована. Многие из ее руководителей были арестованы. Уже был расстрелян секретарь ЦК КПЮ Милан Горкич. Сербы не зря говорят: «Кога су змиjе уедали, таj се и гуштера плаши» (пуганая ворона и куста боится).
Но надо было ехать. Терзаемый дурными предчувствиями Иосип сел в поезд, в Москве поселился в гостинице «Люкс». Каждый день писал отчеты и ждал ареста. В ресторане гостиницы никто уже не садился с ним за один стол. Все его отчеты ложились на стол Сталину. Тот знакомился с ними очень внимательно. Курил трубку. Ходил по кабинету. Думал. Никто не знает, чем руководствовался Сталин, когда решал его судьбу. Вряд ли о том, что они уже встречались. Ни Сталин, ни Тито не помнили этого, но это было.
Молодой Иосип Броз в 1913 году работал на автозаводе Даймлера в Винер-Нойштадте, небольшом городке к югу от Вены. Мечтал о постоянной работе, деньгах и хорошей жизни. Однажды дождливым вечером он стоял на перроне венского вокзала. Возвращался домой. До поезда остался целый час, лил дождь, и он зашел в кафе на привокзальной площади. В кафе было тесно, столики стояли вплотную один к другому. Работал один официант, он не успевал убирать посуду от предыдущих посетителей. На окнах висели грязные засаленные шторы, и в кафе было достаточно неуютно. Иосип Броз допивал свой кофе и готовился уходить. В то же самое время с поезда сошел человек. По документам звали его Ставрос Пападопулос, и он прибыл на Северный вокзала Вены из Кракова. Иосип Броз уже доставал бумажник, когда дверь с шумом распахнулась и вошел незнакомец. Он был невысокого роста, худ. Бросались в глаза смуглое рябоватое лицо, большие крестьянского вида усы, неопрятная щетина и дешевый деревянный чемодан в руках. Вошедший посетитель был похож на албанского крестьянина. Иосип Броз столкнулся с ним взглядом, кинул на стол несколько монет и вышел из кафе.
Все последующие годы после того, как он лично увиделся со Сталиным в 1944 году, Тито будет мучить один и тот же вопрос: где он мог видеть этот недобрый прищуренный взгляд желтых тигриных глаз?
В тот раз смертельная опасность пронеслась мимо Тито. Все обошлось. Сталин дал команду этого хорвата пока не трогать.
В то же самое время в ночлежке на Венской Мельдерманнштрассе жил еще один молодой человек, которого так же, как и Сталина, впоследствии назовут величайшим злодеем XX века. Этого молодого человека звали Адольф Гитлер. Он пытался сделать карьеру художника, писал картины и вполне мог бы посвятить этому занятию всю свою жизнь. Мог бы, если бы не одна его страсть: Адольф Гитлер очень любил ораторствовать. Он выступал везде, где была аудитория. Пусть его слушал даже один человек. Он любил выступать и витийствовать перед постояльцами ночлежки о нравственности, «расовой чистоте», «немецкой миссии», о евреях, иезуитах и масонах. За что получил прозвище – «Пророк». Но больше всего «Пророк» любил произносить речи в Венском доме, где собирались политики, интеллигенция, вольнодумцы. Дом этот принадлежал зажиточной еврейской семье. В этих посиделках принимал участие и сорокалетний Владимир Ульянов, проедающий в Вене деньги от семейной ренты и наследства Надежды Константиновны, полученного от умершей тетушки.
Гитлеру было 20 лет, а Ленин был старше его почти вдвое. Но они любили сидеть за одним столиком и играть в шахматы. Это была еще одна страсть. Но Адольф Гитлер играл плохо, потому что в процессе игры забывал о фигурах и переключался на спор. «Пророк» носил длинную челку, во время спора она подпрыгивала, падала на глаза. Испачканные краской руки рубили воздух, его голос возвышался до оперных тонов. Потом он замолкал столь же внезапно, как и начинал. С шумом собирал шахматные фигурки и уходил домой.
Никто не знает, каким путем пошла бы история, если бы все четверо – Ленин, Сталин, Тито и Гитлер – однажды встретились за одним из столиков венских кафе.
Проверка кончилась так же неожиданно, как и началась.
Совершенно неожиданно для себя, после долгих изматывающих разговоров, напоминающих допросы, будущий маршал Иосип Броз Тито получил важное партийное задание – перевести на хорватский язык краткий курс истории ВКП(б), учебника, к написанию которого приложил руку сам Сталин.
В кассе ему выписали деньги. Вероятно, от радости, что остался жив, Иосип на эти деньги купил в антикварном магазине на Кузнецком мосту дорогой перстень с большим камнем. Надев этот перстень на палец, Тито загадал, пусть он будет его талисманом. И талисман хранил его на войне, от покушений врагов, от заговоров бывших друзей.
Через какое-то время Иосип Броз стал генеральным секретарем коммунистической партии Югославии и взял себе новое партийное имя – Иосип Броз Тито.
Многие объясняли происхождение имени «Тито» тем, что он любил приказывать: «Ты сделай то, ты – то». По-хорватски «ты – то» буквально звучит «ти – то», что и стало впоследствии его прозвищем.
* * *
Балканы – это был удивительный край. Там все было по-другому. По-своему текло время, иначе светило солнце, а окружающий мир восхищал своим многообразием и запутывал, затягивал, чтобы не отпустить от себя даже во снах.
Но при всей своей красоте Балканы – это еще и непрерывная череда войн на протяжении многих веков – Крестовые походы, Османское иго, Первая мировая. На Балканах, как нигде, люди жили от войны до войны. Там всегда убивали друг друга, стреляли, резали. Не обошел эту многострадальную землю и пожар Второй мировой.
В конце главной улицы Белграда – Кнез Михайлова располагался парк Калемегдан. По вечерам, когда солнце медленно опускалось за Дунай, туда любил приходить студент Душан Белич. Он задумчиво смотрел на синие бегущие волны, мечтая о том времени, когда закончит институт.
Весной 1941 года стало не до прогулок. Белград глухо волновался. В Европе назревали глобальные перемены. Уже шла война. По улицам Белграда, покуривая трубки и играя тростями с янтарными набалдашниками, важно прогуливались англичане. Иногда они заходили в книжный магазин Фишера, просили книги и путеводители с описаниями суровой Черногории и дивных красот островов Далмации. Заглядывали немцы, представляющиеся коммерсантами, учителями, туристами, но почему-то все как один подтянутые, с военной выправкой. Немцы твердили каждому встречному о признании Германией границ Югославии, об уважении югославского нейтралитета, приветствовали единение балканских народов. Но уже через несколько недель войска вермахта захватили Венгрию, Болгарию, Румынию и окружили Югославию. События развивались стремительно.
Двадцать пятого марта Фишер пришел в свой магазин расстроенный и мрачный. Хлопнув дверью, он сердито швырнул на прилавок газету «Политика». Бросалось в глаза сообщение на первой странице о том, что правительство Цветковича подписало в Вене протокол о присоединении Югославии к пакту трех фашистских держав. Страна была отдана на милость Гитлеру.
На следующий день с самого утра на улицы Белграда вышли возмущенные рабочие, ремесленники и служащие столичных предприятий. Союз с фашистами, захватывающими соседние страны, не радовал. Люди шли к зданию парламента с криками: «Долой пакт с Гитлером!», «Да здравствуют Москва – Белград!». «Мос-ква – Бел-град! Мос-ква – Бел-град!» – громко, настойчиво кричали демонстранты.
* * *
Апрель – это сезон дождей на Балканах.
Перед рассветом 6 апреля 1941 года немецкие механизированные войска при поддержке венгерских и итальянских войск вошли в Югославию. Белградцы проснулись от грохота взрывов и воя самолетов. В это время немецкие танковые клинья разрезали Югославию на части и брали в кольцо ее армию.
Спустя 12 дней пал Белград. Юный югославский король Петар II бежал в Египет, где пытался организовать Югославскую добровольческую армию. Судьба 28 югославских дивизий Королевской армии была трагична. Окруженные сербские части капитулировали. Дивизии, набранные из хорватов, вообще отказались участвовать в войне.
И Югославию разорвали на части, словно стая волков разорвала ягненка. Точно так же, как до этого разорвали Чехословакию. Хорватия, Босния и Герцеговина вошли в состав «Независимого государства Хорватия». Сербия и восточная Воеводина управлялись оккупационной администрацией.
Германия захватила северную Словению, Венгрия – западную Воеводину, Болгария – вардарскую Македонию, Италия – южную Словению, часть побережья Далмации, Черногорию и Косово.
Тогда восемьдесят офицеров со знаменем 41-го пехотного полка и под командованием сербского полковника Драгомира Михайловича ушли в горы. Драгомир, или, как его звали друзья, Дража Михайлович, был сыном учителя, простой, очень мягкий человек. Бывший капрал, дослужившийся до должности начальника штаба Королевской Гвардии. Узнав о том, что Югославская армия сдалась, он собрал своих офицеров и сказал: «Слова “капитуляция” нет в нашем военном словаре. Поэтому я ее не признаю и живым не сдамся». Остаток ночи и весь следующий день они взбирались на горы Равну Гору. Высота вершины составляла шестьсот восемьдесят шесть метров. Давшие обет не стричься до тех пор, пока не освободят Сербию от всех врагов, с длинными бородами и обвешанные оружием, они медленно шли по узкой тропе, которая вилась вдоль горного ручья, между камнями, торчавшими из снега, среди гранитных и порфировых скал с резкими контурами, среди рвущихся к облакам утесов из желто-зеленого серпентина, голых и острых, как зубья пилы.
На вершине лежал снег. Порывы ветра, словно взмахи гигантских белых крыльев, били снегом в лицо, слепили глаза. Доверяясь чутью мулов, офицеры шли, радуясь тому, что в такую погоду их не будут преследовать. Животные привели к пещере. Согнувшись, офицеры вошли внутрь. Остро пахло голубиным пометом, доносился гул подземных вод. После того как люди отдохнули и просушились у костров, полковник построил людей и сказал:
– Я объявляю наш отряд армией Югославии и заявляю о том, что мы вступили в войну против Германии и ее союзников.
Через некоторое время на Равну Гору потянулись офицеры и солдаты разбитой Югославской армии, а также те, кто не захотел смириться с оккупацией. Большинство пришедших к нему в отряд людей Михайлович отправлял в их же родные края для того, чтобы они готовили народ к всеобщему восстанию против оккупантов.
* * *
После падения монархии и капитуляции армии Югославия стала походить на большой кипящий котел, в котором кипело дьявольское зелье, грозящее разорвать и котел, и очаг, и сам дом. Оккупационные власти объявили Хорватию свободным и независимым государством. Некоторое время держалось шаткое перемирие, но оно было очень обманчивым. Просто-напросто сосед пока точил нож на соседа. Исподволь, словно бикфордов шнур, тлела вражда.
В это время в Загреб вместе с итальянскими войсками прибыл поглавник Антэ Павелич, возглавил марионеточное хорватское государство. И призрачный хрупкий мир взорвался. Созданная Павеличем организация усташей стала резать сербов, проживавших на территории Хорватии, требуя их перехода в католичество.
Оккупационные власти, которые с помощью Павелича решили удержать Югославию, вскоре поняли, что их расчеты провалились.
Тлевшая до этого межнациональная ненависть вспыхнула с новой силой. В кровавое безумие были втянуты все – сербы, хорваты, мусульмане, проживающие здесь русские эмигранты и немцы-колонисты. Люди сцепились между собой хуже собак. Казалось, возродились времена Варфоломеевской ночи. Усташи и мусульмане резали сербов, четники – мусульман и хорватов, и те, и другие, и третьи при случае расправлялись с коммунистами.
Разгорался пожар гражданской войны. Смерть стала частью жизни.
Пока югославы убивали друг друга, итальянцы и немцы чувствовали себя относительно спокойно.
Но вскоре четники полковника югославской армии Дражи Михайловича стали нападать на гитлеровские гарнизоны и военные склады, взрывали поезда и нарушали связь с Болгарией, Грецией, Хорватией, Италией и Венгрией.
* * *
Вплоть до нападения гитлеровских армий на СССР коммунисты Югославии не предпринимали никаких действий против оккупационных войск.
Иосип Броз Тито открыто жил в Белграде, свободно прогуливаясь по улицам столицы! Еще бы, Советский Союз и Германия были связаны пактом о ненападении. Из Советской России в Германию шли эшелоны с лесом, углем, рудой.
Немецкие танкисты учились в Казани, летчики люфтваффе под Липецком. Для этих целей советское правительство выделило аэродром, на котором базировалось подразделение ВВС Красной армии.
Но после нападения Гитлера на СССР поведение югославских коммунистов изменилось. Уже в конце июня 1941 года Тито обратился с воззванием в связи с нападением на СССР и призвал к массовому саботажу и организации партизанских отрядов.
Через загребскую радиостанцию Тито сообщил в Исполком Коминтерна о действиях Компартии Югославии. Тито рассчитывал получить одобрение своих действий от Сталина, и он его получил.
Со Сталиным встретился Милован Джилас, один из руководителей компартии Югославии. Когда он попросил заем в двести тысяч долларов, Сталин ответил, что это мелочь и мало чем поможет, но деньги на борьбу с врагом Советский Союз даст. На заверения Джиласа о том, что Югославия вернет заем и заплатит за поставку вооружения после освобождения, Сталин искренне рассердился: «Советские люди не торгаши, как американцы, которые наживаются на чужой беде. Ви борэтесь за то же дело, что и мы, и мы обязаны делиться с вами тем, что у нас есть».
Несмотря на тяжелейшее положение советских войск, в Югославию были направлены транспортные самолеты с оружием, инструкторы-подрывники, парашютисты – десантники.
Коммунисты Югославии созвали съезд. На нем был образован Главный штаб партизанского движения Югославии. Тито был избран Верховным главнокомандующим Народно-освободительной армии и начал объединять партизанские отряды в единую армию Югославии.
После этого Тито принял безумное, на первый взгляд, но оказавшееся верным решение: без поддержки каких-либо союзников, с легким стрелковым оружием и почти без боеприпасов двинул свою маленькую армию туда, где больше всего нужна была его помощь и где его ждала поддержка населения. На запад, в Боснию, в самый центр усташского государства Павелича. Тито поднялся над религиозной и этнической рознью, уходящей корнями в глубь истории, и выдвинул общенациональную патриотическую идею: враг на этой земле один – это оккупанты. Изгнать их можно только общими усилиями. И местное население, в первую очередь уцелевшие боснийские сербы, поддержали его.
В горных, поросших густым лесом, трущобах стали возникать партизанские отряды. Их численность с каждым днем неуклонно росла, подобно снежному кому, и вскоре превратилась в многотысячную народную армию. Недосягаемые в своих трущобах партизаны настойчиво и упорно подтачивали и разъедали вонзенные в их страну немецкие стальные клинья.
Сброшенный советским командованием советский десант, а затем оружие, средства технической связи, обмундирование и медицинские средства основательно поддержали силы титовцев. Советские инструкторы – специалисты по диверсиям – научили бойцов Тито тактике ведения партизанской войны.
Немецким войскам хоть удалось оккупировать Балканы, но возросшая активность партизан превратила этот успех в ловушку. Не желая расставаться с Балканами, немецкое командование было вынуждено постоянно наращивать контингент войск. Но оказавшись в окружении врага, который был всюду, при всей своей огневой мощи и боеспособности войска оказались бессильны. Предпринимаемые операции по уничтожению партизанских опорных пунктов не имели никакого эффекта и лишь еще больше усиливали злобу и ненависть населения.
Командующий немецкими войсками на Балканах фельдмаршал барон фон Вейхс докладывал в ставку, что его противник – сильная, приспособленная к боям в гористой местности, хорошо вооруженная и централизованно управляемая армия. Немецкая армия в Югославии оказалась почти бессильной против партизан Тито. Немецкие опорные пункты на территории Югославии оказались островками в окружении жестокого и беспощадного врага.
В каждом населенном пункте немецкие подразделения вынуждены были занимать круговую оборону. У пулеметов день и ночь дежурили часовые. Пойти куда-либо одному или без оружия для немецкого солдата означало одно – попасть в плен. А это означало верную смерть, потому что ни партизаны Тито, ни четники не держали в своих отрядах пленных. В каждом отряде были «колячи», по-сербски забойщики скота, или палачи-ликвидаторы, которые убивали пленных исключительно ножами, как скотину на бойне.
Не отставали в жестокости и немцы. Командование объявило приказ казнить по сто сербов за каждого убитого немецкого солдата и пятьдесят за раненого.
К осени 1943 года силы титовских войск настолько окрепли, что стали приносить немецкому командованию серьезный урон. На борьбу с ними пришлось бросать все больше и больше подразделений, которые приходилось снимать с фронта.
В это время в ведомстве Генриха Гиммлера возникла идея отправить готовящуюся к использованию на восточном фронте 1-ю казачью дивизию на Балканы. Отличаясь большой подвижностью, маневренностью, дивизия была идеально приспособлена для ведения боевых действий в горных условиях Балкан. Предполагалось, что там они будут действовали более успешно, нежели неповоротливые регулярные немецкие части.
* * *
Ближе к осени сорок третьего года поползли упорные слухи, что дивизию скоро перебросят на фронт. Все гадали, куда?..
Наконец поступила команда, что завтра утром 5-й Донской полк начнет погрузку в эшелоны. Маршрут следования – Сырмия, район, расположенный в междуречье Дуная и Савы и ставший частью Хорватии.
До самого отправления казаки не знали, куда их везут. Многие считали, что едут на Восточный фронт, и ждали этого кто с радостью, кто-то со страхом, зная, что придется стрелять во вчерашних односельчан и станичников. Но Главное командование сухопутных войск приняло другое решение. Боеспособность казачьих подразделений решили проверить в борьбе с партизанами Тито.
Конные эскадроны, артиллерия, рота пулеметчиков с новыми пулеметами, подводы, ящики с продовольствием, тюки с сеном, мешки с овсом, полевые кухни – все грузилось в эшелоны. Все военное добро было получено со складов, вырвано из глотки, подобрано, отбито с боем, украдено, выменяно на трофеи и самогон при самом активном участии командира полка Ивана Кононова.
Добрый хозяин даже в поле собирается загодя. С вечера отбивает косу, собирает провиант, а тут целый полк надо отправить на новое место. Молодые, не нюхавшие пороха казаки поражались, как много всего надо военному человеку, начиная с дров для кухонь, досок для столов и нар, оружия, боеприпасов, обмундирования. Говорили, что это еще не все, что довооружение произойдет уже в месте дислокации полка. Качали головами старые казаки и те, кто попал в полк из советских колхозов, где на заработанный трудодень давали всего лишь по 50 граммов пшеницы или ячменя, чесали затылки и спрашивали друг друга: «Сколько это все стоило денег, труда?»
* * *
К вокзалу казачьи сотни шли с песнями. Бил барабан, ухали литавры. На тротуарах табунилась пестрая толпа, поднимали пыль конские копыта и рвал мехи гармошки Петр Кадочников, уже хороня себя и прощаясь с тихой, почти мирной жизнью и такой нежной пани Вандой.
Когда мы были на войне, Когда мы были на войне, Там каждый думал о своей Любимой или о жене. Там каждый думал о своей Любимой или о жене.Рявкнул полк единой грудью, кто-то и подсвистнул, Сотенный Кадочников рванул мехи, а хриплый голос полоснул:
Как ты когда-то мне лгала, Как ты когда-то мне лгала, Но сердце девичье свое Давно другому отдала. Но сердце девичье свое Давно другому отдала.Казачьи сотни, присвистывая и взревывая слова песни, под аккомпанемент свежекованых лошадиных копыт неслись к платформе на воинских путях, где стояли товарные вагоны. На вокзале молодые казаки заигрывали с польскими девушками, лихо сбивали на затылки кубанки и папахи.
Горько и безутешно плакали провожавшие казаков женщины. Пани Ванда прижимались к казачьей колючей шинели.
Пыльными рукавами казаки вытирали с обожженных степным зноем бронзовых лиц не слезы, а тяжелый воинский пот, горький, как настой полыни.
Я только верной пули жду, Я только верной пули жду, Чтоб утолить печаль свою И чтоб пресечь нашу вражду. Чтоб утолить печаль свою И чтоб пресечь нашу вражду.Как ни отдаляй, но пришла пора прощаться. Прозвучала команда: «Строиться! Провожающим разойтись!»
– Прощай, прощай, Ванда, надо к сотне идти, – торопился Кадочников.
Уходя, он оглянулся. Женщина крестила его вслед католическим крестом, слева направо. Так и застыла с поднятой рукой, смутилась, не ожидая, что он обернется. А потом зарыдала горько, зная, что обнимала казака в последний раз.
На путях уже стояли эшелоны, состоящие из теплушек, купейных и плацкартных вагонов для офицеров и бесчисленного количества пустых товарных вагонов. Тревожно ревели, набирая пары, паровозы.
Эшелоны… Эшелоны… Эшелоны… Поезда судьбы, уносящие казаков в неизвестность!
* * *
Казаки по деревянным настилам торопливо заводили лошадей в вагоны. Кони фыркали, ржали, топали копытами и боязливо озирались, когда их за недоуздки вели в вагоны. Но вдруг один жеребец уперся, ни на шаг не двигаясь со своего места. Трое казаков тянули его к двери вагона, но он захрипел, начал поджимать зад, зло мотая хвостом. Матерясь и замахиваясь кулаками, казаки с трудом уворачивались от его страшных копыт. Наконец жеребца с трудом прижали к вагону. Потом за повод подтянули его голову вверх так, что он мог только стоять. Жеребец тщетно пытался высвободиться и отчаянно хрипел.
Прибежал командир сотни.
– Что за черт? Чей это… Где хозяин? – округлив глаза, орал сотенный.
– Нет у него больше хозяина. Был. Семен Звонарев, Тот, который два дня назад бабу свою застрелил и на себя руки наложил. Да ты сам знаешь. А этот… Штормом кличуть, – казак кивнул головой на скалящегося жеребца. – Второй день не жрет ничего, только пьет.
– Придется, наверное, пристрелить, чтобы не задерживал, – сотенный вздохнул, сплюнул. – Бабы! От них одна муть на свете.
Пробегавший мимо вагона Юрка Ганжа вдруг ухватил коня за повод, слегка ослабил и стал что-то нашептывать коню в ухо. Потом повел его за собой. Издали казалось, что казак и конь о чем-то беседуют. Когда они вернулись, то конь спокойно зашел за Юркой в вагон. Ткнулся в его руки бархатными ноздрями, понюхал, вздохнул. Юрка достал из кармана кусочек сахару, и Шторм осторожно взял его с ладони своими теплыми, мягкими губами.
Лошадей размещали по восемь в вагоне, а в соседних таких же теплушках человек по сорок казаков. Нары – в два этажа, посередине – железная печка, наверху – узенькие тусклые окна, а с двух сторон вагона – катающиеся двери примерно в треть его боковых стенок.
Через несколько часов паровоз дал гудок, лязгнули буфера вагонов, испуганно захрапели и заржали кони. Сначала состав поплыл мимо домов, деревьев, редких пятен освещенных окон. Мимо вагонов проносились семафоры, нефтеналивные цистерны, станционные постройки, голые и прямые словно пики ветви деревьев.
Казаки, задав лошадям сена, спали, играли в карты, курили у открытых дверей, облокотившись на серый деревянный брус перекладины и думая каждый о своем.
Потом за дверью вагона побежали просторные, запаханные поля со следами раннего снега. У линии горизонта потянулся мелкий нестройный лес, прозрачный, серый, растворяющийся в белесом утреннем воздухе.
В вагоне стоял жар от железной печки.
Ганжа подкармливал покоренного жеребца корочкой хлеба, нежно похлопывая его по шее, говоря, напевая что-то нежное в его бархатное, чутко вздрагивающее ухо. Гладил по теплым бархатным губам, пьянея от горьковатого запаха конского пота.
– Вот кони, – говорил вахмистр Лесников, – это же невинные существа! На войне их ранят, калечат, убивают, а они зла на нас не держат и не предают никогда. Человек – дерьмо. Человека надо рубить, а лошадку – жалеть. Правильный казак, Юрка, из тебя получится, если лошадей понимаешь. Она жизнь свою отдаст, а хозяина выручит.
Высокая, костистая, слегка сутулая фигура вахмистра притягивала к себе внимание. Черты лица не отличались правильностью, тяжеловатый подбородок, хищный горбатый нос, повадки хищного зверя, готового в любой миг к встрече с опасностью, говорили о том, что человек этот упрям, храбр, крутого нрава и дурного характера. Глубоко посаженные глаза с прищуром выдавали в нем крепкую казачью породу.
В батальон он пришел не потому, что хотел освободиться из плена. Плен его не пугал. Жестокий и сильный как зверь, он выжил бы и там. Или бы погиб в драке за кусок хлеба или от пули часового. Ненависть к большевикам, к их власти – вот что привело его к немцам. Таких людей Кононов ценил.
Покормив Шторма, Юрка вытер мокрую ладонь о свои штаны и вытянув шею спросил Лесникова:
– Господин вахмистр. А я вот интересуюсь. Какой оне веры?
– Кто это оне?
– Ну те, которых мы воевать едем. Балканцы или хорваты.
– Известно какой, басурманской, конечно, если за большевистскую власть сражаются. Правильно, Сергеич, иль нет? Ты нам растолкуй.
Муренцов оторвался от своих мыслей.
– Не совсем так, – поправил он. – Сербы, хорваты и боснийцы один народ – южные славяне. А вот вера у всех разная. Например, сербы – православные, как и мы. Хорваты – католики, а боснийцы – мусульмане.
Лесников протянул:
– Во-ооона как! Это, выходит, как в Гражданскую, командир полка немец полковник Легарт приказал нам уничтожить взвод красных, и мы их в шашки! А потом оказалось, что это станишники наши. Кое с кем я еще ту германскую ломал. И сейчас то же самое. Скажет басурман Хитлер расстрелять православного, и никуда не денешься, надо будет стрелять. Эх! Жистя наша подневольная!..
Больше Лесников ничего не сказал, накрылся с головой шинелью и отвернулся к стене.
Для казачьей кавалерийской дивизии полного состава, насчитывавшей свыше 18 тысяч человек, по приблизительным подсчетам потребовалось не менее пятидесяти железнодорожных эшелонов. И эта махина двинулась из Польши в направлении Словакии, а оттуда дальше через Австрию и территорию Венгрии в Сырмию. Эшелонам давали зеленую улицу – они останавливались лишь для смены паровозных бригад.
Воинские эшелоны следовали один за другим. Сотня за сотней, полк за полком. Железнодорожные составы с частями 1-й казачьей дивизии шли непрерывно, иногда на станциях догоняли друг друга, но твердо выдерживали установленный график движения.
Весь путь занял около шести дней и наконец, как бы изнемогая от долгого и непрерывного бега, паровоз начал притормаживать от полустанка к полустанку, постукивая и постреливая колесами на стыках рельс.
Ранним утром зашипели, продуваясь, вагонные тормоза, лязгнули буксы под днищем вагонов, и, заскрипев, эшелон встал. Все пространство вокруг, спереди и сзади замерло в тишине и неподвижности.
Паровоз пустил на рельсы струю пара, свистнул и медленно отошел, исчез и скрылся в утреннем тумане. На перроне стояли люди в немецких серо-зеленых шинелях. На головах некоторых были башлыки.
С визгом и грохотом отъехала в сторону вагонная дверь. Раздались резкие, повелительные крики.
– Выходи строиться!
– Живей!
– Поторапливайтесь!
Казаки, зябко поеживаясь, неохотно прыгали на землю, жаль было покидать обжитое тепло вагонов. Сергей Муренцов, пригревшийся на верхних нарах, недоверчиво приподнял голову и соскочил вниз, на пол.
Офицеры уже отдавали распоряжения.
Стучал и гремел под ногами застывший щебень, на рельсы, выгоны и шинели оседало седое марево тумана.
Где-то далеко, невидимый в тумане, дважды свистнул паровоз.
Подмостив сходни, казаки начали выводить из вагонов лошадей.
Громко кричали отделенные и повзводные командиры, исторгая ртами белый пар и повторяя крики команд.
– 1-я сотня, станов-иииись, вторая сотня, третья… пятая!
– Разберись по взводам! Становись!.. Куда лезешь, дубина? Из какого взвода?.. Ты, мордастый, тебе сколько раз повторять?.. Куда лезете, черти?..
Заседлав лошадей, строились по взводам и сотням, ожидая команду – вперед!
Офицеры объезжали сотни, всматриваясь в казацкие лица. Над конным строем поднимался пар от дыхания.
– Подтяни стремя… Отставить разговоры… не курить!
Кононов, привстав на стременах, хрипло и надсадно прокричал над застывшей колонной:
– По-о-ооолк! В походную колонну! Первая сотня вперед! Четвертая замыкающая! Дистанция – два корпуса! Рысью… марш!
В белом как молоко тумане нечетко вырисовывались силуэты всадников. Шли колонной по четыре лошади в ряду. Поскрипывали седла, нечаянно звякало чье-либо стремя, остро пахло конским потом и едкой махоркой. У Муренцова перед глазами покачивалась широкая спина взводного Нестеренко и мохнатая папаха, нахлобученная на самые уши. До боли в глазах Муренцов вглядывался в колыхающиеся перед его глазами темно-зеленые погоны, и ему казалось, что на него смотрит та женщина в дешевой берлинской гостинице – его последняя женщина. Ее глаза были тоже зеленые-зеленые.
Казаки, угрюмо сидящие в своих седлах, несущие на своих плечах винтовки и карабины, ничуть не напоминали собой вчерашнюю голодную и бессловесную толпу пленных. Сейчас это были воины, полные мужества и отваги, с лицами, готовыми сражаться даже не за свою жизнь, а за право оставаться человеком. И чувствовалось, что многие из них уже перешли рубеж своего страха, за которым начинается полное равнодушие к своей судьбе и даже собственной жизни.
* * *
По реке Саве из глубоких холодных омутов разливалось бурное течение. Вода там шла неторопливо, мерным резвым разливом, яро пенясь на каменистых перекатах. Страшными кругами бурлили водовороты. Завораживали глаз и заколдовывали сердце. Бархатистой неровной каймою тянулся над горной грядой лес. Где-то вдалеке багряным заревом полыхала закрытая деревьями кромка неба, и из-под серого осеннего неба уже тянуло промозглым влажным ветерком. И не было сил оторвать взгляд от этой красоты.
Казачьи полки, сотня за сотней шли походным маршем. С неба падали огромные снежные хлопья, наполовину с дождем. Кони и люди втягивались в однообразное, рассчитанное на долгий путь движение. Казаки привычно и сонно сутулились в седлах. Влажные от дождя конские крупы тускло отсвечивали. Разговоры смолкли. Многие дремали, привычно покачиваясь в седлах. Слышались только стук и цокот множества конских копыт, да металлический глухой перезвон плохо подогнанного казачьего снаряжения. От проходивших сотен несло терпким конским потом, запахом мокрых шинелей, кислым запахом седельной кожи и конского снаряжения.
Муренцов закутал голову в башлык, стараясь согреться. Он дремал, покачиваясь в седле, то забываясь, то внезапно всполахиваясь, вынырнув из сладкой дремы.
Через несколько часов в тумане начали вырисовываться неясные очертания большого села. Чувствуя скорый привал, оживились уставшие кони. Голодный, мокрый и уставший от перехода полк подошел к селу. Жили здесь явно зажиточно. На это указывал ухоженный вид домов, чистота и порядок во дворах. Высокие, крепкие, с железными осями тарантасы и сытые, сильные с лоснящимися боками кони.
* * *
Прибыв на Балканы, 1-я Казачья дивизия расположилась в районах – Землин, Рума, Митровица, Панчево, расположенному северо-восточнее Белграда.
Штаб дивизии, совместно со штабом 5-го Донского полка, стал в местечке Рума, а полки и части обеспечения дивизии расположились в окрестных селах.
Дивизия вошла в состав 2-й танковой армии, которой командовал генерал Рендулич. Танковая армия, а вместе с ней и казачья дивизия вошли в группу армий «Ф» под командованием генерал-фельдмаршала фрайгерра фон Вайхса.
* * *
Стоял холодный зимний вечер. На улицы небольшого сербского городка Радо опускалась сырая, темная ночь.
Холодный декабрьский туман стлался над извилистым руслом реки, над замерзшими лужами и заползал в город, где последние редкие прохожие спешили укрыться от него за воротами заборов и дверями домов.
В надвигающихся сумерках глухо звучали шаги усталых бойцов, идущих в колонне по деревянному настилу моста через Лим.
Тускло горели редкие фонари. Их бледный рассеянный свет едва пробивался сквозь туман, и чудилось, будто из тумана выступают тени чудовищ.
В Рудо формировалась Первая пролетарская народно-освободительная ударная бригада. С окрестных гор спускались все новые и новые отряды партизан, прибывавшие со всех концов Югославии. Их тут же размещали по домам, довооружали и после короткого отдыха вновь отправляли в горы.
С самого утра на улицах городка толпились горожане. Толпы людей стояли на площади у старого фонтана, окруженного оголившимися каштанами. В толпе проворно шныряли мальчишки, все их внимание было приковано к вооруженным людях, стоящим на площади. В строю стояли стояли рабочие и бывшие солдаты, студенты, крестьяне. Были среди них сербы, хорваты, словенцы, несколько русских эмигрантов и немецких колонистов. Партизаны были одеты в немецкие и итальянские шинели, полушубки, телогрейки, штатские пальто и студенческие тужурки. Вооружены бойцы были различным оружием, кто-то югославскими и немецкими карабинами, кое-кто охотничьими ружьями, ручными пулеметами всех систем и пистолетами различных калибров. У каждого партизана на военной кепке или меховой бараньей шапке красовалась звезда.
В строю стояло более тысячи бойцов только что сформированной 1-й Пролетарской бригады Народно-освободительной армии Югославии. Бригада ждала приезда своего главнокомандующего, Иосипа Броз Тито.
Поеживаясь от холода, посматривал по сторонам Душан Белич, загадав желание, что первым увидит появление Тито.
По левую сторону от него стоял крепкий детина с красным лицом любителя сливовицы и дерзкими глазами. Он был одет в длинное изношенное пальто с большими разноцветными пуговицами и носил имя – Марко. Никто достоверно не знал, чем он занимался до войны, но говорил, что он был бандитом, убил несколько человек. Возможно, что благодаря этим слухам к нему относились с опаской.
Впереди, переминаясь с ноги на ногу, стоял Томислав Ивич, еще совсем молодой мужчина, со смуглым небритым лицом, левую сторону которого пересекал багровый шрам. Он пристально смотрел перед собой, то и дело машинально поправляя кобуру пистолета на портупее. Неделю назад его назначили командиром роты.
По правую руку Антон, сын русского эмигранта, родившийся уже в Сербии. Юноша, почти мальчик. Завороженно смотрел по сторонам и казался воплощением невинности и энтузиазма. Месяц назад он тайно бежал из дома своего отца штабс-капитана Киселева и вступил в отряд Тито. Зачем? Он и сам этого не знал. Может быть, не давали покоя гены потомственного военного, может быть, осточертело удручающее однообразие тихого, сонного прозябания. Идеалист, легкомысленный мечтатель, он жаждал подвигов, не понимая того, что война это прежде всего грязь и смерть.
– Ты когда-нибудь видел генерала Тито? – толкнув локтем Антона, спросил Душан.
– Да, видел. И даже говорил с ним. Он несколько лет провел в России, учился там. Встречался с самим товарищем Сталиным и тот подарил ему перстень с огромным брильянтом. Говорят, что раньше этот камень принадлежал царю.
Антон не обманывал. Во время Первой мировой войны Иосип Тито был ранен казачьей пикой и попал в русский плен.
Однажды казаки-охранники здорово отхлестали его нагайками за то, что местные женщины уделяли ему много внимания. Правда, сам Тито об этом предпочитал не рассказывать.
Вдоль строя торопливо прошел комиссар бригады Филип Кляич. Партизанам он был известен как Фича. Недавно Фича получил ранение. Пуля оцарапала шею, и до самого подбородка она была замотана бинтами. Фича был страшно горд, когда слышал за спиной восторженный шепот молодых партизан. За спиной комиссара висел немецкий автомат. Проходя мимо друзей, он услышал разговор и недовольно повернулся к ним забинтованной шеей.
В это время Белич толкнул Антона локтем:
– Идут!
Показался Тито. Он был крепкого телосложения, с быстрым взглядом и военной выправкой. Его черные блестящие, как маслины, глаза сверкали от гордости и волнения. На крупном лице дрожала сдерживаемая улыбка. Был он в блестящих сапогах, защитных бриджах. На плечи накинут длинный темный плащ. За спиной стояли знаменосец со знаменем и два ассистента.
Комиссар бригады, увидев Верховного главнокомандующего, подал команду: «Смирно!» – и печатая шаг пошел ему навстречу:
– Товарищ Верховный главнокомандующий, Первая пролетарская народно-освободительная ударная бригада построена!
Тито отдал комиссару честь и повернулся лицом к строю.
– Товарищи пролетарцы! – крикнул Тито. – Сегодняшний день навсегда будет вписан в историю нашей освободительной борьбы.
Слова главнокомандующего разносились в тишине над площадью, а вдали, за городом, словно в ответ на них, раздавались взрывы снарядов и пулеметные очереди. Легкий ветер приносил мелкие хрупкие снежинки. Они медленно опускались на землю и сразу таяли.
Душан Белич не сводил с Тито глаз.
– Решением Центрального Комитета и Верховного штаба сегодня здесь сформирована наша первая регулярная часть – Первая пролетарская народно-освободительная ударная бригада, бойцами которой вы с этого момента являетесь!
Показав на знамя, которое держал знаменосец, Тито сказал:
– Вручаем вам знамя бригады. Несите его с честью! Смерть фашизму!
– Хвала! – загремели черногорцы.
– Живио! – закричали сербы.
Раздалась команда: «Вольно», и роты развели на места дислокации.
Уже к концу 1941 года партизаны провели крупномасштабную операцию в Западной Сербии, в результате которой им удалось очистить от немцев довольно крупные территории, на которых была провозглашена «Ужицкая республика».
На гористой, покрытой густым лесом местности, называемой Фрушка-Гора, сосредоточились крупные силы титовцев. Несколько партизанских бригад основательно укрепились в этом районе. Построили прочные ДЗОТы, которые связали ходами сообщения и хорошо замаскировали.
Каждая титовская бригада контролировала свой район обороны, поддерживая друг друга огнем и имея хорошо налаженную связь с соседними бригадами.
* * *
Сотня есаула Щербакова вошла в село рано утром. Казаки толпились на площади среди замерзших луж, курили, божились, плевались и кашляли. Ждали сотенного, который разговаривал со старостой села.
По изрезанной колеями улице, широко размахивая руками, к площади спустился невысокий полный человек в овчинной безрукавке и высоких кожаных сапогах. Кожа на лице обтягивала красные обветренные скулы. На подбородке сверкала редкая седая щетина. Следом за ним шагал сотенный.
Казаки замолкли.
Командир первого взвода Нестеренко нецепко сидел в седле боком, поигрывал плетью. Щербаков подошел к нему, положил руку на седло.
– Командуй, Петро. Будем расквартировываться.
Послышались раскатистые крики команд:
– Первый взвод – занять улицу вправо! Второй – влево! Третий – прямо!
Пока квартиръеры размещали казаков по хатам, а штаб занимал выделенный для него дом. казаки ринулись по дворам искать провиант для коней. Растянувшись цепью, они двигались вдоль по улице, к которой прижимались аккуратные дома. Винтовки наперевес, сдвинутые на бок кубанки и папахи. Топот и ржание лошадей.
Село замерло. На улицах не было ни души. Местные жители уже знали о приходе казаков и боязливо не выходили из домов.
Разговор с местными жителями происходил короткий, чисто деловой, никаких ненужных слов или вопросов.
Муренцов спешился возле стоявшего на отшибе дома, завел во двор, поставил у крыльца коня, поводья примотал за перила. Заботливо протер ему влажные надглазницы, накинул на влажную спину пахнувшую конским потом попону. Огляделся по сторонам.
Дом просторный, крытый потемневшей от времени черепицей. Большой двор, конюшня, молотилка, хозяйственный инвентарь. Поднялся в дом. Тут уже были казаки его отделения – Юрка Ганжа, Красноусов, пулеметчик Сашка Степанов. Хозяин, невысокий сухой крестьянин лет за сорок, в меховой безрукавке сидел за столом. Хозяйка возилась у печи.
– Доброго здоровьичка, газда.
Газда на сербском это хозяин, Муренцов помнил это еще с германской.
Хозяин кивнул головой, раскуривая трубку.
– Добар дан!
– Вы понимаете меня?
– Разумем скоро све. В прошлую войну я был в России.
– Покормите казаков? – весело скаля зубы, спросил Юрка.
– Сколько вас человек?
– Пятеро.
– Покормим, но ето хладно. Хладно! Сейчас хозяйка будет греть. А я пойду. Дела.
Хозяин извинился, вышел во двор.
Наскоро переговорив с хозяйкой, Муренцов сказал казакам:
– Ну что, хлопцы, отогрелись у печи да рядом с доброй хозяйкой? Тогда надо исполнять главное правило казака. Сначала напоить и накормить коня, а потом уж самому валиться к костру.
Вышел на крыльцо. Казаки, закидывая за спину винтовки, повалили следом. Уже расседланные кони, вытертые насухо, стояли под навесом и, мотая торбами, доедали овес.
Муренцов одобрительно крякнул.
– Вот учитесь, хлопцы, у хозяина. Хоть и не казак, а сразу видно, что справный воин.
Казарм в селе конечно же не было. Заранее назначенные квартирмейстеры размещали казаков в домах местных жителей. Там же ставили лошадей. Муренцов договорился с квартирмейстером, чтобы его отделение оставили на постой в этом доме.
Разместились. Убрали лошадей. Начало темнеть. Заработали полевые кухни. Повечеряли. Выставили караулы.
Перед сном свободные от службы казаки вышли на улицу покурить. Постояли перед дворами, почесали языки и пошли спать. Муренцов устало упал на попону, пахнущую конем. С головой укрылся шинелью.
Наутро полк начал приводить себя в порядок. Хозяйственная рота оказалась завалена работой. Из полковых кузниц несло жаром и грохотом. Кузнецы работали днем и ночью, спешно перековывая лошадей. Шорники чинили седла, хомуты, шлеи, уздечки и прочую сбрую. Ремонтировали повозки, походный инвентарь.
Казаки старались получше подкормить своих коней, подогнать снаряжение. Фураж покупали у местного населения. Местные косились на казаков, потому что партизаны часто грабили своих. Казаки тоже отличались драчливым и шумным нравом, но обид не причиняли.
Комната, которую заняло отделение Муренцова, выходила окнами в сад. Сделав неотложные дела, Муренцов уже под вечер отворил дверь комнаты с твердым намерением скинуть сапоги и завалиться спать. В комнате было тесно. Амуниция, шинели, ранцы, подсумки, винтовки, рассыпанные всюду патроны заполняли собой маленькую комнату, превращая ее в какой-то военный цейхгауз. Но кажущаяся небрежность обстановки не имела ничего общего с беспорядком и расхлябанностью.
Оружие стояло или висело в изголовьях кроватей, седла лежали у порога, влажные шинели были развешаны поближе к печи. Каждый вечер Муренцов вешал на дужку кровати карабин, ремень, снимал мундир, стаскивал сапоги и, накрывшись шинелью, обессиленно валился на постель.
* * *
В феврале во 2-ю бригаду из Белграда приехали атаманы Донского, Кубанского, Терского и Астраханского войск за рубежом – генералы Татаркин, Науменко, Вдовенко, Ляхов и генерал-лейтенант Шкуро.
Эти атаманы давно уже находились в резерве и не занимали никаких постов в казачьих частях германской армии. Поездку им организовал начальник Главного управления казачьих войск генерал Краснов. Кононов, оповещенный о приезде гостей в его полк, распорядился, чтобы все было готово для встречи гостей.
– Нужно наших стариков встретить с почетом. Они – казачьи генералы, и наша святая обязанность оказать им почет и уважение. Так уж у нас, казаков, принято, – сказал своим офицерам Кононов.
Полк был построен, и генерал Шкуро, неказистый и непредставительный рядом с другими генералами, но необыкновенно подвижный и юркий, с вечно смеющимся лицом и пьяными глазами, вручил отличившимся казакам боевые награды.
После построения Кононов, пользуясь правами хозяина, повел гостей показывать свое хозяйство. Было время обеда, и казаков распустили на обед. Они обедали тут же во дворе казармы.
Кононов показывал гостям лошадей. Казачьи генералы живо интересовались несением службы, состоянием коней, чем кормят казаков. Самый любознательный был генерал Науменко. Высокого роста, худощавый. В серой черкеске кубанского пластунского полка, с кинжалом на узком наборном поясе. Орденов на нем не было, лишь знак за Кубанский ледяной поход.
– Так-с… так-с… Все понятно-с… – говорил генерал на объяснения Кононова и спрашивал: – Как служба? Настроение казаков?
– Служба как служба. Настроение доброе, не жалуются, – отвечал Кононов.
Но вскоре затянувшаяся экскурсия стала утомлять гостей, и комполка, уловив это, сделал широкий приглашающий жест:
– А теперь, господа, прошу за стол! Закусим, чем бог послал!
Генерал Татаркин привез с собой в подарок полную машину ракии и домачи – сербского самогона.
У медного рукомойника гости вымыли руки и почистили щеткой форму.
Хозяин дома принес в подарок бутыль ракии, сказал:
– Это своя, домашняя.
Ракию распробовали очень быстро, во дворе разожгли мангал. У терцев и кубанцев есть рецепт печени, сохранившийся с древних времен. Ее режут на маленькие кусочки. Солят, добавляют специи, перчат, заворачивают в тонкий слой внутреннего бараньего сала, формируя колбаску. Потом нанизывают на шампуры – и сразу же на раскаленные угли. Надо только следить, чтобы жир не капал в огонь. Вертеть, вертеть. Тогда весь жир останется внутри шашлыка. Сводящий с ума и вызывающий голодные желудочные спазмы запах! Божественный вкус! И все это – за несколько минут.
Всем присутствующим налили по стакану вина, шампур в руки, тост. А в это время казаки помладше варили шулюм, жарили традиционный шашлык. После мяса на остывающие угли положили спелую паприку – огромные стручки сладкого красного перца.
С матершинными шуточками-прибаутками все организовал Андрей Шкуро. Уже с первой минуты в полку он держал себя так, как будто дело было не на Балканах, а в его родной станице, где он знал всех и все знали его.
Самому Кононову и всем офицерам он говорил – «ты» и всех называл сынками. Многие слышали имя Шкуро от своих воевавших в Гражданскую отцов и смотрели на него с восхищением. Через час генерал Шкуро напоил всех офицеров пятого полка совершенно в стельку. Он верховодил за столом. Когда же заиграли лезгинку, Шкуро, не выдержав, распустил широкие рукава черкески и с криком «харс, харс», как коршун с расправленными крыльями полетел по кругу, мелко перебирая ногами. Темп музыки все нарастал и нарастал, казаки, подзадоривая танцора, хлопали в ладоши. Задохнувшись, Шкуро под общий одобрительный смех остановился, пьяный и счастливый упал на руки казакам.
– Ну бисовы дети! – смеялся он. – Загнали все-таки батьку Шкуро!
Шкуро аплодировали, пили за его здоровье.
Паннвиц и немецкие офицеры были поражены простотой общения между казаками и их генералами. В немецкой армии, где общение солдат с офицером шло только через фельдфебеля, всегда соблюдалась дистанция между младшим и старшим по званию. В вермахте было невозможно представить такие братские и теплые отношения.
После посещения 5-го Донского полка гости поехали в 4-й Кубанский казачий полк. Их встречал командир полка подполковник барон Пауль фон Вольф и командиры дивизионов.
Опять удивил генерал Шкуро. Он появился перед строем казаков с черным знаменем, на котором был вышита волчья голова. Отсалютовав казакам обнаженной шашкой, Шкуро долго рассказывал о том, как во время Гражданской войны со своими «волчьими» сотнями сеял панику в тылах красных.
Воодушевленный этими рассказами, 4-й полк во время первого же рейда спалил дотла деревню, где партизаны оказали сопротивление. Разгневанный Паннвиц в окружении конвойной сотни помчался к кубанцам. За ним – полсотни конвоя в черкессках, с развевающимися за спиной башлыками, с шашками. Приказал собрать все сотни и дивизионы. Подполковник Вольф построил полк. Щеголяя молодцеватой посадкой, генерал фон Паннвиц появился перед казаками на злой донской кобыле, в папахе и кавказской черкеске.
Сердито крикнул с коня:
– Казаки! – но кубанцы смотрели на батьку Паннвица такими влюбленными глазами, что генерал смутился. Рыжая кобыла, ощерив желтые зубы, гоняла во рту железо. – Мне стало известно, что вы ведете себя как варвары. – Паннвиц махнул рукой. Его лицо раскраснелось от крика. – Вы военнослужащие германской армии, – опять закричал он, – а не какая-нибудь банда… – Он грозно оглядел казаков. – Кто разрешил вам бесчинствовать?
Кубанцы, глядя на Паннвица чистыми невинными глазами, дружно ответили:
– Батька Шкуро! А мы его волки!
Трудно было на это что-либо возразить, ведь Паннвиц сам привез генерала Шкуро в корпус. Но он все же пообещал задать перцу всем, начиная с Вольфа и кончая последним приказным.
После построения полковник Вольф сказал:
– Это же казаки, господин генерал. Им сам генерал Шкуро привил правило – соблюдать лояльность к гражданскому населению в случае отсутствия сопротивления и тотальный грабеж в случае, если прозвучит хотя бы один выстрел. Тут мы, наверное, бессильны что-либо изменить.
Тактику Шкуро взяли на вооружение и стали регулярно засылать в партизанский тыл волчьи группы. Их формировали только из добровольцев-охотников. Старшим группы всегда шел опытный русский или немецкий унтер-офицер. Вооруженная автоматами, гранатами и ножами, группа уходила в рейд на три-четыре дня и устраивала засаду рядом с партизанской базой или постом. Главная задача была взять языка. Постепенно эту тактику переняли и другие казачьи полки. «Волчьи группы» охотились в районах Новой-Градишки, Дугог-села, Беловара. Но партизаны тоже начали свою охоту, и велась она с переменным успехом. Все зависело от того, кто кого перехитрит или окажется удачливее.
* * *
Шторм учуял принесенный ветром запах кобылы. Он задрал голову, захрапел, но Юрка дернул поводья к себе, гаркнул: «Я те, ч-оорт!», ударил в брюхо каблуками и как-то по-особому цокнул губами, чем привел жеребца в дрожь. Шторм захрапел, будто учуял волка, однако стал снова вполне послушен. Это совсем не означало, что жеребец забыл о кобыле, стоящей в соседнем деннике. Светло-рыжая, почти соловая, со светло-седоватой гривой и хвостом, она манила, притягивала жеребца, и он бесился, не находя себе места. Через несколько дней Шторм опять перегрыз чумбур и выбрался из своего станка. Забрался в денник к кобыле, потерся мордой о ее шею. Потом поднял хвост и шею, гордо обходя кобылу. Он подошел сзади и потерся мордой о ее круп кобылы, нежно и призывно заржав. Он переступал с ноги на ногу в нетерпении.
Когда Юрка зашел в денник, то увидел счастливую морду жеребца.
– Сукин ты сын, что же ты наделал, дьяволюка!.. Ну-ка марш к себе, пока сотник не прознал. Будет нам тогда обоим.
Увидев, что кобыла брюхата, Елифирий Толстухин покрыл отборным русским матом всех – Ганжу, его коня и дуру кобылу. Особенно досталось Сталину и Гитлеру, призывающих на войну расп…ев, молокососов и просто говнюков.
Через несколько месяцев у кобылки родился жеребенок. Он долго лежал на мягкой соломе без движения, как мертвый, растянувшись на мягкой соломе среди денника. Кобыла, облизав сына языком, стояла над ним, не спуская влюбленных глаз. Жеребенок поднял голову, не найдя ничего интересного в новом окружающем его мире, устало уронил голову и закрыл глаза. Отдохнув, он попытался встать. Кобыла радостно всхрапнула и поощряюще закивала головой. Жеребенок, широко расставив ножки, пошатываясь, стоял среди денника, с трудом удерживаясь на разъезжающихся во все стороны ногах.
Как только жеребенок встал на ноги, Елифирий Толстухин осторожно вошел в денник. Кобыла захрапела и угрожающе прижала уши. Елифирий перевел дух и задумался.
– Ну что мне с тобой делать? Принесла ведь все-таки, подлая. Надо теперь начальству докладывать.
Но сотенный прознал сам.
– Откуда жеребенок? – спросил он у командира взвода.
Тот молчал.
– Твой?
– Никак нет. Я больше по бабам. С кобылами ишо не пробовал.
– Шуткуешь?! Толстухина ко мне!
Сотенный катал желваки на скулах, сжимал челюсти так, что скрипели зубы.
– Как это получилось?
Елифирий вздохнул.
– Недоглядел. Виноват.
– Ты мне это брось, Толстухин! Решил из эскадрона табор цыганский устроить?.. А если батька прознает?
Щербаков красными глазами смотрел на своего казака через стекло керосиновой лампы. Над ним вились мотыльки и вечерняя мошкара, бились о стекло и падали вниз.
Сотенный нахмурился, тяжело задышал, представив себе разнос у командира полка, и короткими толстыми пальцами с необрезанными черными ногтями забарабанил по столу.
– Слушай приказ. Байстрюка пристрелить. Мясо на кухню. Выполняй, а то не посмотрю на седую голову. Взгрею!
Через пару месяцев в эскадрон приехал Кононов. Расседланные кони паслись на лугу. Поговорив с сотенным, Кононов уже садился в машину, когда увидел, что с пастбища казаки ведут отдохнувших и сытых коней.
– Это-оооо что такое, Щербаков? – указывая пальцем на приближающихся лошадей, спросил Кононов.
Обмахиваясь хвостом от досаждавших слепней, бежал худенький стригунок.
– А-ааа, – махнул рукой сотник. – Хотел я его в распыл, так целая делегация пришла просить. Я и дрогнул, дите ведь. Мы ведь когда-то тоже титьку сосали.
Кононов задумался. Махнул рукой.
– Ладно! Пущай при матке живет. Временно и так далее. Потом посмотрим.
Толстухин пошел на конюшню, где стояла лошадь. Увидев хозяина, она потянулась к нему, словно невзначай коснулась щеки теплой замшевой губой. Втянула воздух, словно испытывая его, спрашивая ответ на главный вопрос.
Елифирий обнял ее за шею.
– Ладно, ладно, не волнуйся. Помиловали твоего сыночка. Значит, ишшо поживем!
* * *
2 апреля 1944 года по случаю дня рождения Кононова в 5-м Донском казачьем полку был праздник. К этому дню готовились загодя, всем хотелось праздника и веселья.
Поздравить именинника приехал генерал Шкуро. Он был в расшитой серебром черкеске с кинжалом, при шашке. Постаревший, с уже поредевшей и седой шевелюрой, но по-прежнему бодр и как всегда – деятелен. Каждая чарка выпивалась только по его команде. В комнате было жарко, душно. На день рождения были приглашены все офицеры, свободные от службы. Длинные столы были празднично покрыты белыми скатертями, уставлены вазами с фруктами и бутылками. Во главе стола сидел именинник, рядом с ним по правую руку генерал Шкуро. С левой стороны майор Ритгер. Уже захмелевшие офицеры и несколько приглашенных казаков сидели с красными, напряженными лицами.
Муренцов пил вместе со всеми, но не пьянел. Только в голове становилось все тяжелее. Смутная тоска медленно закрадывалась в сердце. И хотелось выплеснуть ее из себя, рассказать всем о своей боли. И сами собой из души рванулись слова:
Когда мы были на войне.Как птица взлетел его хриплый голос, покрывая нетрезвый, нестройный гомон за столом.
Когда мы были на войне, —подхватили все,
Там каждый думал о своей любимой или о жене.И десятки голосов понесли пронзительные слова казачьей песни через окна, по улицам села. Казалось, что эти сильные и мужественные люди хотят докричаться, донести слова любви и своей нестерпимой боли до своих станиц, до родной земли, любимого Тихого Дона.
А Муренцов уже выводил:
Я только верной пули жду, Я только верной пули жду, Чтоб утолить печаль свою И чтоб пресечь нашу вражду. Когда мы будем на войне, Когда мы будем на войне, Навстречу пулям полечу На вороном своем коне. Но только смерть не для меня, Да, видно, смерть не для меня, И снова конь мой вороной Меня выносит из огня.Андрей Григорьевич Шкуро крякнул, вытер набежавшую слезу. Вышел из-за стола, встал в центре зала, расплескивая густое, темное, душистое вино. Генерал оглядел присутствующих, поклонился.
– Дуже гарная песня, хлопци. Аж мурашки бигають, нехай Господь вас благословить! Зараз повернимося до наших справ. – Зычно позвал: – Иван Никитич, пидийдыно до мэнэ! – Тот подошел и стал по стойке «смирно». – Пиднемаю чарку за твое здоровья! Покы иснують таки хлопци як ты, ще нэ вмерло казацство! Бый червоных як це я робыв!
Кононов стоя шутливо-покорно выслушивал поздравление генерала.
– Ось, трымай вид мэнэ подарунок! – сказал Шкуро, вытягивая из-за голенища кожаную кавказскую нагайку с серебряным навершием в виде головы волка. – Я нэю сам батогив отрымував. Мий батько нэю мэнэ по сраци лупцював. Дарую це тоби, бо люблю тэбэ як ридного сына. В тэбэ моя порода! Ты гидный цего подарунка.
Кононов не остался в долгу. По его приказу адъютант принес для Шкуро бутыль ракии с запечатанной в ней целой грушей. Это было изготовление сербских монахов, которые надевали пустую бутылку на ветку с завязью груши и, когда она вызревала внутри сосуда, заполняли емкость ракией и закупоривали.
По знаку Шкуро бутылку тут же откупорили и всем гостям разлили в маленькие стопочки. По комнате поплыл нежный аромат цветущей груши.
Казаки подбежали, подхватили генерала Шкуро и Кононова на руки и начали качать.
– Що вы робытэ, бисовы диты?! – упираясь и смеясь, говорил подбрасываемый высоко в воздух генерал Шкуро.
* * *
Вечером на квартире у Кононова, наедине, Шкуро, переходя на кубанскую балачку и жестикулируя, рассказывал Кононову о встрече с Власовым.
– Я маю тоби дэщо казаты! Цэ е наш атаман, котрый нас на бийку повэдэ, – говорил Шкуро, кружа по комнате большими шагами.
Он говорил о том, что Власов не одобряет политику Гитлера, которая ведет Германию к неизбежной катастрофе. О том, что немцы для своего спасения вынуждены будут дать широкие полномочия Комитету освобождения народов России.
– Нам нужно было только быть готовыми к этому моменту; нужно сформировать вооруженные силы, вооружить их и подготовить для нанесения первого удара. А если немцы будут тянуть и дальше, то послать их на хер и выступить самим. Рыск, конечно, есть, но иначе нельзя. Тут либо пан, либо пропал.
Опираясь руками на шашку, Кононов молча сидел на табурете, искоса глядя на Шкуро. Тот поманил Кононова пальцем и, опять переходя на балачку, прошептал:
– Власов пэрэдае тоби витання и прохання – очикуваты!
Кононов раздумчиво спросил:
– А до меня, Андрей Григорьевич, дошли слухи, что генерал Краснов не верит Власову и отказывается подчиняться «большевистскому генералу». Так ли это?
Шкуро посмотрел на Кононова хитрым, смеющимся взглядом. Глаза его сморщились, превратившись в узкие щелки, и распустили по лицу паутину тонких морщин. Неторопливыми пальцами он достал серебряный портсигар, кашлянув, закурил, произнес усмешливо:
– Ты ж дывысь якый розумник?!
Внезапно сделавшись серьезным, вновь перешел с балачки на чистейший русский язык.
– За это не беспокойся. В самое ближайшее время я встречусь с генералом Красновым и думаю, что устраню все разногласия между ними. – Генерал затянулся и выпустил облако дыма. – Ты пойми, Иван Никитич, нам нужно вырвать казаков из рук немцев во что бы то ни стало! Тогда мы сможем продолжить свою войну за освобождение России. Гражданская война еще не закончилась. Мы еще вздернем эту суку Сталина на Красной площади.
Они проговорили почти до рассвета.
Утром генерала Шкуро провожали на вокзал. Он ехал с докладом к генералу Краснову, а потом в Казачий Стан.
– Поеду я, Иван Никитич. К Доманову еще надо заехать. Дивчина у меня там. Леной зовут. Ох и гарная же дивчина! А ты надейся и жди. Скоро все изменится! – сказал генерал Шкуро и по-отцовски обнял его. Расцеловались, и Шкуро сел в автомобиль.
Теснясь в воротах, сопровождающие казаки верхами выехали на улицу. Тронулись. Полковник Кононов взял под козырек и долго смотрел в след удаляющемуся конвою, пока кавалькада не скрылась вдали.
* * *
Однажды весенним утром командир эскадрона Щербаков с начальником штаба рано утром отбыли в штаб полка и заночевали там, оставив за себя командира первого взвода Нестеренко. Нестеренко был лихой казак. Но такой же и отчаянный гуляка. Днем он захватил партизанский обоз, на телегах которого стояло несколько бочек ракии. И большинство казаков, пользуясь отсутствием командира эскадрона, загуляло.
С вечера в месте расположения сотни появились женщины. К полуночи большинство казаков перепились. В ночной тишине звучали песни, слышался бабий визг. До поздней ночи в селе слышался мужской хохот и посвист. Темны боснийские зимние ночи. На черном бездонном небе в безмолвии светил одинокий рогатый месяц, отражаясь в текучей быстрине Савы.
Ночью сквозь сон Муренцов вдруг услышал четкий одиночный выстрел, за ним короткую очередь пулемета на перевале та-та-та, а затем беспорядочную винтовочную стрельбу. Горы отозвались громким эхом.
Распахнув дверь, он увидел, что весь противоположный склон вспыхивает огоньками выстрелов. На крыше дома зазвенела разбитая пулями черепица. Спешно натянув непросохшие сапоги, схватив в одну руку шинель, в другую винтовку и пояс с подсумками, Муренцов сбежал по ступенькам крыльца во двор. Следом за ним застучали каблуками казаки его отделения. Правее от двери стоял только что вернувший есаул Щербаков и резким нервным голосом что-то выговаривал вестовому. Увидев Муренцова, он махнул ему рукой, приказывая подойти.
– Вы, Сергей Сергеевич, возьмите взвод Нестеренко и поддайте жару краснюкам! Их пулеметчик засел во-ооон на той горушке. После того как подавите огневую точку, закрепитесь и ждите подкрепление.
Взвод уже построился. Предстояло подняться к перевалу по узкой тропинке, круто идущей вверх по обстреливаемому противником скалистому склону.
– Взвод, перебежками по одному, за мной! – скомандовал Муренцов и, поднявшись на дорогу, побежал вверх по тропинке. От осознания опасности поле зрения как-то сузилось, но зато теперь Муренцов видел все предметы исключительно четко. На середине подъема кончились силы, и казаки было залегли, чтобы перевести дух, но лежать на земле, зная, что тебя вот-вот нащупает пулеметная очередь, было очень неуютно. Пули чмокали и рикошетили от скалы, подымая светлые столбики известковой пыли.
Взвод вскочил и тяжело дыша затопал наверх.
Казаки чувствовали себя неважно, ночью изрядно выпили. А тут пришлось с утра бегать по горам. Придерживая руками ерзающие на спинах винтовки, они рысцой выскочили на дорогу. Залегли у левой обочины за перегибом отходящей на запад тропы и оказались сразу на линии огня. Выше и правее бил короткими очередями пулемет. Муренцов быстрым, нервным шепотом приказал уряднику – беспокоить пулеметчика беглым огнем, изобразить видимость атаки, а сам, вжимаясь в землю, пополз в сторону, ища место, с которого можно было достать пулеметчика. Вот тут и пригодилась прежняя военная сноровка. Партизанский пулеметчик работал умело. То справа, то слева от куста на несколько мгновений показывался кончик его пилотки, сразу же гремела очередь – и пилотка исчезала. Муренцов выпустил три патрона, стараясь успеть взять его на мушку, но каждый раз опаздывал. По-видимому, пулеметчик заметил, что на него началась охота, и несколько очередей легли в двух шагах от Муренцова. Комочки мокрой черной земли полетели ему в лицо. Следующая очередь просвистела над головой, и огонь снова был перенесен на дорогу, из-за которой вел стрельбу взвод. Басисто рокотал пулемет, пули ломали ветки кустарника, густо росшего по склонам, откалывали и раскидывали каменную крошку. Муренцов оглянулся. Необходимо было принять какое-то решение.
Слава Богу, кроме пулеметных очередей и винтовочных выстрелов казаков – больше не стреляли. Значит, основные силы партизан пока еще не подошли. Очень важно было опередить противника и занять вершину до подхода партизан, так как оттуда их пулеметчики могли перестрелять всю сотню. Эти мысли промелькнули в сознании Муренцова в какую-то долю секунды.
В узкой щели, проточенной ливневыми потоками, стекавшими со склонов горы, пролегала тропа. По краям ее прикрывали заросли кустарника. Щель змеилась по склону среди цепких кустов терновника и давала достаточное укрытие крадущемуся по ней человеку. Муренцов повернул голову к лежащим за обочиной казакам, прикрыв ладонью рот, крикнул вполголоса:
– Хлопцы, я наверх. Прикройте.
Вжимаясь в землю, где ползком, где сгибаясь в три погибели, двинулся вверх по склону. Под ногами шуршали небольшие камни, подошвы сапог скользили по влажной от росы земле, сбивая дыхание. Через полчаса он был уже у самого верха. Повернув голову, заглянул за скалу. Поднимающееся солнце ударило в глаза. В этом слепящем оранжевом мареве он увидел два черных силуэта, лежащих на плоском камне, шагах в двадцати, россыпь стреляных гильз, пулеметные ленты в коробках. Муренцова они не видели. Он опустил мушку чуть ниже затылка правой фигуры и нажал на спуск. Сухо ударил винтовочный выстрел. Приклад резко ударил в плечо. Запахло пороховым дымом. Он тут же передернул затвор. Выбросил на снег пустую гильзу и снова прижал приклад, ловя на мушку второго. Тот только успел удивленно повернуть к нему голову – и так и замер. Пуля ударила в спину. Скрючился, ноги подтянул к животу. Мертвые пулеметчики лежали внизу. Муренцов спрыгнул на пулеметную площадку. Под ногами катались стреляные гильзы. Муренцов поразился внешнему сходству пострелянных пулеметчиков. Тот, что постарше, еще дышал. Муренцов перевернул его на спину, расстегнул на его груди сербскую солдатскую куртку и увидел синеву татуировки… заход солнца и море, по которому плывет кораблик.
Раненый захрипел. Он силился что-то сказать, но при каждом выдохе на губах выдувались кровавые пузыри. Наконец он затих. Муренцов закрыл ему глаза. Как только пулемет умолк, взвод с криками, задышливым хеканьем и матом рванул вверх. Когда запыхавшиеся казаки добежали до площадки, на которой лежали убитые пулеметчики, они увидели Муренцова, сидящего на камне, задумчиво курившего сигарету.
– Ну у тебя и нервы, Сергеич. Двух человек ведь убил в одночасье, а у самого и ус не дрогнул. Суровый ты человек, судя по всему, – сказал ему урядник, уважительно покачивая головой.
– Эх, братец ты мой, ты еще не видел тех, кто в штыковую ходил. Вот после этого жалости у человека точно не остается.
За спиной тянулся гребень, по которому и пришли пулеметчики. На противоположном конце стоял одинокий дом, возле которого наблюдалось движение людей. Казаки развернули пулемет в направлении дома. Не прошло и несколько минут, как на гребне появилась цепь партизан. Беглым шагом они направились в сторону пулемета. Муренцов дал команду:
– По красным – огонь!
Ударил пулемет. Сначала короткие пристрелочные. Трассирующие пули, заряженные через четыре на пятый, нащупали цель и искрили, рикошетя от камней. Затрещали винтовочные выстрелы.
Партизаны скатились за гряду и залегли, три человека остались лежать на тропе. Со стороны партизан велся беспорядочный огонь, и пули свистели над головами казаков. Коротко вскрикнул раненый казак.
Снизу подошел еще один взвод. Двух казаков из взвода притащили на плащ-палатках. У одного было ранение в бедро. Второй был мертв. Уже немолодой рыжеусый казак лежал неподвижно, вытянувшись во весь свой рост и запрокинув стриженую голову. На нем не было ни каски, ни пилотки. Пуля угодила прямо в переносицу. Муренцов наклонился над убитым, спросил:
– Кто?
– Протасов Петро. Ты его должен по Польше помнить, – ответил урядник. – Из донцов. Все время о сыне рассказывал.
Снова захлопали выстрелы, и партизаны окончательно скрылись в лесу. Уже бегом казаки бросились дальше. В горах наткнулись на несколько полуразвалившихся хижин, перед которыми несколько коз щипали траву. Кроме древней старухи здесь не было ни души. Как только старая поняла, что ее козам ничто не угрожает, она разговорилась. Старуха оказалась совершенно глухой.
– А-ааа? – поворачивала она к казакам свое заросшее седым мхом ухо.
– Бабка, партизаны есть?
– Кой, кой?..
«Кой» – означало «кто».
Казак Миша Дедов восторженно крутил головой.
– Молодец, старая, прям как моя бабаня. К нам в 30-м пришли за хлебом, а она: «Ась! Не слышу трошки». Так и ушли комсюки, ничего не нашли. А мы благодаря этому спрятанному мешку и выжили. Считай, бабаня всю семью спасла.
В одной из хижин нашли большое количество окровавленных бинтов. По-видимому, тут был их перевязочный пункт. В лесу, севернее и ниже перевала, нашли несколько мертвых партизан, как видно, скончавшихся от потери крови. Их принесли в село. Почти сразу же разобрали родственники. Остались только пулеметчики, которых убил Муренцов.
– А этих что не забрали? Родни, что ли, нету? – спросил Ганжа. – И не заберут. Далеко у них родня. Русские это. Наверное, десантники. Братья. Видишь, как похожи?
– Ты вот что, малой, принеси лучше две лопаты. А если утруждаться не захочешь, то одну. Я сам все сделаю. Негоже солдата непохороненным бросать.
Муренцов видел, что Юрке неохота возиться с копанием могилы, но тот решительно возразил:
– Отчего же не похоронить, Сергей Сергеевич. Зараз могилку выроем и похороним. Можа, и нас кто-нибудь пожалеет.
Русских пулеметчиков похоронили под старым раскидистым буком. Их тела положили на прикрытое зелеными ветками дно могилы. Сложили на груди перепачканные землей и ружейным маслом руки со сломанными ногтями. Накрыли лица чистой тряпицей. Засыпали землей. На могильный холмик, аккуратно притоптанный сапогами, поставили наскоро выструганный деревянный крест. Юрка, послюнявив химический карандаш, написал:
– Русские солдаты. Погибли 5-го мая 1944 г. Господи, упокой их души.
Муренцов сказал Юрке:
– Ты иди, хлопчик. А я еще посижу.
Муренцов лег на траву и долго глядел на медленно плывущие белые облака. Там наверху было спокойно и тихо, и казалось, что души только что убитых им людей укоряюще смотрят на него сверху. Ни голубиного клекота, ни птичьего щебетания не было слышно вокруг. Только много-много лет назад, умирая в Донской степи, слышал Муренцов такую глубокую и печальную тишину, когда казалось, что он слышит биение собственного сердца. Муренцов задумался и задремал подле могилки. Разбудил его Юрка. Он тряс его за плечо.
– Сергей Сергеевич, командир полка прибыл. Построение.
Сотня уже стояла в строю, ждала командира полка.
На высокой злой кобыле свечой застыл есаул Щербаков. Левая рука натянула поводья. Норовистая кобыла, закинув голову и приседая на задние ноги, хрипела и пятилась.
Полковник Кононов, послав коня в галоп, перед командиром эскадрона резко натянул повод и поставил коня свечой. Щербаков бросил руку к виску, но Кононов отмашкой руки резко оборвал доклад. Выдохнул:
– Казаки!.. Дети мои! – Сотня поедала его глазами. Казалось, что прикажи он сейчас умереть – и все умрут как один. – Сегодня вы снова воевали и снова победили! Но победили вы благодаря нашему славному товарищу казаку Муренцову. Поэтому сегодня, с этой минуты я произвожу его в офицерский чин и назначаю командиром взвода вместо сотника Нестеренко.
Голос у Кононова был то душевный и добрый, густой и вязкий, как колесный деготь, то становился жестким и резким, как звук затвора.
– Но есть у нас и неприятная весть. Сегодня вот этой самой рукой я должен наказать человека, который чуть не погубил сотню. Мне горько, сердце мое плачет. Потому что этот человек – казак. И я казак. А сегодня я должен собственной рукой привести в исполнение свой приговор.
Кононов обвел подчиненных тяжелым взглядом, ставшим просто ледяным, повел хищными своими усами. Помолчал несколько секунд.
– Вывести сюда сотника Нестеренко!
Два спешенных казака вывели Нестеренко. Он был без оружия и головного убора, мертвенно-бледный.
– Раздевайся! – приказал Кононов. – Сапоги скидай!
Трясущимися руками Нестеренко стянул сапоги, расстегнул пуговицы кителя. Аккуратно сложил его у своих сапог.
Строй замер.
Прямо на глазах казаков Нестеренко покрывался холодной испариной. Лицо у него резко ввалилось, натянув кожу на лбу. Кожа лица, на груди, на руках стала серого, прелого цвета. Нестеренко смотрел в землю, на желтые ногти пальцев ног. Кононов махнул рукой. Двое казаков выкатили бочку с недопитой ракией.
– Слушай меня, сынок. Прежде чем я во-оот этой рукой приведу приговор в исполнение, ты сейчас возьмешь бочку и покатишь еево-ооон на ту горушку. Сотня будет стоять ждать, пока ты не управишься. Выполня-яяяять!
Голый по пояс Нестеренко катил бочку, упираясь плечом и руками, подталкивая ее спиной, содранная кожа повисла как лохмотья, руки в ссадинах, едкий пот выедал глаза.
Через час Нестеренко стоял на краю горы, прижимаясь к бочке, чтобы никто не видел его дрожащих ног.
– Карабин мне! – приказал Кононов. Сотня затаила дыхание.
Грохнул выстрел. Пуля ударила в металлический обруч, бочка потеряла равновесие, кувыркнулась и покатилась с обрыва в пропасть.
– Нестеренко! Ко мне. Бегом! С этой минуты поступаешь в распоряжение хорунжего Муренцова. Рядовым! Выполня-яяять!
По выровненным рядам прошел шелест, будто ветер расчесал ковыль. Заржал конь. Сотня дрогнула и заревела изо всех сил:
– Любо батьке!
После построения Кононов пригласил Муренцова в дом, где располагался командир сотни. Полковник скинул себя мохнатую бурку, повесил ее на крючок у двери. От бурки кисло пахнуло устоявшимся конским потом. Кононов указал на ближайший к столу стул:
– Садись.
Муренцов сел. Мельком успел охватить взглядом комнату. Это была обычная комната, такая же, какую занимал он сам, только, может быть, чуть больше размером. Стена с двумя окнами, смотревшими на дорогу. Почти совсем не было мебели. В углу, направо, находилась кровать; подле нее, ближе к двери, тумбочка. На середине стоял простой тесовый стол, покрытый белой льняной скатертью; около стола три плетеных стула. У противоположной стены от окон, в углу стоял небольшой, простого дерева темный шкаф. В углу над кроватью темнел лик иконы, как бы затерявшийся в полутьме. Икона была большая, старинная, писанная на куске потемневшей от времени доски.
– Смотрю я на вас, господин хорунжий. Сложный вы человек, загадочный. Образованный, хорошо воспитанный, манеры опять же… С казаками не конфликтуете, и с немцами у вас ровные отношения. Но друзей нет, водку ни с кем не пьете. В бою бесстрашны, безжалостны, но… в меру. Год назад в белорусских лесах мальчика спасли. Кто вы, Муренцов? Может, расскажете о себе?..
Муренцов усмехнулся.
– А нечего рассказывать, господин полковник. Если коротко, то я все уже изложил или почти все. За исключением, наверное, только того, что наш род служил России верой и правдой двести лет. Но это к делу не относится.
Кононов помолчал. Пальцами тронул ус. Внезапно перешел на «ты».
– Мне доложили, что ты сам сегодня убитых хоронил? Зачем? Может, думаешь, что если попадешь к красным, то зачтется? Или Божьего суда боишься?
Муренцов помолчал, раздумывая над ответом:
– Красных я не боюсь, господин полковник. И Божьего суда тоже. Сами знаете, я солдат, а это значит, что первый кандидат в ад. Так что и мне, и вам место там обеспечено. Но с мертвыми я не воюю. Насмотрелся за свою жизнь и на белых, которые красноармейцам звезды на теле вырезали, и на красных, которые к плечам буржуев погоны гвоздями прибивали. Это страшно. Мы ведь все-таки люди, хотя и вынуждены убивать друг друга.
– Да-ааа… достойная позиция, господин хорунжий.
Кононов посидел немного молча, потом достал алюминиевую фляжку, обшитую серым сукном. Поискал глазами посуду.
Муренцов понял, достал из шкафа две стопки, финкой отпластал от краюхи несколько ломтей хлеба.
Иван Никитич наполнил стопки.
– Давай, Сергей Сергеич, по глотку из батькиной фляги. За всех погибших, умерших и казненных в России.
Сложил в щепоть пальцы и понес медленно ко лбу, пряжке портупеи, погонам, с силой вдавливая пальцы в свое тело. Потом выдержал паузу в несколько секунд, резко запрокинул в себя водку, крякнул и, не закусив, замер.
Муренцов перекрестился вслед за полковником. Прошептал губами:
– Земля пухом и Царство Небесное всем погибшим и замученным на планете Россия.
Опрокинул стопку. Это был виноградный самогон, градусов под пятьдесят.
Поочередно сделали выдох. Прижмурив глаза, замерли на несколько мгновений, ожидая первого опьянения, спасительного и облегчающего душу после нелегкого дня, заполненного смертью. Кононов налил по второй.
– Ладно… людей не воскресишь. Слезьми Россию не омоешь. Больно велика она. За твой чин!
Выпили так же молча. Похрустели соленым огурцом.
Кононов задумчиво повторил:
– Достойная у тебя позиция, хорунжий. Я бы даже сказал… благородная. А я привык сталкиваться с обратным. Батьку моего, Никиту Кононова, красные зарубили в 18-м годе. За что сказнили его? Да ни за что! Вахмистром был, царю служил, а значит – враг! Вот и лишили жизни от избытка революционного рвения. Старший брат Егор умер от ран в империалистическую. – Помолчал. – Как я сам выжил? Да спрятался… Как мышь в щелку забился. Придумал себе новую биографию, пролетарское происхождение, записался в Красную армию, стал командиром, вступил в партию. Но представляешь… я боялся. Боялся всего… Вызова в штаб, приезда комиссии, ночного стука в дверь. Бывало, спишь и вдруг… как захолонет в груди… Думаешь, что легче пулю себе в висок пустить, чем так жить. – Кононов замолчал, перекатывая желваки скул. – Потом началась финская война. Я попросился на фронт. Дали полк. Кругом сугробы по пояс, сосны и финские снайперы. Потери в полку страшенные, не только от пуль, от обморожения, по глупости, от того, что недоучили, недосмотрели. И такая лютая ненависть у меня проснулась к этой власти людоедской, которая сначала баб и детишков на голодную смерть обрекла, а потом тех, кто выжил, за свою же власть гребаную воевать послала. И чем больше я ненавидел, тем храбрее становился, освобождался от своего страха, стало быть. Втянулся служить, стрелять, рубить, убивать. И понял я, что рано или поздно буду воевать против этой системы. Меня как бойцового пса натаскали для войны, и другой жизни теперь для себя и не мыслю. – Иван Никитич говорил медленно, как бы неохотно роняя слова. Лицо его резко изменилось, и его полуулыбка, полуусмешка, постоянно прячущаяся в уголках глаз, более походила на оскал.
Стемнело. Кононов достал керосиновую лампу, снял закопченное стекло, зажег фитиль.
– Нет больше твоего спасителя Прохора Игнатьевича, Сергей Сергеевич. После разгрома отряда Назарова в станицу нагрянули чоновцы. Кого постреляли, кого порубили. Старика повесили на собственных воротах, старуха через несколько ден сама померла. Внучка ихнего, Мишутку, забрали в город, вроде как в приют определили. Ну а у нас в 1921 годе грянул голод. Зимой 1921-го, можешь себе представить такую картину, всюду вдоль дороги на хутор Стрелка лежали трупы тех, кто умер от голода. Многие просто шли в рыбацкий хутор в надежде найти хоть какую-то еду. А сил дойти не хватило.
Людей никто не хоронил, только летом часть прикопали на месте, часть в братской могиле, на северной стороне станичного кладбища. И все это сделали русские люди, – тихо говорил Иван Никитич, глядя на трепещущий огонек фитиля. – Обманутые, темные, такие часто жестокие, но русские… Я тогда был мальцом, но все помню. От голода и смерти спасла тюлька. Представляешь, всю станицу спасла маленькая рыбка. Ну а потом станицу переименовали в Буденновку, храм взорвали. Я к тому времени был уже далеко. Вот что наделала с людьми эта гребаная революция! – сказал это Кононов просто и без обиды, но с такой-то душевной болью, что Муренцову стало не по себе.
Кононов обнял свою голову руками, горестно качая ей в такт своим словам, как бы не веря тому, что такое могло произойти в России. Воспоминания – это груз, который каждый человек вынужден тащить с собой до конца жизни.
В комнате стояла мертвая тишина. Слышно было только, как за шкафом пищат мыши, да, приветствуя полночь, перекликаются петухи.
– Ты вот что, Сергей Сергеевич. Зараз иди спать. Дружба – дружбой, а служба – службой. Ее никто не отменял. Да! И вот еще что. Чуть не забыл. – Кононов посмотрел на Муренцова, достал из офицерской планшетки толстый конверт. – Письмо. Я так думаю, что от близких. Ну! Ступай.
Муренцов схватил конверт. Прижал его к лицу. Повернулся кругом, шагнул за порог не чувствуя ног и не видя земли под ногами от застилающих глаза слез.
Выпитое спиртное подействовало на него. Кружилась голова, движения потеряли уверенность. Выходя из калитки, он покачнулся, кое-как натянул на голову папаху и, волоча ноги, пошел по улице.
Добравшись до дома, он присел на скрипучую койку. Первым делом разорвал конверт. Там была плитка шоколада, фотография, иконка Божьей матери, надушенный носовой платок.
Муренцов пробежал глазами по неровным, прыгающим строчкам.
Мария Александровна писала:
«Милый Серж! Мой дорогой сын! Господь услышал мои молитвы, ты жив. Уже на протяжении многих лет я начинаю и заканчиваю день с одной-единственной мыслью: где ты сейчас, мой любимый и дорогой сын? Я даже смирилась с мыслью, что тебя уже нет в живых. Единственное, о чем я просила Бога, чтобы не допустил того, чтобы твои косточки остались непогребенными. Чтобы Всевышний дал мне возможность хотя бы краем глаза взглянуть на твое последнее пристанище. Но судьба распорядилась иначе, ты снова служишь. Не берусь осуждать или одобрять твое решение, верю, что все твои поступки идут от сердца. Мне больно писать, но твой отец не дожил до этого дня. Когда зимой 20-го года мы бежали от красных, наш поезд остановили где-то в степи. Бандиты, которые называли себя революционными бойцами, выгнали нас на снег и мороз, отобрали теплые вещи и, страшно даже сказать – пытались надругаться надо мной и Катенькой. Владимир Сергеевич был настоящий мужчина, он вырвал винтовку у какого-то красноармейца и штыком заколол двоих мерзавцев. Его конечно же убили. Только чудо и провидение спасли меня и Катю. На нас наткнулся путевой обходчик, вывез на дрезине и укрыл в своей будке. Ну а уж потом нам удалось вырваться сначала в Берлин, а потом в Париж. Катенька выросла, стала такая красавица. Вышла замуж, у нее двое прелестных деток, Мишель и Саша. Живем хорошо, вот если бы еще не мучили мысли о тебе.
Я представляю необъятные российские просторы, холодную замерзшую степь и кровь, всюду кровь! Я буду плакать и молиться о тебе, храни тебя Господь! Твоя мать».
Муренцов свернул письмо и положил его в карман. Вышел во двор. Закурил. Дворовая собака подошла к нему из темноты и, помахивая хвостом, лизнула ему руку. Бросив окурок под ноги, он скинул с себя китель, исподнюю рубашку и вылил себе на плечи ведро ледяной воды из колодца. Растеревшись сухим жестким полотенцем и взбодрившись, Сергей Сергеевич долго еще сидел у окна, вспоминая детство, шелест маминого платья, запах ее духов, строгое лицо отца. В душном воздухе плыл запах сирени, звенели цикады, в небе подмигивали далекие звезды.
* * *
Искупав коня у ручья, Ганжа нарвал полевых цветов. Улыбаясь, принес их в дом. Во дворе дома свободные от службы казаки чистили оружие. Отворилась калитка, вошел опухший, с красными, воспаленными глазами казак Пафнутьев. Его мучила только одна мысль. Главная. Ссохшуюся, скукоженную от страха душу могла спасти лишь водочная влага. Надо было выпить.
Увидев цветы, сузил глаза и глухо спросил:
– Это на могилу мне, что ли?
Ганжа вдруг нахмурился, улыбка пропала. Сказал раздраженно:
– Почему на могилу? Иди проспись.
У Пафнутьева сквозь кожу лица, почерневшую и туго обтянувшую скулы, проступила обида. Он качнулся.
– И пойду!..
Кто-то из казаков бросил:
– Надо бы сотенному сказать, до беды недалеко.
Его оборвали.
– Проспится… Не впервой. Кто без греха.
Пафнутьев пошел к знакомому железнодорожнику. На душе было тяжело, хотелось вина, поговорить о жизни. Знакомый был на работе. Его жена кормила грудью. Ребенок капризничал, отворачивая рот, и устало хныкал. Женщина сердилась и мяла пальцами темно-коричневый сосок, стараясь сцедить в раскрытый рот хоть каплю молока.
Уложив ребенка в кроватку, женщина принесла и поставила перед казаком бутыль вина. В вырезе платья он увидел темную впадину между ее незагоревших грудей. Запах обнаженной кожи ударил в лицо. Животное и дурманящее желание ударило Пафнутьеву в мозг. Не слыша отчаянного крика, жадно схватил ее за грудь. Гибкое, тонкое тело забилось в руках.
– Не надо, Василь, – задыхаясь от ужаса, стонала она. – Не надо!
Краем сознания Пафнутьев и сам понимал, что не надо. Но похоть пересилила.
– Тихо, сука! – выдохнул он и грубыми дрожащими пальцами с обломанными грязными ногтями зажал ей рот.
Она билась и плакала. С трудом вырвавшись, бросилась к двери. Пуля свалила ее на пороге.
Казак вырвал из ее ушей сережки, допил вино.
– Вот и все… – подумал он, отстраненно глядя в мутную глубину стакана. – Вот и все…
В соседней комнате плакал ребенок убитой хозяйки, и плач этот скреб, царапал по душе, как гвоздем.
Прискакали вооруженные казаки.
– Кто стрелял?
О происшествии тут же доложили командиру полка. В его отсутствие командир сотни самостоятельно провел дознание.
Пафнутьев с окровавленным разбитым лицом валялся на полу. Щербаков самолично обыскал Пафнутьева, достал из его кармана золотые сережки. Приказал казакам привести его в чувство. Те притащили ведро холодной воды, вылили на голову Пафнутьева, и он постепенно пришел в себя.
– Сядь! – приказал сотенный.
Казаки помогли Пафнутьеву встать, усадили на стул. На его кителе были оборваны пуговицы и погоны. Глаза заплыли, из разбитого носа текла кровь.
Допрашивал убийцу взводный Лесников, тыча ему в разбитый рот свой черный кулак:
– Как твоя фамилия, гад?
Казак тяжело дышал, с ненавистью глядя в холодные глаза вахмистра.
– А то ты не знаешь… Пафнутьев.
– Настоящая фамилия, сука!
– Убейте меня!
– Убьем! Обязательно убьем, – утешал его тут же сидящий сотенный. – Только сначала всю правду о себе скажи. Какое звание? С каким заданием к нам заброшен?.. Неужто и впрямь из казаков, нехристь? Мамку кормящую ведь не пожалел.
– Срал я на твоих казаков. Вологодский я. Жить захотелось, вот казаком и назвался.
К канцелярии сотни в окружении казаков наметом прискакалкомандир полка. Спешился и, бросив повод ординарцу, рысью вбежал на крыльцо. Ему навстречу спешил сотенный.
– Происшествие у нас, господин полковник. Мабуть сказать, что он шпиен?
– Что ты меня спрашиваешь, – со скрытой яростью в хрипловатом голосе взъярился Кононов, и глаза у него побелели от бешенства. – Что ты мне, б…дь, нервы тратишь! Обосрался, так сцепи зубы и думай, где и как умыться!.. Какой это на хрен шпиен?
Щеки сотенного вспыхнули, как от пощечины. Скуластое лицо дернулось, шевельнулись рыжие усы. Рука потянулась к поясу.
За спиной Кононова слегка дернулся личный телохранитель.
Алексей Лучкин был из сибирских казаков. На поясе всегда два пистолета. Справа в кобуре ТТ. Слева парабеллум «Люгер РО8». Стрелял с двух рук, за тридцать саженей всаживая пулю в двугривенный. Мастер.
Лучкин коротко кашлянул. Кононов взглянул на сотенного более пристально. Тот покраснел, как от натуги, и нервно достал из кармана брюк скомканную серую утирку. Вытер ей вспотевшее раскрасневшееся лицо.
– Я так кумекаю, господин полковник, надо бы объявить, что он большевиками засланный? Ну, дескать, чтобы опорочить казаков!
Кононов усмехнулся, крутанул на палец правый ус.
– Можешь, оказывается, и думать, когда захочешь?
Разутого и раздетого Пафнутьева вывели перед строем. Ворот его нижней рубахи был разорван до пояса. Под глазами чернели синяки, вспухли закровяневшие губы.
Кононов откашлялся:
– Казаки! Станишники! Сталин и его опричники не дремлют. Мы для них как кость в горле. Вот и засылают они к нам своих агентов. Вот он, один из них!.. – Кононов ткнул пальцем в сторону стоящего перед строем человека. – Вот энтот переодетый чекист, проникший в наши ряды, чтобы бросить тень на всех казаков. Ссильничал и убил сербскую женщину, чью-то сестру. Чью-то мать. – Кононов замолчал, набрал полную грудь воздуха и закричал: – Наш ответ должен быть только один. Расстрелять! Кто исполнит?
Казаки молчали. Человека убить нелегко и так, а этот еще и свой. Вчера прикрывали друг друга в бою. Может быть, мерещиться потом будет.
Лучкин снял со своей головы белую папаху, перекрестился, искоса глянул на приговоренного.
Пафнутьев поднял голову, глянул перед собой нетвердым взглядом:
– Учтите, станишники. Недолго вам казаковать осталось. Скоро и вам кровя пустят!
Голос Пафнутьева сел, сразу осип. Он судорожно усмехнулся, темнея лицом, махнул рукой и заплакал.
Кононов мотнул головой.
Коротко тявкнул «Люгер» в руке Лучкина. Шестиграммовая пуля ударила в затылок Пафнутьева и тут же вышла с другой стороны через глаз.
Тело обмякло, будто в нем перебили позвоночник. Упало мешком.
– Уберите эту падаль! – спокойно сказал комполка, брезгливо пихнув ногой мертвого. Оглядел строй, повысил голос: – Что делают сукины дети! Большевики проклятые! Мало им казачьей крови, так и женщин кормящих уже стрелять начали! Нас пущай хоть на куски режут, а баб и детишков трогать нельзя! И мы с бабами не воюем. А кого еще поймаем – получит такой же расчет!
В строю прокатился легкий шум.
– Щербаков! Там вроде дитя малое осталось. Сегодня отправь родным убитой муку, сахар, что там еще можно выделить.
Справедливость как будто была восстановлена.
– Ты бы навел у себя порядок, сотенный, – говорил Кононов, вдевая носок сапога в стремя. – Сам понимаешь, шпиен не шпиен, а пятно на казаков. Батька Паннвиц за такое по головке не погладит. Да и война с местными нам не нужна.
– Да как их остановишь, господин полковник? Войн-ааа, сука такая! Иной раз сам чувствую, что превращаюсь в животное.
– Все знаю, дорогой мой. Но смотри, за все отвечаешь ты. – Кононов ударил коня каблуками и скрылся в пыли, за ним взвод казаков личной охраны.
* * *
Вечером к Муренцову пришел сотенный.
– Сергей Сергеич, ты мне растолкуй. Ты же ученый человек. Что делать?
– А что вы хотели, господин есаул?! Проблема изнасилований во время войны неразрешима. Вышли из боя и порют все, что движется. Длительное пребывание на позициях, массовый стресс… Что может остановить человека, который умирал вчера и готовится погибнуть завтра? Гауптвахта? Тюрьма? Расстрел? Человеку хочется запретного, одним стрессом перебить другой. Ежедневное ожидание смерти! Человек есть человек. А эта война – страшная война. Это она выпустила из человека зверя. Вот он и гуляет, где ему вздумается.
* * *
Есаул Щербаков строго следил за чистоплотностью и опрятностью своей сотни. «Если у казака рана или даже прыщ на заднице – это уже не боец», – говаривал он. При первом же удобном случае старался устроить казакам баню или купание.
В жаркий день сотня дорвалась до реки. Ежик волос сотенного торчал во все стороны, под крупным горбатым носом пушились такие же жесткие, непослушные усы. На голой груди, перепаханной синим шрамом, тускнел алюминиевый крестик.
– Казак в бою и на марше пуще глаза должен беречь жопу. Поэтому всем приказываю мыться и купаться.
Он пустил своего буланого в воду. Конь, с гулом и фырканьем погружаясь в закипевшую воду, поплыл на середину реки. Его круп омывала речная волна, хвост стлался по воде словно черная змея. Вслед за ним с гоготом и криками ввалилась в воду вся сотня – сто шестнадцать казаков и столько же разномастных лошадей. Казаки, кто телешом, кто в кальсонах, в разноцветном сиянии водяной пыли, с хохотом и гиканьем въезжали в воду на расседланных конях. Седла, одежда казаков и оружие были свалены в кучу на берегу.
Жарко пригревало солнце, куда-то неспешно катилась река, у берега плескались ребятишки. Выше по течению, подоткнув юбки и зайдя в воду до колен, полоскали белье женщины. Кони, зайдя в реку, пили воду. Всадники понукали их вполголоса.
Григорьев снял уздечку со своего коня, и тот в знак благодарности ткнулся бархатными губами ему в шею.
– Балуй! – строгим голосом сказал Григорьев и похлопал его по шее. – Ну… иди… попей. – Конь послушно пошел к реке, опустил голову и долго, протяжно тянул воду. Потом оторвал от воды бархатные губы, всхрапнул и, глядя на ту сторону реки, ударил по зеркальной глади передней ногой.
Григорьев снял с себя мундир, небрежным жестом бросил его на траву. Через голову стянул нижнюю рубаху, замер, подставляя солнцу незагорелые плечи.
Ганжа оглянулся, увидел на спине Григорьева портреты Маркса и Энгельса.
– Ни фига себе, – воскликнул он. – А этих бородатых ты себе зачем нарисовал?
– А это перед побегом. Чтобы легавые в спину не стреляли. Им в основателей марксизма стремно стрелять, – ответил Григорьев не оборачиваясь.
– Так они тебя могли и после побега расстрелять, в сердце.
Григорьев повернулся. На его груди синели профили Ленина – Сталина.
Григорьев в полку был несколько месяцев. Из ростовской шпаны. Отчаянный. Драчливый. За голенищем сапога всегда был нож. Он и мундир немецкий носил с шиком, как носят блатные.
Уже ближе к середине реки густо зачернели в воде лошадиные головы, послышалось многоголосое фырканье. Рядом с лошадьми, держась за гривы, плескались казаки.
– Был у меня случай, – начал рассказывать новую историю Елиферий Толстухин. Молодежь тут же подсела рядом. – Пошел я как-то по молодости купать коня. Ну и сам искупаться, лето… жарко… Разделся, снял седло… и так потихонечку плаваю… Казаки тоже плещутся, кое-кто на бережку сидит – греется на солнышке. Ну, думаю, еще разочек зайду, да и хватит… А коняшка уже подустал, видно… Заходим мы все глубже, глубже… я уже рядом плыву и ничего не могу понять. Я дна уже не достаю, а у коня голова и шея из воды торчат. Потом начинаю понимать, что конь по дну на задних копытах идет. Но в это время он теряет равновесие и заваливается назад. Завалился… и скрылся… Меня чуть кондрат не обнял. Кружу как орел вокруг – думаю, все – крышка… Уже и круги разошлись. Народец все так же мирно купается, сидит на бережку, а у меня страх – доплавался! Коня утопил! Вдруг он как вынырнет… глазами вращает, морда злая, уши прижал… и на меня так нехорошо смотрит! Молча гребем к берегу, он на меня глазом косит – а я на него. Думаю, вот-вот бросится на меня как собака! И чую, в голове у него мысля засела, что я утопить его хотел!.. Так потихонечку мы до бережка доплыли. Вышли из воды. Он мокрый, как выдра, уши прижаты. Чую, злится. Я к нему не подхожу. Хлопцы с пригорочка на нас смотрят. Я думаю – надо доиграть все, как будто так и задумано. Коник мой так вяло постоял и обиженно побрел по дороге к конюшне. Я взял седло, сапоги и плетусь за ним. Никто ничего не понял – словно так и надо. Он не ускорялся, а я его и ловить не хотел… Так и пришли на конюшню… Сначала коник, а за ним я со скарбом.
Потом, делать нечего, взял сахарок и на конюшню – мириться. Верите, как с человеком с ним почти час беседовал. Убеждал, что нет моей вины. Вроде замирились. Но… чую… пробежала между нами кошка…
Ганжа не стал дослушивать историю, встал, похлопал себя по груди.
– Нешто нырнуть?
Митя одобрительно кивнул:
– Валяй, нырни… Я сейчас тоже.
Юрка разбежался… Упругим, сильным движением оттолкнулся от берега и нырнул головой в волну, подняв снопы брызг. Следом за ним ласточкой кинулся Митя. Вынырнули почти одновременно. Огласили окрестности реки радостными жизнерадостными криками.
– Ого! Ого-го-го!
Выбравшись на берег, Юрка ничком вытянулся на траве, чувствуя, как стекающие капли щекочут кожу. Улыбнувшись, перевернулся на спину. Тень на мгновение заслонила солнце. Приоткрыв глаза, увидел, что Мити нигде нет. Вскоре он вернулся, босые ноги бесшумно ступали по песку. Опустился рядом с Юркой, протягивая горку красных ягод на крышке котелка. Земляника. Ганжа бережно брал губами сочные тугие ягоды, хранящие тепло долгого июньского дня. Пчелы, осыпаясь цветочной пыльцой, деловито сновали над цветами. Гигантская опрокинутая чаша небосвода, по которой медленно плыли ванильные пенные облака, равнодушно смотрела вниз, где в синей реке плескались кони и бронзовые от загара люди.
Лавандовые сумерки опустились на реку. Повеяло прохладой, и сверчки завели свою пронзительную вечернюю песню.
Возвращаясь в село, Юрка с Митей решили показать казачью удаль. Кони пошли наметом, роняя на землю желтую пену. В это время на дороге показалась легковая машина. Хлопнула дверь, показался полковник Кононов. Прищурился.
– А ну-ка, родные мои, с коней долой и ко мне. Оба. Бегом!
Не любил командир полка, когда коней не жалели.
– Хорошо отдохнули? Ну пусть теперь и лошадки отдохнут. Седла снять! На плечи – и в казарму. Бегом. Марш!
Обливаясь потом, казаки потрусили домой. На спинах пахнущие вонючим потом седла, в руках повод. Кони за ними следом.
* * *
Утром командир сотни собрался в штаб полка. После утренней поверки вызвал к себе Ганжу и Мокроусова. Молодые казаки при виде сотенного вытянулись. Тот внимательно осмотрел их.
– Да не тянитесь, хлопцы! Не в строю… Кони у вас справные?
Казаки наперебой закивали.
– Добрые кони, господин есаул!
– Ну тогда садитесь, перекусите, молочка попейте, да поедем.
Сотенный вышел во двор. Казаки не заставили себя упрашивать.
Через десять минут Щербаков вернулся. Вынес седло.
– Ну что, казаки, закончили? Пора ехать.
Вывели лошадей. Тронули рысью.
По обе стороны от дороги тянулись заросли кукурузы. Приближались горы. Над дорогой клубилась рыжая пыль, поднятая копытами коней. На Балканах она непохожа на донскую или кубанскую. Словно мука тончайшего помола, она проникает повсюду – в глаза, нос, уши, складки одежды.
Шторм как ветер летел по дороге, по привычке задирая свою сухую голову со злым оскалом в сторону других жеребцов. Восемь верст до штаба проскакали за четверть часа. Показалось хорватское село Грабарье. На взгорке высился костел, у ворот домов и деревьев были привязаны казачьи кони.
Село утопало в зелени садов, виноградников, кукурузы. Показался штаб полка – большой кирпичный дом со множеством отходящих телефонных проводов.
Внезапно Шторм захромал на заднюю ногу. Остановились. Юрка соскочил с седла. Осмотрел копыто.
– Ну, что там? – нетерпеливо спросил сотенный.
– Расковался, господин есаул.
– Вечно у тебя, Ганжа, все не слава Богу! Раскова-ааался!.. Веди жеребца в кузню.
– А можно мне, господин есаул? – спросил Митя. – У меня там земляк.
– Давай лучше ты. Отдай своего коня Ганже. А сам дуй к ковалю. На все про все у тебя час.
У ворот штаба стоял чубатый казак с карабином.
– К командиру полка, – коротко пояснил Щербаков.
– Проходите. Господин полковник ждет вас.
Под навесом, увитым виноградной лозой, сидел полковник Кононов в кавалерийских бриджах, белой нательной рубахе. Батька!
Юрка остался у ворот, рядом с часовым. Через изгородь и заросли кустов видел, как сотенный подошел к Кононову, доложил. О чем-то толкуют. Тут прибежал разгоряченный, вспотевший Мокроусов.
– Юрка, со Штормом беда!
Ганжа подскочил на месте.
– Что?.. Украли? Подстрелили?.. – заорал он, дико вращая глазами.
– Захромал… не ступает. Кузнец, мать его, руки из задницы, заковал.
На улице понурив голову стоял привязанный к забору Шторм. Огромные, глубоко посаженные глаза его смотрели печально, казалось, что он укоряет:
– Что же ты недоглядел, хозяин?
На нежную шелковистую кожу садились оводы, по его мускулистой груди и выпуклым связкам пробегала дрожь. Жеребец стоял на трех ногах, держа на весу заднюю ногу, словно раненная в крыло птица.
Загорелись глаза у Ганжи, шашку выхватил и полетел к кузнице. Денис вслед за ним. Кузнец уже знал, что сейчас придется ответить. Заперся в кузнице, подпер дверь с обратной стороны ломиком. В гневе Ганжа рубанул по двери. Сталь шашки лязгнула о железо петель. Тогда Ганжа принялся рубить окна. Дзинь – полетели стекла, и еще раз – дзинь! Его скрутили, стали держать, успокаивать. Пока шла возня, пока кричал и грозился Ганжа, удерживаемый казаками, подскочил сотенный. Зарычал страшным своим голосом:
– Ганжа, так-перетак, шо-ооо опять случилось?
Подкатила легкая линейка. Кононов в бурке, начищенных скрипучих сапогах. На облучке, свесив ноги и обернув рябое лицо, хмуро смотрел бородач. Завитки его черной бороды сползали на воротник кителя.
– Батька! – прошелестело среди казаков.
В воздухе пряно пахло чабрецом и пылью. Топтались, пофыркивая, казачьи кони, и тихо поскрипывали рессоры линейки.
Комполка жестом остановил сотенного.
– Ну шо-ооо, хлопчики, воюем? Не можем, когда у нас тихо? Правильно, казак без войны не казак! Кто доложит, что случилось?
Вперед выступил здоровенный урядник, который и скрутил Ганжу.
– Разрешите доложить, господин полковник. В штаб прибыл сотенный Щербаков, а с ним вот этот казачок. Потом гляжу, бегит, шаблюкой размахивает и нашего коваля зарубить грозится.
– Та-аак, понятно. Вернее, ничего не понятно. Теперь говори ты, атаманец.
– Он моего Шторма гробанул. Заковал коня, подлючья душа!
– Не может быть! – возразил Кононов. – В полку хорошие кузнецы. – Взглянул Ганже в глаза, резко спросил: – А ты, казак, где был, когда твоего коня ковали? Куда смотрел? Ты должен был самолично проследить, как забивают каждый гвоздь! – Вздохнул. – Ну-ка давайте мне сюда этого горе-кузнеца.
Заскрипела дверь кузни. Появился перепуганный, серый от страха кузнец.
Ганжа бросился было к нему. Кононов остановил его холодным взглядом.
– Кто таков? Кузнец?..
– Никак нет. Помощник. Только горн раздувал.
– Давно в полку? Что-то я тебя не припомню!
– Вторую неделю. Из последнего пополнения.
– Первый раз коня ковал?
– Так точно. Первый.
– А чего же тогда взялся не за свое дело?
– Так Григория Петровича же в штаб вызвали! А тут казак примчался. Кричит – срочно! Аллюр три креста! Хотел как лучше.
– Да-ааа, казаки! Натворили вы делов. – Ткнул пальцем в поникшего кузнеца. – Если еще хоть одну животину закуешь, самого заседлаю. Понял?.. – Всем корпусом повернулся к Ганже. – Коня немедленно расковать – и веди его в ветчасть. Поставить компресс. Скажешь командиру хозвзвода, чтобы подобрал тебе кобылку. Скажешь, я приказал. Через неделю приедешь, заберешь своего Шторма. Еще раз за конем недоглядишь, пешком заставлю ходить! Пешком!.. Давай, славный мой, не стой, выполняй. – Кононов закурил, вздохнул, сказал почти ласково: – Ну, бывайте, хлопцы. Не воюйте больше меж собой. Поехали, Алексей.
– Но-о! – выдохнул Лучкин и тронул пропахшие конским потом ременные вожжи.
Понурый Ганжа, опустив голову, поплелся за своим конем.
* * *
Солнце почти скатилось за горы, когда Юрка через несколько дней забрал Шторма и вернулся в село.
Все было, как и прежде, визжали и кричали бегающие по улице дети. Приглушенно мычала скотина. Слышны были женские голоса, звуки молочных тугих струй, бьющих в белую пену ведра.
Чья-то корова толкнула ногой цибарку с парным молоком. Сердитый окрик. Звук шлепка по спине коровы.
Где-то вдалеке одинокий мужской голос тянул слова казачьей песни.
Из ворот своего двора вышел Йован, местный житель, поставляющий казакам фураж. Заметив Юрку, махнул ему рукой. Ганжа подъехал к воротам, спешился. Через открытые ворота увидел накрытый в саду стол. Юрка закрутил чумбур, завязал поводья на шее коня, закрепил стремена на луке седла, чтобы не колотили коня по бокам.
– Шторм, домой! – ударил его ладонью по крупу. Круто задрав мочалистый хвост и трепля по ветру нерасчесанную гриву, тот послушно потянулся к своей конюшне.
– Садись, казак! – сказал Йован. – Я давно хотел пригласить тебя в гости.
Учуяв запах вина и видя накрытый стол, Юрка не заставил себя упрашивать.
– Выпей со мной! – обратился к нему хозяин.
Юрка не отказывался, улыбаясь, принял из рук хозяина стакан со сливовицей, перекрестился. Зажмурив глаза, выпил медленными вкусными глотками.
Интерес хозяина был простой. У него было три дочери на выданье. Юрка ему нравился. Хитрый Йован просил Ганжу бросить воевать и взять в жены любую из дочерей. Хозяин говорил по-сербски, Юрка уже наловчился понимать чужую речь, отвечал где на русском, где на сербском. Под неспешный разговор съел тарелку чорбы с лепиньей, густого наваристого мясного супа с домашним хлебом. Выпил пять или семь стаканов сливовицы. Когда хозяйка принесла «Сач» – горячее мясо, тушенное с картофелем, луком и морковью, Юрка уже так набрался, что еле смог встать.
Хозяин, тоже изрядно подпитый, повесил себе на шею винтовку, хотел проводить Юрку до дома, где располагалось его отделение. Юрка не дал. Со словами «Я, каа-зак!» забрал винтовку, сбил на затылок кубанку.
Хозяин согласился.
– Казак. А хочешь, овса дам?
Ганжа не возражал:
– Хочу!
Хозяин насыпал ему мешок зерна, положил на плечо.
– Ты, казак, о разговоре нашем не забудь.
– Не забуду, – отвечал Ганжа, – но я человек военный. Так што имей в виду. Без приказа не могу. А будет приказ, так я со всем удовольствием. На любой. Хошь сразу на всех трех. Женюсь!
Качаясь, как матрос на палубе, Ганжа пошел домой. Мешок лишал его равновесия, Юрку бросало с одной стороны улицы на другую. Наконец дошел. Нерасседланный Шторм стоял у ворот конюшни, недовольно фыркал. Юрка кинул мешок в угол. Распустил подпруги. Стянул седло. Завел коня в денник, бросил ему сено. Как добрался до постели, уже не помнил, рухнул на пол и тут же заснул.
Под утро Шторм перегрыз чумбур, вылез из станка и сожрал почти весь мешок овса. Когда Юрка зашел в денник, то увидел раздутые бока и счастливую морду коня. Шторм не хотел идти, не помогали ни шпоры, ни плетка, – и ни с места. Юрка пытался тащить его за уздечку, но ничего не получалось. Жеребец стоял как вкопанный, потом лег на землю. Ганжа попытался его поднять. Шторм не вставал. Подъехал урядник, спросил, что случилось. Спешился. Приложил ухо к раздутому конскому пузу, спросил, чем его кормили. Юрка рассказал, что недоглядел, конь объелся овса.
Урядник почесал затылок, сказал:
– Плохо дело, может сдохнуть. Надо мять ему живот.
– Сукин ты сын, спешил меня, ирод!.. – и, уговаривая Шторма потерпеть, Юрка кулаками стал массировать коню живот. Шторм шумно дышал, стонал, как плакал, и смотрел на Юрку большими лиловыми глазами. Вдруг в животе у коня заурчало, послышался звук выходящих газов, и перепуганный конь вскочил на ноги, испуганно оглядываясь на свой зад.
Урядник облегченно засмеялся.
– Ну вот, теперь все в порядке. Воздух вышел. Теперь будет жить, как наш фершал говорит. Ты бы поберег его… Поводи его минут десять-пятнадцать, и можешь ехать.
Пока разговаривали, жеребец пришел в себя. Юрка надел на него седло, поблагодарил за помощь и потихоньку поехал.
* * *
Перед домом, в котором расположился штаб 5-го донского полка, стояли привязанные к деревьям казачьи кони. Черными и рыжими пятнами горбами торчали казачьи седла. Прислонившись спинами к каменной ограде, дремали коноводы. То и дело к штабу подлетали верховые, соскакивали с седел и, бросив повод коноводу, торопливо бежали в дом.
Во дворе штаба собрались командиры сотен и дивизионов полка.
Возраст офицеров под тридцать. Все как один матерые, бывалые, закаленные лагерем и войной. Многие из них в прошлом кадровые командиры Красной армии. У многих на форменные штаны нашит донской лампас. Граф Ритберг тоже с лампасом на кавалерийских бриджах.
Старший из офицеров – командир второго дивизиона есаул Борисов, бывший майор Красной армии. Вместе с Кононовым служил в одном эскадроне 27-го Быкодоровского кавалерийского полка, еще в в конце далеких двадцатых. Прошло много лет. Потом Борисов, будучи начальником связи 101-й танковой дивизии, попал к немцам в плен и уже доходил с голоду в лагере военнопленных. В 1941 году он вновь увидел Кононова, приехавшего в этот лагерь набирать добровольцев в свой казачий эскадрон. Борисов узнал Кононова, а Кононов его нет. Еле держась на ногах, Борисов подошел к Кононову и спросил:
– Не узнаешь меня, Иван Никитич?
Кононов долго всматривался в его постаревшее лицо, погасшие глаза. Потом обнял:
– Здравствуй, Иван! Вот как раз тебя-то мне и не хватает.
С того времени они снова вместе.
Две недели назад дивизион есаула Борисова под деревней Бектеже с тремя сотнями казаков четыре часа держался против партизанской бригады. Его выручили 1-я и 2-я сотни полка. Хорунжий Орлов ударил партизанам во фланг, его поддержала сотня Трегубова. Командир полка назначил сбор на полдень. Было еще рано, можно было поговорить со старыми знакомцами.
Казаки перекуривали, вели неспешный разговор. Вспоминали знакомых, кто погиб, был ранен или ушел к партизанам. Щербаков подошел к Борисову. С Иваном Георгиевичем он был знаком уже около трех лет, почти одновременно попали в плен, были в одном лагере под Могилевом.
– Доброго здоровья, Иван.
– Здравствуй, Толя.
– Мудрова помнишь?
– Конечно помню. Как он?
– Нет Сережки больше. Погиб.
Голос Щербакова дрогнул.
– Как же это случилось?
– Нашей же миной и накрыло. Еще зимой, под Костайницей. Случайно. Совершенно не думал, что такое возможно, ведь опытный же офицер!
– Эх! Какая жалость! С первых дней с нами ведь был. Еще с эскадрона.
Офицеры замолчали.
Во двор вошел полковник Кононов. Борисов с ожесточением загасил окурок сигареты, набрал в грудь воздуха:
– Господа офицеры!
Все встали, подтянулись, повернулись лицом к командиру, пожирая его глазами.
Командир полка махнул рукой.
Борисов выдохнул:
– Господа офицеры.
– Все?
– Так точно, все! За исключением командира дежурной сотни.
– Тогда прошу всех пройти ко мне.
С трудом расселись на стульях и скамьях в комнате, где жил и работал командир полка. Граф Ритберг присел на диван. Рядом расположился переводчик.
Посредине комнаты стоял большой стол. На нем скатертью карта.
Полковник Кононов обвел всех внимательными глазами.
– Разведка бригады доложила, что 28-й партизанская бригада сейчас здесь. – Он ткнул острием карандаша в точку на карте. – Село Кутьево.
Офицеры молча, внимательно вглядывались в стрелы, нарисованные на карте.
– Пришел приказ из штаба – ударить по этому Кутьево! Сбор сегодня в три часа ночи у костела. Выдвигаемся в три тридцать. В операции будет задействован весь полк. Здесь остается по взводу от каждой сотни.
* * *
Глубокой ночью Муренцов проснулся. Открыл глаза. Кричали первые петухи, в черном небе горели неподвижные звезды, и ветер осторожно шумел над крышами домов. За окном отчаянно трещали цикады, и под полом ворошились мыши. В маленькой комнатке было душно. Муренцов зажег лампу.
На столе, накрытый чистым полотенцем, стоял завтрак, приготовленный вестовым. Завтрак по-сербски «доручек». Банка консервированной рыбы, большой кусок хлеба и пол-литровая кружка молока.
Наскоро перекусив, Муренцов пошел поднимать взвод.
На крыльце его уже ждал вестовой с красными опухшими глазами. Видно, что он не раздевался и не ложился спать. Это был его первый бой. Что он делал ночью, молился? Думал о женщинах?
Муренцову стало весело.
– Проверь оружие. И не тушуйся, будем живы не помрем, – сказал ободряюще.
Улица была темна, но уже гудела под конскими копытами, раздавались окрики, звякало оружие. На площади ждали командира полка.
* * *
Капитан Солодовников смотрел в прицел на село. Потом медленным движением перевел прицел правее. На выезде стоял часовой с карабином. Курил, облокотившись на мешки с песком. Под грибком – телефон полевой связи. Рядом огневая точка. Пулемет. Окоп обложен мешками с землей. Разговаривают, не осторожничают. Чувствуют себя в безопасности. И – никаких чрезвычайных мер. Хотя и расхлябанности тоже нет. Службу несут привычно. Сразу видно, опытные вояки.
Григорьев вытянул из-за голенища нож.
– Что делать будем, командир? На воровское перо поставим?
Солодовников покачал головой.
– Времени нет. Пока подползем. Пока снимем. Рассветет. Я делаю первый номер. Ты второго. Потом кто раньше – часового. Давай на счет два!
Перевел прицел на пулеметный окоп. Патрон мягко вошел в патронник. Не было сожаления, что сейчас пуля оборвет чужую жизнь. Не было страха, сомнения, робости. Было только желание не промахнуться. Хорошо сделать свое дело. Это была работа – убивать людей. Сначала немецких солдат, потом партизан. Неважно, что советских, теперь югославских. Сколько их уже было? Двадцать?.. Тридцать?..
Или больше?.. Солодовников не считал.
Вспоминать и считать он будет потом. В старости… через много, много лет. Если останется жив. Тогда все убитые им будут приходить во сне и молча стоять у него перед глазами. А он будет вскакивать с криком и хвататься за свое изношенное сердце. А соседи по палате будут утром просить заведующую отделением, чтобы она перевела этого умалишенного в другую палату.
– Раз-ззз!
Он прижал к плечу приклад. Отличная цейссовская оптика приблизила к глазам лицо партизана. В перекрестие прицела была видна розовая мочка левого уха. Или это только кажется? На секунду затаил дыхание, и палец чуть тронул спусковой крючок. Этого было достаточно.
– Два!
В перекрестие прицела Солодовников увидел, как пуля вмяла кожу лица чуть ниже ушной раковины, и тут же услышал хлесткий звук выстрела винтовки Григорьева.
Часовой, бросив сигарету, кинулся к телефону. Вторым выстрелом он на доли секунды опередил Григорьева. Два выстрела слились в один. Пробитая двумя пулями голова мотнулась в сторону, и тело часового мягко осело на затоптанную дорогу.
– Давай ракету!
Григорьев поднял вверх ствол ракетницы, дурашливым голосом пропел:
Мы сдали того фраера Войскам НКВД, С тех пор его по тюрьмам Я не встречал нигде.В блеклое утреннее небо, шипя, взлетела ракета.
– Ну вот!.. Началось! – строго сказал Кононов. Потом он медленно снял папаху и медленно перекрестился. Скомандовал: – По-ооолк на конь!
Оглянувшись назад, Солодовников увидел, как из-за пригорка выскакивают сотни. Выстраиваются в лаву.
Бой в селе нарастал с каждой минутой. К гулким выстрелам карабинов все чаще и чаще начали примешиваться слитные трели автоматов. Этот звук был какой-то ненастоящий, игрушечный, словно мальчишки проводили по штакетнику палкой. В нем не чувствовалось никакой опасности.
Муренцову обожгло висок. Схватившись рукой, он увидел на ладони кровь.
Кто-то из офицеров, охаживая плетью вздыбившегося хрипящего коня, остервенело кричал:
– Пулеметчики… мать вашу растак!.. Огонь!
Казаки на ходу прыгали с коней, лихорадочно устанавливали пулеметы и открывали торопливую стрельбу.
Когда в центре села гулко и торопливо зачастили крупнокалиберные пулеметы, там вспыхнуло высокое пламя пожара. Через несколько минут село уже горело. По улицам свистя и гикая скакали казаки. Ошеломленные неожиданной конной атакой партизаны, отстреливаясь, пытались отойти к лесу. Беспорядочно стреляя, убили двух казаков. Громко заржала раненая лошадь. Конные сотни уже обходили село и брали в клещи отступающего противника. Кидавшихся из стороны в сторону партизан всюду встречал огонь из карабинов и пулеметов.
– Трррррууу-рррааа-та-та-та-та! – частили пулеметы.
Повсюду мелькали вспышки, трещали выстрелы карабинов.
Партизаны, уворачиваясь от огня и прячась за деревьями, побежали через лес в горы. Казаки топтали их конями, стреляли из карабинов, жалея и матерясь о том, что почти все шашки пришлось сдать в Польше. Конница, вооруженная шашками, могла вырубить убегающих партизан до единого человека. Опьяненные атакой казаки пришли в себя только тогда, когда в воздух взвилось несколько ракет, сигнал к отходу.
Бой был окончен, и сотни возвращались в село. На улицах было тихо. Спрятанные в зелени садов каменные дома молча смотрели на людей черными дырами выбитых окон. Всюду лежали окровавленные трупы. Над ними поднимался едва приметный, легкий парок. Стоял запах крови и тротила.
На центральной площади села было шумно. Крутились казаки на конях, подходили пешие, несли раненых и убитых, вели связанных партизан, иных избитых в кровь.
В сотнях недосчитались девяти человек. Ганжа вертел головой, не видя Митьки. Неужели убили?
Казаки громко смеялись и переговаривались. Сказывалось нервное напряжение после боя. К Юрке на взмыленной хрипящей лошади подскакал Муренцов с лицом, залитым кровью.
– Живой, Ганжа? Где твой приятель?
В это время на крыльце одного из домов, подталкивая прикладом идущего впереди себя молодого парня, показался Мокроусов. Увидев направленный себе в лицо ствол карабина, Митя зло закричал:
– Не видишь, что свой?! Убери дуру!
– Ты где был?
– Где был, где был! Я, между прочим, пленного взял! – Поинтересовался у Муренцова: – Что с вами, господин хорунжий? Ранены?
Муренцов махнул рукой.
– Не переживай, мозги на месте. Пленного взять с собой. Доставите в штаб. Отвечаете за него головой.
Митька вытянулся.
– Есть! – Юрке шепнул: – Я там харчами разжился. В подвале цельный мешок колбас и окороков нашел.
– Давай веди пленного, а я мешок пристрою, пока сотенный не отобрал.
Казаки собрали убитых, принесли раненых – шли, переговариваясь:
– Все… отвоевались хлопцы. Царствие им небесное.
Принесли пулеметчика Сашку Степанова. Пуля угодила ему прямо в лоб. Открытые, остекленевшие глаза безучастно смотрели в серое небо. Сашку положили на подводу. На похудевшем лице спокойствие, какое бывает у людей, осознавших, что они умирают, и простивших всех.
По улице проскакал офицер.
– Стана-а-вись!
На следующий день, прямо во дворе Кононов собрал офицеров для обсуждения итогов минувшего боя.
Двор дома был окружен каменным забором, выложенным из булыжника. За забором притаился фруктовый сад. Это был вместительный дом с большими каменными сараями, принадлежащий какому-то сербу, сбежавшему с партизанами. В сараях устроили конюшни, поблизости расквартировали людей, а сам Кононов вместе со штабом разместился в доме.
Офицеры расположились в тени, отбрасываемой деревьями и виноградными лозами.
Кононов в центре. Вокруг офицеры полка. Одни – совсем молодые, другие постарше, кто-то храбрее, отчаяннее, кто-то осторожнее. Но понимающие друг друга с полуслова, спаянные фронтовым братством.
– Мы должны, – говорил Кононов, – заставить противника поверить в то, что мы сила, которой он не в состоянии сопротивляться.
Муренцов морщился, чуть ниже его левого виска тянулась свежая полоска содранной кожи – след от чиркнувшей пули. Ранка уже подсохла темной корочкой, но голова по-прежнему раскалывалась от боли. Боль была острая, точно кто-то приставил к этому месту тонкое сверло, слегка надавил и озаботился добраться до середины мозга. Судя по всему, вчерашняя партизанская пуля порядком контузила.
– Наш враг должен находиться в постоянном страхе, в неуверенности и в растерянности. Тогда как каждый казак должен быть в полной уверенности, что всякое сопротивление противника будет сломлено. Если мы нанесем противнику подряд несколько сокрушительных поражений – мы этого добьемся.
* * *
Уже наступил июль, солнечный, с душистым сеном, которое привозили к конюшне и сваливали возле сарая.
Муренцов услышал хлопки выстрелов и пошел к ограде. Двое молодых казачат, один 13, другой 14 лет, только что по своей инициативе расстреляли пленных.
Муренцов отшатнулся. Страшно было, что так дешево стоила человеческая жизнь в таком огромном богатом мире. Он порывался что-то сказать казачатам, объяснить им, что не было необходимости убивать, но Елифирий отвел его в сторону.
– Их, господин хорунжий, теперь уж на путь не наставишь. Эти хлопцы уже пропащие, поскольку военным ядом отравлены до неизлечимости. У нас в Гражданскую при полку жил сын ротмистра Пелевина. Редкой жестокости был малец, несмотря на возраст. Самолично с красных шкуру снимал. Так что не место детям на войне… Но что с них взять? Это ведь мы, взрослые, довели их до этого.
В сарае рядом с конюшней сидел партизан, захваченный в плен Митькой Мокроусовым. Он оказался русским и его оставили в живых до разговора с комполка. Пленный сидел у двери, свесив голову. Голова кружилось то ли от запаха разнотравья, то ли от потерянной крови.
Рядом с сараем ковырялись в земле куры. Невдалеке по-хозяйски прохаживался огненно-красный петух.
Седоусый бородатый Толстухин сидел рядом с дверью, сшивал рваный чумбур. Через порог обдавал мальца свежим табачным духом.
– Коммунист?
– Нет. Мой отец белый офицер. А я родился здесь.
Елифирий присвистнул. Суровея глазами, тихо спросил:
– А чего же тогда стрелял в нас?
– Стрелял, – ответил пленный. Его голос дрожал. – Так же как и вы в меня.
– А зовут тебя как?
– Антон.
– Эх, повесят тебя завтра, Антон. Жаль мне тебя, сынок.
– Видать, судьба такая у русских – друг против друга воевать и умирать. – Это было сказано просто и обыденно.
– Да не судьба, это война нас друг против друга поставила.
Ночью в сарае партизан сунул себе в рот запал от гранаты и покончил жизнь самоубийством.
Елифирий орал:
– Кто его обыскивал?
Партизан был очень похож на его брата, который погиб в июле восемнадцатого года, и Толстухину очень хотелось, чтобы этот мальчик остался жив.
* * *
Конец июля был жарким и солнечным.
По обочинам дорог желтели и пушились одуванчики, а по полям раскинулся яркий ковер разнотравья.
Светало. Ночная темнота медленно размывалась светлеющей краской утра. Из густой фиолетовой утренней сини проступали очертания нависшей над селом горы и зарослей прибрежной ольховой рощицы. Казаки просыпались. Слышались первые звуки начинающего дня. Ржали и всхрапывали кони, мычали коровы, ожидая утренней дойки. Дворы наполнялись громыханием пустых подойников и еще сонными окриками хозяек, садившихся под своих коров. В сараях слышались дружные звуки молочных струй, туго ударяющих в звонкие донья жестяных ведер.
Через несколько часов небо покрылось белесой дымкой. Линия горизонта задрожала от струящегося зыбкого знойного воздуха. Казалось, вокруг намного верст все повымерло. Даже в тени прибрежных зарослей реки не ощущалось присутствия жизни. Ни травинка не шелохнется под чьим-нибудь шагом, ни ветер не прошелестит поблекшими листьями речного тала. Полное безмолвие. Тишину нарушал лишь звон комаров.
– Ну и жара сегодня, – со вздохом сказал Елифирий, оттирая со лба густой пот. Приподнявшись, он посмотрел за речную сторону. С досадой еще раз протер красное лицо, проговорил: – Пойду в речке ополоснусь, заодно и кобылу искупаю.
Прихватив повод, поспешил к речной воде. Уже у ворот его застал крик:
– Толстухин. К сотенному!
Чертыхнувшись, Елифирий поспешил в канцелярию. Вернулся хмурым. Ганжа вопросительно посмотрел на него, спросил:
– Чего ты смурной такой, будто уксуса наглотался?
– Да сотенный в полк с пакетом посылает. По такой-то жаре!
Недовольно бурча, Елифирий оседлал лошадь, похлопал ее по крупу, привычно поставил ногу в зазубренное стремя. Звякнули и загремели на конских зубах удила. Гикнул, ударил лошадь каблуками, она резво взяла и пошла крупной рысью. Мягкая дорожная пыль приглушила гулкий топот копыт.
Проснувшийся жеребенок вылез из загона. Красивая яркая бабочка села ему на лоб. Он вяло пошевелил ушами и вдруг, испугавшись, стрелой рванул куда глаза глядят с одной только мыслью – спастись от внезапной опасности. Потревоженные мотыльки и бабочки разлетались в разные стороны, теряя пыльцу с крыльев.
Только лишь когда жеребенок оказался в зарослях высокой густой травы на лесной поляне, он немного пришел в себя и остановился, весь дрожа.
Прошло еще несколько секунд, и внезапный порыв ночного ветерка донес до ноздрей жеребенка струю знакомого запаха человеческого пота, табака, железа. Так пахло от тех существ, которые всегда были рядом с ним и его матерью. Тех, которые давали ему вкусные корочки, гладили шею, расчесывали гриву. Он звонко заржал и запрыгал на месте от радости.
Некоторое время вокруг лужайки и сосен царила мертвая тишина, и вдруг острый слух жеребенка уловил звуки тяжелых, ровных шагов. Озабоченно вглядываясь вперед сквозь деревья, он увидал бородатых людей с оружием, передвигающихся среди деревьев.
Кобыла послушно рысила по склону оврага, легко перескочила через ручей и вскоре вынесла Елифирия на тропу. Впереди начинался лес, который местные называли Чернавичской пущей.
Толстухин ехал по лесной тропе, торопил коня, оглядываясь по сторонам. Карабин он держал поперек седла. В стороне, за бурлящей по камням рекой, виднелся каменистый, изрытый дождевыми потоками речной обрыв.
Страшные бородатые люди с оружием окружали стригунка, безжалостно тесня его к обрыву. Все повадки выдавали людей бывалых, уверенных, что добыча никуда не денется.
Длинные, нескладные ноги жеребенка беспокойно переступали и дрожали. Уши были насторожены. Расширенные ноздри втягивали воздух и испуганно всхрапывали. Он пугливо переводил глаза с пенистой грязной быстрины на молчаливых незнакомых людей. Рванувшись, он вырвался из их рук и, закидывая вверх голову, жалобно и призывно заржал. Услышав призывное ржание своего ребенка, кобыла шарахнулась в сторону и понеслась на его плач.
– Стой! Куда ты? – закричал Елифирий со злобой, натянув на себя повод.
Но лошадь только задрала голову и понеслась галопом.
Из леса резко ударил винтовочный выстрел, и лошадь встала на дыбы.
Толстухин завалился на бок и стал сползать на землю. В стремени застрял сапог, и лошадь безудержно помчалась прочь, в клубах пыли мотая по камням избитое и окровавленное казачье тело.
* * *
Жаркий летний день. Нежные солнечные лучи словно бархатом щекотали кожу. Муренцов лежал на берегу озера под вербой. Озеро небольшое, с мягким, как перина, покрытым травой берегом.
Чуть дальше река. Выше, против течения, – железнодорожный мост. Там минные поля, на подходах немецкие солдаты, пулеметы, минометы, и день и ночь готовы к бою.
Реку и озеро соединяла узкая, как ручей, протока. Крохотный ручеек постоянно пополнял озерцо водой и в ней развелось несметное количество мелкой рыбешки. Благодаря обилию корма водилась и щука. Жирные и обожравшиеся, килограммов по пять, шесть и более, они подплывали к самому берегу и стояли как дредноуты в нескольких метрах от заросшего травой берега. По краям озеро заросло густым кустарником, было завалено упавшими деревцами и корягами. Этих сытых зажравшихся хищниц нельзя было взять на самодельную острогу. При появлении в воде людей они лениво и неторопливо отплывали к другому берегу.
Ганжа и Митя Мокроусов открыли не рыбалку, а охоту. За ближайшими кустами слышались выстрелы. Через некоторое время появился Ганжа и торжественно приволок две большие рыбины. Их бока и спины были иссечены пулями.
– Видали шшуку, господин сотник? Во!.. Одну Митька, а другую – я…
Ганжа, начинавший службу с Муренцовым, когда тот был еще рядовым казаком, никогда не переходил границы, отделяющей простого казака от офицера. Наедине он всегда обращался к нему «Сергей Сергеич», на службе – называл его «господин сотник».
Ганжа обрезал ножом тальниковую ветку, сделал кукан, продел его через жабры и опустил щук в воду, привязав кукан к вбитому колышку.
– Вы там… аккуратнее. По сторонам смотрите, а то здесь и кусты стреляют… – сказал Муренцов.
– Будьте покойны, господин есаул, у нас все строго. Один рыбалит, второй на часах с карабином.
Пристроив щук, Ганжа спустился к воде. Опять послышались выстрелы.
Кругом горы, покрытые лесами. Стояла тишина. Но она была обманчива. На войне вообще ей никогда нельзя доверять. В любую минуту хрупкая утренняя тишина может взорваться треском выстрелов и взрывами гранат.
Война наказывает людей за беспечность.
Две недели назад группа немцев и казаков 3-го Кубанского полка на двух машинах поехала в соседнее село. Перед этим староста села предложил подполковнику Юнгшульцу:
– Пришлите своих черкесов в воскресенье к нам, будет вино, зажарим мясо, накроем стол. Дадим вам провиант, муку, овса для лошадей.
Беспечный Вернер фон Юнгшульц подумал и согласился. В этом и была его ошибка.
В село поехали немецкий обер-лейтенант, женщина-переводчица, два немца водителя, трое немецких солдат и отделение казаков, вооруженных двумя пулеметами и автоматами. Грузовые машины шли одна за другой. В нескольких километрах от села нужно было по деревянному мостку пересечь речку. Перед самым мостом первая машина подорвалась на мине и перекрыла дорогу. Вторая попыталась развернуться. Выстрелом снайпера был убит водитель. Из-за ближайшего холма, буквально с расстояния 100 метров, партизаны открыли шквальный огонь из пулеметов и автоматов. Большая часть казаков погибла в первую же минуту. Остальных забросали гранатами. Оглушенных взрывами и израненных осколками увели с собой.
Узнав о стычке, по тревоге подняли казаков, прочесали местность. Нашли обгоревшие остовы грузовиков и одиннадцать обожженных, обугленных трупов. Переводчицы среди них не было.
Утром казаки ворвались в село. Кто-то из селян рассказал, что казаков повесили, а переводчицу изнасиловали и пристрелили. Трупы не нашли. Скорее всего, тела закопали где-то в глухом месте или просто бросили в реку.
Пока Муренцов курил, пришли довольные и радостные казаки. Принесли еще несколько подстреленных щук. Рыбы хватало на хорошую щербу, для всего взвода. Муренцов продекламировал:
Вода за холодные серые дни в октябре На отмелях спала – прозрачная стала и чистая. В песке обнаженном оттиснулась лапка лучистая: Рыбалка сидела на утренней ранней заре.– Ваши стихи, господин сотник? Ну в смысле, вы написали? – спросил Ганжа.
– Нет, Юра, к сожалению, не мои. Я писал о другом.
И плакала земля, когда ломали храмы, когда кресты переплавляли на рубли, когда врагов под стук сапог охраны десятками стреляли у стены. Но кто заплачет обо мне, когда судьба закончит счет и жизнь моя под слово – пли! — у грязных стен замрет?– Давно это было, когда был молод, как ты. Не понравилось?
– Да нет, здорово, Сергей Сергеич. Хотя я стихи не признаю, – упрямо нагнув голову, сказал Ганжа. – Стихи, поэзия, ананасы в шампанском – это все для господ. А мы – казаки, наше дело воевать.
– Точно, – согласился Муренцов. – Воинственные британцы это тоже признавали.
Если рекрут в восточные заслан края — Он глуп, как дитя, он пьян, как свинья, Он ждет, что застрелят его из ружья, — Но становится годен солдатом служить, Солдатом, солдатом, солдатом служить.– Зачем вы так? – обиделся Ганжа. – Я не о том, что стихи не нужны. Просто их пишут слюнявые интеллигенты для таких же, как они, барышень.
– Ты не прав, казак. Ты просто не читал настоящих поэтов. Стихи – это отражение души любого человека, в том числе и солдата. Вот послушай:
Та страна, что могла быть раем, Стала логовищем огня, Мы четвертый день наступаем, Мы не ели четыре дня.– А это ваши?
– Нет, Юра, и это тоже не я… Друг мой, прапорщик Гумилев. Я его знал еще по той войне. Светлый был человек Николай.
– Казак?
Муренцов засмеялся.
– Нет, не казак. Просто русский офицер и еще поэт.
– Жаль, что не казак. Вам тоже писать надо, может быть, и про нас напишете…
Муренцов вновь засмеялся.
– Слушаюсь! Есть написать книгу о нас и о нашем времени. – Взглянул на часы. Посуровел. – Ладно, хватит прохлаждаться. Надо возвращаться.
* * *
Стояла та особенная ночь, какая бывает только в предгорье. Солнце зашло за горы, висела какая-то густая, бархатная темнота. Сотня без конца вела разведку и участвовала в боевых операциях. Намаявшись за день, казаки спали, плотно обложившись дозорами, которые, выдвинувшись со всех сторон, чутко вслушивались в темноту. Недалеко, в долине горели костры, в свете пламени выделялись человеческие фигурки и тени щиплющих траву лошадей, отфыркивающих ночные запахи.
Воздух был резок и душен. Пахло разнотравьем, дымом костра, необъяснимым и щемящим чувством детства.
Казачата выпасают коней в ночном, понял Муренцов. Не спалось. Он накинул на плечи шинель и пошел в сторону костра.
В свете луны от его фигуры отражалась длинная тень, ложилась на обочину. В степи, на дороге, у реки – везде было пусто, тихо. Только лишь в бархатной июньской темени в поле у огня слышалось:
Поехал казак на чужбину далеку На добром своем коне вороном, Свою он краину навеки покинул… —заливался мальчишеский тенорок и будил густую печаль в казачьих сердцах:
Ему не вернуться в отеческий дом.Голос дрожал и ворошил самое потаенное, о чем думает казак:
Напрасно казачка его молодая Все утро и вечер на север смотрит. Все ждет она, поджидает – с далекого края Когда же ее милый казак-душа прилетит.Муренцов узнал голос Бориски, своего белорусского крестника, спасенного им от полицаев.
Казак, умирая, просил и молил Насыпать курган ему большой в головах.У костра сидела стайка подростков, казачат, вызвавшихся в ночное. Хворостинами вытягивали из костра печеную картошку. Поодаль от огня, покашливая от дыма, сидели взрослые казаки с карабинами, боевое охранение. С ними сотенный Щербаков. Увидев Муренцова, кивнул ему головой, теснее придвинулся к остальным казакам.
– Присаживайся, Сергеич. Тоже не спится, односум?
Муренцов, покашливая от едкого дыма, присел рядом. Языки пламени лизали хворост. Огонь, разгораясь, вспыхивал и жадно набрасывался на подброшенные сухие сучья. Пахло свежескошенной травой. Изредка слышалось ржание лошадей.
Как давно Муренцов сидел вот так, никуда не торопясь, глядя на костер, в котором потрескивали угольки? Когда было так спокойно? Наверное, в имении у батюшки летом 1914 года, перед самым началом Великой войны. Как же давно это было, целая вечность.
Сотенный сосредоточенно ломал ветки и подкидывал их в костер. Огонь желтыми трескучими искрами вскидывался к небу. В ночной темноте вспыхивали и гасли десятки разноцветных искр. Где-то вдалеке сердито ухала ночная птица.
– Мы вот тоже не спим. Спиваем со станишниками, да слезу горючую льем, хутора родные вспоминаем.
Казаки, покуривая и зорко посматривая по сторонам, рассказывали друг другу нехитрые повести своих жизней, а мальчишеский тенорок жаворонком летел над землей.
– Приехал к нам в станицу продовольственный комиссар. Черный как грач, может, из армян, а может быть, и евреев. Выбритый до синевы, в кожаной куртке. Ну и конечно же с маузером. А следом за ним трибунал. У тех разговор был короткий, не сдаешь зерно – расстрелять!
К вечеру комиссар маузером намахался, накричался до хрипоты и уехал. А трибунальцы остались. Кого в распыл, кого в Магаданский край с семьей направили. Выгребли все подчистую, даже картохи не осталось. Вот и начался в станице мор. Умирали целыми семьями. Ели кошек, собак, крыс. Мертвяки лежали в куренях и на базу, а крысы доедали тех, кто умирал и не мог сопротивляться. Было и людоедство. Поймали одну такую женщину и повели по станице, а она уже с ума сошла. Ее народ бьет палками, а она хохочет. Вымерло более половины станицы. До сих пор по ночам вижу, как мертвую Марию Чеботаренко, мать троих детей, везут на арбе, а ее коса тянется по дороге. Станичное кладбище до голода утопало в зелени, но за зиму на нем вырубили на дрова все деревья и даже могильные кресты.
Казаки молчали. Каждый вспоминал свою историю, свою боль, как две капли воды похожую на ту, что рассказал сотенный. Все они были из казачьих семей – истребленных и изгнанных из разоренных родных куреней.
* * *
3 июля 1944 года Красная армия заняла Минск и продолжила наступление на Барановичи и Лиду, стремясь захватить в клещи части 2-й немецкой армии и остатки центральной группы, отступающие через Новогрудский район на Гродно.
Советские войска уже обошли Новогрудский район с этих направлений, и немцам грозил котел. Доманов получил приказ генерала Краснова эвакуировать полки и казачьи семьи в Северную Италию. Ему было приказано возглавить казачий Стан, в который сведут все разрозненные, разбитые казачьи части. Планировалось также, что в казачьем Стане найдут приют и члены семей казаков.
Доманов двинулся к Неману несколькими походными колоннами, которые больше напоминали табор. Вместе со строевыми казаками двигались обозы с семьями, стада коров и мелкого скота, захваченного на территории Белоруссии.
Немецкие саперы построили несколько понтонных переправ через Неман. Но казаков и обозы с семьями задержали при подходе к переправе. Первыми на переправу пропускали танковые части СС и вермахта, потом артиллерию, затем пехотные и остальные части. Охрипший от крика и злости немецкий майор, командовавший переправой при подходе казачьих обозов, заявил, что сначала он пропустит немецкие войска, а потом уже русских беженцев. Доманов сделал попытку объяснить, что это распоряжение восточного министерства и лично господина Розенберга, но уже потерявший всякий страх майор проорал, что у него приказ самого Гитлера и ему глубоко насрать на восточное министерство, каких-то там казаков с семьями и на русскую свинью, которая напялила немецкий мундир и теперь пытается ему что-то доказать.
Доманов правильно оценил обстановку и понял, что ловить ему здесь нечего. Совершенно бешеный майор может взять и просто-напросто пристрелить его прямо на переправе.
Красные партизаны и части Красной армии уже наступали на пятки немецким частям и казакам. Над переправой появились советские штурмовики. Выстраиваясь в карусель, они рвали ленту понтонов, топя ее в воде. Вступили в бой зенитчики, прикрывавшие переправу. В небе вокруг самолетов вспыхивали черные облачка разрывов снарядов.
Вода в Немане была мутной от крови. По волнам плыли тела мертвых солдат, обломки повозок, трупы лошадей, снарядных ящиков и бочки из-под горючего.
Доманов отдал приказ 3-му Кубанскому пластунскому полку Бондаренко, 1-му Донскому полку Лобасевича с кавдивизионом и 5-му пластунскому полку Полупанова готовиться к обороне. Остальных казаков Доманов поставил в оборону обоза с семьями.
– Будем пробиваться!
Лукьяненко вскинулся.
– И що мае буты з людьмы, з жинками, зи старэнькымы, з дитлахамы? З йихнэю худобою?
Доманов помолчал, сказал решающее слово, как отрубил:
– На крайний случай скотину кинем, нехай с ней краснюки возятся. Лошадей разобрать, а при невозможности перебраться через понтоны надо бросать и обоз. Переправляться вплавь.
Обоз Доманов оставил на Радтке и подполковника Часовникова, а сам, захватив с собой начштаба Стаханова и адъютантов Трофименко и Сокольвака, отправился руководить боем.
Пройдоха Лукьяненко, прихватив с собой 500 царских золотых рублей, экспроприированных Домановым у евреев в Кировограде, отправился в немецкий штаб. Ему была поставлена задача любой ценой добиться скорейшей переправы казачьего обоза. Кроме казаков Доманова в обороне стояли полк вермахта, отдельный специальный батальон СС, артиллерийский дивизион и батальон украинцев.
Эсэсовцы были очень стойкими солдатами. Они были лучше вооружены, лучше экипированы, лучше питались. Если они стояли рядом, то можно было не бояться за свои фланги. Но воевать с ними рядом было и опасно. Эсэсовцев в плен не брали, впрочем, казаков тоже.
Артдивизион был вооружен в основном противотанковыми орудиями, и кроме того, отступавшие танкисты притащили на буксире поврежденные танки. Врыли их в неглубокие окопы и превратили в неподвижные огневые точки.
С другого берега обещали поддержать огнем размещенных там трех зенитных дивизионов, которые имели возможность вести не только зенитный обстрел, но и полукруговой прямой наводкой с укрепленных брустверами точек. Был еще саперный батальон, который возводил легкие укрепления и должен был произвести минирование наиболее опасных подходов ко фронту обороны. Держаться можно было долго. До тех пор, пока бы не кончились боеприпасы. Или советская авиация не смешала бы окопы с землей.
Но немцы недооценили казаков. Они совсем не собирались стоять насмерть. Главной задачей было переправить обозы. А потом… уж как Бог даст. Отсутствие переправы их не смущало, казаки ведь могли переправиться и вплавь. Для этой цели они наготовили фашин, изготовленных из скрученных проволокой связок тростника и хвороста. Конным казакам река вообще была не страшна.
Партизаны появились как-то сразу. Рассыпным строем они двинулись по развернутому фронту. Они не особенно и напирали, только открыли ружейно-пулеметный обстрел, связали боем немецкую оборону и закрепились на подходе к немецким переправам. Закрепились они основательно и не отступали ни под артиллерийским обстрелом, ни под плотным огнем оборонявшихся немцев, казаков и украинцев.
Доманов за ходом боя наблюдал с хорошо укрепленного НП. Перестрелка шла второй час. Но несмотря на плотный огонь, к переправе все еще шли и шли немецкие роты. Немецкой пехоте ничего не стоило смять и уничтожить наступавших партизан. Но это привело бы к задержке на переправе, а этого немецкое командование не могло допустить.
Доманов приказал атаковать партизан силами всех полков. Казаки пошли в атаку волнами, одна за другой, как во время англо-бурской войны. Казачья атака была для партизан неожиданной, они не успели окопаться, и урон был существенный. Казаки забросали их ручными гранатами. Но со стороны партизан открыла огонь полковая артиллерия малых калибров – это начали уже подтягиваться части Красной армии, и казаки охотно отступили, не нарушая строя. Немцы тут же открыли ответный огонь с другого берега Немана.
Через час обстрела прибежал Лукьяненко и сообщил, что обозы уже переправились на тот берег. Доманов тут же послал во все полки вестовых с приказанием: «Сниматься и бегом к переправе – марш-марш!»
К ленте понтона потекли густые лавы конницы, потянулись обозы, сомкнутые строем пешие сотни. Но как только казаки оставили окопы, вслед за ними потянулись и все остальные. В окопах остались только эсэсовцы, которые огнем удерживали партизан на своих позициях. Артиллерийский огонь со стороны партизан разметал немецкие батальоны, а их остатки, окровавленные и засыпанные землей, укрылись в оставленных казаками окопах.
Казачьи полки форсировали Неман вплавь и на западный берег вышли без оружия, без сапог, мокрые и злые.
Доманов собрал все свои части и, наплевав на приказы немецкого командования, приготовившегося заткнуть казаками очередную дыру, занял место в колонне отступающих в Польшу войск. Но на этот раз Радтке, восхищенный действиями Доманова, сам заявился в штаб немецкого командования и заткнул всем рот приказом Розенберга о передислокации казачьих частей.
Уже на марше Доманову пришел приказ командующего германскими войсками генерал-лейтенант Герценкомпфа, согласно которому Тимофей Иванович Доманов был награжден Железным крестом 1-го класса, с присвоением ему чина генерал-майора вермахта и правом на получение генеральской пенсии. Войсковые старшины Лукьяненко, Бондаренко и Скоморохов были произведены в полковники. Орденом Железного креста 1-го класса наградили командира 7-го Терского казачьего полка майора Назыкова и еще 286 офицеров, урядников и казаков знаком отличия для Восточных народов.
Эти награды были пожалованы за отличия в боях с наступающими советскими войсками в период со 2 по 13 июля в Белоруссии, где казаки спасли около 3 тысяч раненых немецких солдат и до 7 тысяч офицеров.
Приказ был зачитан всем полкам казачьего стана.
Счастливый Доманов нацепил генеральские погоны прямо на полковничий мундир, и после недолгой пьянки весь казачий Стан в арьергарде отступающих войск двинулся на Варшаву.
Первым на Белосток выехал Доманов со штабом, обещая казакам обождать их там. От Белостока казаки должны были двинуться на Лодзь, но наступление Красной армии забило все дороги генерал-губернаторства отступающими частями, госпиталями и тыловыми эшелонами.
Немцы направили казачий Стан к Варте, в город Здунска Воля, где совсем уж привольно чувствовали себя партизаны Армии Крайовой.
Поляки встретили казаков неприветливо. Кое-где даже открывали по ним стрельбу.
Казаки встали лагерем и, не вдаваясь в такие тонкости, где Армия Крайова, а где коммунистическое подполье, начали выгонять всех поляков подряд из своих домов. Не особо церемонились насчет фуража и продовольствия. Тех, кто сопротивлялся, – драли. Отменно драли. Пятерку за пятеркой. Невзирая на пол и возраст. Уважение к казакам было отвоевано. Но после того как домановцы устроились сами и разместили свои семьи, они потеряли всякий интерес к войне.
Доманов никого не заставлял воевать и бороться с партизанами. Он занялся организацией административной службы Стана и переформированием полков. Казаков распределяли по округам – Донскому, Кубанскому и Терскому, а округа разделили на станицы. Полки тоже переформировались по принципу землячеств. Немецкое командование от такого поворота опешило, потому что ожидало от казаков активной борьбы против партизан, как это делала 1-я казачья дивизия фон Паннвица. Там казаки разошлись не на шутку и воевали по-настоящему.
1-й Донской полк в начале лета сцепился с партизанами под Загребом. Потом штурмовал Метлику, где потерял убитыми семерых казаков. Бригада полковника Боссе при поддержке 4-го Кубанского полка, которым командовал оберст-лейтенант барон Вольф, нагнала партизанам страху недалеко от Беловар. Бой был страшный, с применением артиллерии и огнеметов.
В Югославии казаки ходили в атаки, меняли убитых лошадей и хоронили погибших, а домановцы вели себя так, будто приехали на курорт. Но Доманов знал, что делает. И читая в «Казачьей Лаве», как казаки 3-го кавполка 1-й дивизии истребляют партизан в Пожего-Даруварском районе, сам на рожон не спешил.
Шло комплектование станиц Стана казаками, которых через Вену направлял к Доманову ротмистр Андерсен. Все вновь прибывшие проходили обязательную медицинскую комиссию на пригодность к строевой службе, и годных направляли в полки.
Полковник Васильев, бывший офицер-атаманец, служивший при штабе 813-го пехотного полка вермахта, привез на жительство к землякам старых эмигрантов из Франции. Эмигранты были уже в годах и служить не могли, зато они поднимали казакам боевой дух и настроение. Васильев настолько пришелся по душе Доманову, что он взял его своим заместителем. Сформированные полки Доманов начал грузить в эшелоны и отправлять в Северную Италию для борьбы против итальянских партизан. Позднее туда же переселились казачьи семьи, а также кавказские части под командованием генерала Султана-Гирей Клыча.
* * *
Хорватское село Ново-Капела. Раннее августовское утро. По бледно-голубому прозрачному небу куда-то неспешно плыли маленькие кудрявые облака. Всюду на обочине валялись арбузные и дынные корки. По пыльной дороге на пастбище брело стадо коров и коз. Пастухи щелкали длинными бичами. Коровы задумчиво пережевывали жвачку и лениво обмахивались хвостами. Несмотря на утренний час село уже жило полной жизнью. Казаки купали и чистили коней, вели их на водопой.
Пятница – базарный день. Дорогу к базару легко угадать по гомону и запахам. Тянуло дымом и запахом жареного мяса. Слышались звуки хорватской песни. Надрывный женский голос, наполненный грустью, выводил слова любви к этому краю, наполненному солнечным светом, и этим горам, словно защищающим Балканы от всего мира.
В центре села, вдоль улицы на лотках и просто на земле разложены арбузы, душистые дыни, сочные груши. Тут же красные бураки, баклажаны, морковь. На Балканах этого добра навалом, это не суровая Белоруссия, где земля не родит ничего, кроме бульбы и сосновых шишек.
Юрка Ганжа и Митька Красноусов решили проехать на рынок, потолкаться среди селян, вдохнуть пьянящий воздух мирной жизни. Казацкие кони шли беспокойно, их жалили оводы, и в нагретом сентябрьском воздухе они прядали ушами, со свистом рассекали воздух необрезанными хвостами. На дорогу от них падали быстрые, такие же, как они, дрожащие тени.
Зелень петрушки, салатов и чужих неведомых казакам приправ перекликались с нежными лицами молодых хорваток, их яркими кофтами, платьями, рубахами.
Казаки грызли сочные яблоки, кидали по сторонам молодые, шалые от молодости и сил взгляды.
Ганжа сказал:
– Эх, полюбила бы меня какая-нибудь чернобровая хорватка, и гори она синим пламенем эта война! Ей-богу, остался б здесь.
Митька засмеялся:
– Брехло!
Он знал, что Юрка врет. Он собирается остаться в каждом городе, в каждом селе, где только видит красивую женщину или девушку.
Наконец казаки выбрали и купили арбуз. Юрка, отдуваясь и пыхтя, тащил его в руках. Шашка, которую Юрка нацепил для форсу, все время съезжала наперед и норовила попасть между ног. Верный Шторм шел за ним следом. Фыркал, тянулся бархатными губами к потной Юркиной шее.
Он строжился:
– Но-оооо! Балуй!
Жеребец гордо и свободно вскидывал небольшую сухую, как у змеи, голову и, не обращая внимания на окрик, опять тянулся к уху хозяина.
На телеге к казакам подъехал серб.
– Там усташи хлопчика на рынке мордуют.
Арбуз полетел из рук, с глухим стуком ударился о землю и лопнул, обнажая сахарную красную мякоть. Казаки вскинулись на коней, с посвистом и улюлюканиями поскакали к рынку.
Чумазый сербский мальчишка лет 12–13, одетый в какую-то рвань, катался по земле, закрывая лицо руками. Несколько парней лет 16 били его ногами. Народ на рынке мало обращал внимания на драку. Подумаешь, всего лишь учат воришку. Лишь рядом стояло несколько зевак.
Казаки вломились в толпу, тесня ее конями и полосуя нагайками.
Всхлипывая, мальчик поднялся и показал пальцем на долговязого парня.
– Он меня зарезать грозился.
Ганжа, соскочив с коня, ухватил долговязого за воротник и, крестя его нагайкой, потащил в сторону от людей.
– Застрелю! Сука… Падаль…
Парень падал, скрючивался на земле, подтягивая под себя колени, пытаясь закрыть лицо от побоев.
– Встать, в Бога… душу… креста мать!.. – ревел Ганжа. Разгоряченный гневом, он уже не мог остановиться и обуздать свой страшный припадок.
– Сдохнешь, сука! Сдохнешь!
И со всей силы своей казачьей удали бил носком своего кованого сапога по распухшему и закровяневшему лицу. Распаленное лицо, глаза его налились бешенством, он задыхался от собственной ненависти и злобы.
Митька, чувствуя, что еще немного, и товарищ убьет парня, изо всей силы ударил Ганжу в ухо. Пока тот очумело тряс головой, подвел к нему лошадь, толкнул в седло и, подхватив в седло мальчишку, ударил коня в живот каблуками. Через секунду казаки исчезли, будто их и не было.
* * *
Сентябрьским утром у штаба сотни поднялась суматоха. На взмыленном коне прискакал казак. Часовой, казак с карабином наперевес, при шашке, чубатый, загородил ему дверь.
Казак зыкнул:
– Да пусти ты меня, сволочь. Я к сотенному, по срочному делу!
Щербаков, в белой исподней рубахе, уже умывшийся и бодрый, как утренний огурчик, сидел за столом. Перед ним стояла нетронутая тарелка борща, подернувшаяся желтой пенкой навара. Громыхая сапогами и снаряжением, в комнату ворвался казак. Он запыхался, тяжело дышал. У Щербакова что-то екнуло в груди. Медленным движением он отложил ложку в сторону.
– Ну-ууу? – страшным тягучим шепотом выдохнул он. – Ш-шооо случилось?
– Хлопцы хорватов бьють, – выдохнул казак.
Щербаков ощерился.
– Правильно делают, што бьють.
Все межнациональные конфликты между мусульманским, католическим и православным населением казаки пресекали очень простыми, но действенными методами – нагайками и мордобоем.
Казаки часто защищали сербов от усташей, случалось, что приходилось и драться. Сам батька Кононов приказал казакам в подобных случаях не давать усташам спуску, вплоть до применения оружия.
Казак замялся.
– Они, господин есаул, еще и это…
– Што?.. Это?..
– Дуванят. А потом село подожгли.
Щербаков задумался. Неделю назад никто бы на это не обратил внимания, пограбили ну и ладно.
Сам Кононов часто говорил:
– Казаки без погромов – все равно что революция без евреев. На войне поживиться не грех!
Во время занятия населенных пунктов казаки действовали по старой проверенной схеме. Гражданскому населению было гарантировано благосклонное отношение при прохождении или взятии населенных пунктов без боя и такой же гарантированный грабеж – в случае вооруженного сопротивления. В этом случае в домах партизан и членов их семей реквизировалось все, что можно было увезти. Забирали лошадей и фураж. Угоняли скот. Жгли партизанские дома. Седельные вьюки у многих казаков распухали до невероятных размеров. Только у командира 1-конного дивизиона 5-го полка ротмистра Бондаренко в обозе было два больших фургона, набитых до отказа награбленным добром.
К тому же и партизаны Тито тоже не отличались благородными манерами. Грабежи среди них были не редкость. Часто переодевались в казачью форму и грабили местное население под видом казаков.
До поры до времени Берлин не обращал на это никакого внимания. Во время переговоров с Гитлером хорватский премьер-министр Мандич пожаловался на бесчинства казаков и попросил вывести дивизию из страны. Однако военная ситуация не позволила это сделать, и на переговорах было решено, что дивизия пока должна остаться в Хорватии при условии, что германское командование наведет дисциплину в казачьем корпусе. Фон Паннвиц приказал своим офицерам покончить с мародерством. Заставить же казаков расстаться с добычей зачастую удавалось только пустив в ход плеть. Но генерал фон Паннвиц все же навел порядок. Особо распоясавшихся мародеров казаки судили своим судом. Наказание было простым, но эффективным – плетюганы.
Щербаков напрягся, желваки заходили под кожей.
– Где?! – глухо спросил он.
– В семи верстах отсюда.
– Коня мне! Живо!
Весь путь до сербского села казаки проскакали наметом. С лошадиных боков падали в пыль мыльные клочья пены. Лошадей отановили, только увидев казаков своей сотни. Щербаков спешился, вытер заскорузлой ладонью пену с конской шеи.
Село словно вымерло. Закрылись ворота и ставни. Над домами и садами повисла тревожная тишина, лишь где-то из-под сарая захлебывалась лаем чья-то собака.
Еще тлели кизяки в печах-тандырах.
Один из казаков был убит, несколько – ранено.
В домах, где жили родственники партизан, все было перевернуто вверх дном. Казаки уже отыскали ямы с зерном, насыпали его в мешки, вязали вьючками сено, тащили муку, козьи бурдюки с коровьим маслом, пили тут же молоко. Несколько домов горело. Село было окутано жирным черным дымом.
Щербаков завертел головой, будто разыскивая кого-то, увидел казака, тащившего на плечах два седла. Догнал его, отобрал седла, отбросил их к забору. Казака перетянул плетью. Наливаясь гневом, забежал в первый же дом, где у забора стояли привязанные кони. У порога лежал мертвый серб в штатской одежде, со старой винтовкой. По дому летал пух. Перины и подушки были изрублены шашками. В соседней комнате орудовали казаки. Двое грузили одежду хозяев в необъятные чувалы.
Щербаков ощерился, громко закричал:
– Сто-оооой!
Но ему никто не подчинился, напротив, обступили со всех сторон. Оскалились как волки, ожидая, когда вырвется неосторожное слово и сорвет планку, за которой уже нет дороги назад. Только смерть.
– Ну чего ты?.. Чего? – ласково спрашивал Григорьев, заходя со спины. Из-под распахнутого на груди мундира выглядывал Сталин. У Григорьева блестели зубы и хищно дрожали ноздри.
И тогда сотенный вскинул пистолет.
Хлопок. Пуля ушла в потолок, посыпалась штукатурка. Ствол направлен в лицо тому, кто ближе.
– Сукины дети!
Опомнившиеся казаки прижались спинами к стене.
– Не убивайте, господин есаул! Христом Богом… Бес попутал.
Щербаков исхлестал их нагайкой. Приказал опорожнить баулы. Лично проверил исполнение приказа. Внезапно увидел, как рослая лошадь, помахивая хвостом, тянет голову вперед, прямо в открытое окно.
Невысокий, ростом с подростка казак, ловкий как хорь, сидя в седле, вытянул из окна баул с вещами, перекинул его через седло.
– Стой! – крикнул сотенный.
На мгновение безусое лицо казака стало растерянным, но тут же он пригнулся к луке седла и ударил коня каблуками сапог.
– Стой, байстрюк!
Конь взвился и через мгновение бешеным наметом скрылся в ближайшем проулке.
Щербаков, опомнившись, покрыл казаков самой отборной бранью:
– Сукины дети вы, а не казаки! Вам не воевать, а бабам юбки нюхать! Вот это был казак! Как его фамилия?
– Ганжа, – кто-то ответил.
Щербаков сунул пистолет в кобуру. Вдел ногу в стремя. Конь, приседая на задние ноги, заходил под ним мелким бесом.
– Весь дуван сдать в обоз. Командира взвода через час ко мне. – Еще раз повторил: – Сукины дети! – Плюнув, огрел коня нагайкой и исчез в облаке пыли.
* * *
Утро выдалось ясное, но морозное. Ночью выпал снег, ветки деревьев обросли белой щетиной инея, искрившегося под солнечными лучами. Заячий след петлял в саду между деревьями.
У штаба полка была толкотня. То и дело к нему подлетали верховые, соскакивали с седел и, торопливо привязав коней, бежали в дом.
Мальчик лет десяти кормил лошадь клочком сена. Мальчику было холодно, но он не уходил.
Кононов собрал офицеров. Объявил:
– Советские войска уже в Югославии. Вчера вышли на северный берег Дравы. Чует мое сердце, скоро придется нам схлестнуться.
Пока стояло короткое затишье, фон Паннвиц подтянул дополнительные силы. Из дополнительно приданных корпусу разрозненных казачьих дивизионов спешно формировали третью бригаду.
В декабре 1944 года 133-я советская стрелковая дивизия форсировала Драву и захватила населенные пункты Градац и Питомачу. На тот участок, где закрепился 703-й советский стрелковый полк, подтянули 3-й Кубанский, 5-й Донской и 6-й Терский полки, а также несколько хорватских частей.
С 14 декабря два батальона 703-го Белградского Краснознаменного полка гвардии подполковника Шумилина, усиленные отдельной зенитно-пулеметной ротой, рыли окопы на западной, юго-западной и южной окраинах Питомачи. Бойцы долбили землю, перетаскивали глыбы замерзшей земли, укрепляли стены траншей деревянными щитами. Спали в землянках, выставив боевое охранение. В землянках было очень холодно.
Полк прикрывали 1-й дивизион 684-го артполка майора Ахмеджанова и рота 5-го огнеметного батальона.
Одна стрелковая рота 703-го полка и 2-я рота 5-го огнеметного батальона находились в обороне на западной окраине Вировитицы. Подразделения 734-го полка занимали оборону на рубеже Будаковац, Оршац, Пчелич и Сухополе.
15 декабря разведка советских частей обнаружила появление казачьих разведывательных групп.
Утром 17 декабря Паннвиц силами приданного ему 5-го усташского полка из 1-й хорватской пехотной дивизии и казаков 2-й казачьей бригады произвел разведку боем, в которой участвовали до 900 человек при поддержке артиллерии и минометов. Во время боя около сорока казаков попали в плен. Грязные, перевязанные тряпками и обрывками своегообмундирования, они кто дерзко, кто понуро смотрели на советских солдат. Потом, чуть приободрившись, обжигаясь, до губ докурили последние оставшиеся у них сигареты, излучая мрачноватую уверенность в своей скорой гибели. Никто из них не походил на людей надломленных, изголодавшихся или не имевших понятия о воинской дисциплине. Никто не плакал, не валялся в ногах. Кто-то сидел на земле молча, кто-то молился, поддерживая товарищей своим мрачным спокойствием.
Пятеро бойцов, охранявшие пленных казаков, смотрели на них с холодной ненавистью.
– Смотрите, славяне, – говорил один из них в прожженной на спине телогрейке, – молятся, суки, чтобы без остановок на тот свет попасть. Так и чешутся руки пострелять их всех прямо сейчас.
Оперевшись на винтовки, бойцы прикидывали про себя, в кого будут целить. По приказу подполковника Шумилина всех расстреляли вечером 26 декабря.
Но Гельмут фон Паннвиц, получив от начальника разведки информацию о том, что части 233-й дивизии готовят на этом участке прорыв с целью соединения с партизанами Тито, решил атаковать. Ранним утром 26 декабря 1944 года 5-й полк под командованием полковника Кононова атаковал противника в направлении на местечко Питомача.
Пластунские сотни выползли из окопов, поднялись и, вскинув оружие, побежали на врага. Грянуло казачье «ура», обильно сдобренное зычным остервенелым матом.
Но тут по казакам ударила шрапнель советских пушек. Командир 2-го казачьего артиллерийского полка майор Рудольф Коттулински приказал заткнуть русские батареи.
Вздрогнула земля, вспухая страшными взрывами. Из орудийных стволов вылетали клубы огня. Визгливо выли снаряды, раскатисто лопались посреди стреляющих расчетов.
Майор Коттулински, несмотря на войну, сохранивший графский лоск, не отрываясь смотрел в мощный цейссовский бинокль, наблюдая за разрывами. Покрытые легким слоем копоти стеклянные глаза бинокля шарили по позициям советского полка, пушкам, зарывшимся в землю. Рядом с ним, с телефонной трубкой в руке, застыл связист. За спиной у него катушка с кабелем.
– По батарее! Правее 0 – 10. Прицел…
Кривились тонкие аристократичные губы. Резко и коротко звучали команды:
– Прицел!
– Прицел!.. – надрывно кричал в трубку связист.
– Прицел! – повторял за ним телефонист на батарее.
– Первое!.. Второе!.. Третье!.. Фойер!
Орудия судорожно подпрыгивали и оглушающе выхаркивали рыжие клубы огня.
Послушно, с точностью заведенного механизма, расчет гремел замками, артиллеристы толкали в орудия снаряды. Команда:
– Фойер!
Толчок отдачи, звон гильзы.
Снова клацанье затвора казенника.
– Фойер!
Советские пушки замолкли.
Взлетела ракета, сигнал к атаке. Серая изломанная цепь слегка завозилась. Казаки осмотрели затворы карабинов и опять затаились. Над головами посвистывали пули, вставать не хотелось. Подскакал верховой, соскочил с коня, хлопнул его по крупу. Тот всхрапнул и послушно повернул назад. Офицер приосанился, картинно заломил черную папаху.
– Ну шо-ооо, станишники, окропим снежок красненьким?
Тяжело подниматься под пули и бежать в атаку. Но еще тяжелее командиру поднимать людей на смерть. У офицера получилось. Казачья цепь поднялась и вновь двинулась к советским окопам. Впереди, чуть клонясь вперед, подоткнув полы шинели, легко и размашисто бежал невысокий офицер в темно-зеленой немецкой шинели.
Полковник Кононов наблюдал за атакой со своего НП. Увидев бегущего в атаку офицера, плюнул.
– Вот Бондаренко, бисов сын. Дожили, командир дивизиона сам в атаку ходит. Вот надеру я ему задницу! Но ор-рррел! Казак!
Цепь на секунду замедлила движение, командир, на бегу повернувшись, что-то крикнул, и люди снова перешли на бег. Все громче и громче стало нарастать хрипловатое и страшное «ура-а-а», сдобренное хриплым и остервенелым матом.
Два батальона шумилинского полка, вжавшись в землю, ждали, когда атакующие начнут задыхаться, чтобы ударить по ним со всей силы.
– Пора!
Командир 1-го батальона подал сигнал командиру стрелковой роты старшему лейтенанту Игнатьеву – начать контратаку. Тот громко, скрывая собственную дрожь, прокричал:
– Гвардейцы, встали! Пошли!
За ним встал парторг батальона сержант Красильников, оглянулся, примкнул к винтовке штык, одернул складки и поправил полы шинели.
– Ну что, хлопцы, сходим, набьем морды землякам?
– Сходим… – зло отозвался ему кто-то из солдат.
– Ну тогда пошли!
Бойцы, горящие желанием поквитаться с предателями, пошли в контратаку. Две людские волны сошлись вплотную и сцепились в смертельной рукопашной схватке. «Ура» пошло на «ура», мат на мат. Долго копившаяся в людях ненависть, о глубине которой они даже не подозревали, уже неподвластная им самим, повела их на вражеские штыки и ножи. Казаки вермахта и советские бойцы перемешались в жестокой драке. Пулеметчики прекратили стрельбу. От стрельбы в упор было мало проку. Не было времени перезарядить оружие, тряслись руки. И обезумевшие от страха и крови люди били, резали, рвали друг друга зубами, били ножами и прикладами. Потерявшие, выронившие оружие хватались за врага голыми руками, ломая ему гортани скользкими от крови пальцами и рвя зубами чужие лица. Кто-то наталкивался на пулю, и она отбрасывала человека назад с такой силой, будто жеребец-дончак лягал его кованым копытом. Кое-кто, схватив за грудки противника, стоял с ним, раскачиваясь в стороны, воя и матерясь, пока пуля или удар ножа не валил его на мерзлую землю.
Конные сотни, стоявшие за линией окопов, двинулись в атаку конным строем и пошли рубить советских бойцов шашками, топтать их конями, давая возможность казакам выйти из боя. Кричали от боли раненые, остервенело хватая казаков за ноги, за полы шинелей, за оружие.
Тут же, не разбирая, где свои, а где казаки, ударили советские пушки и пулеметы – верховые были приметной и слишком заманчивой целью в неразберихе схватки. Всадники падали с коней. Оглушенные люди метались, ища спасения от пуль. Уцелевшие поворачивали назад. Кони носились среди дерущихся людей, ржали, кусались и сбитые пулями катались по заснеженной земле.
Казачья атака захлебнулась, но и отойти было невозможно – советская пехота все прибывала и прибывала. Бойцы врывались в гущу боя, стреляли и били ножами, харкая кровью, плача и матерясь:
– В три господа… царицу… душу мать!
Стоял жуткий вой. Тягуче, бессмысленно и однообразно выли раненые и будто сошедшие с ума люди. Словно это были не взрослые люди, а щенки или раненые зайцы.
И опять лилась русская кровь.
А на все это смотрели из окопов ошеломленные немцы, которые много раз слышали о русской рукопашной, но даже не представляли себе ее жестокости и ярости.
Руки Муренцова были в скользкой крови. Рукоятка ножа, намазанная теплым, густым и липким, прыгала в пальцах. Он не запомнил, где выронил нож из скользкой ладони. Запомнилось лишь, как наотмашь бил саперной лопаткой по голове рослого красноармейца с перемотанной грязным бинтом шеей. Тот сидел на груди щуплого казака из первого эскадрона и ломал ему горло. Лезвие лопаты входило в голову с мерзким звуком «чвак… чвак», словно он бил палкой по мокрой земле. Красноармеец, уткнувшись лицом в землю, судорожно загребал мерзлую землю руками и носками сапог. Наконец он вытянулся во весь рост и затих. Муренцову в ноздри вдруг ударил приторный запах свежей крови… Он едва отполз в сторону, как страшный припадок рвоты вывернул наизнанку его внутренности. Совершенно без сил, раздавленный случившимся, Мурецов смотрел на убитого им бойца. Это был русский солдат. Тот самый враг, который хотел убить Муренцова. И которого только что убил он. Голова была изрублена саперной лопаткой так, что походила на студень, который почему-то не очистили от волос. Он лежал в прежней позе, лицом вниз. Задравшаяся солдатская телогрейка оголяла на его спине выгоревшую гимнастерку с дырой на спине. Грязные ватные штаны висели на плоском худом заду.
Не выдержав, немецкая батарея зенитных орудий навела стволы на прямую наводку и дала пару пачек шрапнели над головами сражавшихся.
Казаки пришли в себя и, яростно отстреливаясь, отошли в свои окопы. Превозмогая себя, Муренцов сначала пополз, волоча за собой винтовку, а потом побежал в сторону своих окопов.
Советские бойцы ринулись было за казаками, но их встретили выстрелы в упор, и рассыпным строем они бросились назад. Казаки проводили их яростным огнем.
Уже в окопе Муренцов увидел, что руки и шинель покрыты какой-то слизью. К нему подсел казак.
– Спасибо, что подмогнул мне, один бы я не справился. На вот покури… полегшает.
И казак дрожащими, черными от грязи и пороха пальцами протянул Муренцову толстую самокрутку.
Потянул раз, другой, окутывая пеленой табачного дыма свое забрызганное кровью лицо с заострившимися скулами, с крупными желтыми зубами и усами в черной копоти.
«Почему во время войны я все время убиваю русских? – спрашивал себя Муренцов. – Как же случилось, что я пришел в Россию как ее лютый враг?»
Бой окончился, над опустевшей равниной царило безмолвие. Только лишь ползали санитары, подбирая раненых.
Муренцов морщился, плевал в сторону, тряс головой.
Казаки Паннвица еще несколько раз атаковали позиции 703-го стрелкового полка, но только лишь к вечеру им удалось ворваться на окраину Питомачи. Позиции советского полка были смяты, и остатки его батальонов начали отступление к Штишка-Буковица. Подошедшие советские подкрепления перешли к обороне, а к утру следующего дня Питомача оказалась полностью в руках казаков Паннвица.
Раненный в живот советский лейтенант лежал на снегу среди убитых, придерживая руками выпадающие кишки. Осколком ему разворотило живот. К нему подскакал на забрызганной кровью лошади разгоряченный боем урядник. Перегнулся через луку седла, хищно вглядываясь в лицо лежащего человека. Услышал протяжный, словно бы из самого живота, мучительный стон, прерываемый предсмертной дрожью. Щерясь залитыми кровью зубами, офицер с тоскою глянул на казака.
– Браток… – онемевшие губы у лейтенанта дрогнули, не слушались. – Ты ведь тоже русский… Не убивай меня.
В его глазах уже появилась туманная поволока. Урядник встретился с лейтенантом взглядом, сказал:
– Я не русский. Я казак. Прими смерть достойно… браток!
Прозрачная слезинка вдруг покатилась по щеке лейтенанта. Он прикрыл веки.
Свистнул острый клинок, острие полоснуло лейтенанта по груди. Он инстинктивно схватился за рану, зажав ее рукой. Лошадь вскинулась на дыбы, обдала острым запахом пота.
Казак свесился на бок. Вновь свистнула шашка, и почти не ощутив препятствия, острая сталь отделила голову от тела. Из-под ощеренных от боли, залитых кровью зубов раздался лишь сипло-хриплый выдох:
– Аа-а-а!..
Нехорошим, страшным был этот день. Надолго его запомнили казаки, советские бойцы и немцы. Тем, кому было суждено погибнуть, ничего не подсказал Господь, и не смогли они помолиться перед смертью. Это было правильно. Не приведи Господь дать человеку возможность предвидеть будущее. Многие бы тогда перед смертью сошли с ума.
Остатки советских частей еще несколько дней продолжали выходить мелкими группами к своим. Журнал боевых действий 233-й стрелковой дивизии бесстрастно зафиксировал почти полную гибель 703-го полка в бою 26 декабря.
* * *
30 декабря Кононов заехал во 2-й дивизион, где содержались пленные советские бойцы. Часового на месте не было. Из-за двери раздавалось нестройное пение. В прокуренной камере на столе валялись обкусанные куски хлеба, луковая шелуха, жестянки пустых консервных банок.
Весь караул был в доску пьян. Казаки и пленные, обнявшись, хором пели:
Три танкиста – три веселых друга — Экипаж машины боевой!..Они бы, вероятно, спели немецкую песню, но не знали слов.
Взбешенный Кононов перетянул караульных плетью, а потом объявил выговор командиру 2-го дивизиона, чьи казаки устроили «братание» с пленными. К вечеру отошел и, уже усмехаясь в усы, рассказывал построенному полку:
– Понятно, что к военнопленным нужно относиться хорошо, но не так, как я вчера видел во втором дивизионе… Приезжаю вчера в дивизион… между прочим, лучший дивизион, потому как казаки там – орлы! А несколько этих орлов, вместо того чтобы править службу, сложили оружие в уголок, белюки вылупили и вместе с пленными песни спивают про трех танкистов. Ладно бы наши казачьи песни пели или, на худой конец, про коней, так нет, про танкистов поют, бисовы дети! На полу окурки, дым столбом… Приходи, бери их за рупь голыми руками или беги не хочу. Вот тебе и казаки!
Кононов переждал громовой смех.
– В общем, так. На первый раз, думаю, будет достаточно тех плетюганов, что я самолично выписал каждому. Вдругорядь, если такое повторится, пощады не ждите. Отдам под суд. А это в условиях военного времени сами знаете чем пахнет. То-то же. Разойдись!
* * *
На земле стояла чистая, святочная тишина.
Впереди были рождественские праздники, а с ними приходила привычная зимняя снежная пора. Хоть и военное, но неторопливое и сытое житье под крышами, толсто придавленными снегом. Многие из молодых казаков не знали, что близится великий праздник, потому как были еще в младенчестве вместе с родителями согнаны со двора в какую-то бессмысленную, злую круговерть, в бараки, в эшелоны, в тюрьмы, в казармы, но все-таки близкой памятью что-то их тревожило, чего-то в сосущем сердце трепетало и вздрагивало, из-за той вон белоснежной дали ждалось пришествие чуда, способного принести избавление от войны и страданий.
В дни перед Рождеством 5-й донской полк был размещен в домах, а казаки получили возможность встретить праздник. Все понимали, что идут последние месяцы войны. Праздник чувствовался уже в Сочельник. Утром свободные от службы казаки собирались в храме. Стекались женщины с ребятишками, старики. Никто не вводил никого в заблуждение. Все сознавали, что все уже кончено. Поскрипывая хромовыми сапогами, через церковный двор беспечально и важно прошагал церковный регент Евлампий Хворостов.
В храме горели паникадилы, пахло ладаном, звучали голоса певчих: «Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума…»
Муренцов почувствовал, как теплая волна умиления потрясла и накрыла его душу. Раскрылись царские врата. И собравшиеся прихожане запели: «Царю небесный…»
Начиналась рождественская всенощная.
Были настежь открыты двери храма. Врывался морозный воздух, клубился и задувал пламя свечей. Затворить двери было невозможно. Не попавшие внутрь стояли на улице.
Храм сиял огнями. Началась лития. Раздвинулась плотная стена молящихся, и священник со служками прошел в притвор через весь храм. Хор запел многократное «Господи помилуй». Переливались голоса певчих. Несколько часов длилось всенощное бдение. Неспешно и невесомо лились молитвы, пелись тропари. В храме было тихо и благостно. Люди по одному подходили к священникам. Священники окончили помазание. Кончилась всенощная, погасили свечи. Вот уже собрались уходить певчие. А молящиеся все не уходили.
Тогда священник произнес:
– Я сейчас скажу вам несколько слов, потом продолжу помазание. – Его глуховатый негромкий голос разносился по всему храму. – Когда Христос призвал двенадцать учеников своих, Он дал им власть над нечистыми духами и сказал: «Я посылаю вас, как овец среди волков». То же скажу вам и я, братья мои. Идите! Идите, как шли рыцари Крестовых походов в бой против антихриста. Пусть будут отдавать вас в судилища и будут бить вас. Брат брата предаст на смерть, и отец – сына; и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете вы ненавидимы всеми. Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне. Но претерпевший же до конца спасется. И помните, что худой гражданин в своем Отечестве и для Отечества Небесного не годен.
После проникновенной проповеди казаки выходили на улицу, поздравляли друг друга с Рождеством Христовым.
В эскадронах были накрыты столы. Празднично светилась украшенная елка. Играли баянисты. Была гитара и даже скрипка. Пригласили женщин. Отплясывали с ними польки и вальсы. Между танцами как водится – щупали подвыпивших сербок и хорваток, лезли к ним в трусы. Те не возражали. Окна для маскировки завесили шинелями.
Уже под утро подрались казаки третьего взвода Алексей Гукалов и приказной Кузнецов. Гукалов подбил Кузнецову левый глаз, тот в отместку расквасил ему нос.
Это был последнее Рождество 5-го донского полка.
* * *
Фельдмаршал Вейхс не спрашивал за инциденты, зато строго спрашивал в случаях провала акций против партизан и возлагал на дивизию сложные оперативные задачи. Их надо было выполнять, и командир 1-й казачьей дивизии высказал свое мнение очень кратко: «Пусть делают что хотят! Только бы работали!»
И мотались взад-вперед по Югославии казачьи сотни. Били конскими копытами балканскую землю и дороги. Ожесточались сердца. Все неохотнее стали брать в плен. Все чаще и чаще стали повторяться случаи расправ над пленными. Поджигались дома, где оказывали сопротивление. До последнего зернышка реквизировался фураж у семей партизан. Драли плетьми сербов и хорватов, мужчин и женщин.
Лояльность германского командования на грабежи и жестокость казаков объяснялась следующим: в борьбе с партизанами все соединения вермахта и СС руководствовались «Особым циркуляром» обергруппенфюрера СС фон Дембах-Зелевски. Этот документ предоставлял немецким военнослужащим право сжигать деревни, репрессировать местное население, выселять его из отдельных районов по своему усмотрению, расстреливать и вешать партизан без суда.
Но военное счастье переменчиво. В февраля произошел случай, который стал кровавым знаком предстоящей беды. Младший из братьев Усковых, Андрей, браташ, как его звали старшие братья, по приказу отделенного Смирнова убил пленного серба ножом. И казаки содрогнулись. Не по-христиански это было – резать безоружного человека как скотину.
Возмездие пришло скоро. Через несколько дней волчья группа попала в засаду. Андрей Усков, накануне убивший пленного, долго умирал в лесу, лежа с простреленным животом.
* * *
Через месяц в районе между селами Иванчаны и Вулкашинац вышедшую ночью волчью группу засекла местная жительница. В селе в это время находилась на отдыхе партизанская рота Вуйко. Предупрежденные о засаде партизаны на рассвете окружили балку, где пряталась группа. Начинало светать. В расступающейся темноте мелькнула голова в казачьей кубанке.
Дозорных прирезали в один момент. Никто из них не успел поднять шума. Через несколько минут появилась смена, и один из казаков, внезапно забеспокоившись, тихо позвал:
– Васька… ты где? – и партизаны поняли, что обнаружены.
– Пуци ми курац! – крикнул Вуйко и полоснул по казакам из МР-40.
Партизаны на секунду замерли и тут же открыли ответный огонь.
– Заебанция! – заорали сербы. – Ватра! Огонь!
Поднялась шквальная стрельба.
– Напред! – гаркнул Вуйко. – Юриш!
Стреляя на бегу, часть партизан бросилась в балку. Другая часть навалилась с тылу. Было слышно, что стрельба начала захлебываться. Там началась жестокая рукопашная. Один из казаков, с залитым кровью лицом, бросив бесполезное оружие, петляя между деревьями, побежал в лес. Его догнали, свалили с ног. Несколько человек крутили ему руки.
– Врешь, бляха-муха, не возьмешь! – страшно хрипел Тимофей Усков, моргая выбитым окровавленным глазом. Стрельба закончилась. Пленного привели к командиру.
– Не говорити о? – спросил его партизан.
– Не понимаю, – глядя в землю, мрачно сказал казак.
– И по-русски не понимаешь? – перегнулся через стол к нему партизан. – Говори, сволочь!
Тимофей Усков вздрогнул. Он чувствовал, что его сознание мутится. Перед ним сидел его отделенный Смирнов, тот самый, из-за которого погиб младший брат.
– Мишка! Ты-ыыы?
– Для кого Мишка, а для тебя лейтенант госбезопасности Бескаравайный.
Воцарилось гробовое молчание. У казака глаза сделались круглыми. Он стал часто и трудно дышать и, пересиливая себя, проговорил глухо:
– Не кричи, не испужаюсь…
Бескаравайный мотнул головой.
– Ми више не треба. Убейте его.
* * *
Через несколько дней в рейд пошла новая группа.
В том же дворе увидели женщину, которая развешивала на веревке постиранное мужское белье. Убедились, что партизан в доме нет, решили устроить засаду в лесу. Ближе к вечеру они все равно бы пришли в село за чистой одеждой. В лесу спохватились, что отстал один из казаков, последний оставшийся в живых из братьев Усковых, Павел. Услышали женский вскрик и визг собаки.
Через полчаса появился Усков. Спросили его, что случилось.
– Убил собаку, – ответил тот.
– А баба?
– Спать пошла.
Все было понятно. Отстал, чтобы свести счеты за братьев. Казаков покоробило это убийство, но Павлу Ускову никто ничего не сказал.
Война есть война, это еще та сука!
* * *
Военная ситуация на Балканах складывалась таким образом, что казачьей дивизии практически ни разу не пришлось участвовать в крупном сражении. В постоянной войне против партизан казаки участвовали небольшими подразделениями, чаще всего в составе полка или бригады. Периодически сам Паннвиц возглавлял ту или иную бригаду и командовал операцией. В августе 1944 года он во главе 2-й бригады своей дивизии разгромил несколько партизанских баз в районе Дарувар – Пакрац и Бьела.
1-я казачья дивизия лишь номинально носила название кавалерийской дивизии СС, но целиком и полностью находилась в распоряжении генерал-полковника Альфреда Йодля, возглавлявшего Верховное главнокомандование вооруженными силами Германии.
Казачий Стан Походного Атамана подчинялся Розенбергу, и лишь русская освободительная армия Власова находилась под контролем Гиммлера. Но видя несомненные успехи 1-й казачьей дивизии на Балканах рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, ставший после провала покушения на Гитлера еще и командующим Армией резерва, решил подчинить себе все национальные формирования, действовавшие в составе германской армии. Учитывая, что казачьи подразделения были наиболее боеспособны, он вынашивал далеко идущие планы о взятии всех казачьих соединений непосредственно себе или через штаб Власова.
В феврале 1945 года генерал фон Паннвиц был вызван в Берлин на встречу с доктором Крегером, который был представителем Гиммлера при генерале Власове.
В обитом черной кожей кабинете, углубившись в чтение каких-то бумаг, сидел человек в штатском костюме. Он был чистенький, ухоженный, с пробором в волосах. Генералу показалось, что он попал в кабинет к преуспевающему адвокату. Фон Паннвиц не ошибся. Доктор Эрхард Крегер получил юридическое образование в Тюрингском и Кёнигсбергском университетах и до середины тридцатых годов даже работал в рижской прокуратуре. Доктор права. Свободно говорил на русском, немецком и латышском языках. Это была действительно тонкая личность. Он мог всю ночь слушать пианиста, а наутро приказать его повесить. Увидев на пороге генерала фон Паннвица, Крегер оторвался от своих бумаг. Голубые нордические глаза скользнули по носкам сапог генерала и, убедившись в их безупречном блеске, вновь уткнулись в бумаги. Эрхард Крегер хорошо помнил, что генерал, награжденный рыцарским и двумя Железными крестами за боевые подвиги, был самым обыкновенным солдафоном, который так и не вступил в национал-социалистическую партию.
Холодный прием не обескуражил фон Паннвица. Он понимал, что этот чистюля хоть был всего лишь оберфюрером СС, что соответствовало званию бригадного генерала, но крутился вокруг партийной верхушки. А это значило очень много. Паннвиц подошел к столу почти вплотную и выкинул вперед руку:
– Хайль Гитлер!
Доктор Крегер вскинул голову, приподнял правую руку с откинутой назад ладонью и вышел из-за стола.
– Я буду откровенен с вами, господин генерал. Ситуация на Восточном фронте складывается для нас не лучшим образом. Нам требуются все новые и новые дивизии. Но возможности Рейха уже исчерпаны. Мы вынуждены призывать шестнадцатилетних мальчишек и стариков. – Оберфюрер Крегер задумался, потрогал тугой галстучный узел, продолжил: – Но у нас все же имеются скрытые резервы. Это армия генерала Власова и восточные подразделения. К тому же имеется достаточно большое количество русских солдат, желающих вырваться из концлагеря. Правда, человеческий материал, с которым мы имеем дело, в большей части дерьмо, способное на любую мерзость. По-человечески их можно понять, какой верности можно ожидать от людей, которых предало собственное правительство, а потом они в отместку предали всех, кого только можно.
– К моим казакам это не относится, – быстро сказал Паннвиц. – Казаки всегда были ярыми врагами советской власти. То, что некоторые из них оказались в Красной армии, а потом перебежали к нам, это скорее подтверждает мои слова.
– Хорошо, хорошо, дорогой генерал. Пусть будет по-вашему. Не зря ведь уже признано, что казаки являются прямыми потомками готов и сохраняют прочные кровные связи со своей германской прародиной. – Крегер окинул Паннвица быстрым взглядом и тут же спросил: – Именно поэтому мне необходимо знать, как вы отнесетесь к предложению насчет преобразования вашей дивизии в корпус и объединения его с Русской Освободительной Армией генерала Власова? Именно так мы сможем поднять боевой дух РОА.
– Насколько я понимаю, доктор, – спросил Паннвиц, – этот вопрос вы задаете не из праздного любопытства. Следует ли расценивать, что генерал Власов сам выступил с идеей объединения?
– И да и нет, господин генерал, – сказал Крегер. – Это инициатива Гиммлера, и она одобрена Гитлером.
– А кто будет командовать казачьими войсками?
– В армии Власова будет создано целое управление, которое возглавите вы. Вы также пока будете командовать и своим корпусом. Главное управление казачьих войск под руководством генерала Краснова будет упразднено. Генерал стар. Ему пора подумать об отставке. Но Краснов слишком знаковая натура для казачества, поэтому мы несомненно будем использовать его в качестве знамени.
– Мои казаки уже настолько хорошо вписались в структуру германских войск, что лучшего и не надо – от добра добра не ищут. Если же нас все-таки захотят вывести из структуры немецких войск, – продолжил Паннвиц, – то пожалуйста, мои казаки будут воевать против большевиков хоть вместе с Власовым, хоть без Власова.
– Что же, – заключил Крегер, давая понять, что ничего конкретного говорить, и уж тем более приказывать он по этому вопросу не собирался. – Ваша позиция мне ясна. Мы ее примем к сведению. На сегодня все. Дальнейшее решение обсуждаемых вопросов будет целиком зависеть от фюрера. Прощайте, господин генерал.
Генерал фон Паннвиц щелкнул каблуками.
– Хайль Гитлер!
* * *
С самого утра помощник доложил Костенко, что ночью самолетом в Москву доставили лейтенанта госбезопасности Бескаравайного-Смирнова. Капитан Кравцов положил на стол подготовленную им справку.
«Начальнику Главного управления контрразведки “СМЕРШ” генерал-лейтенанту Абакумову В. С.
Докладная записка.
Считаю необходимым доложить Вам о следующем:
Весной 1943 года, будучи заброшенным за линию фронта, мне удалось внедриться в 1-ю казачью дивизию СС, сформированную из изменников Родины, дезертиров и предателей. Сообщаю следующую информацию о командном составе, вооружении, местах дислокации и проведенных операциях.
Дивизия насчитывает 18000–19000 человек, в том числе 3827 немецких нижних чинов и 222 немецких офицеров, 191 казачьих офицеров и примерно 14300–14600 казаков. Имеет следующий состав:
Начальник дивизии – ген. – лейтенант фон Паннвиц
Адъютант – ротмистр Химмигхоффен
ШТАБ:
– 1-й офицер – подполковник Ганс Иоахим фон Шульц
– 2-й офицер – квартирмейстер майор Роян
– 3-й офицер (отвечает за разведку и контрразведку) – майор граф Карл цу Эльц
Дивизионный военный трибунал (кригсгерихтсрат) – председатель трибунала доктор Мюллер
Дивизионный интендант – интендантский советник Хехт
Дивизионный врач – обер-штаб-арцт резерва д-р Грасс
Дивизионный ветеринар – штабс-ветеринар д-р Швердтфегер
Штаб-офицер конной и автомобильной службы – майор резерва фон Эльмайер-Фестенбругг
Главный священник – протоиерей Валентин Руденко
В штаб дивизии входят, кроме немецких, и несколько казачьих офицеров, представителей от каждого полка.
Известны: белогвардейский полковник Саламаха и полковник Малявик (называет себя бывшим командиром полка РККА).
Дивизию посещают генерал Краснов П. Н, атаман «кубанского войска» ген. – лейтенант Науменко В. Г., ген. – майор Шкуро А. Г.
Генерал фон Паннвиц имеет конвойную сотню – сформированную из старых казаков, как правило, воевавших еще в Гражданскую войну. Сотня носит название “Конвой его величества”. К сотне приписаны 8 православных священников, служивших молебны и справляющих обряды.
При штабе дивизии находится целый ряд отделов: санитарный, интендантский, пропагандный, литературный, полевая жандармерия, автоколонна, отдел связи и пр.
1-я Донская казачья бригада (полковник Ганс фон Вольф):
Командир – полковник барон Ганс фон Вольф
1-й офицер штаба – ротмистр фон Абель
Начальник разведки – обер-лейтенант фон Шелер
– Взвод связи
– 9-й (тяжелый) эскадрон (2 взвода по 3 полевых орудий Pak, 2 взвода по 4 миномета)
1-й Донской казачий полк – подполковник Константин Вагнер
– 1-й дивизион – ротмистр Эрих Диненталь
– 2-й дивизион – ротмистр резерва Маттерн
2-й Сибирский казачий полк – подполковник фон Нолькен
– 1-й дивизион – ротмистр Ганс Юрген Шрейбер
– 2-й дивизион – ротмистр Бем
4-й Кубанский казачий полк (подполковник фон Вольф);
– 1-й Донской казачий конно-артиллерийский дивизион;
– 2-я Кавказская казачья бригада (полковник фон Боссе);
3-й Сводно-казачий полк (подполковник фон Юнгшульц), впоследствии 3-й Кубанский казачий полк;
5-й Донской казачий полк: полковник Иван Кононов (офицер связи – майор резерва граф фон Риттберг)
– 1-й дивизион – есаул Щербаков
– 2-й дивизион – ротмистр Борисов
6-й Терский казачий полк – майор резерва Генрих Детлоф фон Кальбен
– 1-й дивизион – ротмистр Грунст
– 2-й дивизион – ротмистр Фридрих
2-й Кубанский казачий конно-артиллерийский дивизион.
Вспомогательные части и подразделения:
1) Саперный батальон в составе: штаб, 3 саперных эскадрона, 1 саперно-строительный эскадрон, 1 мостовая колонна, 1 легкий саперный парк.
2) Дивизион связи в составе: штаб, 2 эскадрона телефонистов, 1 эскадрон радиосвязи, имелась также артиллерийская группа связи при штабе дивизии.
3) Моторизированный разведывательный батальон (личный состав полностью составляли немцы) в составе: штаб, 3 самокатных эскадрона из числа немецкого кадрового состава, взвод легких танков и аэроплан.
4) Санитарный батальон: 2 санитарные роты, 2 эвакуационные автороты.
5) Дивизионный штаб частей снабжения с 1 автомобильной ротой, 3 автоколоннами, 1 ротой снабжения.
6) Ремонтная рота.
7) Дивизионная служба продовольственного снабжения с хлебопекарной ротой и скотобойней.
8) Ветеринарная рота.
9) Конно-гужевая колонна.
10) Группа полевой жандармерии.
11) Служба полевой почты.
12) Планируется создание штрафной роты.
13) Школа юных казаков.
Дивизия сформирована из:
1. Воинских частей, прибывших с Восточного фронта. Личный состав этих подразделений состоит из перебежчиков и белогвардейцев. Эти части принимали участие в боях против против Красной армии и партизан.
2. Беженцев, сотрудничавших с оккупационными властями и из страха возмездия ушедших вместе с немцами при их отступлении.
3. Враги советской власти, добровольно пошедшие на службу к оккупантам.
4. Бывшие военнослужащие РККА, попавшие в плен и согласившиеся служить врагу.
5. Насильственно мобилизованные жители Украины, Белоруссии, Дона, Кубани, Терека и других областей СССР.
6. Прибывшие из Европы белогвардейские эмигранты.
Наибольший процентный состав составляют – донцы, кубанцы, представители кавказских народностей и сибиряки.
Меньше – русских и украинцев. Многие объявляют себя казаками.
Каждый полк имеет в составе команды особых назначений (зондеркоманды). Полк делится на два дивизиона. Дивизион на 4 эскадрона. Эскадрон на 4 взвода, из них 3 боевых, 1 хозяйственный.
Взвод состоит из 3 отделений по 4 – 16 бойцов.
Командир полка имеет заместителя и помощника заместителя.
При штабе имеются – штабной врач, обер-ветеринар, атаман (политрук), несколько переводчиков для русского, немецкого.
Штабной эскадрон состоит из:
Отделения связи с несколькими радиостанциями, телефонами и курьерами, коноводы, конвой и пр. вспомогательные команды.
На всех ответственных местах – немцы, а денщики, шорники, портные, ремонтники – казаки.
Структура штаба дивизиона аналогична штабу полка.
Командир эскадрона имеет заместителя и помощника заместителя.
Кроме того, имеется атаман (заместитель командира политической части). Имеются переводчики. Старшина эскадрона (обер-вахмистр) отвечает за боевое, хозяйственное и санитарное состояние эскадрона. Непосредственно подчинен командиру эскадрона. За политические настроения отвечает атаман.
При дивизионе имеется отделение связи с одной радиостанцией.
Так же как и в полку, имеется штабная сотня. При штабе дивизиона имеются мастерские и вспомогательные команды.
Командование взвода: командир взвода имеет помощника и располагает 3-мя курьерами и вестовым.
Налажена работа “контрразведки”. Ее функции заключаются в том, что казаки сами выявляют между собой тех, кто готов перейти на сторону СССР. Ее возглавляет лейтенант Червяков, бывший военнослужащий РККА.
Каждый эскадрон имеет 1–3 гармони. Дивизия имеет свой цирк, объезжающий казачьи части.
Унтер-офицерские звания получаются быстро, сразу же после отличия в бою.
Священники посещают части, дают казакам иконы, молитвенники и дают благословения, за что берут деньги.
Пополнение: производится из запасного полка (Франция). Несмотря на пополнения состав эскадронов, как правило, меньше на 10-20% в сравнении с вышеприведенным составом первоначального формирования.
Каждый эскадрон располагает 18–25 двуколками или повозками невоенного образца. В каждом эскадроне 180–200 лошадей и столько же седел. Потери конского состава пополняются из запаса или за счет закупок или реквизиции у местного населения.
Воинские чины до сих пор не приведены в единое соответствие. Наблюдается смешение старых казачьих чинов и советских офицерских званий.
Звание лейтенанта соответствует хорунжему. Старший лейтенант – сотник. Капитана называют подъесаулом или ротмистром. Майоров – майорами или есаулами.
Подполковник по-казачьи именуется войсковым старшиной, но чаще – подполковником.
Награды: такие же, как в вермахте, а также восточная медаль за храбрость, за ревностное несение службы, за отвагу в атаке, за выслугу. Кроме немецких наград казаки получают ордена и от Павелича.
Смирнов».
Костенко спросил Кравцова:
– Где сам Бескаравайный?
– Ждет. Вызвать?
– Не надо. Я его забираю. К утру подготовьте мне все документы для доклада Абакумову.
В коридоре перед дверью кабинета сидел лейтенант в пехотномобмундировании. Заметив полковника, офицер встал. Одернул гимнастерку, расправил складки за портупеей. Вытянулся по стойке «смирно».
– Лейтенант Бескаравайный.
– Читал я твой отчет. Ладно. Поехали.
– Куда, товарищ полковник?
– Как куда? Домой. Остановиться тебе ведь негде, так я понимаю? Вот и поживешь пока у меня. Заодно и отчет твой обсудим.
Полковник Костенко жил в коммунальной квартире, и в комнате было слышно, как по коридору бегала детвора, шипел примус и из кухни доносились чьи-то глухие бубнящие голоса.
Дома он открыл форточку. Морозный воздух потянулся в комнату. Он стлался по полу и таял у стола. Костенко достал хранящийся между рамами кусок сала. Оно было белым на цвет, крупно посыпанно серой солью с темно-бордовыми, почти черными, как запекшаяся кровь, прослойками мяса, нашпигованное чесноком.
Бескаравайный мечтательно повел носом.
– Сальце, настоящее… деревенское.
Костенко рассмеялся.
– Конечно деревенское, в городских квартирах свиней пока еще не держат. Как специально для такого случая берег. У вас там сала, что ли, не было?
– Сало-то было, в сухой паек входит. Но оно как кусок мыла. Жирное, безвкусное. Жуешь его жуешь, а удовольствия никакого.
– Не пробовал. Давай тогда, как младший по званию, режь сало, хлеб, накрывай на стол. А я посижу немного. Вымотался за сегодняшний день.
– Есть, товарищ полковник госбезопасности. А разрешите и мне поучаствовать?
Лейтенант метнулся к вешалке. Торопливо развязал вещевой мешок. Достал пару банок тушенки. Бутылку водки с залитым сургучом горлышком. Неуловимым движением как фокусник откуда-то вынул нож. Быстро и сноровисто нарезал сало, хлеб.
Костенко сидел на диванчике, устало вытянув ноги в хромовых сапогах.
– Ладно, лейтенант. Давай за встречу. Наливай!
– Со встречей, товарищ полковник. Рад знакомству.
Выпили. Выдохнули. Зажевали салом.
– Нож у тебя интересный, – сказал Костенко. – Разреши посмотреть.
Бескаравайный покрутил нож между пальцев, от большого к мизинцу и обратно. Протянул его Костенко. Нож и в самом деле был необычный. Длинный клинок плоской формы. С тыльной стороны на клинке надпись «Blut Ehre»! На деревянной ручке вырезана звезда.
– Это немецкий кинжал. Отрядный умелец переделал ручку. Зачем мне свастика? Получился вполне приличный нож разведчика. Дарю, товарищ полковник. Будет чем колбасу резать.
– Спасибо, лейтенант. – Костенко похрустел соленым огурцом. Поинтересовался. – Ну так что там у вас нового?
– А чего там может быть нового, товарищ полковник. Предательствуем, – развел руками Бескаравайный. – Пару недель назад, перед тем как я ушел к партизанам, Кононов принял бригаду, ну и конечно же закатил попойку. А потом то ли сам, то ли кто из его адъютантов застрелил Лучкина. Подробностей не знаю. Но говорят, что сам. Вроде за то, что тот кого-то из офицеров хотел убить, но на самом деле – потому что слишком много знал о «подвигах» Ивана Никитича. В Белоруссии он с казаками славно потешился.
– А кто у него сейчас адъютантом?
– Лейтенант Петр Арзамасцев. Вместе с Лучкиным они вроде как еще и казака Симинского пристрелили.
– Б…дь, – коротко выразился Костенко. – Самый настоящий серпентарий. Начали уже друг друга жрать. Ладно. Еще по одной?
– Не возражаю, товарищ полковник.
– Ну а чего решил уйти, если все было так хорошо?
– Так сложилось, товарищ полковник. Там контрразведка тоже не зря хлеб ест. Вешают только по одному подозрению в том, что уйти решил.
– Ладно, хорошо, что все хорошо. Поживешь у меня, пока не получишь новое назначение. Место найдется.
– Не стесню?
– Нет. Я все равно сутками на службе.
Бескаравайный откинулся на спинку дивана, завел глаза в потолок и, улыбаясь впервые за нынешний день, сказал:
– Как же хорошо у своих!
Костенко устало зевнул и добавил, будто расставаясь с близким:
– Отдыхай. И я пойду спать.
Уже засыпая, сморенный всем, что свалилось на него в этот трудный день, припомнил горькую истину: опасайся того, кто тебя боится, и помни, что подлая душа всегда предполагает самые низкие побуждения в самых благородных поступках.
* * *
Заканчивался март. Дивизия была реформирована и получила наименование 15-го казачьего корпуса. Советская армия продолжала весеннее наступление. Исход войны был уже ясен всем. Казаки и офицеры корпуса понимали, что одолеть Красную армию у Германии уже нет сил. Перед всеми неизбежно вставал один и тот же вопрос: что будет со всеми дальше?
25 марта 1945 года в Вировитице собрался Конгресс фронтовиков 15-го казачьего корпуса под председательством полковника Кулакова. Казаки корпуса, следуя старой казачьей традиции, хотели избрать атамана всех казачьих частей. Для проведения собрания была избрана просторная городская ратуша города Вировитица.
На Конгресс прибыли делегаты, одетые в вычищенные и наглаженные мундиры, с орденами и медалями за храбрость, в начищенных сапогах. В зале не было свободных мест, были заполнены все ряды. Генерал фон Паннвиц, казачьи атаманы и немецкие старшие офицеры сидели на почетных местах. Ротмистр Мосснер, приписанный к станице Горячеводской, присутствовал на сходе как представитель Терского полка. Полковник Кулаков открыл собрание. Президиум выбрали без задержки.
– Слово предоставляется полковнику Кононову, – голос Кулакова смолк, и резко стих гул разговоров.
Иван Кононов, развернув плечи, почти взбежал на сцену своей стремительной походкой. Широко расставив ноги в блестящих начищенных сапогах, он встал за трибуной. Внимательно осмотрел зал. Выдержал паузу. Его лицо было бледным, с черными кругами под глазами. Было заметно, что он волнуется. Стояла тишина – полная. Но нервная. Но это же была офицерская среда, самая привычная ему и родная!
Кононов откашлялся.
– Господа станичники, сразу прошу простить, ежели скажу чего невпопад! Мое дело воевать, а не речи гутарить. У нас на Дону говорят, кто распустил язык, тот вложил саблю в ножны.
В зале прошелестел смех.
Кононов заговорил громким и ясным голосом.
– Но должен сказать, мы катимся в пропасть! – Переждал шум. – Поэтому считаю необходимым предложить сейчас ряд первоочередных мер, способных спасти ситуацию. Первое – это роспуск Главного управления казачьих войск и отставка генерала Краснова, который не может более представлять интересы казаков.
Зал молчал. Никто не крикнул возмущенно:
– Как?! Генерала Краснова в отставку! Нашу гордость, человека, ставшего нашим знаменем? Нет!
Никто даже не попытался перебить его.
Кононов говорил так убежденно, что завораживал людей. Осматривая зал, он видел угрюмое лицо Авдеева, беспокойный ищущий взгляд Виктора Трофимова, о чем-то перешептывающихся Борисова и Ермилова. Ни на одном лице не увидел ни сильного движения, ни удивления, ни гнева. Сидели на своих местах ровно, внимательно слушали, кое-кто даже вальяжно откинувшись на спинку кресла.
А Кононов, еще не веря успеху, спешил закрепить его и продолжал дальше:
– Второе – немедленное подчинение всех казачьих частей главнокомандующему Русской освободительной армии генералу Власову.
Фон Паннвиц и немецкие офицеры насторожились. По залу прошел одобрительный шум.
– Правильно, Иван Никитич! – в восторге заорал кто-то из офицеров.
Кононов успокаивающе поднял руку вверх.
– А также удаление из казачьего корпуса всех немецких офицеров, которые не понимают казаков и готовы капитулировать. Установление связи с генералом Драга Михайловичем, военным министром югославского правительства в изгнании и командиром отрядов четников. Концентрация казачьих формирований и формирований РОА в районе Зальцбург – Клагенфурт с целью создания ударной армии, способной пробить брешь и прорваться к армии четников Дражи Михайловича.
Набитый людьми серо-зеленый зал ожил, хлынул густым хлопаньем. Послышались крики одобрения.
Оркестр заиграл марш «Принц Евгений».
Заручившись поддержкой Кононова, Власов принял абсолютно верное решение. В глазах казаков Кононов был настоящим героем, подлинным представителем казачества. Для казаков не существовало более авторитетного командира, и офицерство было сплошь за него. Кроме него был еще генерал фон Паннвиц, но он был немец, а значит, не до конца свой.
К вечеру президиум съезда КОНР принял резолюцию.
Атаман терских казаков полковник Кулаков пригласил Гельмута фон Паннвица подняться на сцену, чтобы выслушать решение делегатов собрания. Немецкий генерал вышел вперед под гром литавр.
Когда все стихло, полковник Кулаков взволнованным голосом объявил, что президиум принял решение взять за основу программу Кононова, но походным атаманом казачьих войск назначить генерал-лейтенанта Гельмута фон Паннвица.
Вечером были накрыты столы. На казаках и офицерах позванивали медали. Делегаты за столом смешили друг друга рассказами о своих похождениях на фронте. А в курилках, подальше от глаз и ушей начальства, разговор, естественно, вращался вокруг главного:
– Что будет со всеми, когда капитулирует Германия?
Разъезжаясь, они на ходу обменивались мнениями.
– Правильно сделали, что немцев турнули. Сейчас нам бы только с Власовым соединиться, и врезали бы по краснюкам. Перья бы полетели! Еще повоюем!
* * *
До конца войны оставалось уже чуть более месяца.
Генерал фон Паннвиц понимал, что война проиграна и фактически закончена. Мучил вопрос: что будет с его казаками? Он помнил их глаза. Они хотели жить! И еще он знал, что на войне, для того чтобы сохранить тысячи жизней, приходится жертвовать своей. Выход был один – сдаться западным союзникам. Но для этого нужно было прорваться в Австрию. Перевалы через Альпы контролировались партизанами Тито, но это был единственный шанс спасти людей.
Штаб 15-го казачьего корпуса размещался в 15 километрах за линией фронта. В Вировитице, на крестьянском дворе, расположенном в 400 метрах от берега Дравы. Там же располагался обоз Терского казачьего полка и лошади, так как теперь уже не было необходимости действовать в конном строю. 26 марта 1945 года в Вировитице генерал фон Паннвиц вызвал к себе командиров 1-й и 2-й казачьих дивизий. Созванные на совещание офицеры сидели за столом. Командир 1-й казачьей кавалерийской дивизии Константин Вагнер рассматривал разостланную карту. Полковник Шульц, повернувшись к окну, наблюдал, как казак навешивает коню на морду торбу с овсом.
Лица офицеров были невеселы. Паннвиц заговорил взволнованно:
– Надо спасать корпус! Генерал Власов принял решение пробиваться к Украинской повстанческой армии, которая ведет бои в тылу Советской армии. Предполагается перейти через цепь Альп по перевалу Бреннер на юг и прорваться на территорию Украины. Вы понимаете, что решение о продолжении войны в таких условиях – это безумие. Необходимо сделать все, чтобы отвести казаков на территорию Рейха и договориться о сдаче союзникам. Если мы сложим оружие на югославской территории, последствия для казаков будут страшными. Нас всех расстреляют или повесят. – Ваше мнение, господа? – генерал фон Паннвиц вопрошающе оглядел всех.
Полковник Вагнер согласно кивнул.
– Я полностью согласен, господин генерал… Необходимо учитывать и особенности нашего корпуса. Казакам нельзя сдаваться Красной армии. О жестокости Сталина известно всем. Казаки для него предатели. На них не будет распространяться действие конвенции о военнопленных.
Ганс Иоахим фон Шульц покашлял, прочищая горло.
– Я также поддерживаю предложение генерала фон Паннвица, – заявил он, неспешно подбирая слова. – Но переход в Австрию сопряжен с риском и большими трудностями. Кроме того, нам необходимо заручиться согласием британского командования о том, что они согласны принять нашу капитуляцию и дать гарантии нашей безопасности. Но в любом случае оставаться здесь и попадать в лапы Советов нельзя.
Генерал фон Паннвиц, привыкший кратко и исчерпывающе-ясно ставить задачу, подвел черту:
– Надо через горы уходить в Австрию. Иначе через несколько дней русские будут у корпуса за спиной! В Австрию! Единственный, кто нам может помешать, это Кононов. Мне уже сообщили, что генерал-лейтенант Власов готовится подписать приказ о присвоении Кононову генеральского чина и назначении его на должность походного атамана. Кононова надо убирать из корпуса.
* * *
Первого апреля генерал Паннвиц вызвал к себе Кононова.
На улице перед окнами штаба послышался мягкий топот копыт, звяканье стремян, ржание, шумные вздохи лошадей.
Паннвиц посмотрел в окно. В комнате было жарко. Солнечные лучи заглядывали в окна. Через отворенную форточку входил воздух, пахнущий нагретой седельной кожей, конским потом, дымком кузни.
Во дворе несколько казаков спешились с коней. Размундштучив лошадей, они отпускали подпруги, ладонями смахивали с лошадиных спин обильный пот.
Распахнулась дверь, на пороге стоял полковник Кононов. Несколько мгновений генерал разглядывал его бледное лицо и большие круги под глазами.
– С сегодняшнего дня я отстраняю вас от командования 3-й казачьей дивизией и назначаю на должность офицера связи с генерал-лейтенантом Власовым, – сказал фон Паннвиц. – Приказываю вам немедленно передать дивизию полковнику Борисову и отбыть к главнокомандующему войсками КОНР.
Кононов сдерживался, грыз усы. Молчал, рассматривая сетку узоров на стене дома. Трещина расходилась прямо и вдруг, как по причуде, уходила в сторону. «Ну вот, – подумал Кононов. – Случай вновь меняет направление моей жизни».
– Прощайте, Иван Никитич!
Кононов вытянулся, небрежно козырнул и вышел.
В окно Паннвиц видел, как он сошел с крыльца. Вестовой подвел коня. Полковник положил левую руку на холку, привычным движением ловко вскинул тело в седло. Вытянул коня плетью, и тот пошел наметом. За ним, пригнувшись к гривам, рванули казаки конвойного взвода.
* * *
Поздним вечером того же дня Иван Кононов сидел в своей комнате. За окном моросил холодный апрельский дождь, и ему вдруг страшно захотелось прижаться лбом к холодному стеклу, вглядеться в обступившую его темень. Но останавливал полудетский страх, как тогда в Смоленске. Если долго всматриваться в бездну, она начинает всматриваться в тебя. И эта бездна рано грозит утащить тебя за собой. Поздно! Уже утащила.
Чья это мысль? Моя?.. Неважно.
Дверь заскрипела. Скрипнули сапоги Петра Арзамасцева. Кононов резко повернулся к нему лицом. Адъютант протянул ему пакет с документами.
– Приказ о присвоении вам звания генерал-майора КНОР. Поздравляю вас, Ваше Превосходительство!
Кононов не ответил. Он подошел к окну. Из внутреннего кармана кителя медленно достал серебристую фляжку. Неторопливо отвинтил ребристую крышечку, опрокинул горлышко себе в рот. Ароматная жидкость обожгла горло, внутренности тотчас же наполнились теплом. Страх стал угасать.
«Ну вот, я уже и генерал. За какие-то четыре года от майора Красной армии – до генерал-майора вермахта. Неплохая карьера. Еще не стар, полон сил, честолюбив».
Кононов продолжал стоять спиной к адъютанту и смотрел в окно. Лейтенант кашлянул. Кононов забыл, что он все еще здесь.
– Иди, Петр. Иди. И приготовь мне генеральский мундир. Я знаю, что он у тебя уже пошит. Через час едем к Власову.
Адъютант вышел. Кононов вновь подошел к столу. Сел. Защемило в груди… не вздохнуть… Будто кислорода не хватает! Что это… сердце? Завтра будет сорок пять – маловато для старости. Хотя кто знает – может быть, в самый раз, потому что все уже позади. Жизнь прожита. Что впереди?
«Когда-то я был казачонком Ваней, потом командиром полка Красной армии, полковником вермахта, генералом русской освободительной армии. Что еще уготовила мне судьба?»
За спиной снова скрипнула дверь. Кононов повернул голову. В руках Арзамасцева блеснуло золотое шитье погон.
– Ваш мундир, господин генерал. Пора, – сказал адъютант. – Машина ждет.
Через полчаса, переодевшись, Кононов вышел на улицу вслед за лейтенантом. На улице было еще совсем темно. Серый «опель-капитан» урчал у подъезда. Дворники скользили по стеклу, разгоняя капли дождя. Генерал, оглянувшись на дом, поднял взгляд к тому окну, из которого он пару минут назад смотрел на улицу. Стекла блестели, омытые дождевой пылью; сквозь этот водяной блеск ничего не было видно.
Петр Арзамасцев распахнул перед Кононовым дверцу, пропуская его на заднее сиденье, сам обошел машину, сел рядом с водителем, привалился к двери плечом.
У Кононова внезапно дернулась щека. Сердце сжало словно клещами, показалось, что он вновь, как в детстве, остался один на всем белом свете, без крыши над головой. «Глупости, – сказал сам себе Кононов. – Через несколько дней для меня война закончится. Все будет хорошо».
* * *
В каждой немецкой пехотной дивизии официально имелось два священника разных конфессий, католические и протестантские. В казачьих же частях были православные священники, которые служили полевые молебны и духовно укрепляли казаков. По благословению и личному распоряжению митрополита Анастасия в 1-ю дивизию были направлены протоиереи Валентин Руденко и Александр Козлов. Немного позднее прибыли священники Феодор Малашко и Александр Тугаринов. Они считали себя казаками дивизии. Вместе со всеми делили победы и поражения, и были для них не только служителями Бога, но боевыми товарищами. Вместе с казаками священники шагали под палящим солнцем и под дождем, тряслись в седле или кузове автомашины по пыльным дорогам. Они благословляли казаков на смерть и молились за них под огнем противника. Их оружием был только крест, броней – молитвенник. Поэтому, когда немецкое командование потребовало удалить из казачьих частей православных священников, фон Паннвиц проигнорировал приказ и немногословно доложил: «В моих частях около 40 тысяч православных, протестантов, римских католиков, греко-православных, магометан и буддистов. Все они привыкли начинать бой с молитвы. В случае, если священники будут удалены, я опасаюсь трудностей религиозного характера». Священники остались. Протоиерей Валентин Руденко был назначен дивизионным священником 1-й казачьей дивизии. Происходил из казаков, рожак станицы Усть-Лабинской. Во время Гражданской войны служил священником при штабе генерала Врангеля. Часто разъезжал по полкам и эскадронам дивизии, где проводил церковные богослужения.
Новость о том, что прибыл отец Валентин, среди казаков распространялась быстрее молнии. Приезжая к казакам, он старался привезти не только молитвенники, но и несколько пачек сигарет или плиток шоколада. Утренними часами по воскресеньям отец Валентин служил в Православной часовне при кладбище, на котором во время Первой мировой войны оказались похоронены триста их собратьев, содержавшихся в местном лагере. Эту часовню еще в начале 20-х годов построили бывшие русские военнопленные и эмигранты.
* * *
Тяжелая серая машина медленно тронулась в путь.
Свет желтых фонарей расплывался по мокрой брусчатке и стекал под канализационные решетки.
Впереди, рядом с водителем сидел адъютант. В салоне опеля было тепло, пахло дорогой кожей, разогретым двигателем.
Кононов вспомнил верного Лучкина. Нахмурился. Жаль Алексея, столько прошли вместе. Но в последнее время он совсем уж сорвался с катушек. Стал бросаться на своих, стрелять без разбора. Мальчики кровавые, что ли, стали мерещиться в глазах? Пришлось отдать команду на ликвидацию.
На выезде из города фары высветили ограду старого кладбища, аккуратно подстриженную живую изгородь, небольшую часовню. Кононов приказал всем остаться в машине, сам перекрестился и шагнул на крылечко. Приоткрыл тяжелую дверь. На него пахнуло запахом воска и ладана. В часовне царил полумрак, тускло мерцали свечи. Дрожали огоньки пламени перед иконами. Свет от горящих свечей был какой-то неровный, ломаный, и в нем дрожал лик Христа, который колыхался снизу вверх. Глаза сына-Бога были внимательны и пронзительны. Кононов видел, чувствовал это. Он пробовал отвести свои глаза от этого пронзительного взора, заглядывающего ему в самую глубину души, оглядывал стены, потолок, пол. Но потом опять встречался с ним взглядом – и невозможно было от него избавиться.
Генерал сжал кулаки и выдохнул:
– Господи!.. Ну чего же ты еще ждешь от меня? Я верил в милость и доброту твою, и сделал все, что смог. Не требуй от меня того, что я сделать уже не в силах!
За спиной раздался еле слышный шорох шагов.
– Ты искал меня, сын мой? – раздался негромкий голос.
Кононов резко обернулся. Перед ним стоял невысокий священник. Он вышел без ризы, в одном стихаре и фиолетовой камилавке, прикрывавшей голову. Через стекла очков на него глядели внимательные глаза.
Кононов склонил голову.
– Да, Ваше Высокопреподобие.
– Я слушаю тебя, сын мой.
Кононов заговорил, волнуясь, медленно подбирая слова.
– Вы знаете меня, отец Валентин. Знаете и мою жизнь. Я много воевал и много убивал. Не жалел ни себя, ни друзей, ни врагов. Шел к своей цели. Но сегодня я понял, что все было зря. Я устал от такой жизни, решил уйти. Хочу попросить прощения у Господа за все зло, что причинил.
Старый священник перекрестил его.
– Как бы ни были велики грехи твои, сын мой, Господь простит. Постарайся больше не грешить.
Отец Валентин повернулся к Кононову спиной и пошел в ризницу.
– Это как получится, Ваше Высокопреподобие. Велики грехи мои, и новые не прибавят большего, – усмехнулся Кононов уголком рта.
– Главный твой грех не в том, что ты убивал, а в безверии твоем. Не веришь ты ни в Господа, ни в людей. Нет Бога в твоем сердце. Но это пройдет. Если твое сердце ищет ответа на вопросы, тогда найдет и дорогу к Богу. А у Господа милости много, на всех хватит. Ступай, сын мой, – не поворачивая к нему головы, медленно сказал отец Валентин.
Кононова точно ударили плетью. Он сгорбился, опустил плечи и пошел к дверям. Равнодушно и молча смотрели ему в спину лики святых, освещенные дрожащим пламенем свечей.
Зеленая падучая звезда над его головой внезапно вспыхнула и покатилась вниз, оставив на мгновение за собой тонкую светящуюся полоску.
«Вот и все, – подумал он. – Закатилась моя звездочка».
* * *
В начале апреля 1945 года Кононов уехал на встречу с генералом Власовым. Главнокомандующий вооруженными силами КОНР принял решение пробиваться на встречу с 15-м казачьим кавалерийским корпусом, который теперь тоже входил в состав Вооруженных сил КОНР. При помощи демонстрации силы и размеров РОА Власов надеялся привлечь внимание западных держав. В случае, если этот план не сработает, планировалось присоединиться к частям четников бывшего военного министра королевского югославского правительства в изгнании генерала Дражи Михайловича и продолжить борьбу на их стороне в Балканских горах вплоть до изменения общей ситуации.
Генерал Кононов после разговора с Власовым принял решение не возвращаться в корпус. Это в конечном итоге спасло ему жизнь. Простился с Арзамасцевым:
– Все, Петр. Расстаемся. Сейчас каждый сам за себя.
– Ну да! – сумрачно усмехнулся тот. – Это убиваем мы вместе, а умираем врозь. Прощай, Иван Никитич.
В момент капитуляции Германии Иван Кононов вместе с частями РОА оказался в американской оккупационной зоне, но не стал проходить регистрацию и потому стал единственным власовским генералом, кто избежал насильственной репатриации и смертной казни.
* * *
Созвав командиров дивизий и бригад, генерал фон Паннвиц объявил о принятом решении идти в Австрию. 15-й казачий корпус с боями двинулся к австрийской границе.
Дорога серпантином уходила в горы. Колонна растянулась на несколько километров. Первыми шли конные полки и отдельные сотни. За ними двигался обоз – тесно, ось к оси; за подводами тяжелым натруженным шагом шли пешие казаки – измотанные, осунувшиеся, глядящие под ноги.
Выставив стволы винтовок по бокам колонны, двигалось боевое охранение, бронемашины прикрывали колонну своей броней. Преодолевая горные перевалы и сбивая вставшие на пути партизанские заслоны, казаки фон Паннвица с упорством обреченных пробивались в Австрию.
Шла весна. С каждым днем все сильнее и сильнее пригревало солнце. На южных склонах гор растаял снег, и прошлогодняя трава радовала глаз весенней свежестью.
Жаркое солнце припекало казакам лопатки. Словно печи грели подушки седел, от жаркого ветра и горячих солнечных лучей покрылись бурым загаром казачьи лица. Всхрапывали и пританцовывали кони, на некоторых появились лысеющие пятна, резко пахло конским потом. Покрывались потом казачьи чубы под папахами и кубанками, и все жарче становилось в мундирах и черкесках из теплого шинельного сукна.
От земли, согретой солнцем, шел тонкий запах первых цветов. Жужжали проснувшиеся пчелы. Заливались трелями птицы. И даже война была красива весной.
Пыль, вздымаемая тысячами сапог и копыт, висела над дорогой. Казаки тосковали. Земля звала работать, пахать, сеять. Казаки говорили о севе, о сенокосе, о хозяйстве.
– Хлебушек, наверное, уродится в этом году.
– Да и сено будет хорошее – хоть попа корми.
И замечал Муренцов, как казаки, украдкой зачерпнув пригоршню земли, мяли и тискали ее как женскую грудь, вдыхая полными ноздрями ее терпкий аромат.
* * *
Из Италии вместе с полками казачьего Стана шли русские беженцы, не желающие возвращаться в СССР. Тонкий прозрачный воздух зябко вздрагивал над вершинами гор. Безостановочно двигались обозы, устало шагали пластуны. Лица казаков были серы от пыли и усталости, в глазах тоска, усталость, озлобленность. С завистью поглядывали на скачущих верховых. Колонна из десятков тысяч людей, похожая на гигантскую серую гусеницу, ползла на север – в Австрию. Казачьи подводы тяжело и надрывно скрипели несмазанными колесами. На возах в беспорядке, наспех высоко были навалены сундуки, самовары, цветные половики, подушки, на самом верху метались и громко плакали ребятишки, охали, крестились, всхлипывали женщины. Ржали и тяжело поводили ребристыми боками истощенные быстрым отступлением обезноженные кони.
Кому не повезло, шли пешком, несли в руках скудные, жалкие пожитки. Судьба изгнанников всегда горька. Труден и тяжел их путь. Дорога по обеим сторонам чернела пятнами людских и конских трупов, грудами разломанных телег и фургонов.
Казачье охранение держало под прицелом горные склоны.
В темно-зеленом армейском автобусе ехали семьи офицеров штаба. В автобусе стояла духота, удушливо пахло бензином, тянулась следом серая пыль. За ним ехал легковой «фиат», в котором сидели Петр Николаевич Краснов с женой и генерал Науменко.
Дорога была разбитой, над ней непрестанно висела курчавая серая завеса, поднятая двигающимися машинами, повозками, ногами тысяч людей.
В горной деревушке Пиана д'Арта стали на ночлег. Всю ночь слышалась стрельба. Всюду были выставлены караулы, и ночь прошла в страшном напряжении.
Останавливались только ночью. Жгли костры. Пытались согреться у огня. Казаки уже не пели. У костров грызли черствый хлеб. Спали сидя, держа в руках оружие. Ротмистр Плахин, отворачивая лицо от огня, грел руки. В глазах отражались красные отблески костра.
Маленькая девочка, ехавшая в обозе, попросила у матери поесть. Та достала из-за пазухи кулечек с мукой.
– Девочка моя, у нас и нет почти ничего. Только мука. Что только с ней делать? Ни кастрюли, ни сковороды. Никто ничего не дает.
Офицер поднялся, вынул из вьючного мешка свой котелок. Сказал устало:
– Заведи тесто.
Поставил на угли крышку котелка. Налил в него жидкое пресное тесто. Сняв две первых лепешки, он отдал их девочке. Третью предложил матери, та взяла его и, давясь слезами, стала есть полусырое подгоревшее тесто.
«Бросить бы к чертям собачьим этот обоз, – тоскливо думал Плахин. – Да ударить по партизанам так, чтобы клочья полетели, но нельзя. На телегах раненые и больные казаки, прибившиеся к казакам женщины, старики, дети».
Догорали костры. Из-за гор выглядывал слабый рассвет. Ночь уходила, бросая последние багровые отблески тлеющих углей на плотную груду спящих людей. Они зябко ежились и стонали во сне, прижимались друг к другу, вертелись с боку на бок, чесались.
Но утром ветер снова полоскал запыленные полковые штандарты, и далеко раздавался стук оружия, топот копыт, крики команд.
Сбоку колонны на высоком гнедом дончаке рысил ротмистр Плахин.
Горными тропами, как волки, шли следом болгарские и титовские партизаны.
Утром начался самый тяжелый переход. Дорога круто поднималась серпантином до самого перевала Плекен. Обессиленные лошади падали прямо на дороге. Их выпрягали из повозок и бросали на обочине или пристреливали.
Залп раздался внезапно. Потом распался на треск автоматов и хлопки карабинов. Стреляли человек двадцать с небольшого хребта напротив.
– Тра-та-та! Трах!
Автоматный огонь не доставал до колонны. Несколько пуль из карабина взвизгнули над головами беженцев.
– Пиу! Пиу!
Схватившись руками за грудь, вскрикнул пожилой возница на одной из подвод. Забилась в постромках раненая лошадь. Казаки похватали из седел карабины. Ротмистр Плахин стрелял из винтовки в ту сторону, откуда только что раздались выстрелы. Лошадь не стояла на месте, офицер промахивался, менял прицел и остервенело ругался, поминая господа, святого апостола и селезенку.
Женщина с совершенно серым лицом прижимала к себе худенькое окровавленное тельце.
– Ой, мамочка! Донечка моя, – причитала мать, не сводя глаз с детского личика. Господи-иииии, за што-ооооо, – громко, навзрыд кричала она, царапая себе лицо.
Старики, тряся бородами, шагали рядом с возами, опасливо дергаясь на звуки выстрелов, подгоняли храпевших и бившихся лошадей.
Сербские партизаны за большим валуном перевязывали Душана Белича, смертельно раненного пулей ротмистра Плахина.
Машина, в которой ехал генерал Краснов, внезапно дернулась и заглохла. Генерал оставался спокоен. Сложив руки на коленях и закрыв глаза, он, казалось, дремал. Серое лицо его казалось худым и усталым. На впалых висках набрякли синие склеротические жилки. Машину Краснова взял на буксир штабной автобус. Погода становилась все хуже. Густыми белыми хлопьями валил снег. Белые от снега люди медленно брели по поднимающейся вверх дороге. Натужно выл двигатель. Невероятно уставшие люди и лошади шли по направлению Обердраубург – Лиенц, где казаки должны были стать лагерем.
Наконец через несколько дней перевалили через горный хребет. Впереди лежала зеленая долина.
Это была уже Австрия.
* * *
Полковник Костенко недолго ожидал в приемной генерала Абакумова. После приглашения адъютанта он вошел в уже знакомый кабинет, где за длинным столом, заваленным бумагами, сидел Виктор Семенович Абакумов. Перед ним в серебряном подстаканнике стоял недопитый стакан чая. На столе кроме бумаг стояла пепельница, наполненная пеплом и окурками. Абакумов одной рукой стряхивал пепел с папиросы, а другой продолжал перелистывать листы толстого дела.
– Ты направляешься в распоряжение генерал-лейтенанта Голикова. Он назначен уполномоченным СНК СССР по делам репатриации советских граждан. А ты будешь числиться в миссии полковника Шорохова.
Костенко слышал о полковнике Шорохове, он был офицером разведотдела 57-й армии.
– Но… – генерал многозначительно поднял вверх указательный палец, упираясь локтями в дубовую столешницу. – Это только официально. На самом деле ты будешь действовать автономно, заниматься розыском высокопоставленных предателей. – Генерал внезапно оскалился. – Чтобы ни один мерзавец не ушел. Докладывать будешь непосредственно мне.
– Есть, товарищ генерал.
– Известно, где сейчас находится генерал Краснов?
– Так точно. Известно. Нам удалось внедрить к казакам свою агентуру, и разведотдел 57-й армии подготовил подробный отчет о деятельности этих предателей. Вместе с казачьим станом Тимофея Доманова движется в Австрию. Там же и генерал Шкуро.
– Ну тогда тем более хорошо, что не разбежались как тараканы. Всех вместе и возьмем.
Костенко кивнул головой.
– Так вот, ты не забывай, что у этих генералов под ружьем десятки тысяч бывших советских бойцов и командиров, изменивших присяге и воевавших против наших войск с оружием в руках. Надо бы разработать какие-то мероприятия в этом направлении. Что-то вроде «Родина простила – Родина зовет». Надо завлечь, заманить их в СССР. Пусть возвращаются, потом мы с ними разберемся. Обрати самое пристальное внимание на бывших членов «Айнзатцкоманды-5а» – полковника Кононова, сейчас он, кажется, уже генерал-майор, полковника Борисова, майора Зацюка, ротмистра Бондаренко. Хорошо они потешились в Белоруссии. В Австрии они окажутся в английской оккупационной зоне, а союзнички, мать их… постараются спрятать своих прихвостней… Твоя задача разыскать предателей и не допустить, чтобы они сбежали. Любой ценой. Достать хоть со дня моря! Мы должны их судить. А потом они все будут висеть в петле. Каждый! Можешь идти. Свободен.
* * *
Штаб 15-го казачьего корпуса прорывался в Австрию отдельно от корпуса. Впереди колонны шли две легковые машины со старшими офицерами штаба, за ними следом ехали грузовики, набитые казаками и немецкими солдатами. На головах у всех были металлические каски. Офицеры и солдаты сидели в машинах на корточках, держа автоматы и карабины на коленях, а пальцы – на спусковых крючках. Все взгляды были сосредоточены на окружающих склонах гор. Машина начальника разведки корпуса майора цу Эльца шла перед машиной командира корпуса, обеспечивая его безопасность.
За пыльным стеклом пробегали горы, мелькающие крыши редких домов, снежные верхушки гор. Фон Паннвиц рассеянно поглядывал на дорогу и думал о том, что ему необходимо до подхода корпуса встретиться с представителями британского командования и договориться об условиях сдачи. А может быть, ему придется погибнуть. Уже скоро. Сейчас. Может быть, за следующим перевалом его ждет партизанская пуля. Но думалось об этом почему-то легко и совсем без боли. И было пусто на душе.
Вечером доехали до Виндиш-Файстрица и разместились на ночевку в замке графа фон Аттемса. Связисты штаба установили телефонную связь. Включили рацию. Все радиостанции радостно сообщали о капитуляции Германии. Берлин пал. Над рейхстагом уже развевалось красное знамя.
За столом рядом с фон Паннвицем сидел майор цу Эльц, офицеры штаба. Паннвиц прикрыл глаза.
Стало тихо. Тикали часы на стене. Стояло молчание.
«Как в детстве, – подумал генерал, – когда все замолкали, мама всегда говорила: ангел пролетел».
Вдруг совершенно неожиданно раздался резкий телефонный звонок. Он оборвал хрупкое успокоение, установившееся в комнате. Майор цу Эльц поднял трубку. Человек на той стороне задышал, волнуясь. Он представился генералом Народно-освободительной армии Югославии. Движением руки Паннвиц дал знак выслушать. В комнате было так тихо, что в трубке отчетливо слышался голос югославского генерала. Он говорил по-немецки с легким сербско-хорватским акцентом и напирал, требовал, чтобы немецкая сторона незамедлительно сдала оружие. В конце разговора он заявил: «Если вы не подчинитесь условиям капитуляции, войска Народно-освободительной армии Югославии уничтожат вас».
Майор Карл цу Эльц не был трусом. Выпускник Терезианской военной академии, учрежденной австро-венгерской императрицей Марией Терезией, не робел под обстрелом. На передовой всегда был рядом с казаками. Не оробел и сейчас. Он молча слушал, что говорил ему югославский генерал. Генерал фон Паннвиц обратил внимание, что загорелая и обветренная кожа на лице майора побагровела от ярости.
– Казачий кавалерийский корпус не намерен подчиняться требованиям бандитов. Казаки пойдут дальше, а если вы попытаетесь этому помешать, то мы просто раздавим вас, – резко сказал майор цу Эльц и встал. – Голос его дрогнул. – Я попрошу вас не орать! – еще более резко сказал он и, даже не спросив разрешения у генерала фон Паннвица, с гневом бросил трубку на аппарат. – Плебей! Он говорил со мной так, будто я его лошадь!
С минуту стояла тишина, слышалось только прерывистое разгневанное дыхание майора. Генерал фон Паннвиц сузив глаза спокойно смотрел на офицеров. После телефонного звонка нечего было и думать о сне. Он встал, спокойно приказал:
– Собираемся, господа, выступаем немедленно!
Офицеры, одевшись, молча пошли к дверям.
Генерал фон Паннвиц ходил по комнате. «Вот и все! – думал он. – Нас гонят словно дичь».
С затемненными фарами маленькая колонна машин продолжила движение. Все понимали, что нужно спешить. В любой момент здесь могли появиться партизаны. Перед отправлением майор цу Эльц набил карманы кителя рожками к автомату и ручными гранатами. Он решил продать свою жизнь как можно дороже. Но все обошлось, остаток пути колонна прошла без происшествий.
Когда на рассвете достигли дороги Цилли – Унтердраубург, головная машина встала. Впереди был затор из машин. По обеим сторонам дороги валялось брошенное военное имущество. Снарядные ящики, пушки, прицепы. Царила полная неразбериха. Уже не было никакого порядка и дисциплины, никто не обращал внимания даже на раненых. Машины с красными крестами на бортах и набитые обмотанными бинтами людьми часами стояли под палящим солнцем. По шоссе медленно тек непрерывный поток людей. Нестройные группы немецких солдат, СС, хорватских отрядов и каких-то тыловых разрозненных подразделений. Некоторые без офицеров. Некоторые солдаты без оружия.
Майор цу Эльц спросил уставшего запыленного офицера, сидевшего в соседней машине.
– Господин обер-лейтенант! Что происходит? Почему стоим?
– Вы сами видите, почему, – сухо ответил офицер и отвернулся. Несколько дней назад такой ответ старшему офицеру был бы немыслим.
Но майор цу Эльц проглотил раздражение и с несколькими казаками бросился к причине затора – заглохшей штабной машине, набитой какими-то коробками. Какой то штабной полковник размахивал перед полевыми жандармами бумагами и кричал, что он выполняет приказ фюрера, а в машине у него важные документы.
Обозленный майор граф цу Эльц сделал попытку пробиться к этой машине, но его не хотели даже слушать. Всем было плевать на его Железный крест, майорские погоны и на каких то русских свиней, одетых в мундиры вермахта. Офицеры равнодушно отворачивали лица. Войне был конец, и надо было спасать собственные шкуры. Фронтовое братство исчезло, уступив место желанию выжить любой ценой.
Майор цу Эльц оценил обстановку и приказал приготовиться к бою. Он не собирался стрелять в немецких солдат ради того, чтобы прорваться по их трупам. Но его подчиненных теснили к обочине, на переправе царил полный хаос, и он решил навести порядок хотя бы для того, чтобы переправить раненых.
У казаков была спаянность и боевой опыт. У каждого карабин или автомат, за поясами ремней – гранаты. Со всех сторон они окружили майора цу Эльца, ощетинились стволами.
Выстрелами поверх голов удалось пробиться к машине. На помощь казакам пришел отдельный батальон СС. Первым делом столкнули в пропасть машину, загородившую движение, и освободили правую сторону дороги для проезда машин с ранеными. Устранив затор, колонна медленно двинулась вперед.
Недалеко от австрийской границы их обстреляли партизаны, не дававшие перейти границу. Пока казаки вели бой, машины миновали опасную зону и прибыли в Лавамюнд. Здесь было принято решение установить связь со штабом британской армии, которая должна была находиться в районе Клагенфурта.
Генерал фон Паннвиц отправил к командующему английской армией майора цу Эльца с письмом, в котором просил спасти своих подчиненных от большевиков, не выдавать их СССР.
Не доезжая Гриффена, машина встретила британское танковое подразделение. Хотя на его автомашине был укреплен белый флаг, Эльц ожидал первую встречу с представителями западной державы-победительницы со смешанным чувством. Танки остановились. Из люка вылез британский офицер. Майор цу Эльц вышел из машины и направился к англичанину. Представившись, обратился с просьбой, чтобы его доставили к командиру этого участка. Британский офицер кивнул и отдал приказ, чтобы два его танка проводили машину. Это давало защиту от сновавших по округе партизан. Уже ближе к ночи они подъехали к британскому военному лагерю, расположенному на высоком открытом месте.
Майор Эльц предупредил командующего о том, что следом за ним движутся части 15-го казачьего кавалерийского корпуса, готовые сложить оружие.
Вслед за майором цу Эльцем прибыл генерал фон Паннвиц и отправился в штаб 11-й танковой дивизии. При встрече с командиром дивизии генералом Арчером Паннвиц изложил ему просьбу разрешить его войскам перейти передовые линии британских войск. Атмосфера этой беседы, продолжавшейся всего одну минуту, была ледяной. Генерал Арчер уклонялся от прямого ответа о будущей судьбе казаков. Паннвиц настаивал на ответе.
– Я не понимаю вас, генерал. Скажите прямо, что надежды на то, что казаков не выдадут Советам, нет. Так?
Британский генерал не смотрел фон Паннвицу в глаза.
– Мы сделаем все возможное. Вы можете стать лагерем. Продукты вам будут привозить.
Попрощавшись с Паннвицем кивком головы, генерал Арчер молча вышел, оставив Паннвица стоять. Он понял, что больше ждать нечего. Генерал Паннвиц непроизвольно потянулся рукой к крючку на воротнике мундира. Душно. Неужели конец всему? И жизни тоже.
Но нет в жизни такого ада, где не было бы надежды.
* * *
Длинными маршевыми колоннами 12 мая 1945 года казачьи полки входили в Фелькермаркт. Но их нельзя было назвать побежденными. В город входили не разгромленные части, а боеспособные подразделения, готовые сражаться.
Генерал фон Паннвиц встречал свой корпус. Рядом с ним стояли офицеры его штаба и некоторые британские офицеры.
Войдя в город, казаки сходили с маршевой дороги, останавливались, спешивались и приводили себя в порядок. Подтягивались обозы. Раздавались немецкие и русские команды. Оркестр 15-го казачьего кавалерийского корпуса выехал на белых конях и, в соответствии с уставом, развернулся перед командиром корпуса генералом фон Паннвицем.
Парадным маршем прошли эскадроны. Каждый казак старался еще раз взглянуть в глаза любимого батьки Паннвица. Это была последняя клятва верности своему атаману, своей храбростью и человечностью завоевавшего сердца казаков. После торжественного марша эскадроны, перестроившись в колонну по четыре, двинулись по дороге Гриффен – Фелькермаркт. Присутствовавшие на параде британские офицеры молчали. Лишь самый старый из них, полковник Ричард Сейл, сказал:
– Я считаю за честь иметь таких доблестных противников, как казаки. Мне бы очень хотелось помочь вам. Но, к сожалению, решение принимаю не я. А я могу быть полезным вам только в одном: это выразить вам свое уважение!
Казаки в строю крутили головами, переговаривались между собой:
– Что-то невесел батька Паннвиц.
– Конечно, будешь невесел, забот выше крыши. Попробуй такую ораву разместить да накормить!
– А где Кононов? Вроде не было его среди офицеров?
Уже несколько дней среди казаков ходили разные слухи о Кононове. Дескать, он, чуя близкий конец Германии, уже утек подальше от греха. Но кононовцы успокаивали:
– Не-еее! Наш батька убечь не мог. Не тот он человек. Сам Паннвиц его к Власову отправил по военной надобности.
В тот же день, сразу же после встречи корпуса, генерал Паннвиц уехал в свое имение, чтобы проститься с женой и детьми.
Генерал Арчер доложил о разговоре с Паннвицем командующему 8-й британской армией генералу Ричарду Маккрири и задал ему вопрос о будущем казаков.
Генерал на секунду задумался.
– Решение по данному вопросу буду принимать не я. Но вы ведь помните, как предатели убили Вириата и пришли к римлянам за обещанными деньгами. Сенат ответил им: «Рим предателям не платит». Я думаю, что из нашего сената будет точно такой же ответ.
Казаки были обречены на гибель, и этой трагедии уже было не предотвратить.
* * *
Примерно в это же время, завершая долгий и утомительный марш, со стороны Италии входила в Австрию колонна казачьего Стана Тимофея Доманова. Под расквартирование была отведена северная часть города Лиенца. Этот австрийский городок ничем не отличался от немецких городов. Вдалеке белели снежные вершины Альп, те же шпили ратуши, каменная брусчатка. Добропорядочные вежливые бюргеры, неторопливое журчание речки, ярко-зеленая трава постриженных газонов. Когда-то давным-давно его основали древние римляне. В IX столетии город попал под власть германских племен, а затем перешел под власть графов Герц, потом к императору Максимилиану I.
Замок Брюк – резиденция графов Герц – и приходская церковь Санкт-Андра, где погребен последний правитель династии, сохранились.
Когда-то, еще учась в гимназии, Муренцов запоем читал книги о короле Майнхарде II, основавшем графскую династию Герц. Но никогда не думал, что придется ступить на эту землю.
Около 35 тысяч человек, включая женщин и детей, встали лагерем в широкой долине около Лиенца. Уже который день не слышалось никакой стрельбы, не было атак и смертей. Потихоньку все привыкали жить без войны.
Каждое утро на небо выкатывалось теплое ласковое солнышко.
И в этой благодати, среди цветов и жужжания пчел хотелось делать что-то радостное – ходить по траве босиком, петь. Или ладить что-нибудь по хозяйству, настраивать плуг, готовить к севу семена.
Огромный палаточный лагерь никак не напоминал военный лагерь. Мужчины гарцевали на лошадях, женщины развешивали белье, в траве играли дети.
Близ города расположились Казачье юнкерское училище, войсковая учебная команда, четыре сотни атаманского конного конвойного полка. Все казачьи строевые части, ведомства, управления и мастерские были размещены рядом с Лиенцем в направлении города Обер-Драубург.
В городском отеле «Золотая рыбка» разместили генерала Доманова и начальника его штаба генерала Соломахина с женами.
Прибыл Андрей Григорьевич Шкуро. Восхищенные казаки встретили его с ликованием. Генерал Шкуро был кавалером британского ордена Бани, и казаки надеялись, что он сможет повлиять на англичан.
* * *
Рядом с казаками 15-го корпуса разбили лагерь около 5 тысяч кавказцев, входивших в состав Кавказского соединения войск СС.
Чеченцы, ингуши, дагестанцы, вооруженные немецкими автоматами, у каждого пистолет, нож, ленточки наград на мундирах. Горцы. Все как один дерзкие, дикие, отчаянно храбрые, бросающиеся в драку, не заботясь о последствиях. Прошедшие огонь, воду и стреляющие развалины Варшавы. Из чабанов превратившиеся в беспощадных волков. Среди них не было ни одного русского, но зато у них были лучшие кони и самые красивые женщины. Поздними вечерами горцы жгли костры, пели свои печальные песни или танцевали лезгинку.
Муренцов приехал в расположение кавказского полка попросить овса для коней эскадрона. Навстречу попалась группа немецких солдат. На них была свежая, без пятнышек, словно на смотр, форма с эмблемами зенитчиков.
Муренцов спросил по-немецки долговязого горбоносого офицера с погонами лейтенанта:
– Где найти полкового командира?
Тот махнул рукой в сторону, ответил гортанным голосом, почему-то по-русски:
– Там… Канцелярия ходы!
Канцелярией служила обшарпанная, насквозь прокуренная комната в кирпичном, темном от времени сарае, отгороженная от коридора только досками. В комнате стояли – стол, два стула и койка. В углу лежало кавалерийское седло. Невысокий темноволосый офицер копался в бумагах. На его серой черкеске, туго перетянутой в талии, матово блестели газыри, у пояса висел кинжал. Его рукоять была в серебре и убрана дорогими камнями.
Офицер бормотал:
– Где же этот проклятый список, черт бы его побрал?
Муренцов покашлял в кулак.
– Разрешите, господин полковник?
Офицер стремительно поднял голову. Это был Арсен Борсоев.
Старые знакомые обнялись.
– Здравствуй, Барс. Ну как ты? Что собираешься делать?
– Помнишь! Помнишь меня, Серожа! Как видишь, жив. Но возвращаться в Россию мне нэлзя. Мою семью выслали в Казахстан. Я честно воевал, рэзал. Наша не бэрет. Пойду к тем, чья берет. К амэриканцам! К англичанам!
Вспомнив встретившуюся ему группу немцев, Муренцов спросил, что у него делают немецкие зенитчики.
Борсоев махнул рукой, засмеялся.
– А-аааа! Это мои башибузуки-осетины разграбили немецкий склад и переоделись в немецкое обмундирование.
Борсоев был по-настоящему кавказский человек. Отчаянно храбрый. Веселый. Щедрый. Пел замечательно. Пристал к Муренцову.
– Серожа, что тебе подарить? Проси, что хочешь, кроме жены и коня. Таков закон гор, против него не попрешь. Хочешь кинжал?
Муренцов махнул рукой и закурил сигарету.
– Спасибо, Арсен. Вот когда все благополучно закончится и мы снова встретимся, споешь мне свою песню.
При этих словах Борсоев молитвенно сложил руки.
– Аллах свидетель, Серожа, спою. Обязательно спою!
* * *
Дни становились все жарче и жарче. Зеленели полоски садов на южных склонах гор. Мелко курчавилась зелень деревянной изгороди.
15-й казачий кавалерийский корпус генерала фон Паннвица – около двадцати тысяч солдат и офицеров – разместился в районе Фельдкирхен-Альтхофен. Каждый день прибывали все новые и новые группы. Более или менее все разместились. Первое время британцы вели себя безукоризненно.
Продукты питания поставлял английский Красный Крест.
Казакам и офицерам разрешалось свободное перемещение в районе Клагенфурта.
Однажды утром в лагере появились листовки с призывом возвращаться в СССР. Ночью кто-то установил плакат, на котором была изображена женщина с распущенными волосами, в красной рубахе с простертыми руками и надписью: «Возвращайтесь домой, казаки! Родина ждет». И тут же под легким ветерком колыхалось красное полотнище транспаранта с надписью: «Обманутым трудящимся советская власть не мстит».
Всех охватывали тревожные предчувствия, многие знали на своей шкуре, что Родина может простить, но советская власть – никогда!
Читали, вздыхали и шептались. Горькая казачья судьба, страшная и неумолимая, как вражеский танк, уже надвигалась, чтобы раздавить своими стальными гусеницами.
Приближались последние дни казачьей свободы и самого казачества.
* * *
27 мая командиру 1-й дивизии полковнику Вагнеру приказали переместить своих людей в лагерь около Вайтенсфельда, и британский офицер дал ему понять, что со дня на день ожидается репатриация. На утренней заре построилась почти вся дивизия.
Полковник Вагнер объявил всем, что слагает с себя командование 1-й казачьей дивизией и отныне каждый должен самостоятельно позаботиться о своей судьбе.
Командование дивизией принял полковник Сукало.
С группой немецких офицеров полковник Константин Вагнер перешел через Альпы и вернулся в Германию.
* * *
Ранним майским утром Гельмут фон Паннвиц поднялся с постели. Вытащил из-под кровати пыльный чемодан. Достал из ящика стола коробку с наградами.
Выдача СССР ему не грозила – он был генералом вермахта и ялтинские соглашения о выдаче на него не распространялись.
Как обычно, не спеша брился, когда вдруг наверху хлопнула дверь спальни и в ванную комнату вбежала жена, непричесанная, полуодетая, растерянная.
– Что это, Гельмут?.. Ты куда-то уходишь?
Генерал вскочил с места и чуть не порезался – задрожали руки.
– Ингеборд… Я делил со своими казаками хорошее время. Теперь я должен делить с ними плохое. Может быть, я смогу помочь, взяв часть приписываемой им вины на себя. Я поеду к моим казакам. Прости…
Она помогла ему собраться. Он покрутил в руках свой наградной «Вальтер ПП». Подумал, надо ли брать с собой оружие, ведь все равно придется сдать. Но не смог пересилить себя. Оружие давало иллюзию защищенности. Он переставил предохранитель на боевой взвод, сунул оружие в кобуру.
Жена как-то вся осунулась, посерела от испуга; даже ее русые волосы, распущенные по плечам, стали как будто темнее.
Она всхлипывала.
– Почему-то я была уверена, что ты вернешься к своим казакам, – говорила она. – Что рано или поздно ты вернешься к ним.
– Я не хотел возвращаться, – отвечал Паннвиц. – Но иначе нельзя.
– Ты береги себя, Гельмут!.. Будь осторожен!.. Постарайся вернуться к нам живым!..
И он говорил ей, зная, что говорит неправду:
– Я вернусь. Я буду стараться вернуться… но ты же знаешь, я солдат, мое дело держать руки по швам и быть верным присяге. А там как получится.
Гельмут фон Паннвиц поступил так, как ему подсказывала его офицерская честь. Он вернулся в село Мюллен, где находились его казаки. Все вместе жили в здании бывшей школы.
В близлежащих селах – Хаммерль, Санфайт и Мюльцдорф – были расквартированы казаки конвоя командира корпуса и офицеры штаба.
26 мая 1945 года генерал фон Паннвиц со своим штабом и находившимися рядом казаками был арестован.
В тот же день фон Паннвица передали советской стороне в Юденбурге, где его допрашивал советский майор войск НКВД Серов-Серин-Мещеряков и титовские следователи.
Он мог бы остаться в английском плену, но отказался и добровольно предпочел быть выданным в СССР, чтобы быть вместе со своими казаками.
За несколько часов до сдачи англичанам Гельмут фон Паннвиц успел отправить одного из своих офицеров со своими личными вещами и последними словами любви к жене.
* * *
Анна Булдыгина не была казачкой. В голодные двадцатые приехала в Ростов, жила как все. Работала на фабрике, мужа посадили в тридцать пятом. Освободился перед самой войной. Вернулся с чахоткой, недолго проболел и умер. Детей не было. Во время оккупации она мыла полы в управе и ушла в отступ вместе с беженцами.
Она лихорадочно переворачивала на сковороде жареную картошку. Костенко, одетый в штатский костюм и шляпу, молча стоял в дверях, и Анна худыми жесткими лопатками через кофту чувствовала его взгляд. Она робела, руки дрожали от страха и напряжения, дрожал на затылке пучок жалких волос. Она знала этот взгляд, помнила. Точно так же смотрели те, в тридцать пятом году, перед тем как забрать мужа. Она сильно потела, и этот запах перебивал запах дешевых духов и жареной картошки. Изо всех сил она делала вид, что взгляд за спиной ничего не значит, к ней не относится, что она только торопится скорее сготовить ужин. Шипел в керосинке огонь, шкворчало подгорающее сало. Выпивший казак шатался по коридору, напевая и вскрикивая:
Вот умру я, умру – похоронят меня. И никто не узнает, где могилка моя. Вот умру я, умру – похоронят меня. И никто не узнает, где могилка моя.И когда животный смрад ее пота стал невыносим, превратившись в мутный туман страха, она обернулась и почти шепотом тягуче спросила:
– Ну-ууу?
– Где Ленка, любовница Шкуро? Как мне ее найти? Говори быстро и тихо.
– Я позову казаков. Они тебя разорвут.
Костенко распахнул пиджак, чтобы женщина увидела торчащую из-под ремня рукоятку пистолета.
Его голос был тих и вязок, как в лагере перед дракой.
– Не выеживайся, сука!..
На лице женщины отразились страх и душевная нерешительность.
– Ну иди, иди, потрох рваный, к своей поб…ке. Третья дверь направо.
– Ша! – прервал ее Костенко. – Разговор окончен.
Его встретила молодая рыжеватая женщина в ситцевом платье, поверх которого на плечи была накинута шерстяная кофта. Ее лицо слегка портило жесткое и презрительное выражение. Увидев перед собой незнакомого человека, она попятилась назад, рот приоткрылся, на лице промелькнула тень мгновенного испуга.
– Вы Лена?
Девушка внимательно смотрела на Костенко. Так, что его мгновенно пробрало. Поверил сразу, что такая могла увлечь старого рубаку Шкуро. Были в ней черти.
– Да, это я…
И отвела глаза, будто сама почувствовала льющийся из них блуд.
Костенко чувствовал опасность. Сейчас деваха кликнет казаков, и они порвут его здесь на ленты, не поможет и оружие. Но не говорить с ней прямо было невозможно. Нужно было довериться.
– Вы должны нам помочь. Мы знаем, что у вас очень близкие отношения с Андреем Григорьевичем Шкуро. Предлагаем вам возможность заработать прощение перед Родиной.
Молодая женщина задумчиво смотрела вверх, поджав тонкие губы. Она думала.
Через несколько дней генерал-майор Доманов пригласил Шкуро на ужин. В пять часов утра 27 мая Андрей Григорьевич вернулся. Он был пьян, в черной черкеске и в блестящих сапогах. Женщины уже были у плиты, готовили завтраки мужьям, кипятили белье. Генерал сел на табуретке в кухне, громко высморкался и заплакал.
– Предали меня Доманов и сука эта, Ленка, – кричал он. – Вчера напоили и сдали англичанам, дали час на сборы. Сейчас меня заберут и передадут Советам. Меня, волка Шкуро, передадут Советам… Меня, Шкуро, Советам…
Генерал бил себя в грудь, и слезы градом катились из его глаз. Через час в его комнату зашли два английских офицера. Шкуро, закрыв глаза, сидел за уставленным грязной посудой столом. Лицо его было мрачно. Мокрые от слез усы поникли. Генерала вывели на улицу, посадили в автомобиль и увезли в Грац.
Утро было свежим. Пряно пахли травы, роскошно раскинувшиеся под ногами.
На следующий день генерала Шкуро вместе с другими генералами отправили в Юденбург.
* * *
Группа британских солдат захватила лошадей, пасшихся на лугу неподалеку от Лиенца. Это заметили казаки и доложили атаману Доманову. Тот вызвал к себе сотника Лукьянова.
– Мне доложили, что британцы забрали казачьих лошадей. Я в это не верю. Это же ведь британцы, культурная нация! Знаешь анекдот о воспитанности англичан?
Лукьянов мотнул головой.
– Не знаю, батька.
Доманов снял очки, протер стекла. Поудобнее сел в кресле.
– Так вот, слушай. Однажды морской офицер упал за борт и на него напала акула. Его вытащили из воды буквально в самый последний момент. И когда он, дрожа от пережитого страха, стоял на палубе, один из матросов спросил: «Господин лейтенант, а почему вы не ударили ее своим кортиком?» На что лейтенант возмутился: «Как?! Британский офицер и рыбу ножом»? Вот такое у англичан воспитание. Джентльмены. Даже рыбу ножом нельзя, а тут чужие лошади! Ты уж им поясни, что озоровать нехорошо.
Сотник подскакал к толпе британских солдат и закружился вокруг них на бешено танцующей лошади. Оскаливая зубы, крикнул, угрожающе растягивая слова:
– Кудаааааа?.. Кто вам позволил?.. Па-ач-чему крадете казачьих лошадей?!
Англичане тут же наставили на него стволы карабинов, клацнули передернутые затворы. Сотнику пояснили, что с этого дня все кони являются собственностью Его величества короля Великобритании Георга VI, а если ему что-то не нравится, то он может катиться к своим бошам.
Лукьянов оскалил зубы как волк и, погрозив солдатам толстой плетью, так же стремительно умчался назад. Страх его одолел, потому как не шутили британцы. Еще бы секунда, и пристрелили бы сотника ни за понюх. С будущими союзниками так не поступают.
Доложил Доманову, тот побледнел. Уже понял, что это не было случайностью, и время, когда британцы говорили о дружбе, миновало.
В тот же день группа британских солдат захватила кассу казачьего штаба, в которой хранились все казачьи сбережения. С давних пор у казаков был такой обычай – хранить в кассе общие сбережения.
Крики казачьих казначеев, что это грабеж и виновные будут отвечать, на англичан не подействовали. Они забрали добычу – шесть миллионов итальянских лир, мешок немецких рейхсмарок и спокойно ушли.
Доманов побежал к генералу Краснову. Тот лишь развел руками.
– Как вы прикажете мне сейчас поступить? Поднять казаков? Выразить неповиновение? – Генерал помолчал, вздохнул. – Я думаю, что в данной ситуации и в настоящее время это уже невозможно!
* * *
Женщины на кухне обсуждали события последних дней. Все сходились на том, что англичане обманут и выдадут их Советам. В кухне была и Лена, она тряхнула головой и со звоном поставил на плиту чайник.
– Это вам, предательницам, надо бояться, – заявила она женщинам. – А я советский человек, и меня советская власть не тронет.
Весь ее вид, как она стояла, по-хозяйски выставив ножку в блестящем хромовом сапоге, говорил: «Да! Я – б…! Но я буду жить! А вы сдохнете…»
Жена есаула Дробышева, худая, измученная несчастьями и болезнями, вцепилась своими тонкими пальцами в ее волосы и повалила на пол.
– Бей ее! Бей подстилку комиссарскую! – орали бабы.
И она била, таскала ее за волосы. Откуда только взялись силы в худом, чахоточном теле.
Всхлипывая и вытирая кровь с лица, извиваясь как змея, ползла по полу любовница Шкуро, стараясь забиться, спрятаться под столами, за шкафами с продуктами, но есаульша, оседлав ее спину, яростно колотила ее по голове. Оторвать ее не было возможности. Кто-то из казаков, зайдя в кухню, схватил ее за волосы и что было силы потащил назад. Дробышева вырвалась, поднялась, тяжело дышащая, растрепанная, с налитыми кровью глазами, дрожащая от напряжения, и первое, что она сказала, было позорное слово для избитой женщины, лежащей на полу с вырванными волосами. И ушла. Вслед за ней ушли и другие.
На полу осталась только та, которая собиралась жить. Она сидела на полу, растерзанная, жалкая. Один глаз ее заплыл и распух, синий и страшный, он испуганно таращился на опрокинутый стол, кастрюли, рассыпанную по полу муку. Бледное лицо было в царапинах и синяках, платье изорвано. Она плакала горько и навзрыд, словно девочка, потерявшая самое дорогое.
Из открытого крана лилась вода, в чайнике на плитке выкипали последние остатки воды, по заваленному картофельной шелухой и обертками столу ползали черные мухи.
* * *
28 мая офицерам приказали явиться на встречу с фельдмаршалом Александером. Англичане заверили, что встреча продлится несколько часов и уже к вечеру все вернутся в лагерь. Многие офицеры начепурились перед конференцией, надели награды, надраили сапоги.
Муренцов всю последнюю неделю лежал в лазарете и на конференцию поехать не смог. Провожая мужа, Лидия Федоровна Краснова как то испуганно сжалась и поцеловала его в лоб.
– Мне почему-то тревожно. Может быть, ты не поедешь, Петя?
Петр Николаевич погладил ее по руке.
– Улыбнись еще разок, Лидуша. Мне так нравится, когда ты улыбаешься.
Застегнул мундир на все пуговицы и, опираясь на трость, шагнул за порог. Кто же знал, что это их последняя минута вместе. Они больше не увидятся никогда.
По дороге колонну окружили танкетки.
На нескольких грузовиках прибыло больше сотни кавказских офицеров. Впереди в открытом автомобиле ехал генерал-майор Султан-Гирей Клыч, первопоходник, бывший командир «Дикой дивизии». Высокий, жилистый, с маленькими усиками на жестком лице. Потомок династии Чингисхана. Горячий, упрямый, самолюбивый, не верящий никому. Но восточному самолюбию польстило, что в списке приглашенных он стоял первым. Как все-таки мало нужно для того, чтобы обмануть человека.
Автомашины остановились перед высоким забором, опутанным колючей проволокой. За забором стояли бараки.
Английский офицер приказал полковнику Борсоеву сдать кинжал. Тот стоял навытяжку. Стремительный и злой, свел гибкие пальцы на рукояти кинжала. Глаза почернели от гнева, густые черные усы топорщились как пики. Борсоев вырвал кинжал из ножен, сломал о собственное колено и бросил обломки к ногам британского офицера. Не оглядываясь, пошел в барак, у дверей которого уже стояли вооруженные часовые.
* * *
После прибытия кавказцев машины пошли сплошным потоком.
Прибыл генерал Доманов вместе со своим адъютантом есаулом Бутлеровым и офицером-ординарцем. Их отвели в барак за оградой, выставили охрану.
Пришла машина с генералом Красновым, его сопровождал сын, генерал-майор Семен Краснов.
Все грузовики тут же обыскали. Офицер разведки 36-й британской бригады начал сверять имена прибывших офицеров со своим списком. Это сильно замедляло процедуру приема, и полковник Брайар начал нервничать. Приближался вечер, и он, остерегаясь эксцессов, решил на свой страх и риск сократить проверку, чтобы до темноты успеть загнать офицеров в бараки.
Брайар объявил Доманову, что казаки и кавказцы проведут эту ночь в лагере, а он, Доманов, назначается старшим и по-прежнему отвечает за дисциплину своих офицеров. Утром всех офицеров построят в группы по 500 человек и объяснят, что с ними будет дальше.
Несмотря на то что перед ним стоял всего лишь полковник, Доманов встал и взял под козырек. Подобострастно заверил, что казачьи офицеры выполнят приказ британского командования. Присутствующие при этом офицеры отводили глаза. Доманов производил впечатление совершенно раздавленного человека. У него тряслись щеки, дрожали губы.
Собрав всех офицеров, он, запинаясь, коротко и сбивчиво пересказал им распоряжение британского командования. Поняв, что их ждет репатриация, офицеры побледнели. Это известие было как смертный приговор. Многие из них тут же стали скидывать с себя офицерские мундиры и черкески, рвать и жечь документы, подтверждающие их чины. Пораженные предательством и коварством англичан, казаки кричали, искали виновных.
Но генерал Краснов прицыкнул на крикунов.
– Стыдитесь, господа. Если нам уготована страшная смерть, то мы должны принять ее с достоинством.
Тут же генерал повернулся к Доманову и с упреком сказал:
– А вы, атаман, по меньшей мере должны были предвидеть случившееся и проверить правдивость информации англичан о конференции.
Доманов поднял голову, посмотрел на Краснова потускневшим, затравленным взглядом.
– Предвидеть – еще не значит спастись… Петр Николаевич.
И пошел прочь с опущенной головой, зная, что за все сделанное им не будет прощения. Если и можно было что изменить – то упущено было еще вчера.
* * *
Спертый воздух в бараке едко вонял хлоркой, она была насыпана в углах и у стен. Люди заходились в кашле и задыхались. И никто даже не пытался присесть. Так и стояли офицеры на ногах, потерянно глядя в пустой пол и набираясь тревоги друг от друга.
До поздней ночи генерал Краснов писал обращение к мировому сообществу, королю Георгу VI, фельдмаршалу Александеру, Римскому Папе, в штаб-квартиру Международного Красного Креста и королю Югославии Петру. Сидя перед зажженной свечой, русский генерал писал: «Я прошу, во имя справедливости, во имя человечности, во имя Всемогущего Бога о снисхождении к казакам и их семьям!»
Петр Николаевич предлагал, чтобы судили только его, старого офицера русской Императорской армии. Он заявлял, что безропотно покорится любому решению суда. Он брал на себя ответственность не только за тех, кто попал в немецкие части из рядов эмиграции, но и за тех, кто сдался в плен и перешел на сторону немецкой армии.
Пламя свечи трепетало на длинном фитиле, потрескивая, рассыпая в сумрак желтые искры. Кружились и падали с обожженными крыльями ночные мотыльки.
Написав последнюю букву, генерал четко вывел букву П, поставил точку. Неровными буквами с нажимом подписал Краснов, от «в» протянул тонкую черточку.
Свечка мигала устало и сонно. Она оплавилась сбоку и казалась скособоченой, опухшей.
Тонкие губы на худом лице Петра Николаевича были упрямо сжаты. Тлел слабый румянец на бледной, покрытой склеротическими прожилками коже щек В бесцветных глазах читалась холодная решимость.
Рушилось время – и мир погибал в слепящей вспышке. Вспыхнув, свеча погасла, расплавленной слезой воска растекаясь по столу. Тьма кругом. Тьма, поглотившая жизнь.
* * *
Ранним утром полковник Брайар зашел к генералу Шкуро, который лежал с сердечным приступом. Узнав о том, что завтра его выдадут советским властям, генерал Шкуро попросил расстрелять его тут же, на этом месте.
Брайар рассмеялся, потом сказал, как отрезал:
– Это невозможно, господин генерал! – и ушел.
Всю ночь по этой территории шарили лучи мощных прожекторов, выхватывая разделенные колючей проволокой бараки, высокий забор, вооруженных караульных.
Арсен Борсоев сидел в углу барака и горько повторял:
– Я не барс! Я – загнанный в клетку зверь. Я не барс…
* * *
Ночь с 28 на 29 мая была тревожная; почти никто не спал. Полковник Сукало ходил по двору. Вдруг он услышал за бараком возле деревянной уборной какой-то шум. Подойдя ближе, услышал предсмертный хрип, увидел синеющего, хрипящего войскового старшину Сатулова. Он пытался повеситься на собственных подтяжках. Набежавшие офицеры вытащили его из петли. Вызвали начальника караула и врача. По приказу британского офицера Сатулова отнесли в лазарет. Ночь прошла в тревожном ожидании. Уже утром за бараком обнаружили тело полковника Борсоева. Ночью Барс осколком стекла вскрыл себе вены.
Рано утром офицеры построились во дворе лагеря, и священники начали молебен. Внезапно их окружили вооруженные английские солдаты во главе с офицером. Охранники выгоняли всех из бараков и выводили за ворота. Приказали сесть на землю. Офицер объявил приказ британского командования грузиться в машины, и солдаты стали теснить офицеров к машинам. Некоторых били прикладами, тащили за руки. Генерал Краснов не подчинился требованию и остался сидеть на стуле в своей комнате. Тогда солдаты вынесли его на руках и посадили в кузов среди офицеров. Генерала Шкуро и офицеров его штаба посадили в отдельную машину.
* * *
30 мая в казачьем лагере появились советские агитаторы, которые звали казаков ехать домой. На вопрос об офицерах ответили, что те решили добровольно вернуться в Советский Союз.
Казаки заволновались, объявили голодовку. Англичане привозили продукты, но никто не хотел их разгружать, и продукты сбрасывались на землю посреди площади. Из консервных банок, галет, хлеба образовалась целая гора. А посреди нее торчал воткнутый черный флаг и плакат со словами: «Лучше смерть здесь, чем возвращение в СССР».
К Муренцову в лазарет прибежал Ганжа. За несколько дней Сергею Сергеевичу стало лучше. Он повеселел, глаза блестели. Ганжа, напротив, выглядел мрачным и подавленным.
Муренцов слушал его свистящий злой шепот.
– Суки! Англичане нас предали. Нас выдадут Советам и постреляют. – Юрка длинно и нехорошо выругался.
Муренцов, сцепив зубы, смотрел в потолок. Было страшно от того, что их жизни уже ничего не стоили в этом огромном прекрасном мире.
В ликующую весеннюю тишину проникал страх, еще осторожный, вкрадчивый, но вездесущий. Он вползал как змея и каждому заглядывал в душу. Невыносимой тяжестью навалилась тоска.
* * *
Казаки использовали отсрочку, чтобы попрощаться со всем, что еще для них было дорого: с друзьями, женами, детьми. Каждые объятия сопровождались слезами. Прощались с конями, с которыми было много пройдено и теперь приходилось расставаться навсегда.
В ночь с 31 мая на 1 июня многие ушли в горы. В лесу застрелился ротмистр Плахин. Когда его нашли, он лежал на спине. Широко раскрытые глаза уже невидяще смотрели на проплывающие облака. Ротмистр слабо икал, захлебываясь розоватой пеной. Вдруг, потянувшись, он замер. Глаза угасли. По затерявшейся в его волосах травинке ползла пятнистая божья коровка.
В широкой долине реки Драва, окаймленной скалистыми горами, густо пахло цветущими травами. Басовито жужжали пчелы. Сбегавший со склона ручей весело и бойко звенел среди камней. Ручей утопал в зарослях горного шиповника. В самой долине он бежал спокойно и бесшумно, узнавался лишь по извилистому провалу в буйной зелени долины, по сочному и густому наливу трав на берегах.
На склонах гор паслись лошади. Ганжа и Митя Мокроусов подошли к ним. Остановились. Шторм приплясывал на месте, круто сгибал красивую шею, фыркал и косил глазами. Ганжа прижался лицом к его бархатистым губам. Митя видел, как внезапно слеза побежала по щеке товарища. Неожиданно, приобняв коня за шею, Юрка быстро вынул пистолет, приставил его к лошадиному уху. Мокроусов отвернулся. Негромко хлопнул выстрел. Шторм тяжко поднялся на дыбы, попятился, начал медленно опускаться на колени. Конь всхрапывал, дрожал, желтые зубы были мучительно оскалены, шея вытянута. На бархатистом сером храпе пузырилась розовая пена. Волнами катились судороги. Ганжа молча смотрел в угасающие конские глаза. Он даже не пошевелился, когда конь, словно заторопившись, вдруг упал на колени, потом медленно завалился на бок, с хрипом выгибая шею, словно прося за что-то прощения. Из последних сил мотнул головой, коротко и тоскливо заржал, как заплакал. Но тускнели глаза, шея покрылась испариной. Ганжа молча глотал слезы, которые медленно текли по его обветренной щеке.
– Прости меня, Шторм! Прости!
Стояла тишина. Шум ручья не нарушал ее – наоборот, казалось, что он ее лишь усиливает.
Подошел Мокроусов, положил ему на плечо руку.
– Все, заканчивай, казак. Нечего сопли распускать. Пора в лагерь. Взгреют нас за отлучку.
Ганжа повернул к нему постаревшее от слез лицо.
– Нет! – сказал он, высвобождая плечо. – Я ухожу. Прощай. Должно, не свидимся больше.
Обнялись крепко, прощаясь навсегда, и Ганжа пошел в сторону леса, сутулясь и заплетаясь ногами словно пьяный.
Митя окликнул его с дрожью в голосе:
– Брат, ты же казак! Может быть, со всеми?.. А?..
– Потому и ухожу, что казак!.. Не могу я на бойню, словно баран. Прощай…
Через несколько часов прибыли автомобили и танки. Британские солдаты тут же начали собирать казаков и насильно запихивать их в грузовики. Первыми в Юденбург отправили кавказцев. Началось с кабардинцев. В тот же день то же самое происходило и в колоннах осетинской и карачаевской. Больше всего удалось спастись карачаевцам, потому что они были дальше и их окружили после всех.
* * *
А в это время в Австрии, недалеко от Инсбрука, в один из домов, сдаваемых приезжающим на отдых и лечение, позвонили в дверной звонок. Когда хозяйка открыла дверь, на пороге она увидела троих мужчин в форме немецких офицеров с нашивками восточных войск на рукавах мундиров. Старший из них, высокий, седой человек с усами и острой бородкой, сдержанно поклонился, опираясь на трость, и спросил:
– У вас можно снять жилье на несколько дней, милая хозяйка?
Фрау Моор не любила иностранцев. Но перед этим постояльцем не смогла устоять. Его плохой немецкий вполне компенсировался его учтивостью. В нем чувствовалось благородство остзейского барона.
Хозяйка ошиблась. Ее постояльцы не имели никакого отношения к остзейцам. Это был полковник Кулаков и с ним двое казачьих офицеров. Через несколько дней хозяйка обратила внимание, что седой казак может ходить, лишь опираясь на трость. Убирая в комнате, увидела протезы. Полковник был без ног.
В столовой фрау Моор говорила своей соседке:
– Я никогда не думала, что эти казаки такие приятные люди. Этот офицер такой вежливый и воспитанный. Я бы не стала возражать, если бы он пожил у меня подольше.
Спустя несколько дней она услышала шум остановившейся на улице автомашины. Выглянув в окно, увидела, как из нее вышли несколько советских офицеров, которые направились к ее дому.
Через некоторое время внизу раздались шум, крики, яростная брань, будто там происходила борьба или драка. Испугавшись, хозяйка закрылась в своей комнате, молясь, чтобы бандиты не тронули ее. Когда утром она спустилась вниз, то увидела перевернутую и разломанную мебель, а на полу следы крови. В этот же день насмерть перепуганная женщина с негодованием жаловалась зашедшей соседке:
– Вы знаете, фрау Фрингс, эти советские офицеры настоящие звери. Они не щадят никого. Я так испугалась. Слава Христу, что нас оккупировали англичане, а не эти варвары.
Полковника Кулакова и его товарищей захватила спецгруппа СМЕРШ и перевезла в Вену. Кулакова бросили во внутреннюю тюрьму дворца Эпштайн, где располагалась штаб-квартира советских войск.
В тюрьме у него отобрали протезы и трость. Ежедневно его вызывали на допрос на один из верхних этажей здания. Он должен был подниматься наверх и спускаться в подвал, ползя на руках и обрубках ног. На лицах надзирателей было написано нескрываемое любопытство. Что же мог сделать этот инвалид, если его держат в штрафном боксе? Один их них спросил спросил своего напарника:
– А этого за што?
Оглянувшись, тот ответил вопросом на вопрос:
– Анекдот про зайца знаешь?
– Нет!
– Тогда слушай. Бежит по лесу заяц. Его спрашивают: «Чего ты, заяц, бежишь?» «Там верблюдов е…», – отвечает. «Так ты же не верблюд!» – «Э, все равно вые… – а потом доказывай, что ты не верблюд».
– Га-га-га! Гы-гы-гы!
После допросов Кулакова по каменным ступеням опускали в подвал и оставляли лежать на грязном бетонном полу. В камере не было окон, откуда-то сверху едва брезжил искусственный свет. Глаза с трудом различали предметы. Серые от грязи нары, ржавый железный стол. В металлическую раковину капала вода из неплотно закрытого крана. В тусклом свете лампы Кулаков как бы со стороны видел на полу скрюченный обрубок. Время от времени обрубок с трудом открывал глаза и шевелил разбитыми губами:
– Во имя отца и сына…
Он бился головой о холодный бетонный пол и молил Бога только о смерти. Лишь она могла избавить его от мук и боли. На серых бетонных стенах повис липкий страх. В углах притаилась его мерзкая рожа. Листьями опавшими падали на бетонный пол слова молитвы:
– Спаси, Господи, люди Твоя… оставь, прости, Боже, прегрешения наши…
У тяжелой оббитой железом двери топтался старшина коридорный. На нем была синяя фуражка с красным околышем, синие галифе, темно-зеленая гимнастерка.
– Помяни, Господи, братьев наших плененных… – как стон слышалось из-за двери.
Скрипя блестящими сапогами, коридорный отошел от двери.
«Молись, молись, б…дь фашистская… Предатель. Пойду чифиру заварю. Все время быстрее пойдет», – бурчал старшина, ставя на плиту чайник.
Арестант скользил безумным взглядом по каменной стене. Был он весь в холодном поту.
– Господи-ииии!.. Господи, дай мне путь ко спасению прощения и жизнь вечную.
Взгляд упал на маленький осколок зеркала, вмазанный в стену над раковиной.
Через полчаса старшина, глотнув чифира и выкурив папиросу, заглянул в глазок:
– Твою же мать!..
Гремя засовом, распахнул тяжелую дверь камеры и шагнул с высокого порога. Резко шибануло запахом параши.
Старшина шарахнулся в сторону, ступив начищенным сапогом в густую, черную лужу, в которой скорчившись лежал обрубок. В окровавленных пальцах он держал маленький блестящий осколок.
Господь все-таки услышал его молитву:
– Помяни нас, смиренных и грешных…
* * *
Ранним утром 1 июня на площади в центре лагеря собрались все женщины и казаки. В середине поставили помост для богослужения, у которого расположились священники и хор. Кругом стали казаки и часть юнкеров, решивших защищать женщин и детей. Началась служба Божия. Многоликая пестрая масса женщин, детей и мужчин с плачем и стоном опустилась на колени. Платки, папахи, кубанки, фуражки закачались на минуту и остановились. Площадь снова стала мертвой, тихой.
Муренцов встал с постели и на заплетающихся ногах пришел на площадь. Были слышны тонкие рвущиеся женские голоса.
– Со свя-ты-ми… свят-ты-ми…
Мужчин было почти не слышно. Животный страх сковал грудные клетки. Мужчины прерывисто басили:
– Со свя-ты-ми упокой…
Около восьми часов пришли грузовики и танки с солдатами. Окружили толпу молящихся и, постепенно ссужая круг, стали теснить людей к центру. Повсюду слышались крики команд и ругань. Кто-то вырвался из толпы и побежал в сторону. Грохнул выстрел. Взвыла одна баба, за нею другая.
– Господи Исусе Христе! – застонали, заплакали сзади Муренцова. Кто-то, хрипло дыша, толкнул его в спину.
– Господи… прости нас грешных, Господи, прости… За что?..
В стороне от толпы стоял английский солдат и что-то хрипло кричал. К нему, что-то прося и умоляюще заламывая руки, подбежала женщина. Вместо ответа солдат ударил ее в лицо прикладом винтовки, и она как сноп упала на землю.
Круг со стоящими людьми продолжал медленно сжиматься. Муренцов стоял рядом с худой женщиной, в накинутом на плечи одеяле. Вдруг она с ужасом закричала. Появился строй английских солдат с примкнутыми штыками. Чей-то тонкий голос запел: «Аллилуйя». На разных концах подхватили: «Аллилуйя! Аллилуйя-яя!» И сейчас же ружейный залп рванул воздух. Дико, по-звериному закричали люди. Сердце Муренцова колотилось, словно птица в клетке. Показалось, что стреляют прямо в него.
Английские солдаты набросились на толпу. Нанося удары палками и прикладами карабинов, хватали людей и бросали их в кузова грузовиков. Стоящего юношу солдат с огромной силой ударил дубинкой по вытянутой руке. Раздался крик боли. И перебитая рука повисла словно плеть. Другому казаку разбили голову. Кровь обильно текла из обеих ноздрей, заливала усы, подбородок. Казак медленно опускался на колени, удивленно смотря на ударившего его солдата. Его глаза не выражали боли, а только лишь недоумение. Кто-то, похожий на Григорьева, вырвал из-за голенища нож, бросился вперед, пытаясь клинком пробить себе дорогу, но пуля из английского карабина опрокинула его навзничь. Вторая пригвоздила к земле.
Выстрелы ударили в толпу. Бах! Бах! Бах!
Одна из женщин упала навзничь. Подол ее платья задрался.
– Маты моя ридная! Рятуйте, люди добрые! – закричала она тонким голосом. Затрещал и рухнул иконостас, стали падать хоругви.
Тут произошло страшное. Какая-то девушка, обезумев, бросилась под гусеницы движущегося танка. Танк резко дернулся, пытаясь увернуться от летящего тела, встал, выпустив облако сизого дыма. Потом попятился назад, наматывая на гусеницы куски человеческого тела.
Британские солдаты растерялись.
Воспользовавшись секундным замешательством, люди пришли в себя и вдруг, прорвав цепь ограждения, с диким ревом бросились к реке. Всего лишь в нескольких сотнях метров от них на перекатах бурно шумела Драва. Быстрые потоки воды, загибаясь пенными белыми гребешками, накатывались на обложенные камнем берега. Мужчины, женщины с детьми бежали к реке. Их догоняли и били с размаху в затылок. Люди падали на камни, а их молотили, как снопы, стараясь ударить по голове, по лицу, по вылезшим из орбит от ужаса и боли глазам.
Они вырывались, бросались в бурную реку и шли ко дну, разбивая головы о камни.
На берегу осталось лежать несколько трупов. Среди них убитая женщина. Ее молодое слегка загорелое лицо было спокойно. Казалось, что она спит. Юбка бесстыдно заголилась, обнажив полные белые ноги. Под затылком натекла кровавая лужица. Несколько десятков тел, переворачивая их в бурных волнах, уносила Драва. Оставшихся в живых брали за ноги и за руки, раскачав, забрасывали в кузова грузовиков. Кому-то удалось скрыться в горах. Солдаты стреляли им вслед.
То же самое происходило в каждом полку. Когда приехали забирать 3-й Кубанский полк, казаки стали на колени и запели: «Христос Воскресе!» Их били прикладами и кололи штыками.
В суматохе выстрелов и всеобщей паники Муренцов, пригибаясь и петляя между деревьями, бросился в сторону леса, теряя силы от слабости и быстрого бега. Задохнувшись, он несколько раз останавливался – перевести дух. Идти было тяжело. Дрожали ноги, пересохло в горле. Наконец, он сел на камень и обхватил голову рукам. Все тело болело, будто избитое цепами. Смеркалось. В стороне, под огромным зеленым деревом Муренцов увидел белую часовню. Окна были разбиты, черепица покрылась мхом, известка на стенах облупилась.
Со стороны лагеря слышались выстрелы.
Муренцов решил остаться здесь и дождаться утра. Он зашел в часовенку, лег на серый деревянный пол и забылся коротким, тревожным сном. Перед самым рассветом Муренцова будто что-то толкнуло. Оглядываясь, он сел. В окна было видно поднимающееся солнце, голубеющее небо. Муренцов перекрестился широким крестом:
– Слава тебе, Господи. Я до сих пор жив! – И вышел из часовни.
Напротив входа на траве сидела измученная женщина со свертком на коленях. Она подняла голову, взглянула на Муренцова. Тихим, словно шелестящим голосом сказала устало:
– Убили ребенка-то, ироды…
Муренцов взглянул на лежащий на ее коленях сверток. Вместо ребенка в нем было завернутое в тряпки полено.
Тьма почти рассеялась, ветер разгонял серые кучевые облака, солнце поднималось все выше.
Муренцов постоял с минуту и оглянулся назад. Там осталась вся его жизнь, такая короткая и такая долгая. Вместившая в себя – все. У Муренцова по лицу текли слезы. А впереди была темнота. Было тихо и сумрачно. Куда шел – не думал; это ему было безразлично, главное – идти и идти… Далеко впереди белели шапки гор, и Муренцов шел к ним, повторяя про себя слова генерала Краснова:
– Вы должны обязательно написать об этом. Люди должны знать правду о нас и о том, за что мы сражались.
Так было легче идти.
От желтых цветов становилось все светлее и светлее на земле, и она, окрашенная этим светом, продолжала свое движение в вечность.
* * *
От самого Лиенца на многие километры растянулись длинные ряды казачьих повозок. Брошенные кибитки и палатки безмолвными рядами стояли вдоль шоссе. Между ними бродили оставшиеся кони, худые, грязные, и тоскливо смотрели на проходившие автомобили, словно стараясь поделиться людьми своим лошадиным горем. Часть из них, потерявшая своих хозяев, разбрелась по горам. Иногда они собирались вместе и долго стояли опустив головы, с повисшими ушами, что означало крайнюю степень тоски и усталости.
Между повозками и палатками валялись кучи разбитых и переломанных чемоданов. Грязное белье, оторванные кокарды, немецкие кепи, погоны, военное обмундирование, поношенная обувь, письма, альбомы, фотографии, закопченная на кострах посуда, хомуты и дуги. Это было все, что осталось от нескольких десятков тысяч казаков, которые еще вчера пели песни, любили, плакали и радовались жизни. Здесь, в долине Дравы, около австрийского города Лиенц, где было много всего – солнца, хлеба, цветов, – англичане добили последних казаков.
* * *
А СМЕРШ в это время работал над завершающим этапом «операции».
Автомашины, груженные казаками, двигались по мосту, где по обеим сторонам, плечом к плечу стояли шеренги английских солдат. От середины моста – уже советские пограничники в зеленых фуражках, новеньких суконных гимнастерках и начищенных до блеска сапогах.
Машины прошли мост и остановились на площади, перед сильно разрушенным металлургическим заводом. Заводские корпуса занимали огромную территорию и были обнесены высоким кирпичным забором, в который упиралась ветка железной дороги. Из одиноко торчащей, закопченной фабричной трубы поднимался столб черного дыма. Словно в крематории. На территории и внутри корпусов были разбросаны груды кирпича и изуродованные металлические конструкции. Сквозь полукруглые, огромные и пыльные окна заводских корпусов были видны транспортерные ленты, чугунные станины станков.
Казаков выгрузили из грузовиков и через ворота провели во двор завода. Слышались крики команд, лай собак, лязг затворов. Собаки, натянув поводки, шумно и жарко дышали.
– Эх! Видно, придется умереть не в бою, а как старой суке на вожжине! – тоскливо выдохнул есаул Щербаков. Его лицо сморщилось, стараясь выдавить подобие улыбки. Но вместо улыбки получился оскал, в глазах притаилась смерть.
Всем приказали раздеться. Солдаты копались в вещах, забирали себе часы, деньги, обручальные кольца. Вытаскивали портсигары.
Кто-то из казаков сорвал с груди и бросил на бетонный пол немецкие награды. Вслед тут же полетели боевые знаки за ранения, солдатские книжки, разорванные фотографии и письма.
После шмона всех загнали в огромный металлический цех. Стены цеха были в кирпичной пыли и копоти. Через окна не проникал свет – на стеклах лежал плотный слой грязи. Помещение было битком забито людьми. Они сидели в проходах между станинами станков, разбросанными металлическими заготовками и контейнерами с металлической стружкой. Стояли у стен. Молча. Старались не смотреть друг другу в глаза. Это были боевые офицеры. Все командовали – кто взводом, дивизионом, кто сотней, батареей. Эти люди прошли через самое страшное, что может быть на войне. Через окружение, плен, предательство собственного командования. Теперь они снова были в плену, и предавшее их правительство готово было превратить десятки тысяч ни в чем не повинных людей в рабов.
Раздался шум. Отдавая команды, забегали советские офицеры.
Невысокого роста офицер, с дерзкими глазами, в застегнутом на все пуговицы немецком мундире, Алексей Бондаренко, усмехнулся:
– Вот и начальство по нашу душу приехало.
Металлические ворота цеха со скрипом распахнулись. За воротами остались крытые грузовики, конвой, собаки.
Пленных построили посреди цеха. Впереди офицеры, сзади рядовые казаки. Все без погон, ремней. В изодранной форме, перевязанные, грязные, небритые, окруженные множеством советских солдат-автоматчиков. В помещение вошла большая группа военных. Впереди шел крупный, с брюшком, военный с красными лампасами на брюках и припухшими мешками под глазами. На его плечах топорщились широченные золотые погоны с маршальскими звездами. В нескольких метрах от него шла целая свита из генералов, полковников и адъютантов. По краям ряд вооруженных бойцов. Стволы автоматов были направлены на пленных. Это был командующий 3-м Украинским фронтом маршал Толбухин, пожелавший взглянуть на русских, так ожесточенно сражавшихся против его бойцов. Громко стуча каблуками по каменному полу, в полной тишине группа советских офицеров прошла через весь цех и остановилась напротив офицеров, одетых в немецкие мундиры. Маршал молча рассматривал пленных, цепляясь взглядом за немецкие петлицы, кокарды, остатки погон, и, поморщившись, спросил:
– Старший лейтенант Бондаренко здесь?
Один из сопровождающих громко крикнул:
– Бондаренко! К маршалу!
Бондаренко шагнул вперед. Он никогда ничего не рассказывал о себе. Знали только, что из детдомовцев. В прошлом старший лейтенант Красной армии, сейчас – майор РОА. В 5-м полку командовал взводом, эскадроном. При развертывании Пластунской бригады принял разведывательный дивизион, потом 9-й полк. Офицер редкой отваги и такой же трагичной, горькой судьбы.
Толбухин и Бондаренко несколько мгновений не мигая смотрели друг другу в глаза.
– Бывший старший лейтенант, гражданин Маршал Советского Союза, – сказал Бондаренко.
– Приказа о разжаловании еще не было. Это ты под Питомачей был? – спросил маршал.
– Я.
– Не стыдно тебе, советскому офицеру, фашистские погоны таскать? Ты ведь Родине присягал?
– Я Родине не изменял. Что касается присяги, то и вы когда-то российскому императору присягали!
Маршал нахмурился.
– Не в твоем положении, Бондаренко, сейчас дерзить маршалу. – Потом повернулся к свите, сказал: – Разбили мне эти два засранца, Бондаренко с Кононовым, 703-й стрелковый полк Шумилина! Кстати, Кононов здесь? Нет? Ну ладно, все равно никуда не денется. – Толбухин опять повернулся к Бондаренко. – Ладно, живи дальше. Во всяком случае, воевал ты храбро. Жаль только, что раньше у меня не оказался.
У Толбухина был хорошо поставленный командный голос, властный взгляд. Во всем чувствовалась порода. Маршал помолчал. Выдержал паузу.
– Штрафную роту бы тебе дал. Еще бы и героем у меня стал!
Бондаренко ничего не ответил.
– Ну молчи, молчи, – Толбухин резко развернулся и, не дожидаясь сопровождающих, вышел из цеха. – Герои, мать вашу!..
* * *
Под вечер к дверям цеха подъехало несколько штабных открытых машин. На фоне заката были отчетливо видны фигуры приехавших. В окружении советских офицеров стояли Петр Николаевич Краснов, одетый в немецкий мундир, и Андрей Григорьевич Шкуро. Обрюзгший, седоусый, в потертой немецкой шинели и с фибровым чемоданчиком в руках.
Краснов держался с мучительным достоинством. Он как бы стал меньше и суше от пережитых потрясений. Уголки сухого старческого рта были трагически опущены, пергаментная, иссеченная морщинами кожа лица бледна. Серебристо поблескивал бобрик седых волос.
На распахнутой шинели Шкуро – русские генеральские погоны. На груди в четыре ряда пестрели орденские ленточки. Два часа назад при передаче его советской стороне генерал Шкуро сорвал с груди британский рыцарский орден и швырнул его на землю перед английским офицером.
Андрей Шкуро стоял у машины, облокотившись на нее рукой. Около него стоял советский военный корреспондент. Разговор шел о Гражданской войне. Долетела фраза, громко сказанная Андреем Григорьевичем Шкуро:
– …Под Касторной? Как же! Помню! Рубил я вас, краснюков, в собачье крошево и там!
В трех шагах от них стоял майор из армейского отдела СМЕРШ. Он смерил Шкуро взглядом.
– Закончить разговоры! Конвой, увести арестованных.
Шкуро повернулся к нему лицом.
– Когда говорите с генералом, подобает встать «смирно» и взять под козырек.
Майор улыбнулся, послал ему ненавидящий взгляд:
– Я учту это!
Шкуро побагровел и резким фальцетом выкрикнул:
– Передайте своему начальству, чтобы оно научило вас субординации.
Майор лапнул кобуру.
– Иди, иди, падла. Я и не таких, как ты, в землю вгонял.
Шкуро попробовал что-то ответить.
– Иди, сука!
Кивком головы майор подозвал к себе лейтенанта:
– Ты смотри в оба глаза за Шкуро. Буйный! Как бы не сотворил чего. Головой отвечаешь.
Когда генералов повели через цех в особое помещение, они прошли очень близко от казаков. Узнав земляков, Шкуро обреченно махнул рукой:
– Эх, хлопцы, хлопцы! Говорил я вам, не отдавайте винтовки, а то… вырежут на х…!
Краснов обернулся к казакам:
– Прощайте, станичники! Храни вас Бог! Простите, если кого когда обидел, – и пошел, тяжело опираясь на палку.
Генералов под усиленной охраной разместили в комнатах, отдельно от казаков. В течение почти всей ночи генерал Шкуро стремительно метался по комнате, прикуривая одну папиросу от другой. Коричневые от табака пальцы дрожали. Он захлебывался кашлем, хрипел и безостановочно балагурил с советскими офицерами, заходившими в комнату. С прибаутками и матерками Шкуро рассказывал о Гражданской войне. Полковник из политотдела армии пробовал ему возражать, но Шкуро никогда не лез за словом в карман:
– Драл я вас, красных конников, так, что пух и перья летели! – При этих словах остальные офицеры смущенно улыбались, оглядываясь по сторонам.
Он шутил, но в глазах плескалась бездонная, огромной силы тоска, от которой делалось не по себе…
Генерал Краснов, опустошенный трагическими событиями последних дней, одиноко сидел в углу комнаты: беспомощный, непохожий на себя, не знающий, что делать и как распорядиться самим собою. Сухие пальцы сжимали трость.
Вечером 30 мая 1945 года Петра Николаевича Краснова и еще двенадцать казачьих генералов погрузили в накрытые тентом грузовики. Усатый старшина передернул затвор автомата.
– Ну что? Поехали, предатели! Если хоть одна б…дь ворохнется и попытается бежать, патронов не пожалею. Вперед!
* * *
Генералов доставили в тюрьму Граца. На следующий день всех перевезли в Баден под Веной, в контрразведку СМЕРШ. Всех прошмонали.
– Раздеться догола! Поднять руки! – Привычные к такой процедуры офицеры НКВД не стеснялись. – Наклониться! Раздвинуть ягодицы! Присесть на корточки! – Сфотографировали, сняли отпечатки пальцев. Переодели в какую-то одежду с чужого плеча. Объявили, что все они временно задержаны на территории советских войск до выяснения личности.
Ранним утром 4 июня 1945 года на пассажирском самолете «Дуглас» генералы Петр Николаевич Краснов, Андрей Григорьевич Шкуро и другие были доставлены в Москву, на Лубянку.
Генерала Краснова вели по коридору – длинному, полутемному, с низким потолком, с металлическими дверями по обе стороны. На Петре Николаевиче были одеты суконная солдатская гимнастерка без погон и длинные серые брюки. На голове серебрился ежик волос. Он был чисто выбрит, усы по-прежнему закручены стрелками.
Стены коридора, когда-то давно покрашенные бурой краской, облупились. Сквозь краску проглядывали заплатки серой стены.
Болела перебитая во время Луцкого прорыва в далеком 1916 году нога. Прихрамывая, генерал шагал по бетонному полу, выложенному темно-зеленым кафелем. На полу зияли заплатки от выпавшей плитки, замазанные цементным раствором. В тяжелом воздухе стоял запах хлорки, тревоги, тяжелого и неустроенного быта. Так пахнет беда.
Спереди и сзади шли два надзирателя. Шедший впереди здоровенный краснолицый сержант поигрывал связкой ключей и весело насвистывал. Шедший за Красновым старшина подавал команды:
– Прямо… Стоять… Лицом к стене.
Пока сержант гремел связкой ключей, открывая решетчатые двери, перекрывающие коридор и этажи, генерал, оглянувшись назад, успел заметить седые виски и морщинистое лицо старшины. Тут же он получил громкое замечание:
– Отвернуться к стене. Смотреть перед собой.
Сержант потянул на себя дверь камеры, и дверные петли противно завизжали. Дверь бухнула за его спиной. Лязгнул засов. Дважды провернулся ключ в замке.
В коридоре слышалась перебранка:
– Я тебе скильки раз говорил, Луценко, шобы ты не свистел во время конвоирования заключенных.
– А шо?
– Срок себе насвистишь, вот шо! Сейчас подам рапорт по команде, шо ты, бисов сын, свистом переговариваешься с врагами народа, будет тебе тогда – шшо!
Прогретый жарким июньским солнцем воздух в камере был густым и спертым. Воняло табачным дымом, запахом немытых человеческих тел. От тяжелой железной бадьи, стоявшей в углу у двери и занавешенной рваной простыней, несло запахом параши.
И старый русский генерал словно уперся в невидимую стену, он понял, что впереди его ждет смерть. Что Советская власть не пощадит его, как никогда не щадил ее он. Генералу Шкуро было что вспомнить. Хмель сабельных атак. Гудящее по рядам казаков эхо приветствий. Поражения и победы. Где теперь все это сейчас? Вместо преданных и верных казаков – косые взгляды мрачных конвоиров. Впереди долгие годы в тюрьме или намыленная петля.
Во время короткой прогулки в тесном прогулочном дворике Петр Николаевич Краснов с тоской смотрел в зарешеченное небо, наматывая бесконечные километры по серому бетонному полу. И крутилась в голове русского генерала упорная мысль:
«Когда-нибудь русские люди, мысленно осознав весь позор и ужас того, что совершили их отцы и деды, содрогнутся. Но не Россия и не русский народ – виновники всеобщих страданий. Сталины уйдут, а Россия была и будет. Пусть не та, которую я помню и люблю, не в боярском наряде, а в телогрейке и грубых сапогах, но она не умрет. На смену погибшим и замученным народятся новые люди. Сильные! Свободные! И тогда начнется воскресение России! Не сразу. Но оно непременно будет! Жаль только, что я не доживу».
Через решетку на потолке проглядывало серое небо. Ни солнечного лучика, ни зеленого листочка, ничего живого. Только лишь взгляд тюремного вертухая с вышки. Лубянская тюрьма – это огромный каменный мешок.
Старый генерал не мог спать ночами, мешал резкий свет лампочки, бьющей в глаза. Только под утро он забывался глубоким и тяжким сном, проваливаясь в воспоминания. Но стоило только закрыть глаза, как через намордники на окнах в камеру проникали звуки военных оркестров откуда-то издалека, от Белорусского вокзала.
Москва готовилась к большому параду победителей.
* * *
Холодным октябрьским утром вагоны, набитые казаками, перевезли через советскую границу. Вот она, страстно желанная Родина. Те же, что и прежде, люди, все та же холодная, серая и страдающая страна. Шел бесконечный дождь.
Этап шел в Сибирь. Стояла осень сорок пятого года.
Выкрашенные в кирпичный цвет товарняки с широкими дверями, наружной перекладиной и тяжелым замком. В таких по железной дороге перевозили скот. С небольшой разницей: у людей в отличие от скота не было ни сена, ни соломы.
Впереди ждала неизвестность.
Во время длительных остановок конвой выводил заключенных из вагонов на насыпь. Ноги скользили и утопали в грязной жиже. Под холодным тоскливым дождем устраивалась поверка. Наряды поднимались в вагоны, деревянными молотками простукивали пол, стены, крышу – проверяли, не готовится ли побег. Потом всех снова загоняли в вагон и теми же молотками били замешкавшихся. В паровозном дыму, под лай собак и крики конвоиров вчерашние солдаты по настланным доскам вбегали в вагоны. По обе стороны двухъярусные нары, в углу – бочка-параша. Орал непротрезвевший и злой конвой, беспрерывно щелкали затворы винтовок, злобно лаяли собаки.
Грязное серое небо густо было затянуто облаками, по крыше вагона бил частый и нудный дождь. Кругом было пасмурно и серо. В товарных вагонах стояла тишина. Измученные до обморока теснотой, голодом и холодом люди дремали, крепко прижавшись друг к другу, пытаясь хоть напоследок получить чуточку тепла от костлявого соседнего тела. Накрывали головы и плечи старыми шинелями. Кое-кто толпился возле крошечного, зарешеченного окошечка и жадно вглядывался в пролетающие за окном версты. Казалось, что это летит сама жизнь.
Вчерашние солдаты и сегодняшние зэки – молились. Вчера они просили у Бога:
– Убереги, Господи, от пули вражеской!
Сегодня, подгоняемые матом и прикладами конвоя, молили:
– Господи! Спаси от пули чекистской и собаки конвойной! Отведи от заснеженной Колымы.
Прибывшие на станцию Прокопьевск эшелоны из Юденбурга тут же окружили вооруженные солдаты с собаками.
По-прежнему лил нудный осенний дождь.
И тоска, темная, беспросветная как ночь, сжимала сердца.
* * *
Ложь подобна снежному кому. Одна маленькая неправда порождает большую. Большая ложь влечет за собой предательство. Солгав о том, что у него нет пленных, а есть только изменники, Сталин тем самым предал сотни тысяч и миллионы своих солдат, обвинив их в самом страшном преступлении для солдата.
Свет зеленой настольной лампы отбрасывал на стол неясную размазанную тень. В углу притаился полноватый человек в пенсне. На столе перед ним лежала толстая картонная папка с матерчатым переплетом и завязками из ткани. В большом просторном кабинете стояла тишина. Невысокого роста рыжеватый человек с оспинами на лице размеренно ходил вдоль стен. Колыхались по стенам неясные тени, дымилась трубка, раздавался размеренный скрип сапог. Сидящий в тени человек ждал. Рябой остановился напротив лампы, пыхнул трубкой и сказал:
– Лаврентий, процесс над этими прэдателями надо сдэлать закрытым.
Человек под лампой подобрался, как хищник перед прыжком. В лучах лампы блеснуло стеклами пенсне.
– Почему, Коба? Давай покажем всему миру, как эти сраные казачьи генералы валяются у тебя в ногах?
Сталин глянул на Берию своими желтыми тигриными глазами.
– Лаврэнтий, ты дурак? Ты думаэшь, что этот старый нэгодяй Краснов встанэт на колени? Он уже стар, ему нечего бояться. Он будэт говорить, и его будут слюшать, поверь мнэ. А самое главное… идеи этих казаков могут как зараза разойтись по всему миру, не говоря уже о тех местах, где еще остались казаки. Нам сейчас еще только не хватало какой-нибудь Вандеи.
Берия настороженно спросил:
– А что будем делать с этими прэдателями? Расстрэляем?
– Нэт, мы их не расстреляем. – Сталин усмехнулся. – Мы их повэсим, как бешэных собак. Проинструктируй этого говоруна Ульриха. Пусть не затягивает процесс, а то начнет препарировать, как своих бабочек. Совэтская власть нэ любит миндальничать.
Берия заулыбался, вспомнил, что еще в 1940 году докладывал Сталину о том, что Ульрих собирает и коллекционирует бабочек и мотыльков со всего мира.
– Все. Можешь идти.
Берия поднялся и вышел, прихватив с собой папку.
16 января 1947 года состоялось закрытое заседание Военной коллегии Верховного суда. Судили эмигрантов – генералов Петра Николаевича Краснова, Андрея Григорьевича Шкуро, Семена Краснова и Султан-Гирей Клыча. Вместе с ними на скамье подсудимых сидели советский гражданин Тимофей Доманов и подданный германского Рейха Гельмут фон Паннвиц.
Набор обвинений был стандартный – «по заданию германской разведки в период Отечественной войны подсудимые вели посредством сформированных ими белогвардейских отрядов вооруженную борьбу против Советского Союза и проводили активную шпионско-диверсионную деятельность против СССР».
Смертный приговор был вынесен заранее, еще до начала процесса, поэтому члены суда совещались недолго.
Уже через полчаса Ульрих зачитал приговор – смертная казнь через повешение с конфискацией всего принадлежащего имущества.
После приговора всех осужденных под усиленным конвоем отвели в спецблок тюрьмы. Сидя в тесном боксе, приговоренные ждали, когда их разведут в камеры для смертников. В углах серых бетонных стен притаился страх. Он был всюду, под нарами, за решеткой окна, за бачком с парашей. Доманов ушел в себя, сидя на корточках у стены, он выглядел затравленным зверем. Дрожащие щеки, глаза словно оловянные пуговицы. У двери, как раненый зверь, метался генерал Шкуро. Серая рваная тень висела за его спиной, скользила по стенам. Холодной зимней поземкой оседал на стенах шепот молитв. Каждый молился своему Богу – мусульманин Клыч, католик Паннвиц, православный Краснов.
У каждого был свой Бог – но молитва одна:
– Господи, укрепи меня в духе!
Люди слышали, как в коридоре раздавались шаги. От камеры к камере ходил надзиратель.
Сегодня их убьют или завтра?
И только не верящий ни в бога, ни в черта Шкуро негромко пел своим хриплым простуженным голосом – военные марши, казачьи, застольные. Пел горько и обреченно. Как плакал. Его песни были длинны и бесконечны, как горе.
Люди были в холодном поту, как бетонные тюремные стены. Они еще ничего не знали, но чувствовали, что их судьба уже решена. Им было страшно, очень страшно.
Исполнение приговора было назначено на тот же день.
Во внутреннем дворе тюрьмы установили шесть виселиц. Возле виселиц топтались бойцы конвойного полка НКВД, одетые в серые шинели. Надежные солдаты. Проверенные.
Хлестко лязгнул засов двери. В проеме двери, затянутый в ремни портупеи, стоял дежурный помощник начальника тюрьмы с листком бумаги в руках.
У немолодого майора, поседевшего на конвойной службе, жесткое лицо. Из-за спины выглядывали розовощекие лица любопытных солдат. Дежурный помощник махнул бумагой. Хриплый голос негромко, но страшно хлестнул по ушам.
Майор скороговоркой назвал шесть фамилий. Повисла вязкая тишина. Не было сил двинуться с места.
К двери подскочил Шкуро, подбоченился, спросил:
– Куда нас?
Майор негромко ответил с досадливой усмешкой:
– На медосмотр. – И уже громче: – Без вещей. На выход!
Но приговоренные уже знали. Они все поняли.
Петр Николаевич Краснов перекрестился и первым шагнул к двери. Их вели какими-то темными переходами. Подземным коридором. Генерал медленно шел между конвоирами, тяжело опираясь на палку. Следом за ним шли остальные – племянник Семен, Доманов, Шкуро, Султан-Гирей Клыч. Замыкающим шел фон Паннвиц.
Тесный и гулкий колодец тюремного двора, переполненный солдатами и гомоном команд.
Руки приговоренных были скованы за спиной наручниками. Конвойные помогли забраться на невысокую, сколоченную из свежих сосновых досок скамеечку. Накинули на шеи веревочные петли. С неба повалил редкий крупный снег. Огромные снежинки, медленно кружась, опускались на дно каменного колодца.
Угрюмый, мрачного вида полковник в светло-серой шинели зачитывал приговор:
– Именем Союза Советских Социалистических Республик Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила…
Приговоренные ждали. Время тянулось медленно, секунда гнала секунду, а минуты едва ползли, плавно перетекали в вечность.
– …начальника Главного управления казачьих войск… генерала Краснова… начальника казачьего резерва Главного управления СС генерала Шкуро…
В узеньком каменном мешке звучало гулкое эхо. Голос полковника слегка дрожал, скрипел снег под сапогами переминающихся с ногу на ногу охранников.
– …руководителя Северо-Кавказского национального центра в Берлине генерала Султан-Гирея Клыча, Походного атамана казачьего Стана Главного управления казачьих войск Министерства восточных оккупированных территорий Германии генерал-майора вермахта Доманова, командира 15-го казачьего кавалерийского корпуса СС… генерал-лейтенанта…
Холодный воздух перехватил горло. Жадно вдохнув новую порцию воздуха, полковник продолжил:
– …Паннвица на основании… Указа «О мерах наказания для… злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и для их пособников…»
Первым стоял генерал Краснов. Тело его сотрясала крупная дрожь, и в голове билась единственная мысль: «Это от холода… Конечно от холода. Но не от страха».
В последней тоске генерал поднял глаза в небо, глубоко и порывисто дыша, ловя открытым ртом густой морозный воздух. Снежинки терялись и таяли в его седых волосах, превращаясь в сверкающие круглые капельки. Они были похожи на слезы.
Гельмут фон Паннвиц старался восстановить в памяти самые лучшие дни своей жизни. Перед глазами шли и шли белые кони эскадрона Мосснера, восторженные, восхищенные лица казаков. Их глаза. Они так хотели жить!
Сержант сделал маленький шажок к скамье.
Андрей Шкуро скосил на него глаза, набрал в грудь воздуха и плюнул на сапог сержанта.
Как сквозь вату донесся дребезжащий голос полковника:
– …к смертной казни через повешение и конфискации всего лично им принадлежащего имущества.
Сержант побагровел, но справился с собой. Полковник махнул рукой, стоящие рядом солдаты, дружно хекнув, гвардейским ударом выбили скамейку из-под ног.
Натянулись веревки. Выгнулись тела. Полковник отвернулся.
Солдаты повернулись через левое плечо и по команде старшины ушли.
Через полчаса зэки из хозобслуги сняли трупы и уложили их на носилки. Врач в белом халате щупал пульс. Констатировал смерть.
Морозно пахло снегом. По длинному тюремному коридору несли в морг носилки с телами казненных генералов.
Стучали каблуки зэковских сапог по кафельному полу. Свесившись с края носилок, длинное худое запястье безжизненно раскачивалась в такт их шагам.
– И маршалы зова не слышат…
Эта казнь стала последней точкой в истории долгой и жестокой Гражданской войны казачества за ту Россию, которую они потеряли.
Послесловие:
Заместитель и друг Гельмута фон Паннвица, полковник Ганс Иоахим фон Шульц остался жив, женился на его тридцатилетней вдове и воспитал троих детей.
Генерал-майор КОНР Иван Никитич Кононов, проживая в американской зоне оккупации, в конце 1940-х годов сумел перебраться в Австралию, где отошел от политической деятельности. Но все равно до самого последнего своего дня и часа находился в розыске органами КГБ как изменник Родины.
Сбылось предсказание отца Валентина. Проживая в городе Аделаида, Иван Кононов стал прилежным прихожанином местного православного храма.
15 сентября 1967 года он погиб в автомобильной катастрофе. Органы ЧК – ГПУ – НКВД – КГБ не зря называли себя карающим мечом советской власти.
Сомневающихся в правильности выбора коммунистического строя, врагов и предателей похищали, убивали, травили, рубили топорами и ледорубами во всех уголках земли.
Его жена, Кононова Лидия Михайловна, вернулась из эвакуации в Житомир. Ей вернули ее дом. Она вырастила и воспитала дочь и сына. Дочь даже какое-то время занимала комсомольские должности.
Сын – Вениамин Иванович Кононов – поступил в военное училище. Принимал участие в подавлении Венгерского восстания 1956 года. Женился на студентке медицинского института. Родилась дочь. В начале 60-х решил поступать в академию, но при проверке личного дела особым отделом вылезла наружу правда об отце. Вылетел из армии и остался на улице в шинели, но с женой и ребенком. Советская власть не прощала детям измены отцов. Но им хотя бы дали возможность жить. Вернулся к матери в Житомир, работал слесарем-наладчиком КИПиА.
Его дочь вышла замуж за военного врача.
Потери, понесенные казачеством в войне с СССР и его союзниками, точно неизвестны. Германское командование не вело такого учета среди восточных добровольцев, в том числе и казаков. До сих пор используется формулировка:
«В боях некоторые казачьи части были уничтожены полностью».
Оставшиеся в живых казаки получили сроки заключения, некоторые покончили с собой во время репатриации. Многие погибли в лагерях. Лишь единицам удалось скрыться, затаиться, спрятаться. Весь остаток своей жизни им пришлось прожить виноватыми, стараясь забыть, навсегда вычеркнуть из своей памяти эти страницы.
Они не дождались прощения. Никто не слушал их оправданий. И им оставалось только одно – до конца испить горькую чашу предательства.
Не нам судить, были ли они правы или виноваты. У каждого из них были свои причины ненавидеть советскую систему. Почти все они в той или иной форме пострадали от советской власти. Именно эти личные и политические обиды, укоренившиеся достаточно глубоко, послужили причиной того, что величайшие патриоты России оказались в стане ее врагов.
Служба казаков в вермахте была величайшей трагедией, порожденной политикой геноцида казачьего народа, которую советская власть проводила на казачьих землях. Но об этом старались не говорить вслух.
Историю всегда писали и пишут победители. Побежденные же уходят в вечность с клеймом изменников и предателей.
1999–2013 гг.
Пятигорск – Новочеркасск – Лиенц – Бонн



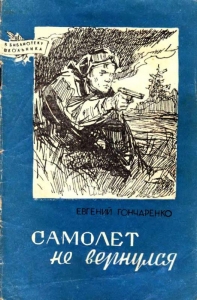



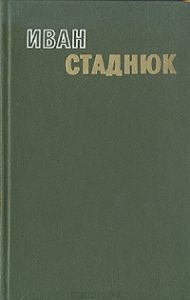



Комментарии к книге «Обреченность», Сергей Эдуардович Герман
Всего 0 комментариев