Глава пятнадцатая
ВОИН В ТАИНСТВЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В РОДНУЮ ОБИТЕЛЬ ИЗ ГОРЬКОГО ПЛЕНА
I
Вот и Пряхина, родительский дом! Какое блаженство видеть милую, родную землю! Стоял март. Мели еще вьюжки-метели, но солнце уже пригревало леса и поля, одаривая первосветьем. Оседающие сугробы синие-пресиние. На зимнюю снежность как упало небо. Осиновый лес на крутогорье безмолвен, еще в плену снежницы, и даже в россыпи света кажется сиротливым, неуютным. Но там уже пробудилась жизнь! Слышно, как дятел неугомонно выбивает дробь. В летучем эхе стуков, угадывается мужская старательность, ласковая музыка ─ он строит терем и зовет на свадьбу, на житие премилую молодушку. Глухари и тетерева тоже ведут брачную перекличку, приглашают красавиц на токовище.
В поле на взгорье еще держится снег. Но уже загустели проталины. По черным бороздам умными и загадочными колдунами разгуливают грачи. На реке Мордвес ледостав, льдины кружатся на перепутье в омуте с особою радостью, как в девичьем хороводе. С талой воды, в сладком томлении, взлетают стаи уток, больше парами, утка и селезень. Летят гордо, с достоинством, неразлучно любимыми, туда, где солнце и синь неба. Вдоль берега серебрятся сережками вербы. Березки еще не оживили свою красу, не шелестят певуче листиками одинокому страннику. На оснеженном лугу, ломая в лужице тонкие льдинки, пасутся стреноженные кони.
Все как было!
И в детстве, и в юности. Та же целомудренность жизни, та же первозданная красота. Ничего не изменилось. Только стало еще милее, сладостнее. Еще любимее до боли и сумасшедших слез.
Мир тебе, моя милая родина!
Александр послушал петушка-скворушку, что пел в саду серенады подружке, того самого, кого спас от гибели, подобрав с переломанным крылом у ветлы, порадовался его взрослости, ─ и стрелою взлетел на крыльцо, но в избу вошел тихо, незаметно.
Мария Михайловна топила печь и, согнувшись, размешивала кочергою раскаленные малиновые уголья, отклонив от жаркого пламени строгое лицо, еще подложила поленьев, взметнув пепел и искры. Ухватом поставила в печь чугунок.
Он хотел немедленно обнять ее, поцеловать. И долго держать у груди, наслаждаясь теплом родного, дорогого существа. Но постеснялся. И тихо, чтобы не испугать, сказал:
─ Мир и согласие дому родительскому!
Мать повернулась и долго рассматривала незнакомого пришельца. Она не узнала сына. У порога стоял чужой человек в черном нищенском пальто. Лик изможден, сам худ, кожа и кости. С лица стекает боль и горе. Никакого свечения в человеке. Скоморох и скоморох в таинстве жизни!
Женщина кротко спросила:
─ Вы кто будете? Не от сына с весточкою? Или странствуете с сумою? Картошек я вам соберу
─ Остановись, мама! ─ обнял ее Александр. ─ Это я! Сын твой. Не узнала?
Мария Михайловна испуганно всплеснула руками, из глаз потекли слезы:
─ Шурка! Ты, что ль?
─ Кто ж еще? Вернулся! ─ он сбросил у порога старое, изношенное пальто, лохматую шапку. ─ Теперь признала?
Матерь перекрестила икону и его. С болью произнесла:
─ Да как признать? Оброс, борода седая, как у библейского бога Саваофа, лицо исхудалое, выдублено ветрами! И сам в лохмотьях, как рыба в чешуе. Уходил на фронт человеком, вернулся нищим странником!
─ Тяжело досталось, мама!
─ Вижу, что тяжело досталось! Руки с чего обгорелые, как пламя в ладони держал? Иль на костре жгли, как еретика Джордано Бруно?
─ То не пламя, мама! То обгорелость от связки гранат; причастие такое выпало, биться с танками! Но оставим! Я бы помылся с дороги. Водичкою не уважишь?
─ Чугунок поставила, ─ она открыла крышку. ─ Распускается кипень. Разоблачайся.
Как хорошо в родительской обители! Сияют глаза, ликует душа! Все в радость! И горница с иконою Богоматери и младенцем Христом, с мило горящим светлячком в малиновой лампаде, русская печь, коник-ящик со старинною одеждою, на котором можно сидеть, как на лавке, ковер с лубочным озером и белыми лебедями, скромно-уютная половица, связанная из разноцветных ленточек. Даже в радость и милость ткацкий станок бабушки Арины, что смиренно приютился в сенце, прикрывшись паутиною; хомуты, ручные жернова и цепа, какими отец обмолачивал хлеба, и деревянная соха во дворе, на которой пахал землю дед Михаил Захарович. Сладостно величав и яблоневый сад, он еще земная сиротливость, ветки холодны, безжизненны, еще не напитаны солнечным свечением, и сама яблоня еще стоит в снежнице, ощущая скованность, неполноценность; в красоте не летают шмели и шоколадные бабочки, но все едино до слез тревожит щемящую грусть, щемящую радость.
Все осталось в неприкосновенности! И он как не уезжал. Ибо все так же чувственно видит пашенные поля, все так же слышит с луга пение иволги, душистое дыхание лугового василька.
Но разлука была!
Не будь ее, как бы он обрел такую непостижимую, загадочную любовь к стране детства? Неужели все это могло исчезнуть в грохоте танков? За плетнем краснотала! За плетнем вечности.
Не исчезло, не исчезло! Александр счастлив, он выливает на себя ковшик за ковшиком, громко радуется, растирает тело намыленною мочалкою и водою. Она тоже необычная, свежая, родниковая, с запахом талого снега, болотной осоки и лугового ландыша. Тело становится легким, тело ликует, как наполняется сладостным песнопением. Мать подала полотенце, вынесла знатную отцовскую рубашку, в которой он не раз ходил на вечерки и под гармонь Леонида Рогалина лихо танцевал краковяк с дочкою богача, с Машенькою, и на свадьбе сидел в рубахе с русскою вышивкою; ─ в результате чего явился он.
Боже, как любо жить! Как любо жить!
Еще бы услышать разудалую гармонь у реки в пиршестве березок, покружиться ненасытным ветром в пляске, попеть тоскующее страдание с красавицами россиянками. И затаенно полюбоваться на юную принцессу, к кому несет совестливую, целомудренную любовь.
Чего еще человеку надо?
Умывшись, солдат-окруженец присел к столу. Он накрыт холщовою скатертью. Еда самая немудреная, крестьянская: жареная картошка на сале, суп из крапивы, крыло курицы, яйца, творог, кувшин с молоком, хлеб с лебедою.
Мария Михайловна наложила крестное знамение на застолье, и стала по любви смотреть на сына, радоваться, как он ест, не зная, чем бы еще уважить. Жили бедно. До последнего зерна выгребала окаянная беда-печальница, какая взошла над Русью.
─ Надолго отпустили? ─ спросила тихо, задумчиво.
─ На сутки, мать.
─ Что так? Погостил бы. Обласкал бы начальство желанием.
Александр посмотрел в окно:
─ Я сам себе командир, мама. Иду из окружения! Нет надо мною власти. Вольный я. Как журавель в небе! Брошен я в мире. В одиночество! Жуткою войною. Никто обо мне не знает: ни начальство, ни Иосиф Виссарионович. Вышел из окружения, не вышел, погиб под гусеницами танка-крестоносца, не погиб, никому нет печали! ─ Он помолчал. ─ Сам я себе такое время назначил. Именем совести! Именем России! На фронт рвусь, мама. Врага бить. Не могу я с девицами любовь крутить, если над Русскою землею стоит лютое грозовое лихолетье!
Матерь пододвинула сыну кружку молока, не без горечи заметила:
─ Ишь, как рассуждаешь. Как мятежник Емельян Пугачев, царская власть ему не во власть, а тебе начальство не начальство! Человек ты с характером! То мне известно. Самовлюбленность в тебе есть, и самовластность! Принимаешь мир таким, каким видишь. И живешь по законам собственного сердца. Выстрадал истину, отстаиваешь ее. Никому не уступишь. Прав, не прав, но мира в себе не возвеличишь! Проще сказать, живет в тебе стихия крестьянского мужика. И не можешь ее обуздать. Отсюда твои беды и печали.
Спросила строже:
─ Скажи, мир уже разрушен Мефистофелем? Россия пала? Ты один остался? На всю сиротливую землю, на всю сиротливую Вселенную? И можно нарушать законы? Нельзя, сын! Нельзя! Вышел из окружения, явись к военкому в Туле, и будет от правды жизни! Явился? Доложил о себе? Я его жду с фронта, как воина Руси, с музыкою, с ликованием, как встречают матери Героя, а он явился, как дезертир с поля битвы, с оглядкою, огородами, сторонясь народа, боясь каждого куста! Зачем ты мне такую стыдобу принес?
─ Строга ты, мать. И не права, ─ защитился Александр.
─ Чем же не права? Разве не накажут тебя, как Каина-дезертира, что по начальству не явился, а прямиком помчался в Пряхина, как конь по вольнице!
─ Накажут, мама. Трибуналом накажут! И расстрелом, ─ покорно согласился сын. ─ За все накажут, мама! Безвинного, беззащитного, как не наказать? За то, что Гитлер перехитрил Сталина, и он не уловил миг нападения! И как стали воевать? Танки-крестоносцы половодьем растеклись во всю землю Русскую, огнем сжигают Русь, как огненные демоны– чудища, а мы им навстречу со штыками и камнями! На троих одна винтовка! Ждем, когда кого убьют! И желаем, дабы быстрее! Лучше воевать с оружием, чем с кулаками! Безумие!
За то накажут, что в первые недели великого неслыханного убиения, разгромили, взяли в окружение всю Красную армию! Защищать Москву было некому!
Только народное ополчение и спасло Россию! Ополченцы Тулы и Смоленска, Орла и Москвы. Безоружные! Понимаешь? На брата две гранаты! Солдаты, израненные, окровавленные, вырываясь из окружения, отдавали свои винтовки, пулеметы. Как меня не наказать? Разве не заслужил? Это ведь я расстрелял на Лубянке комиссаров, генералов, маршалов, оставил Русское Воинство без командира! Нашу рать в атаку водил сталевар Ипполит Калина! Скажи, как меня не наказать?
Воин в трауре помолчал:
─ Жутко все было, мама! Враг силен. Смертно мы бились. И храбро. Чудом я живым остался! Скорее не чудом, а твоими молитвами. Но сколько полегло! Тьма-тьмущая! Сколько братьев по битве похоронил, ─ до гроба будут слезы в горле стоять. В горле и в сердце! Своими телами дорогу к победе мостим! В святой русской крови их танки вязли! Нет никому печали до твоей жизни! Вперед, и все! На пулемет, на дот, на танк! Идешь, задыхаясь от злобы. Оглянулся, все поле сечи убитыми усеяно. Как рожь после косьбы, а фриц жив, на губной гармошке играет. И еще печальников поджидает, чтобы загнать в могилы, вытолкнуть в смерть. Не поле битвы, а поле убиения русского солдата! Вот как воюем, мама. Вот где стыдоба! Все держится на отваге. И жертвенности. Так бы Русь давно ушла в пламя свечи, в тревожные ветры! Бил я фашиста! И снова меч вострю. Поэтому и зашел первым делом в Пряхина с тобою попрощаться. С тобою, сестрами и братьями. Вдруг видимся в последний раз? Желал бы еще на могиле отца побыть. На кладбище, где похоронены прародители. Дорога мне родина, мама, мила! Как хорошо дышать ее воздухом, видеть ее пашни!
Родина силою духа питает солдата на жертвенном поле битвы и смерти, мама!
Выслушав исповедь, осмыслив боль сына, Мария Михайловна заметила мягче:
─ Про жуткую сечу я поняла, сын! Я не поняла, почему не зашел в военкомат в Туле? Не переломился бы!
─ Не зашел, ибо не мог, ─ с горечью и повинно отозвался Александр. ─ Неизвестно, отпустили бы еще в родную обитель! Я как русский богатырь на распутье: могут отправить на фронт, могут этапом на Соловки, а то и расстрелять.
Мать испуганно посмотрела:
─ За какую такую вину?
─ Разве чекисты расстреливают только виновного? Один офицер в тюрьме сказал: мы все виноваты перед Иосифом Сталиным тем, что родились в его время.
─ В какой еще тюрьме?
─ В Вязьме, в тюрьме.
─ Ты был в заключении?
─ Не избежал ни тюрьмы, ни сумы. Был в штрафном батальоне, в плену, в окружении. Раз за разом приговаривали к смерти. И свои, и фашисты.
─ За какую провинность?
─ За побег из лагеря смерти под Холм-Жирковском. Был травлен собаками, распят на кресте. Бог миловал. Случайно. У коменданта лагеря родился сын. И он помиловал. Меня и друга, Петра Котова.
─ Своими, за что? ─ пытливо взглянула Мария Михайловна.
─ За любовь к Советской власти.
─ Не так объяснился в любви?
─ Тоже за побег. Из военного училища. Поссорился с командиром, и сбежал на фронт; нечаянно вышел в зону, где была ставка Жукова, забрала военная разведку СМЕРШ! Был без документов, посчитали шпионом! Приговорили к расстрелу!
Теперь осмысли дальше. Завтра из Тульского военкомата меня направят в лагерь НКВД. Все, кто вышел из окружения по скорбным и праведным тропам, вышел с боями, полив русскую землю кровью, слезами, пропускают через чистилище. Будут водить на допрос как заключенного, как отверженного, изгоя жизни! Добавлять еще мук. За то, что не сгибли в пламени битвы, не застрелились, попав в плен, выбрались живыми из могилы, из тоски, из своего плача. Следователь будет грозен. Как судия. Почему выбрался? Почему не застрелился? Продался в плену немцам? И отпустили живым? Говори, с каким заданием от фашистов вернулся в свое Отечество, которое продал, как Каин? Нас не проведешь! На дыбе вздернем, а язык развяжем! Не развяжут, так расстреляют. На всякий случай.
Теперь осмысли, мама, мои святые, горькие скитания по страдалице Руси, страшнее, чем у Геракла ─ побег из училища, арест и пытки в СМЕРШ, тюрьма в Вязьме, расстрел, побеги из фашистского плена, и явись я к военному комиссару в Туле, меня бы в мгновение отправили в лагерь НКВД под Тамбов! Как бы мы увиделись? Смерть-разлучница неотступно преследует меня, держит на привязи! Я и теперь, как повидаюсь с тобою, отчим краем, буду отправлен туда, к чекистам, на изучение жития, ─ где воевал, знался ли с фашистами в плену, помучают хорошо! Могут расстрелять, могут отправить на фронт, если все сложится по разуму и справедливости! Но в любом случае, я вижусь с тобою в прощальный раз! Если отправят на фронт, то почему и там смерть не может стать мне страшною явью?
─ Грузные у тебя слова, ─ откровенно расстроилась Мария Михайловна. ─ Ты ешь картошку. Ешь. Остынет.
Кивнув, Александр покушал, тихо произнес:
─ Будем надеяться на лучшее.
─ Один раз плену челом бил?
─ Пять. И пять раз бежал.
─ Почему не застрелился?
─ Ты бы желала?
─ Я проклятая Богом, желать сыну гибели? Просто спросила. Ради любопытства.
─ В первую оказию не успел, Застрелился бы, ─ честно признался Башкин. ─ Окружили солдат-беглецов спящих, внезапно. Без злобы скомандовали: «Хонде хох!» Вскинуть автомат ничего не стоило. Но с каким смыслом? Мигом бы расстреляли разрывными пулями. Умирать от фашиста не захотелось! Не пожелал я, мама, лежать на русской дороге, как на погосте брошенною падалью; без могилы, без хора плакальщиц, без слез матери! Насмотрелся я, пока шел из окружения. Оскорбительным пришествием лежат печальники на сиротливом погосте в лесу, в поле, в болоте, по берегам рек. Всеми отторгнутые, никому не нужные, не ведая, за какие грехи? Лежат со святыми ликами, глаза открыты, страшно и дико смотрят в небо! Лежат безмогильные, бесприютные, застывшие в пиршестве боли и страдания! Были солдатами, загадкою жизни, стали безразличием! Только ветер разносит плач, плач Ярославны! Зачем жили? Зачем были в грешном мире? Им, конечно, все едино теперь, а мне, живущему, мама, так умирать страшно! Многим я закрыл глаза, дабы воронье не склевало. В вечности трудно странствовать царем Эдипом! Одна несправедливость получается! На земле мука, и там скорбь!
Умереть просто. Очень просто, мама! Я мог исчезнуть из мира с достоинством, в том же лагере. Броситься на колючую проволоку под током! Но какой смысл? В чем он? Россия в беде, а ты идешь на плаху, под секиру, как обезумевшее животное! Выжить ─ сложнее, мама! Вся Русь, все ее пространство от Бреста, от Смоленска до Москвы усеяно воинами и все это есть открытое Братское Кладбище Ослабевшего Человека! Где матерь разыщет сына? Каждого, каждого зальют дожди, заметут снега, и сами по себе они растворятся в неизвестности, в обреченности, раз по собственному желанию ушли в траурное пиршество земли Русской.
Александр в трауре помолчал:
─ Я воин, мама! И не пожелал истаять в черном роке! Мне богами, судьбою велено ─ биться за Русь и победить! Зачем же я буду пускать пулю в лоб? Вдруг еще пригожусь?
Матерь с горестными глазами потеребила платок:
─ Попривечали тебя ветры буйные. Только не след каждой сороке ведать о черном роке, о том же плене!
─ Само собою, ─ понимающе отозвался Александр.
─ Ты, я вижу, без заслуг явился? Только пленником? После госпиталя не воевал?
─ Воевал. В роте штрафником! Недолго. Но сильно. Против танков Гудериана! В заслоне оставили, на гибель! Как печальников России! Трое бились, ─ и танки жгли, и себя спасали! И спасли, как видишь. Одному не удалось. Отмучился! Савва, сын священника. Гоняли по земной плахе как врага народа! Не отмолился бы до гроба! Пал героем! За святую Русь. Мы все были героями. Мне, мать, признаюсь, после тюрьмы, пыток в НКВД, ─ жить среди танков было легче, чем среди земного люда!
─ И награду не отмерили? Звание?
─ Отмерят. Розгами. Солеными. По ранам. Из окружения мы шли, мама! Комиссары первыми поднимались в атаку, ложись под танки на поле битвы! Комиссар ополчения Ипполит Калина представил к ордену Красного Знамени. Но там теперь ─ одна смерть! Он пал за Русь смертью Героя! Все Тульское ополчение полегло, мама, смертью Героя! Три тысячи гробов я ношу в сердце! О награде ли мечутся думы?
Он погладил ее руку.
─ Вижу, огорчил своим приездом? Опечалил?
─ Супротив, обрадовал. Дошла моя молитва до Бога, ─ перекрестилась на икону Мария Михайловна. ─ Измучена я была, сынок, обессилена вероломною печалью в то время, когда видела лунную ночь и ромашковую лощину, по которой тебя ведут на расстрел то свои, то чужие. Слышу выстрел, ─ и наступает тишина, ледяное безмолвие. И я умираю с тобою. И печаль эта не оттепливается. Никакие думы не исцеляют. И молюсь. И Бога спрашиваю: живая я? Сын живой?
Молчит земная скорбь. И от звезд ─ ледяное молчание. Неуютно было на земле. Ночь и горящие свечи. И все. Неужели, думаю, не отмолила тебя от смерти? Себя не отмолила? Вгляжусь в пространство Руси, и в пламени встает тюрьма. Видела ее, близко, как тебя. И одинокую камеру с решеткою на окне видела. И ты пишешь письма мне. Пишешь со всеми печалями, с безысходностью во взоре. Не получала я письма твои, а знаю, о чем писал! До последнего словечка отскажу. Не веришь?
Сын тихо произнес:
─ Верю, мама! Еще как верю!
Матерь Человеческая заверила со светлынью во взоре:
─ Я все видела, сын. Через сердце, через сердце! И бои твои с танками, и как ты под немцем жил! Я тебя по все пространство России вела, не давала погибнуть. Молитвою своею. Обращением к Богу, в надежде на его милосердие и заступничество. И утратила тебя, когда зимние метели подули! Зову, а ты не отзываешься. Не на шутку испугалась. Подумала, отвернулся Господь, наш спаситель. И ты являешься! Блудным сыном, нищим странником, но являешься. Являешься пред очи мои, скорбными слезами проплаканными. Не печаль ты принес, радость. Не отвернулся держатель Вселенной, слышит мою молитву. И, значимо, все будет хорошо! Донесешь огниво до Адольфа Гитлера, разожжешь ему костер! Доволен моим вещим предсказанием?
─ Доволен, мама, ─ улыбнулся Александр. ─ Давно твоими устами мед пью. Как сама живешь?
Мария Михайловна осердилась:
─ Я тебе, о чем по часу ведала? Чем слушал? Ну, басурман!
─ Иван как? Брат? ─ быстро перевел интерес сын.
─ Воюет.
─ Похоронки приходят в деревню?
─ Слетаются черные птицы. Алексея Рогалина под Смоленском убило. По прозвищу Ленька Шалун. Отыграл музыкант. Все царь-девицы оплакивали.
Башкин задумчиво сказал:
─ Он первым вышел на Куликово поле. Праведник от чести и совести! Гармонист от Бога. Какая Русь гибнет, а, мать?
В горнице стало тихо, как в церкви перед молитвою.
И очень печально.
И очень траурно.
Из школы прибежали разрумяненные сестры Нина и Аннушка. Увидев брата, в радости бросились на шею, закружили по избе в хороводе. Они любили его и не скрывали нежные чувства. Подошли, управившись со скотиною, брат Алеша, жена Ивана, кто бился за Русь ─ Варвара Федоровна. Мать поставила самовар. За чаепитием с малиновым вареньем начались новые расспросы о деревне, о войне. В избе тепло. Топится печь, она гудит ровно, тяга хорошая. Весело в огне потрескивают поленья, изредка взрываясь искрами, свежо пахнет при оттаивании дров снегом с косогоров и березовыми листьями. Как сама вечность, тикают на стене ходики.
Александр доволен, на душе сладко, безмятежно, там заселилась дивная светлынь. Так бы жить и жить, сидеть на стуле, вытянув ноги, по любви смотреть на мать и сестер, на брата, на улицу в лунном сиянии, не надо таиться в сумрачном лесу, каждое мгновение ожидать рокового выстрела. Неужели он может больше сюда не вернуться, не переступить порог родного дома? Не увидеть, как на берегу Мордвеса горят костры, пасутся кони, степенно ступая золотыми от света луны копытами по медово-шелковистой траве?
Страшно все покидать, возвращаться на фронт.
И надо.
Александр Башкин сошел с крыльца, когда над деревнею играли утренние зарницы. Упросив мать не провожать, он крепко обнял ее, поцеловал. И направился один вдоль улицы, какая еще стояла в тумане. Он знал, зачем пошел в одиночество! Сам себе, не признаваясь, он перебежал по бревенчатому мостику, поднялся по косогору и свернул к дому с окнами на речку, на березовую рощицу. Они светились. Доронины вставали рано.
Послышался звон бубенчика над калиткою. Александр остановился, встревожил радость. На улицу вышла в шубейке, жмурясь от восходящего солнца, та, кого он желал увидеть, его юная принцесса. Девочка посмотрела большими синими глазами, кротко поздоровалась.
Краснея, спросила:
─ Все воюете, Александр Иванович?
─ Жизнь такая, ─ ответил первое, что пришло на ум, чувствуя сильную робость.
─ Нашего папу тоже на фронт забирают. Повестка из военкомата пришла.
─ Михаила Осиповича? Хорошо!
─ Чем же хорошо? ─ красавица капризно поджала пухлые губы.
─ Воевать вместе будем.
─ Там убивают, ─ Капитолина стыдливо посмотрела в землю, ковырнула сапожком льдинку. ─ Пойду я. Папа на работу собирается, а вода кончилась.
─ Он все председателем колхоза?
─ Им управляется. В бабьем царстве.
Юноша заметил на ее пальце оловянное колечко. Сколько хватило смелости, произнес:
─ Выросла, как березка. Невеста!
Невольно приосанившись, ласково посмотрев, девочка весело побежала к колодцу.
Обернулась, помахала рукою:
─ Живым возвращайтесь, Александр Иванович!
Колодезный журавель вздрогнул, низко поклонился. Цепь зазвенела свадебными бубенцами. С реки взлетела утка и шумно, в солнечную радость, забила крыльями. Башкин оживленно, с волнением шел в Мордвес по хрустально-заснеженной тропе, слыша, как ликует душа, сладостно обмирает. Жизнь необычно покрасивела. Хотелось петь. И он пел русскую старинную, с разудало красивым распевом, песню о любви, какую пела девочка на Ряжском вокзале, когда они уезжали на смертные бои под Смоленск:
Начинаются дни золотые
Воровской, непродажной любви.
Эх вы, кони мои вороные,
Черны вороны, кони мои.
ДОПРОСЫ НА ПРЕДАННОСТЬ ОТЕЧЕСТВУ В ЛЕГЕРЕ НКВД ПОД ТАМБОВЫМ
Снова судьба великого воина и великого человека раскачивается на качелях жизни и смерти. Что выпадет? Выстрел в сердце на дуэли с чекистами? Или Фронт? Благородная гибель?
I
Лагерь НКВД располагался под Тамбовом. Те, кто вышел из окружения, жили в железнодорожном Доме культуры. Он обнесен забором из бетона, вверху трехрядьем протянута колючая проволока. Сторожевая вышка величает себя в углу. Часовые с автоматами. Россыпью, с овчарками прогуливаются сытые молодчики в штатском. Режим тюремный, ужесточен до края. Связи с миром пресечены.
Народу тьма. Живут как в гробнице. Люди слышат в себе обреченность. В душе только тьма, ужас и равнодушная холодность. Лица изможденные, могильные, глаза впалые, утрачена всякая светлынь. Двигаются, как потерянные, не чувствуя времени и пространства. Всю волю и силы Геракла отдали желанию, скорее вырваться из петли немецкого окружения, добраться до русского воинства. Выбирались с муками, с гибельными боями, люто поливая Русскую землю кровью и слезами, дабы вернуться на Куликово поле, но уже неся в себе пиршество боли ненависти за страдалицу Русь! Вернутся мстителем!
Все свершилось! Вернулись из лютого мира скорби и страдания, как не порадоваться возвращению, даже березки Руси склонились по милосердию в поклоне за возвращение воину-смельчаку! Да не осталось сил и слез порадоваться спасению, воскресить в себе величие чувств!
Народ с бунтом в душе, с ухарским безразличием к жизни, играл в карты, пил водку, в таинстве добытую на воле за немецкие золотые часы или медальоны через охранников лагеря. И пьяные в затемненном закутке отчаянно плясали под губную гармошку, и тоже не скрывая в себе тоску и мученическую боль; устав, пели старинные русские песни.
Ночами во всю тюремную казарму неожиданно раздавался крик горя и безумия:
─ Фриц обходит! Славяне, дави фрица! Секи прицельно! Последнюю пулю себе оставь! Не трусь!
В другом углу стонали двое в забытье:
─ Еще вражеская атака, Валентин! Чем биться?
─ Чем, чем? Разумом и кулаком! Идем рукопашную! Ножом рази зверя, штыком! Вперед, рота, за Сталина!
Кто испуганно, встрепано вскакивал на полу, где спал, прикрывшись не раз прострелянною шинелью. Потерянно осматривался, желая понять, где потерял себя ─ на земле, во Вселенной, раскачиваясь, плакал, пел:
Гроб закрытый,
Гроб забитый.
Мама, мама,
Не я ли убитый?
Во всем ощущалась человеческая придавленность, безвинная растерянность. Все выстрадали право на жизнь! Как честные воины, они храбро бились с крестоносцами! Одолели врага, одолели себя, одолели плен, дабы вернуться в русскую державу! И вернулись по чести! Казалось бы, чего бояться?
И все же, и все же, бояться было чего? Там, где чекисты, там жизнь, как у вскопанной могилы! Лагерь был ─ крестный путь. Либо воину Руси, как страдальцу, ─ тюрьма, расстрел, либо благословение, фронт!
Александр Башкин не меньше страшился вызова к следователю, ему казалось, что за все свои грехопадения надо было являться на исповедь-причастие к Христу, там еще может быть спасение, а явиться на суд-исповедь-причастие к Мефистофелю, тут было сложнее.
И воистину, если всмотреться в его жизнь, то на всем крестном пути, одною золотою скорбною россыпью ─ прегрешения, прегрешения! Побег из воинского соединения в час, когда Россия и руссы бьются с захватчиками-крестоносцами, арест военною разведкою СМЕРШ, смертный приговор Военным трибуналом в Вяземской тюрьме по политической 58 статье за измену Отечеству! Приговор смягчают, обвиняют в дезертирстве, штрафная рота! Пять раз был в плену! Пять раз! Кто поверит, что пять раз бежал из плена, и остался живым! Такого не бывает! Беглеца травили собаками, или расстреливали в лагере!
Но так было! Именно, бежал пять раз! Кого обманывать? Себя? Совесть не позволяет! И честь воина и человека! Мог и отдать себя и в паутину лжи, был в плену один раз! Бежал один раз, почему и спасся! И все сложилось бы по милосердию, ни тюрьмы, ни расстрела! Признаешься, за пять побегов, могут расстрелять! И расстрелять именно за правду! \
Но так устроен Александр Башкин, с таким он характером, он не изменит себе, он не предаст себя, только правда и правда ─ и пусть расстреливают! За правду он не боится умереть, встанет на Плахе Русской Земли с чистым сердцем! И скажет, прости, Россия, что был расстрелян на рассвете, ибо не юлил, не водил, водить хороводы с ложью, с подлостью, а жил по совести, по целомудрию, как ты учила, и как ты благословила жить, милая Русь!
Я на плахе, палач!
На плахе совести!
Стреляй, палач, в чистое, целомудренное сердце!
И выстрели! Еще как выстрели! И тоже в свою злобу, в свою совесть, в свою правду ─Человек есть пристанище пороков, зловещее пристанище лжи, как ему верить?
Почему воин Александр и постоянно слышал в себе угнетающую смуту, нервность и тревожность.
II
Но вызов к следователю оказался не таким страшным. Он был изысканно вежлив. Мило представился: я есть майор государственной безопасности Константин Петрович Лоренцо. Буду вести ваше дело. Надеюсь, мы явите следствию честь совесть воина Руси!
─ Значит, вы шли из окружения? ─ спросил строго, но
с затаенным милосердием в душе.
─ Выпал крест, ─ тихо отозвался Башкин.
─ Воевать довелось?
─ В народном ополчении, в Смоленском сражении. Был ранен. После госпиталя снова с оружием в руках защищал Родину.
─ Где? ─ следователь посмотрел пытливо.
─ Под Юхнова и Медынью, защищал Москву.
─ В плену были?
─ Случалось. Но не задерживался. Бежал.
Майор госбезопасности насторожился, в грозе прищурил глаза. Красным карандашом сделал пометку в блокноте с золотым оттиском вверху ГУГБ НКВД СССР.
─ Хорошо, ─ произнес ровно, деловито. И подал белую почтовую бумагу. ─ Подробно напишите о себе, кто мать, отец, есть ли сестры, братья, чем занимаются? Когда и кем призваны в Красную армию? Где воевали? Кто были командиры, от командира взвода до командира дивизии? Их имена, фамилии, звания! С кем шли из окружения? Почему оказались в плену? Была ли в лагере попытка завербовать вас в шпионскую школу и направить диверсантом в Россию? Если да, то, с каким заданием вас забросили в тыл Красной армии? Какие еще диверсанты переправлены с вами? Адрес резидента? Пароль? Вам лично оформим явку с повинною. Мы все тщательно проверим! Любое выявленное сокрытие в вашем предательстве, будет караться смертною казнью.
Александр Башкин все написал честь по чести. И пока шла скрытая проверка чекистов, не находил себе места. Чувство обреченности никак не желало покидать смельчака, а раздумье никак не желало наполнить светлынью. Он словно стоял в костре Джордано Бруно, ─ так мучила страшная тревожность!
Больше всего он боялся за плен! Воистину, как можно бежать из лагеря пять раз, и спастись? Не быть расстрелянным? Кто поверить в такую правду? В такое милосердие? Несомненно, скажут,─ продался немцам! Завербован военною разведкою адмирала Канариса! Больше никак нельзя спастись в лагере смерти! И следователь, непременно, скажет, теперь я осмысливаю, почему вас забрали в СМЕРШ как разведчика Третьего рейха! Чутьем взяли! Жду от вас честного признания, с каким заданием вы заброшены в Россию?
И докажи, что не продался!
И докажи, что шел с боями, со слезами, с муками из окружения в свою Россию!
Вот и расстрел!
Зиму жил в деревне, какая была под немцем! Опять докажи, что не служил в городской управе, не был полицаем?
И снова ─ отгулял бедовым сорванцом!
Время сложное, Жизнь утратила Первозданную Ценность. По ложному доносу в НКВД могут забить на Лубянке сапогами, отправить на Соловки, расстрелять как врага народа! Вину изыщут, будет подозрение, будет и вина!
Господи, яви разум!
Господи, яви справедливость!
Нельзя же, человеку от безвинности, всю жизнь бегать затравленным, озлобленным зверем по Русской земле! Не бесконечен же крестный путь, какой ему безвинно выпал, как проповеднику Иову!
Нельзя же, человеку от безвинности, нескончаемо жить среди тоски и скорби, и казнить, казнить себя за невольное грехопадение, затерявшись на Руси в половодье горя, слез? И все надеяться и надеяться на заступничество святой Богородицы! Кто бы знал, как до боли и до сладости хочется идти по жизни человеком, а не безвинно обреченным на страшную казнь!
По тюремной казарме раскатисто билось:
─ Кто есть штрафник Башкин? На допрос!
Следователь Лоренцо снова не смотрелся грозным обвинителем, судьею, палачом, кто бы наводил тоску и страх, тревожил чувство обреченности. Все так же вежлив, невозмутим, собран.
Произнес строго:
─ Я с предельным вниманием ознакомился с вашею фронтовою исповедью, странствиями по немецким лагерям и советским тюрьмам, как выходили из окружения! Для юношеского возраста ваша одиссея прямо-таки необычна,
и мыслями ее по земному не объять! Нашелся бы Гомер, и можно было написать еще одну поэму. В современном изложении.
Александр Башкин не сдержал себя:
─ То есть, я написал поэму-сказание под Гомера, но не от себя, не от правды жизни, так вы поняли мою горькую жизненную исповедь?
Офицер-чекист излучил гнев:
─ Спрашиваю только я, а вы отвечаете! Еще раз нарушите допрос, я вас пошлю копать себе могилу!
Воин повинно произнес:
─ Простите, нервы! Перемучил себя ожиданием допроса!
─ И с извинениями не торопитесь. Ваши извинения мне безразличны!
Он покурил, усмирил гнев:
─ Нам удалось связаться с комиссаром партизанского отряда под Вязьмою, секретарем парткома управления НКВД в Смоленске Евгением Фадеевым, кто спас вашу милость от расстрела в Вяземской тюрьме. Вы были знакомы раньше? Он ваш родственник?
─ Мои родители, столбовые крестьяне. Мы живем в деревне. Откуда у меня могут быть такие высокие родственники?
Следователь внимательно посмотрел:
─ Вам не кажется странным, он вас не знает и спасает от расстрела! И кого спасает от расстрела? Изменника Родины, кто приговорен Военным трибуналом к расстрелу! Может быть, он спасает вас не просто, а спасает как разведчика Третьего рейха?
Башкин произнес тревожно:
─ Неужели и так можно подумать? Чекист это святость, щит Сталина!
─ Почему нельзя? Партизанский отряд под Вязьмою, где комиссаром офицер-чекист Евгений Фадеев, ничем себя не проявил. Немцы превесело живут по деревням, отбирают у крестьянина курицу, свинью, пьют самогон, танцуют чарльстон с девами-бедовицами под губную гармошку, а партизаны даже выстрелом ту гадость не потревожили!
Воин произнес по покою.
─ Я не разведчика Третьего рейха! Здесь все проще, человечнее. Из Темкинского отдела НКВД я был доставлен к прокурору в Вязьме. Его не оказалось. Пришлось ждать. Разговорились с помощником Василием Васильевым. Он тоже из деревни. Сумел оценить мою беду. Нашел, что я не так виновен, дабы меня расстреливать. И спас от расстрела.
Следователь Лоренцо презрительно произнес:
─ Ваш Василий Васильев служит полицаем в Вязьме! Видите, в какое окружение вы попали? Получается, не зря они вас спасли! С умыслом? Если вы не разведчик Третьего рейха, то надеялись, что станете разведчиком Третьего рейха? Можно так рассудить?
Окруженец согласился:
─ Можно, конечно! Но можно и так рассудить, Василий Васильев служить полицаем по заданию партизанского отряда! Этот человек от Бога, от красоты души, от чести и совести, от человечности, он не предаст Русь святую! Горе иссушит душу, не предаст, изверится в жизни, перестанет слышать в себе дивную светлынь, не предаст. Будет стоять у костра Джордано Бруно, снова не предаст!
Лоренцо спросил с усмешкою:
─ Вы о себе?
─ И о себе!
─ Прямо круговая порука! ─ осудительно покачал головою
офицер-чекист. ─ Кого разумом не коснешься, одни герои, одна человечность!
Он помолчал:
─ Скажите, майор Евгений Фадеев, ваш спаситель, приглашал вас в партизанский отряд?
─ Он не владел моею судьбою! Я был во власти Военного трибунала! Военным трибуналом я был направлен в штрафную роту, искупить вину кровью.
─ Искупили?
─ Считаю, что искупил.
─ Кровью? ─ следователь смотрит строго, прицельно.
─ Своею жизнью, ─ по чести отозвался Башкин. ─ Я храбро сражался с немецкими танками! И, как последний из Могикан, был заживо, отмщением, засыпан в могилу немецким танком!
─ Выжили?
─ Чудом! У танка-крестоносца не достало сил совсем затоптать меня в окопе-могиле.
III
Теперь вопрос от Лоренцо прозвучал, как выстрел:
─ Как вы оказались в роте изменника Родины Ивана Молодцова?
─ О том спросите в штабе армии Рокоссовского! Там давали путевку. Я солдат! Ослушаться не могу. Куда направили, там и воюю.
─ То есть, по случаю? ─ внимательно посмотрел следователь.
─ Именно, по случаю!
─ И вы не знали, что капитан Молодцов изменник Родины?
В сердце у воина все оборвалось:
─ Избави Бог! Я впервые слышу, что командир штрафной роты Молодцов предатель Родины!
─ Впервые слышите? ─ не скрыл иронии следователь. ─ Скажите, какая непросвещенность. И как его подлинная фамилия, тоже не знаете? Подскажу, Ганс Шумахер. Обрусевший немец, жил в Риге. Он резидент в России от разведывательного органа адмирала Канариса «Абвер-группа ─107». Вспомнили? Не лучше ли раскаяться? Сознаться?
─ В чем? ─ похолодел Башкин.
─ В том, что вы не по случаю, оказались в роте Ивана Молодцова! Выявились к своему резиденту, как разведчика Третьего рейха!
─ Глупости, ─ тихо произнес воин, не скрыв тревоги.
─ Вы считаете, что мы в НКВД занимаемся глупостями?
─ Получается, я особо опасный преступник?
─ Не исключено.
─ Это обвинение?
Офицер-чекист произнес строго:
─ Я не имею право обвинять! Я только веду следствие, подбираю факты, реалии, где все больше убеждаюсь, вы продались немцам! Обвинять имеет право только суд Военного трибунала, и если он на этот раз вынесет вам приговор, то уже спасения не ищите! Вас расстреляют без милости и всепрощения, как врага русского народа! Мы в ЧК живем по закону! И судить вас будут по закону! И расстреливать станут по закону! Но я там с секирою не буду! Я не палач! Я слуга Отечества!
Александр Башкин на мгновение взглянул на следователя, было желательно осмыслить, майор Лоренцо уже уверовал, что он продался немцам? Или через душевную пытку, пытается выяснить, кто пред его ликом ─ воин Руси или предатель Отечества?
Господи, неисповедимы твои пути! Скажите, за что, за какую провинность, за какое грехопадение снова и снова загоняют в ледяную купель! Как Ирода! Как некрещеного! Как бесправного узника на Руси-страдалице! Снова тревожат и тревожат в сердце тоску и ужас, хор плакальщиц и хор горевестниц, погост и могилу, и близость смерти.
Проклятый он, что ли?
Только кем?
Офицер-чекист не терял мысли, гнул и гнул свою линию:
─ Скажите, у резидента была напарница?
Окруженец пожал плечами:
─ Не могу знать! Была мадонна, его любовница. Кто по профессии, не разобрал. Врач, радистка?
Майор госбезопасности строго посмотрел:
─ Не разобрали?
─ Воистину, не разобрал!
─ Все крутите! Это фашистская разведчица из штаба танковой армии Гудериана. Русская, столбовая дворянка! Дочь царского офицера! Зовут Дина Трубецкая! Отец за измену Родине расстрелян в Вяземской тюрьме! Вы с ее отцом, Александр Иванович, были в камере смертника! Я угадал, грешное дитя судьбы?
─ Был там полковник русской армии. Прекрасный человек! Страдалец! Все старался осмыслить свою смерть: служил большевикам, а они его, как Стеньку Разина, как врага народа, вывели на Лобное место, на расстрел! Вот и плакал, проклинал себя, что продался иудам-большевикам, предал Русь святую! Но ушел на эшафот героем!
─ Героем ушел? ─ Лоренцо посмотрел с осуждением.
─ Воистину.
─ То есть, полковник был?
─ Был, не отрекаюсь, ─ настороженно, эхом, повторил Александр Башкин.
─ Теперь соберем все вместе, и получится очень интересная одиссея! В Темкино вас арестовывает контрразведка СМЕРШ как агента разведывательного органа «Абвергруппа ─ 107». Не отрицаете?
─ Именно так, ─ согласился воин, чувствуя, что погружается в костер Джордано Бруно, и то, что из омута проверки ему живым не выбраться!
─ Ваш арест не есть ошибка! Вы взяты праведно, по закону! Вас сбросили с самолета-крестоносца на парашюте для связи с резидентом! Он имел сведения о Западном фронте, необходимые для наступления на Москву, под кодовым названием «Тайфун», какую Гитлер назначил на 30 сентября! Вы провались, сгорели! Вам оставалось только застрелиться! Но вы оказались крепким орешком; чекисты оказались слабее! Поверили вам, что вы не продались немцам, и переписали святцы, вы стали уже не в чине шпиона, а в нимбе дезертира, ─ и ваша жизнь помчалась на колеснице Цезаря! По пути спасения! И спасители нашлись! Тот же помощник прокурора в Вязьме Василий Васильев, кого вы, как умный разведчик, сумели разжалобить слезами, сблизиться по доверию, ─ вывезет, не вывезет? Вывезло! Он тоже не силен душою, и теперь служит полицаем в Вязьме!
Вы осуждены судом Военного трибунала на смертную казнь! Осуждены ─ как изменник Родины, статья 58 пункт, где не бывает помилования!
В камере смертника вы нечаянно узнаете у полковника русской армии Николая Трубецкого, где служит его дочь. Просто к разговору. Без всякого интереса. Вам это совершенно не надо. Вы тоже ожидаете смерти. И надо же, снова вывезла к спасению колесница Цезаря, ─ вас милуют! Штрафная рота, штаб Константина Рокоссовского, где вы просите направить вас в роту капитана Ивана Молодцова? И вы оказываетесь там, где желали, где дочь русского полковника ─ Дина Трубецкая и ваш резидент. Как же вы его не знали?
Следователь Лоренцо внимательно посмотрел:
─ Осталось услышать от вас честное признание, с каким заданием вы заброшены военною разведкою адмирала Канариса в Россию? Признание ─ та же ваша колесница Цезаря к спасению! Будете и дальше крутиться, как змея под рогатиною, вас расстреляют как подлого изменника России!
Обреченному воину Башкину только и оставалось про себя посмеяться над неумолимо злою судьбою. И еще раз осмыслить, по горю, по тревожности ─ повелитель его Жизни и Смерти, несомненно, неумолимо гонит его на Лобное место! И загонит, как зверя! Но, скорее всего, секира уже отточена и палач в красном кафтане ожидает обреченного жертвенника!
Докажи свою исповедь от правды!
Докажи, что не продался немцам!
Куда не шагнешь, все, как куропатка попадаешь в сети!
Сети ─ ложь! Сети ─ обреченность! Но и во лжи истаивает солнечное свечение! Виден тот же крест на Голгофе! Что правда, что ложь, все ─ распятье на Голгофе!
Где искать ключик от волшебного ларца?
Четвертуют, четвертуют, как Стеньку Разина на Лобном месте!
Воин не скрыл настроения:
─ Мне больно выслушивать вашу ложь, страшно больно! Виновен, казните! Но зачем безвинную душу мучить ложью? ─ Он промокнул рукавом слезы. ─ Почему, почему вы не желаете разглядеть мою правду? Ваш Ганс Шумахер люто ненавидел меня! И решил расстрелять перед строем! Будет резидент публично уничтожать своего разведчика?
─ Расстрелять? Любопытно! И за что он вас ненавидел?
─ Я русский, а он фашист! Я раб его, а он господин! С чего ему веселиться? Когда я видел его сущность, во мне гасла светлынь в сердце! Я перестали видеть Русское солнце над Русью! Неосмысленно! По чувству! Но это так! Он слышал мою ненависть! И решил избавиться, расстрелять!
─ Почему же не расстрелял?
─ Штрафники заступились. И его примадонна Дина Трубецкая!
─ Очень заступилась?
─ Ее и послушал.
Следователь довольно произнес:
─ Не считаете, что сами себя и выдали, господин окруженец! Кто за фашистского разведчика еще может заступиться? Только своя волчица, Дина Трубецкая!
Лоренцо перебрал бумаги:
─ И по поводу расстрела, вы изрекли ложь, а не истину, Александр Иванович. Вы прекрасно знаете, за что вас пожелал расстрелять командир роты Молодцов? Совсем не за вашу ненависть! И совсем не потому, что при виде командира роты у вас исчезала светлынь в сердце! И переставали видеть русское солнце над Русью!
Он занес секиру:
─ Вы засветились в Темкино в НКВД как агент гитлеровской разведки! И командиру роты поступила на вас пиратская метка. Вот почему он пожелал вас убить! Дина Трубецкая его затаенной правды не знала и заступилась.
Александр Башкин сорвался с цепи:
─ Гражданин следователь, Вы оскорбляете, вы постоянно оскорбляете мое сердце ложным обвинением! Я не враг русского народа! Не враг! Не враг! Зачем вы тревожите во мне гнев и ненависть ко всему живому на земле! К человечности, к совести, к справедливости! Ужель ваши оскорбления бесконечны? Во мне уже душа поседела! Я вам только могу повторить, по боли, по печали, я не враг народа, я воин Руси!
Вам доказать?
Извольте!
10 октября 1941 года командиру роты из штаба армии Константина Рокоссовского поступила радиограмма: штрафникам повелевалось ─ задержать на одни сутки, под Медынью, танки Гудериана, какие рвались к Москве! Всем предстояла честная и жертвенная смерть! Но Иван Молодцов увел ее в леса обетованные, а в заслоне остались только три штрафника-воина! Он знал, танки Гудериана в одночасье раздавит гусеницами святую троицу! И, в его фашистскую радость, устремятся в Москву! Но мы отбились. Мы двое суток удерживали армию Гудериана! Двенадцать танков подожгли. Зачем бы я сражался с воинством Гудериана, если я есть немецкий разведчик?
В танковую одиссею следователь Лоренцо, конечно, не поверил:
─ Трое удерживали?
─ Так точно, гражданин следователь!
─ Танки Гудериана?
─ Танки Гудериана, ─ эхом отозвался Башкин.
─ Герои! ─ не скрыл усмешки чекист. ─ Послушаешь вас, кто выходил из окружения, и диву даешься, не воины Руси, а Гераклы! Один Отто Скорцени, друга фюрера, в плен взял, да он сумел в деревню сбежать, за русскую печку спрятаться! Другой из ружья семь самолетов сбил, как барон Мюнхгаузен одним выстрелом семь уток подстрелил! Вы танки Гудериана остановили под Медынью! Как же фашисты к Москве изволили на воинственно-золоченой колеснице подкатить?
─ Можете сомневаться, ─ покорно вымолвил Башкин. ─ Но так было, мы бились с танками. И выстояли.
─ Свидетели имеются?
─ Только я, Петр Котов и Савва Бахновский, или, как он себя величал Себастьян Бах!
─ Вы не свидетели, а выдумщики! ─ зло бросил следователь Лоренцо. ─ Кто вам поверит, что вы двое суток сдерживали армию Гудериана? Было такое? В себе мы все Наполеоны!
─ Было, гражданин следователь! Вы не можете не знать о наводчике орудия Николае Сиротинине! Он у белорусского города Кричеву 17 июля 1941 года с одною пушкою сдерживал танковую дивизию Гудериана! Подбил 11 танков, 57 фашистов загнал в гроб! Я еще в плену о том слышал от фельдфебеля, он заставлял бороться с финном, и хвалил русского солдата: Коля русс-жертвенник, гут, гут, это сильно, это красиво, это мудро! И ты не трусь!
Он бил с шоссе по колонне, под Медынью было легче! Там вырыты окопы, в нише покоились противотанковые ружья, где испорченные, где хорошие, автоматы, ящики гранат. Траншеи вырыты подковою. Фриц заходит в подкову, а мы его бьем с близкого расстояния!
Меня танк столкнул в окоп-могилу, и в ненависть стал кружить, затаптывать, но не достало сил, он уже горел! Петр Котов был контужен. Савва Бахновский пал смертью героя! Вы можете не верить, но так было! Гудериан развернул колонну! Мы воевали храбро! За себя, за матерей, за Россию! Почему я должен таить свою правду! И ходить в чине разведчика Третьего рейха?
Следователь Лоренцо призадумался:
─ Когда это было? 10 октября 41 года?
─ Так точно, гражданин следователь! ─ охотно отозвался Александр Башкин.
Следователь изыскал в папке документ:
─ Странное совпадение! Как раз 10 октября генерал армии Георгий Жуков принимал командование Западным фронтом. Он слышал бои под Медынью. И просил разыскать героев, которые прикрывали дорогу от Юхнова на Москву. И представить к награде. Телефонограммы разосланы по штабам Западного фронта, особым отделам. Рота ли стояла, батальон ли, всех наградить! Двое суток врага держали! Может быть, даже Москву спасли, а как доказать, что это вы? Где свидетели?
Башкин изволил себе пошутить:
─ Как где? Разве генерал армии Георгий Жуков не есть свидетель? Надеюсь, вы верите ему!
Лоренцо отозвался строго:
─ Генералу армии Георгию Жукову я верю, я вам не верю! Нужно документальное свидетельство командира роты, полка, дивизии! Наградные листы должны быть завизированы Особым отделом армии, дабы исполнить волю командующего Западным фронтом и представить вас к званию Героя! Или вы намерены сами на себя писать наградные листы? Свои подвиги расписывать?
Башкин отозвался по совести:
─ Не ради наград воюем, товарищ майор государственной безопасности!
─ Вы правы. Зачем вам советские награды? Вам бриллиантовые кресты со свастикою душу согревают, ─ быстро отозвался он, опять сев на своего конька.
Вдумчиво помолчал:
─ Что ж, про ваши танки мы еще вспомним! Поговорим о плене! С кем вы шли из окружения?
─ Я написал. С Петром Котовым, своим другом.
─ Еще с кем? ─ пристально посмотрел офицер-чекист.
─ Из окружения выходили толпы. Мы соединялись. И разъединялись. Знакомств не заводили.
─ С Иваном Молодцовым резидентом гитлеровской разведки, не шли вместе на Москву?
─ Немножко. Мы нагнали роту у Жуковки.
─ Случайно? ─ откровенно насмешливо посмотрел майор Лоренцо.
─ Совершенно случайно.
─ Надо же, какое простодушие! Встретились два агента адмирала Канариса в густом лесу, с певчими птичками ─ и случайно!
─ Поверьте, признание от совести! Вскоре мы стали ему в тягость. Он сдал меня, Котова и еще группу воинов Руси в плен фашистам.
─ И вы случайно бежали из плена?
─ Справедливо. По воле удачного случая.
─ Не слишком ли много случаев, Александр Иванович? ─ язвительно заметил хозяин кабинета. ─ По случаю повстречали в лесу бандитов Ганса Шумахера, его бандитов, по случаю увиделись со своим резидентом! По случаю совершили побег из фашистской неволи! И, смею заметить, вы совершили пять побегов! И остались живы! Вам не удивительно? Разозленное гестапо ловит вас с овчарками! И не расстреливает!
Откуда у фашистов такое к вам милосердие? Просто так? Не поверю! Опять спасение от случая? Еще больше не поверю. Так еще не было, пять раз бежать из плена, из фашистской неволи, и не быть расстрелянным. Нет ли здесь хорошо продуманной системы? Под Медынью вы не смогли связаться со штабом армии Гудериана, в плену смогли! Получили новое задание от хозяев и стали под видом воина-окруженца еще дальше углубляться в тылы Красной Армии, к Москве. Видите, как все закручивается? И дальше будете оспаривать, что вы не предали Русь, не Каин?
Башкин защитился:
─ Вы не правы, ибо не в ту сторону клоните траву-ковыль. Иосиф Сталин сбегал из ссылки тоже пять раз! И тоже по случаю! И остался жив!
У следователя зашло сердце:
─ Вы что, Сталин?
─ Не Сталин! Я воин Руси! Воин Сталина! И пусть затрубит в небесную трубу Михаил Архангел, призовет на суд к Христу, я и там, перед вечностью скажу на всю жизнь и на все бессмертие ─ я не Каин, я воин Сталина!
IV
Властелин его жизни следователь Лоренцо, ощутил в себе растерянность. Он оценил ум и непоклонность воина.
С долею покорности произнес:
─ Хорошо! Я могу на время забыть, что вы агент абвера! Но и дальше, как показала проверка, ваша жизнь ничем не слаще сахара. Вы служили у фашистов полицаем!
─ Преувеличение.
─ Откуда в канцелярии городской управы Тихонова Пустынь, значится ваша фамилия? Двойник? И ваш друг Петр Котов, кого мы допросили в Старой Руссе, не отрицает, что вы и он служили полицаями! Он вас оболгал? Дал ложные свидетельства?
─ Мы не служили в жандармерии! ─ с бунтующею обидою заверил Башкин. ─ Мы сделали вид, что готовы стать полицаями, желая получить пропуск в Западную Белоруссию! Все пути на Москву были перекрыты танками Гудериана! Пропуск давал возможность переночевать в деревне, и двигаться дальше, к линии фронта! Так мы и шли! Нас в каждой деревне разыскивало гестапо.
─ И не нашло? Опять по случаю? ─ устрашающе посмотрел следователь. ─ Тысячи воинов, кто шел из окружения, отлавливало гестапо по лесам и деревням, с гончими псами, а вас не загнали в сети! Прямо чудеса! Любопытно, кто же молился за ваше спасение? Уж не всесильный ли абвер?
Следователь ударил ладонью по столу:
─ Вам дали пропуск, ибо вы агент абвера! Вас не загребало в сети гестапо, ибо вы агент абвера! И хватит крутить, изворачиваться, как змея под рогатиною!
Майор Лоренцо успокоил себя:
─ Замечу, если даже вы не шпион Германии, господин окруженец, то служба в полиции ни менее преступна для воина Красной армии! Те же Соловки, тот же расстрел за чинимые злодеяния!
С каждым часом становилось не легче. Башкин истратил в себе светлынь. Душа стонала. Офицер-чекист хорошо знал свое дело. Выкручивал явления жизни так, как ему было удобно и выгодно. Шел накат лжи, а получалось как бы все по правде.
─ Значит, пишем, служили в полиции!
Башкин устало ударил в колокол:
─ Пишите! Но я не служил в полиции.
─ Открыто не служили, так надо понимать? ─ чекист предельно строго посмотрел в его глаза. ─ Вы были агентом в жандармерии. Для засылки в партизанские отряды. Справедливо?
Воина люто оскорбляла ложь, и он собирал в себе все силы, дабы явить миру свою правду:
─ Поднимите на дыбу, пошлите на смерть, и там, с небес скажу, ─ все бесстыжая ложь.
─ Хорошо! Кто выдал немцам партизан в Медведево ─ мельника Луку и его жену Прасковью? Они были забраны в гестапо, их держали на дыбе, жгли огнем, но они никого не выдали! И вас не выдали! Герои-мученики были повешены на мельничном колесе, у плотины! Только вы имели с партизанами связь! Что на это молвите?
─ Роковое стечение обстоятельств.
─ Вы не причастны?
─ Я не рожден предателем!
─ Им не рождаются, становятся! Загонит жизнь, как волка
за красные флажки, и взвоешь, пойдешь на все, дабы только выстрел не прозвучал.
─ Ваша истина-исповедь о предательстве ко мне не относится! За бесконечные странствия по лесам, за попытки прорваться через линию фронта в меня, над моею головою столько просвистело пуль, снарядов, разорванных гранат, что я устал бояться, падать ниц перед выстрелом. Меня они не страшат. Я никогда не был и не буду иудою России.
В тот февральский вечер я сам чудом остался жив! Шел на явку. И попал в засаду. Фашисты открыли огонь. Как меня не убили с близкого расстояния, в открытом поле, по которому я бежал как прокаженный, в страхе божием, останется на всю жизнь изумлением и удивлением.
Офицер не скрыл иронии:
─ Снова по случаю спаслись?
─ Чудом!
─ Не живете вы, не живете по заповедям Христа! Лжете, крутите, как метель над умершими! Как мне поверить, что вас хотели убить?
─ Теперь уже никак, раз остался жив!
Лоренцо понял умную иронию. Строго осудил ее.
─ Не рано ли веселитесь? Юного партизана Виктора, сына хозяйки, у которой беспечно жили, мед-сметану пили, тоже не вы гестапо сдали? Велика ли его вина? Ну, подобрал на поле сражения две брошенные винтовки. Отдал мстителям! Кто знал? Только вы, Александр Иванович! Не думаю, что мальчика расстреляли мальчика только за ружья!
─ За что еще? ─ насторожился Башкин.
─ Он вас разгадал. И собирался поведать командиру партизанского отряда! И вам бы именем народа и России вынесли смертный приговор! Вы поняли, что вам грозит опасность. И мудро обогнали роковые для себя события. Сдали его в гестапо. Не так?
Башкин побледнел, потер сердце:
─ Виктор моя вечная боль, моя вина! Не уберег! Никто теперь не сдвинет камень с души и не укротит стонущие, скорбные перезвоны колокола, которые буду слышать всю жизнь. И никто не укротит, не смирит, даже вся Вселенная, слезы боли!
─ Хорошо! Идите, ─ сухо разрешил следователь, не желая видеть мужские слезы. ─ Бабы вы, а не солдаты.
Он вызвал конвойного, попросил помочь добраться человеку до камеры.
ЕСТЬ СВЕТЛЫНЬ-СПРАВЕДЛИВОСТЬ НА РУСИ! ВОИН АЛЕКСАНДР БАШКИН БЫЛ СНЯТ С РАСПЯТЬЯ ХРИСТА
На земном календаре было 23 марта 1942 года, когда воин Александр Башкин начал глумливо-траурное шествие по проверке в лагере НКВД под Тамбовом. Пытки шли месяц! И все горькие, скорбные! Он все земные мгновения жил, как у вскопанной могилы, и совсем не ожидал по милосердию пощады и всепрощения! И после каждого допроса недоумевал, чем провинился? За какие муки вяжут и вяжут к пыточному колесу, списывают в изменники Отечества, и никак не защитить себя, не отстоять правду и честь.
Стало сдавать здоровье. Первым ослабло зрение. И нервы совсем развеселились. Стало страшно оставаться одному. С самим собою. Стоило прикрыть в покое глаза, ─ и мигом являлась камера смертника в Вяземской тюрьме. И тут же с неумолимою тоскою раздавались выстрелы, лютые, обреченные стоны, крики о пощаде и милосердии, и во все эти могильные крики и стоны, где угасала жизнь, где слышался хор плакальщиц, совсем неожиданно врывалось ликующее песнопение гармоники, как на веселом пиру жизни. Все перемешивалось, и могильные стоны, и ликующая игра гармоники, и он видел себя, на берегу реки, среди березок, где россиянки водят хороводы, видел, как он в удаль танцует краковяк с милою девочкою Капитолиною, кружит ее в вальсе ветра, теперь уже один, без толпы, желает обнять, поцеловать ─ и раздается выстрел!
Он падает на Плахе Земли, обливается кровью. Рыдающая песня гармоники заливает всю землю, достигает звезд, он, опираясь на звезду, встает над землею, снова желает увидеть свою юную россиянку, но снова звучит выстрел! И он снова падет горьким распятьем на земную плаху, обливается кровью.
И снова звучат выстрелы, выстрелы! И все никак не убьют! Не казнят! И он никак он не отмучается.
Не надо идти к пророчице Кассандре, воин заболел! Не страхом смерти, а сумасшествием! Воля Илья Муромца была утрачена! И любовь к жизни была утрачена! И чем бы все закончилось, неизвестно, но ангелы-хранители были еще сильны у Александра Башкина, да и боги Руси не желали отпускать храброго воина на гибель.
23 апреля воин-страдалец был вызван на последний допрос. Майор государственной безопасности Лоренцо повел себя необычно; открыл пачку «Казбека». Вежливо предложил:
─ Кури, солдат.
─ Я не курю, ─ тоже вежливо принял отречение Башкин; его измучивало желание, скорее, скорее узнать, куда по воле Пилата-мученика вынесут вороные кони: на Соловки, на плаху, на Куликово поле?
Следователь продолжал удивлять:
─ Тогда выпьем, ─ он достал плитку шоколада, бутылку французского коньяка. Разлил в рюмку. ─ Фронтовую, солдат!
─ Извините, я не грешен, ─ произнес виновато воин.
─ Ну, смотрите. Не настаиваю, ─ проявил великодушие Лоренцо. ─ Я хочу выпить за вас, за русского воины! Вы располагаете к себе, вызываете уважение. И вы, и остальные целовальники креста! Мы все понимаем, битва с врагом держится не на генерале, а на штыке и отваге русского воина. Чего его гнать по кругу лжи, сомнения и смерти? Но работа есть работа! Попадаются еще Каины!
Вам сообщаю, Александр Иванович, вы с честью выдержали экзамен воина Руси! Военная контрразведка, чекисты к вам претензий не имеет. Воюйте и дальше так же храбро.
Лоренцо поднял рюмку:
─ За вас!
Выпив, отломив долю от шоколада, он внимательно посмотрел:
─ Скажите, в самом деле, 10 октября 1941 год под Медынью именно вы сдерживали танковую армию Гудериана, какая рвалась к Москве? Я бы мог пространно отписать о вашем подвиге генералу армии Жукову, востребовать награду Героя или орден Ленина. Вы ее заслужили! Встретились бы оба: солдат и генерал. Порадовались бы, выпили чарку за победу. Для вас общение с генералом не стало бы лишним. Как считаете?
─ Не знаю, ─ честно признался Александр Башкин. ─ Одно скажу, в лесу под Медынью есть обгоревший дуб, ему сто лет, мы заложили в дупло гильзу с посмертным посланием тем, кто будет жить в свободной России! Там есть и моя подпись, Александр Башкин, 10 октября 1941 года, Медынь.
Он помолчал:
─ Писать, не писать, это вам решать! Напишите, если желаете. Я же горд тем, что мы, руссы-мученики, сдержали врага! Не пустили в Москву! Не сдали Россию!
Майор госбезопасности дружелюбно произнес:
─ Вы очень на сына моего похожи. Право, право! Он тоже воевал, попал в окружение. Где теперь? Не ведаю, убит, не убит, в плену не в плену. И бессребреник. Как вы! Не знаю, как сын, но вам быть героем!
Лоренцо подвинул ему рюмку:
─ Возьмите коньяк, пригубите! За сына моего! За вашу матерь Человеческую! И за Россию!
Офицер-чекист и воин Руси вместе выпили коньяк за бессмертие русского Отечества!
Глава шестнадцатая
ВОИН-АРТИЛЛЕРИСТ ЗАЩИЩАЕТ СТАЛИНГРАД
I
Шел 1942 год.
Великий канцлер Германии Адольф Гитлер пребывал в грустном раздумье. Военные планы «Барбаросса» разбились о славянскую цитадель. Россия устояла! Выстроить там, где величает себя чужедальняя, благословенная Земля Руссов, бессмертное государство Господ и Рабов не удалось. Его воины-крестоносцы, как жалкие бродяги, были повелительно разгромлены на дуэльном побоище под Москвою и трусливо бежали по зимнему безмолвию поля, оставляя кладбище за кладбищем с березовыми крестами.
Странная нация! Он им ковал железные кресты,
переполненные солнцем любви к жизни! Они выбрали деревянные кресты, переполненные могильною тьмою!
Неужели напевы белых вьюг, дождливых осенних ветров, хор плакальщиц чужих берез им приятнее слушать в братской могиле, на славянской Руси, чем благословенно-воинственную музыку в своем святилище, в родной Германии?
Нет, легли в землю.
Где холодно и сумрачно.
Уснули на все времена. Уснули вместе с колокольным благовестом во славу жизни и победы!
Оставили фюрера. Скорбь человеческая! Скорбь! Не так жалко воина-крестоносца, сколько жалко себя! Поставил на корону властелина мира! И проиграл, попал в омут тоски и траура! Подняли, как Калигулу, на мечи! И это его, гения из гениев! Такого самодержца еще не было на земном пространстве! И уж своим умом, умом гения, он всесилен был осмыслить: Россия не так проста, Россия ─ не Гаснущее Солнце! И получилось то, что получилось. Он проиграл! Слишком сильным оказался Илья Муромец. Разметал мечом его соловьев-разбойников!
Он верил в свою победу! Безоглядно верил. Теперь пришло самое страшное ─ сомнение. И распад надежды принесла Москва! Первою скорбною ласточкою! Конечно, перед генералами и солдатами он будет, как и прежде, гордо восседать владыкою мира на белом коне, как острый меч, воздев руку в сторону Востока. Они должны еще верить в свое господское знамение; и уж если ему, царю-держателю Светлыни на земле выпало еще и Царствие тьмы, раствориться в могильном безмолвии, то пусть воинство и народ, обреченно и жертвенно, исчезнут, в венце траура, следом! И исчезнут ─ наказанием, возмездием, раз проиграли битву миров! Подвели его, фюрера! Где подвели, предали!
Один раз за тысячелетия, за всю земную жизнь, за всю вечность во Вселенной пришел он как Бог на благословенную землю, чтобы возвысить Германию, сделать ее владыкою мира, а немцев господами мира! И народ не смог оценить единственную возможность! Будет еще такой фюрер у народа?
Не будет!
Значит, пусть гибнет!
Пусть становятся русскою пылью в земной гробнице.
Пусть разносятся ветром в пространстве.
Скорбными птицами в поднебесье.
Вечным эхом прощания с жизнью.
И безмолвием. Безмолвием!
И все будет по совести, справедливости! Немцы обманули его надежды, его веру в величие гуннов Аттилы! Оказались не высшею расою! Мужчины утратили гордость, воинственность! Не истребили славян! Не превратили в рабов, илотов! Борьба рас не состоялась! Новая германская элита не возникла.
Чего же им ждать от фюрера? Только благословения на
смерть!
Неужели прав был великий прорицатель и чародей-мистик Альфред Науйокс, кто предсказал ему, как сыну дьявола, смерть на очистительном костре? И правда ли то, что в его Замок Светлыни и Тьмы огниво принесет славянин-русс?
Как же не прав?
Нет, битва за себя, за Германию, за корону властелина мира еще не окончена! По земле еще прокатятся жестокие битвы и гибельные побоища! Дранг нах Остен ─ поход на Восток, не завершен! Если ему суждено погибнуть, он возьмет с собою в могилу всю землю! Или превратит ее в саркофаг! Только хор плакальщиц и хор горевестниц будет могильным рыданием витать в осиротевшем земном пространстве!
Раздумывая так, Гитлер не кривил душою. Он был еще силен! К маю 1942 года он собрал на Восточном фронте армию в шесть миллионов человек, три тысячи танков и три тысячи самолетов. В Третьем рейхе начальник штаба вермахта фельдмаршал Вильгельм Кейтель вывел доктрину: разгромить русские армии на юге, овладеть Кавказом, выйти к Волге, завоевать Сталинград. Фюрер понимал: если это удастся, он получит господство на Восточном фронте, овладеет кавказскою нефтью, оставит Сталину горючего только на розжиг керосиновой лампы. И смело, победоносно поведет воинство на Москву и Ленинград.
В мае началось наступление. И очень успешно! Крестоносцы-викинги в мгновение разгромили Крымский фронт, где воинством командовали генералы-бездари Лев Мехлис, Дмитрий Козлов, маршал Григорий Кулик. И взяли Керчь, Севастополь, весь Крым. В то время Черное море стало Красным; русская, славянская кровь текла половодьем. Вскоре пал и Южный фронт генерала Родиона Малиновского.
Путь на Сталинград был открыт! Оставалось сломить сопротивление Брянского фронта под командованием генерала Федора Голикова, прорвать оборону у Воронежа. После чего гитлеровское воинство полководца Вильгельма Паулюса могло под гордую, воинственную музыку приблизиться к Волге. И взять штурмом город Сталина.
II
На защиту города Сталина и встал Александр Башкин с товарищами по оружию. Он был причислен в полевую артиллерию, прислугою. Вошел в расчет командира орудия Михаила Ершова. Это был человек-весельчак, с добрым лицом, с живыми глазами, где жила светлынь, и, казалось, никогда не могла размеситься угнетающая угрюмость. Он звал, располагал к себе.
При первом знакомстве, бреясь финским ножом, приспособив зеркальце на снарядном ящике, Ершов поинтересовался:
─ Воевал?
─ На Смоленщине.
─ И с танками?
─ Приходилось.
─ Страшно было?
─ Конечно, страшно! Такое чудище на тебя катит! Но привыкаешь, втягиваешься! Или ты? Или он?
─ Ценю. За правду, ─ похвалил его командир. ─ Я сам сибиряк, из Тюмени. От столицы фашиста гоню! Насмотрелся на храбрецов! Идут в атаку, как на свидание с любимою! Трубно кричат: «Вперед, славяне! За Сталина!» Битва окончена, смотришь, а он лежит распятьем, пуля рассекла лоб, и дождь смывает кровь. Не кричал бы, как юродивый на всю Русь: я немца приговорил, буду ему кланяться ─ и жил бы! Зачем умирать? Даже за Сталина? Не лучше выжить?
Сержант поскреб щеку ножом, философски заметил:
─ Ты смотри, Александр, какая хринотень получается! Его Отечество выбрало в воины Руси, а он взял и по-хитрому перебежал в вечность! И бестревожно полеживает на перине в святом покое на лежбище у Бога, а я, Мишка Ершов, за мудрого красавца бьюсь, бегаю по кострам земли! Как тебе такое мнение?
Разделяешь?
Воин пожал плечами:
─ Разделяю.
─ Если разделяешь, держись за свою жизнь! Крепко держись! Умеешь крепко держаться?
─ Я в пять лет уже крепко держался, ─ скромно заверил Александр Башкин. ─ Взрослые в деревне в шутку, в довольство, посадили на коня, он был необъезжен, и кнутом стеганули! Он меня до полоумия носил по полю, как конек-горбунок Иванушку! Не удержался бы, всего поломал! Не сбросил, за гриву удержался! Мать потом коромыслом гоняла окаянных шутников!
─ Зря гоняла! Для закалки, самая знать!
Он ополоснул лицо теплою водою, смыл мыльную пену:
─ В любовь веришь?
─ Верую, ─ серьезно отозвался юноша.
─ Познакомить с врачом? Имя милое, Наденька! Глаза, две зари у рассветной земли! Груди крутые, порочные. Так и зовет прокатиться на солнечной колеснице.
─ Сами чего?
─ И я бы малинку съел, да не смел. Дикая она! С надломом в душе. Служила у танкистов в роте, капитан ее востребовал, а дева не далась. Мужчина озлился, изнасиловал ее! Оскорбленная красавица застрелила его! На батарее два месяца. Все артиллеристы влюблены, но все мимо! Неприступная крепость! Из глаз одни похоронки! Видишь ли, деве не та любовь требуется, а любовь от чистоты, от целомудрия, какая бы спасла ее. Как замерзшую яблоньку. Ты юн и чист. Вдруг получится? И немца бы лучше бил! За тобою была бы не только Россия, но еще и замерзшая девочка-яблонька в подвенечном платье! Познакомить?
Башкин не успел ответить. Наблюдавший за небом наводчик Павел Куликов громко крикнул:
─ Воздух! Воздух! «Юнкерсы» пошли бомбить Воронеж! Всем в укрытие. Живо, живо!
Вскоре Александр увидел, как в небе красиво и грозно летели немецкие бомбардировщики. Гул нарастал, страшил гневом, но люди не торопились бежать в укрытие; крестоносцы летели бомбить Воронеж, к гостям пообвыкли. Но в этот раз совсем неожиданно гибельною россыпью стали падать бомбы. В стоне вздыбилась земля. Воспылала кострами! Взрывною волною далеко откинуло в сторону командира орудия. Беспомощно полежав, Михаил Ершов с трудом поднялся:
─ Ничего на яхте укачало! Так и убить могут. Ну, фрицево отродье.
─ Укрываться надо. Не геройствовать! ─ осудил его Башкин, выскакивая из укрытия, помогая сержанту добраться до снарядного ящика; у воина бурно текла из ноги кровь.
─ Верно, говоришь, солдат, ─ не стал возражать Ершов, зажимая рану. ─ Обхитрил немчура! Они же, сволочи, летят бомбить Воронеж, а сбрасывают бомбы у реки Девицы! Скорее отбомбится, скорее вернется на аэродром, к патефону, к шнапсу! Чего ему под зенитки лететь! Не поняли мы друг друга, ─ он с грустью посмотрел вдаль; там, где был Воронеж, все небо уже кипело белыми всполохами от зенитных снарядов.
Из командирской землянки выбежала военврач Надежда Сурикова, на ходу поправляя сумку с красным крестом. Тревожно спросила у сержанта Ершова:
─ Ваше орудие бомбили? Вы ранены?
─ В самое сердце.
─ Чем? ─ встревожилась женщина. ─ Осколком? Пулею?
─ Стрелою бога любви Амура! Спасите, Наденька, ягодка сладенька, ─ рассыпался в балагурстве артиллерист.
─ Как же я вас исцелю, если вы убиты наповал? Разве я кудесница-воскресница? Вашу руку, живо!
─ Желаете предсказать мою судьбу, мою любовь, мою смерть?
Посчитав пульс, врач строго повелела:
─ Сидите смирно! Вы ранены! ─ и стала разрезать ножницами галифе, с особою ласковостью смазывать рану, бинтовать ногу.
Башкин искоса наблюдал за влюбленными. Он видел, как присмирел, притих суровый воин, полностью отдавшись во власть женской воли, женскому милосердию, испытывая бесконечную радость и сладость от нежного, легкого, родственного прикосновения ее пальцев, ее взгляда, близости ее дыхания.
Сама Надежда Сурикова мила и красива. И, безусловно, избалована мужским вниманием. Все в чаровнице было от красоты: и русые, коротко подстриженные волосы, изящно прибранные под пилотку, и нежный овал лица, и длинные ресницы, и ореховые глаза, где жили застенчивость и певучесть, и чувственные груди, откуда по греховности шел зов любви и чарующая ласковость! Ремень туго стягивал ее гимнастерку, тонкую талию. Она звала, волновала! И что было приятнее всего, не несла горделивую надменность. Странно было видеть такую чуткую красивость на огненном разломе жизни! Надежде бы кружиться в вальсе на княжеском балу, мчать в удалые разгоны по Руси на свадебной тройке, слушать гармонь, ловить, играя и смеясь, сладостные поцелуи, жить, как царице Руси, любовью и светлынью. Каждый бы отдал жизнь за ее любовь! Ее красота была от солнца, от таинства.
Остановив кровь на ноге Михаила, врач и дальше бинтовала рану с особою нежностью, замирала, если видела его боль, и, переждав ее, еще осторожнее вершила милосердие. Видно было, что любят друг друга. Но еще не дошли до смелости на все времена отдать себя! Жили чистотою целомудрием. И еще только-только постигали правду любви, ее мудрость, ее музыку, ее загадку.
И Башкин невольно подумал, зачем командир орудия подбивал его на любовь к писаной красавице? Засомневался в ее любви? Решил выверить свои чувства? И ее? Хитрец-мудрец этот сибирский богатырь, с распадом русых волос, синими глазами, как у скифа. Зря беспокоился! Жили два солнца рядом!
Красавица не взволновала его. Только сильно, до исступления, растревожила память, где он, по сладостному чувству, увидел свою крестьянскую родину, Пряхино, увидел юную девочку-россиянку с двумя косичками, с огненными, живыми и любопытными глазами, какую любил до боли, слез и ненасытности.
И еще он подумал, наверное, тяжело любить на войне.
Где во всю землю пожарища, где пули и бомбы.
Где могут убить.
III
Сто шестьдесят первая стрелковая дивизия Брянского фронта находился в резерве. Александр Башкин каждое утро чистил пушку, изучал полевую артиллерию; помогал ездовым водить по вечерам на реку Девицу закрепленных лошадей, по любви купал, старательно скреб и мыл. Приходилось выезжать на разбомбленные железнодорожные станции у станиц Кочетовка, Стрелица, Гремячее, спасать людей из горящего вагона, рыть братские могилы, по печали, по трауру хоронить страдальцев, тушить пожары, какие зловеще отражались в полноводном Доне. Спасали от огня вагоны с хлебом, с танками.
Такая работа тяготила, угнетала. Но жизнь не звала к битве. И не звала смерти! Вокруг была весна, пробуждалась земля, привыкшая в благости, по милости одаривать человека радостью, светлынью! Она звала пахаря к пашне, птицу в поднебесье, зверя к любви. Густо зеленели леса, ожили цветами крутояры, цвели яблони в саду, привольно пели соловьи. Жизнь звала любить солнце.
Но не было, не было желанного покоя в душе Александра! Он внимательно отслеживал сообщения в газете и знал, что пал Севастополь, близилось падение Воронежа. Дела на Сталинградском направлении все усложнялись! И Башкин откровенно рвался на поле битвы. Он чувствовал Россию, как великий и мятежный сын ее, кто призван служить страдалице верою и правдою. И стыдился жить в пиршестве тишины! Он уже привык быть между жизнью и вечностью. И привык нести в себе зов битвы. Его сердце было выпестовано по принципу Христа: пахать, так пахать, воевать, так воевать! Целовать крест, так целовать!
Крестьянин из Пряхина не боялся войны.
Не страшился смерти, ее вечного таинства!
Он боялся себя.
Своего безделья. Своего отчаяния! Молчания звезд. И земли.
И вскоре затишье было нарушено. В июне в дивизию прибыл командующий фронтом генерал Федор Иванович Голиков.
И всюду живо спрашивал:
─ Как настроение, орлы?
Отовсюду неслось:
─ Боевое, товарищ генерал!
─ Небось, засиделись в девках? Не пора ли свадьбы играть под музыку пушек? Мед-пиво пить?
Командующий сообщил по скорби: Брянский фронт прорван! Я по воле Сталина ввожу в сражение последний резерв, вашу стрелковую дивизию, с танками, самолетами! Ваше воинство должно решительно выбить фашистов из Семилук, откуда армии генерала Паулюса наступают на Воронеж и Сталинград! Вам, мои герои, выпала честь остановить шествие крестоносцев по Руси, спасти город Сталина! Вперед, славяне! За Родину!
С самого утра дуэль началась превеликая! Ударила артиллерия и две живые лавины, две железные громады столкнулись на огромном пространстве. Ожесточенные бои развернулись за деревню Подгорную, первую крепость, какая защищала Семилуки. Руссы штурмовали деревню с небывалою храбростью. Сражение шло на хлебном поле с неубранными с осени, желтыми, переплетенными на ветру колосьями. Ее наступление поддерживали танки, артиллерия, которая метко разила укрепления врага.
Воины Третьего рейха в крепости не отсиживались. Только русское воинство в неустрашимом натиске, в подвиге достигало ее окраин, бесстрашно бросались в контратаки. И дрались с умом, отчаянно, не ведая страха и обреченности! Впереди неостановимою лавиною двигались острым клином танки, зловеще оглашая землю гудом моторов, страшно поблескивая на солнце черными крестами. Они заливали безжалостным огнем пушек и пулеметов наступающие цепи, с поразительною точностью разили, разбивали русскую артиллерию. За танками шли полупьяные автоматчики и, подбадривая себя, пронзительно выкрикивали отборные ругательства, и тоже сплошным кинжальным огнем выбивали из жизни воинов, сеяли и сеяли смерть.
Едва немцы и русские соприкасались, сходились, как с гневом бросались друг на друга. Пощады никто не ждал. Смерчем метались гранатные разрывы, хлестали пулеметные и автоматные очереди. Горели танки, падали в горевую вечность люди! Обе стороны по чести, по бесстрашию, как святые праведники, всходили на крест, на жертвенные костры, гибли, перерезанные пулеметною очередью, истекали кровью. Но никто не уступал! Сила билась о силу, билась как гладиаторы на арене Римского Колизея, где в схватке никто, никто не ожидал милости и пощады от императора, от Бога!
Расколись земля надвое, падая во Вселенную, и там бы, где звезды, бесконечное пространство, бились и бились!
Расчет командира орудия Михаила Ершова был на острие битвы. Он расстреливал танки! Сам он, когда снаряд попадал в танк, и в пламени, с тяжелым стуком о землю слетала башня, кричал в ликовании:
─ Вот вам собачья свадьба, фрицево отродье!
И тут же подмигивал Башкину:
─ Видишь, как надо бить?
Увидев на поле битвы танк со свастикою, что мчал на батарею, кричал:
─ Чего встал? Снаряды неси, живо! Живо!
Руссы-воины бились за деревню Подгорную трое суток, но бастион так и не сдался, не выбросил белый флаг! Больше того, генералу фон Паулюсу пришла строгая телеграмма от начальника штаба вермахта Вильгельма Кейтеля, он писал: фюрер недоволен вами! Вы должны быть уже у Дона, у Сталинграда, а вы не можете сломить горстку руссов!
На четвертые сутки, едва воспылало солнце, фашисты пошли в атаку тяжелою бронею, дабы пробить щит руссов, что героически прикрывал собою Сталинград. Лавина танков, выстроенная клином, какая могла рассечь горы у моря, самоходные пушки, автоматчики-мотоциклисты, спрятанные за щиты, половодье пехоты со штандартами СС, ─ все неудержимо устремилось к бастиону руссов.
Командир батареи капитан Иван Мороз, с вечно строгим ликом, с черною окладистою бородою, припав к стереотрубе, внимательно следил за грозным движением крестоносцев. Издали танки напоминали черного муравья, какие степенно ползут от взгорья к взгорью, прячась за камышами, поближе ─ были уже зеленые гробницы, с дьявольским сиянием глаз, какие постоянно мигали и мигали; такое ощущение возникало от вспышек выстрелов из орудия.
Немецкое воинство шло гордо, непобедимо, слышалась песня-гимн Хорст Весселя.
Капитан Мороз заметил про себя:
─ Красиво идут, сволочи!
Когда танки подошли на расстояние выстрела, он подал команду:
─ Батарея, к бою! Бить по головному танку! Как вырвался, так на прицел его, лютого зверя! Прицел постоянный! Огонь вести самостоятельно!
Командир орудия Ершов повелел прислуге:
─ Неси бронебойные, Александр! Не дремать, как карась в камыше! И заряжать, живо, живо! Командир Михаил Ершов сам следил за полем битвы, ловил танк в перекрестье прицела!
И только вражеские машины приблизились к рубежу, как от орудия к орудию понеслись обжигающие приказы:
─ Огонь! Огонь!
И поле битвы вновь всколыхнулось взрывами, заполыхало кострами! Дым закрыл солнце. Черные пороховые тучи клубами вились над траншеями. Грохот стоял невероятный, словно вся земля обратилась в кузницу! Пули и снаряды как заблудились, утратили обычное движение, летели то в одну сторону, то в другую! Огненные трассы перекрещивались, переплетались в пространстве ада по Данте. И было непонятно, где летят «свои», а где «чужие» снаряды. Казалось, над землею стоял огненный блуждающий хаос.
Но это только виделось.
И немцы, и русские знали, что делали. Одним надо было взять деревню Подклетную, другим ее защитить.
Взмокший от пота Ершов, в расстегнутой гимнастерке, ни на миг не отрывался от панорамы, от прицела, без устали вращал маховик поворота. Заловив в перекрестие танк с автоматчиками на борту, стрелял и радовался, если чужеземное чудище уходило в траур, в земное пожарище.
И по радости кричал:
─ Снаряды, еще снаряды!
В разгар боя вынырнул из огня и дыма подносчик Степан Банников, по печали доложил:
─ Снаряды кончились, командир!
─ То есть, как кончились? ─ взревел старший сержант.
─ Весь запас расстреляли, все семь ящиков! Полдня без перекура воюем, ─ виновато отозвался артиллерист. ─ Один снаряд остался.
Командир орудия, пригибаясь от летящего половодья пуль и осколков, посмотрел на Башкина:
─ Второй подносчик, добыть бронебойные!
─ Где прикажете? ─ немедленно отозвался воин, спускаясь в окоп, оставляя на краю пулемет, из которого расстреливал наступающие цепи врага.
─ Сам не соображаешь? ─ выразил недовольство Михаил Ершов. ─У Бога всего много, позаимствуй! Не понял? Видишь на позиции разбитое орудие сержанта Белоусова? Весь расчет погиб. Там остались ящики с боеприпасами.
─ Но там уже немцы, командир! ─ выразил опасение Степан Банников.
─ Познакомится поближе! Выпьет чарку за победу! ─ и подал команду. ─ Бегом, Александр! Чего мишенью стоишь под осколками? Ты, Степан, за пулемет! Пехоту коси за танками, пехоту!
Башкин смело и молниеносно занырнул в черные дымы. И ползком, перебежками устремился туда, где на взгорье лежало вверх колесами изувеченное танковым снарядом орудие. Там еще стрелковая рота удерживала передовые позиции, обреченно отбиваясь от наседающего фрица. Чувствовалось, что воинам без орудия было тяжело. В бесконечность строчили пулеметы и автоматы, рвались снаряды. Все на земле стонало, гремело и содрогалось.
Неизвестный русский пулеметчик кричал сорванным, нервным голосом:
─ Сюда, ко мне, сволочи! Здесь я, в окопе! Идите, давно поджидаю! ─ И тут же раздавались пулеметные очереди, какие разили незваного пришельца кинжальным огнем.
Пробраться к расстрелянному орудию и в самом деле было сложно! Та уже разгуливали враги. Запросто могли подстрелить, как утку. Приподнявшись на локте, Башкин увидел убитого воина, скорее, истребителя танков! Он зажал в руке связку гранат. Про себя подумал: шел на крестоносца, да не дошел, веер пуль рассек грудь. Печаль, печаль!
Он еле разжал цепкие пальцы героя, взял связку гранат. На крестном пути пригодится, не на гулянье вышел! Он переждал, когда стихнут летящие пули, и побежал, пригибаясь, к орудию. Снарядов на эшафоте не оказалось, лежали разбитые обгорелые ящики. Александр увидел землянку. Дверь была оторвана взрывом, валялась на траве. Он заглянул туда и в глубине нашел то, что искал. Нацепил цепью три ящика и с усилием потянул за собою. Выбрался из землянки, и замер! Прямо шли немецкие автоматчики, шли, не таясь, полупьяные, веселые. И прицельно, тешась, пристреливали, если видели, раненого красноармейца.
Немцы тоже опешили, увидев русского солдата, изнуренного битвою, но вполне здорового. Даже не раненого. Солдат со снарядами, что встал на пути, показался в диковинку. Стоит, молчит! И было непонятно, то ли вышел из землянки сдаваться, то ли вышел на битву, как Илья Муромец против несметного воинства.
Растерянность длилась мгновение.
Офицер передвинул затвор автомата, с лихою веселостью крикнул:
─ Рус зольдат, сдавай-с! Сталин капут! ─ и играючи нажал на спуск.
Автоматная очередь огненною трассою пронеслась над головою Башкина. Пули беззлобно, тонко пропели сверчками. Он не пригнулся, не шевельнулся в сторону. Он понимал, это бессмысленно! Если решили убить, то убьют! Поиграют и убьют. От смерти, от пули не спрячешься, в берлоге-окопе не захоронишься. Если еще жив, значит, надо думать, как выбраться из окаянной западни! Он видел, немцы держат автоматы наперевес, черные зрачки дул нацелены на сердце. Одно неосторожное движение, и он зальется кровью. Пули с неизбывною радостью вонзятся в человеческую плоть. Про себя он выверил, фашисты держатся надменно, смотрят на игру с русским солдатом, как на забаву, с выжидательным удовольствием. И не ждут нападения! Не безумец же русский солдат! Зачем умирать, если можно жить?
Он неспешно поднял руки. Чем еще больше усыпил бдительность офицера СС. Немцы довольно заулюлюкали, гут, гут, загалдели, как воронье, слетевшее на падаль с деревьев. Наступило самое мгновение ─ возврата к жизни! Он небесною молнией упал на землю, схватил связку гранат и метнул ее в гущу врагов. В крике, в панике подполз к убитому офицеру СС, взял автомат и, отбиваясь, все еще испытывая нервную дрожь, тяжело потащил-поволок ящики со снарядами к орудию. Вслед неслись автоматные очереди фашистов. Бесчисленные, плотно летящие пули огненным саваном расстилались над его головою, и были не так страшны. И больше напоминали сладостную песню о спасении, о помиловании. Башкин спустился в траншею, а лабиринты ее загадок-ходов были ведомы только русскому солдату.
─ Принес? ─ спросил, не оборачиваясь, командир орудия. Он рассматривал в бинокль громыхающее, горящее поле битвы.
─ Так точно, доставил! ─ подтянулся артиллерист.
Он ждал похвалы. Не ради честолюбия, а ради чести, справедливости. Но услышал осуждение:
─ Долго ходил, браток! Только за смертью посылать!
Башкин был солдат, не больше. И не меньше. Ходил под командиром! Но человека в себе слышал. И справедливость слышал!
─ За смертью и посылал, ─ он не скрыл обиды.
Сержант Ершов внимательно взглянул на новенького артиллериста. И посчитал нужным урезонить.
─ Ты, как желал? Дружить с войною, а спать с прелестною женою? Мы все под Богом величаем себя!
Он достал фляжку:
─ Выпей глоток. Помогает! Вижу, воин! И везучий. Другой бы уже распятьем лежал на земле.
Толкнул его:
─ Чего приуныл? Неси снаряды!
Михаил Ершов нацелил ствол орудия на танк, подозвал обиженного воина, скомандовал:
─ За Родину, за Сталина! Огонь! Жми на спуск! Живо! Выскользнет чудо-юдо из прицела!
Башкин назвал на спуск, раздался выстрел, пушка дернулась, засуетилась туда-сюда, и вернулась на круги своя.
Подозвал к себе Башкина, посмотри в прицел;
─ Теперь смотри в прицел! Живо смотри! Горит танк! Запиши себе!
И еще раз похвалил его:
─ С первого выстрела, и танк подбил! Надо же! Говорю, везучий! Быть героем! Только вожжи не распускай.
IV
Трое суток руссы держали бастион! Враг не прошел к городу Сталина! Звездные миры на всю ночь застыли в изумлении! На четвертые сутки, на горизонте, там, где было пиршество солнечного света, показались самолеты-крестоносцы. Они вытянулись в одно трехглавого Дракона и заполнили собою все пространство неба.
Раздалась тревожная команда:
─ Воздух! Воздух! Всем в укрытие!
Половодье бомб обрушилось на бастион. Фашистские самолеты бомбили его, в лютую ненависть, в злую и радостную исступленность! Ад, что описан Данте, ─ сладкая ягодка, с тем, что вершилось наяву! Вся земля Русская была вывернута наизнанку, обратилась в Одну Печаль и Одну Боль, кричащую, стонущую, тревожно-обреченную. Негде было изыскать спасительное прибежище! Все смешалось в диком разливе скорби: стоны, кровь, слезы, пепел, сатанинские клубы дыма, мужские проклятья, женские причитания и молитвы к всемогущей Богородице о милосердии! Вся земля горела, как костер Джордано Бруно!
Но бомбы все падали и падали на Русскую землю, на безвинную землю страдалицу!
Досыта насладившись мщением, самолеты улетели, покачав на прощанье крыльями, скорее в издевательство защитникам бастиона.
Спустя время, на крепость помчались танки с черными крестами! Помчались неостановимо, неисчислимо, как в психическую атаку, где даже под выстрелами, под смертью, не сворачивали с избранного курса. Только вперед и вперед! Не только командирам было в разумение: немцам приказано прорвать оборону к городу Сталинграду или погибнуть во славу великого фюрера и великой Германии! Следом бежали автоматчики, и в удалую ненависть, от живота, рассылали по полю густым роем трассирующие пули, разя все живое.
Артиллеристы полка с трудом сдерживали и отбивали озверелое наступление немецкого воинства. Стволы раскалялись добела. На батарее рвались снаряды и мины. Их осколки щедрым горячим градом с гневом бились в щиты, осыпали орудия, пробивали сердца артиллеристов. Над позициями густо высились облака от пушечного горячего дыма, черные, неподвижные. Солнце опять исчезло в дьявольской круговерти, как замуровало себя в темницу из черных туч.
С неба валил, кружился мелкий пепел.
Трепетал раскаленный воздух.
Снаряды с обеих сторон носились, как молнии, прожигая, сметая на пути все живое. Вся земля была охвачена зловеще воющим, свистящим железом. Поле боя давно уже перестало быть полем жизни, стало гибельным эшафотом, кладбищем.
Но враг все наседал и наседал! Подбитые танки горели, распространяя по полю рыже-золотистое, свирепое пламя. Пехоту из орудия и пулемета рубили, секли, как могли. Фрицы умирали нервно, не соглашаясь с гибелью, громко, пьяно, кричали, то ли предсмертную молитву, то ли взывали к пощаде и милости! То ли слали проклятья себе и России, что необдуманно пришли завоевателями на чужую славянскую землю и теперь вот убиты и не вернутся больше в родные края к любимым фрейлинам, не увидят поседевшую от горя и ожидания мать.
Но живые еще больше свирепели и шли, шли на рубеж в страшном натиске, неизъяснимом исступлении.
В грохоте лязгающих гусениц, в плену черного дыма Михаил Ершов живо наводил орудие и метко разил железные громады, подступающие все ближе к редуту. И дико кричал:
─ Врете, гады! Не возьмете деревню Подклетную! ─ И снова торопил воинов. ─ Заряжай бронебойными! Живо, гробину твою!
В это время на бруствере с гулом разорвался дальнобойный снаряд. Взметнулся огонь, как в неумолимом гневе высеченный из земли. Повисло черное облако, гибельно, в жаркий дар, забили осколки по щиту, стволу и лафету. Пушку качнуло, накренило, из-под сошников выбило брусья. Она покатилась с позиции, из дворика, но ее удержали. И с трудом на руках вознесли обратно.
Командир орудия, припав к прицелу, увидел в перекрестье танк:
─ Чего встали, гробину твою! Гони снаряды в казенник!
Башкин по печали произнес:
─ Убит он, товарищ командир!
Протерев глаза от порохового дыма, Ершов оглянулся. И печально посмотрел на взгорок, где в луже крови, на траве, широко раскинув руки, лежал, скорчившись, Степан Банников. Он прислонил голову к обугленной березе. Горячие осколки разнесли затылок, лицо было бледное, без кровинки, но спокойное и красивое, брови нахмурены, ясные глаза смотрели в небо с интересом, с изумлением, словно в последнее мгновение увидели солнце и клином летящих журавлей и все еще радовались их необычно благословенному полету в дальней синеве. Несли в себе свет жизни. Не было в глазах гибельной пустоты. «Хорошо умер, ─ невольно подумал командир. ─ Умер, не почувствовав смерти».
Еще один снаряд громом разорвал землю около бруствера.
Командир, как очнулся, взревел:
─ Решили добить, дикари двадцатого века! Врешь! Не возьмешь!
Он посмотрел в бинокль на поле битвы. Увидел, как в котловине у танка собрались немецкие автоматчики, оттуда и стреляли по его орудию! Немцы уже бежали в атаку, на высоту, рассеивая во все пространство гибельные светящиеся трассы.
Ершов повернулся, спросил:
─ Александр, можешь заряжать?
─ Учен, товарищ командир! ─ подтянулся воин.
─ Тогда не стой, как огородное пугало! Заряжать осколочными! Будем бить по пехоте! Отсекать ее от танков!
И сам себе стал командовать:
─ Огонь! Огонь!
Башкин еле успевал в спешке загонять снаряд за снарядом в прокрустово ложе казенника, руки его дрожали от нервного волнения, глаза заливал пот, гимнастерка была вся просолена, густо белела присевшими голубями на спине. Мучила усталость. Но он ничего не чувствовал, кроме ликования боя. Он понимал: идет смертельная дуэль с танками! Возможно, его последняя. Слишком уж велико наступающее немецкое воинство, лезущее на батарею с упрямым желанием ее уничтожить. Враг не считался с потерями. Все поле сражения было усеяно убитыми. Бесконечными земными кострами горели танки!
Но атака шла за атакою! Вражеская артиллерия вела прицельный огонь. Земля у батареи, где воевал Александр Башкин, была вся изрыта воронками; землянки, блиндажи разрушены. Сраженные пулями, падали убитые, раненые. На всю роту капитана Ивана Мороза остались только две пушки.
Но артиллеристы билось героями.
Героем дрался и Башкин. Он старался, как мог. Но снова не угодил командиру орудия.
─ Как заряжаешь, душа дьявольская? ─ ожесточенно выдохнул он, с трудом разлепляя ссохшиеся от жажды губы, заметив, что новичок-артиллерист Башкин, тяжело дыша, стоял среди стреляных гильз, держал снаряд, растерянно посмотрел:
─ По уставу заряжаю, по науке.
─ На колени привстань! ─ обозлился его недогадливости сержант. ─ Нельзя заряжать, не пригибаясь. Собьют, не успеешь маму вспомнить! Теперь разобрал, гробину твою? Ты что, от пули заговорен?
Неожиданно наводчик Павел Куликов, оторвавшись от прицела, испуганно вскрикнул:
─ Командир, танк на наше орудие мчит!
Михаил Ершов припал к панораме, и тоже сильно побледнел.
Из близкого соснового урочища, варварски, внезапно, вырвался тяжелый танк. Он, зловеще лязгая стальными гусеницами, устремился на редут Ершова, на ходу разворачивая башню и ствол орудия, из какого через мгновение должен полыхнуть огонь, разнести в клочья людей и пушку.
Командир орудия не стал скрывать опасность:
─ Мчит наша смерть. Или мы или он!
Он вскричал:
─ Александр, гробина твою, чего стоишь, как огородное пугало? Снаряд в казенник на танк! Живо!
Из пушки полыхнул оскал пламени! Было послано еще три снаряда! Но танк-крестоносец шел и шел. Как заколдованный.
Он тоже выстрелил, и тоже снаряд промчался мимо, прямо над головою артиллеристов!
Дуэль не получалась. Танк-крестоносец мчал по кочкам, прицельно выстрелить на ходу, было нельзя. И нельзя остановиться, дабы хорошо прицелиться! В мгновение расстреляют! И танк-крестоносец решил на скорости вдавить в землю, растоптать орудие Михаила Ершова, вогнать в землю, в могилу.
Александр Башкин все понял. Такая горько-трагическая ситуация складывалась не раз в Смоленском сражении. Он схватил связку гранат и быстро устремился по ходу сообщения к дерзкому рыцарю-крестоносцу. Бежал, тесно прижимаясь к земляной стене траншеи. Он строго понимал свою ответственность. Понимал и то, что на войне убивают! Без жертв она не бывает. Но одно дело, когда гибнешь в бою, не видя летящей пули, летящей гибели. И другое дело, когда видишь эту смерть. Глаза в глаза! Осознаешь ее. В печали, неотвратимо. Она стоит у сердца. И в то же время дарит надежду, наполняет смелостью и верою, что еще можно выжить, спастись. Видимая гибель, конечно, лучше. Невидимая, в тебя летящая, какая в мгновение убивает, ─ хуже. От нее не спастись, не защититься. Танк был ─ видимая смерть.
Гремучее чудовище сделало еще выстрел по орудию сержанта Ершова. Надо было спешить. До танка еще далеко, гранату не докинуть! Можно выползти из окопа, на равнину, там к танку будешь ближе, но он не решался. Было опасно! Пулеметчик сразу бы прострочил его, ползущего к танку, как бы он ни вжимался в родную землю-матушку, какие бы ни шептал молитвы о спасении.
Александр Башкин как воин, несомненно, был поцелован Богом, где по величию соединились смелость и талант мыслителя! Он сердцем чувствовал поле боя, казалось, даже знал, куда летит пуля, в его ли сердце, мимо ли? Угадывал движение танка, знал, когда будет стрелять! В воине жило загадочное чувство, свое дьявольское зрение, каким он и чувствовал грохочущее поле сражения с разливом густого порохового дыма и пламени. И теперь он просчитал верно: вырвется в смелом отчаянном порыве на хлебное поле с истоптанными колосьями ржи, ─ и через миг будет лежать на земле-страдалице с простреленною грудью. Обождет, ─ переиграет врага, перехитрит его!
Танк-крестоносец пока не видит воина, он мчит прямым курсом на орудие Ершова, какое стояло с краю! Путь его с чугунным гулом, непременно, проляжет через окоп, где и затаился воин-охотник. Другого пути не было! И все свершилось по его святцам. Танк, наполняя мир страшным гудом, стреляя на ходу, только-только переполз через окоп, ─ как вслед полетела связка гранат, и тут же раздался взрыв. И крестоносец с оторванною гусеницею беспомощно закружился на месте, горестно покачиваясь, не прекращая звериного, бешеного рева. На броню с жадною радостью вырвался огонь, и танк все больше становился костром, гробницею. Расстрелять из автомата фашистов, какие не пожелали заживо сгореть в огне даже во имя фюрера, было уже проще.
Вернувшись к орудию, Башкин устало отер полою прокопченной гимнастерки пот с лица.
Ершов обнял его.
─ Солдат-хват, не с ухват! Выручил наши грешные души! Так бы хана! Умеешь воевать! Знаешь, где выждать, как перехитрить врага. Это и есть наше искусство! Быстро мою науку усвоил, ─ похвалил он себя и Башкина. ─ Ценю! В нашем полку героев прибыло.
V
Наступила ночь. И передышка. К переднему рубежу подкатила походная кухня. Весело зазвенели котелки, ложки. Обедали прямо у орудия, расставив снарядные ящики. И тут же утомленно засыпали прямо на земле; она остро пахла пороховым дымом. Кому удавалось, делали ночлег из сена или соломы. Командир орудия Михаил Ершов лежал между станинами, принакрывшись гимнастеркою, какая была не раз обожжена и осыпана осколками, спал нервно, тревожно, словно нес тяжкий крест, губы сухо вышептывали: «Огонь! Огонь!» Но звука не было, волнение перехватывало горло. Александр Башкин не спал, он облокотился на лафет и смотрел в небо, на звезды. И вспоминал Пряхино, матерь у иконы, любимую девочку Капитолину, какая величаво шествует к колодцу, неся на коромысле ведра, наполненные ключевою водою. Слышал, как играет на вечерке гармонь Леонида Рогулина, девушки поют русские песни. В такие мгновения пиршество радости не знало края. Вместе с тем, потирал уши, где постоянно слышалось от выстрелов орудия тугое звенящее гудение. Мучить не мучило, была сила, власть над собою. Но спать не мог. И не спал сутками. Всю войну.
С рассветом опять началось сражение. После сильного и оглушительного обстрела гитлеровцы, держа на весу автоматы, вслед за танками пошли в психическую атаку.
Едва заняли огневую позицию, как Павел Куликов воскликнул:
─ Посмотри, командир, сколько танков! Во все поле ─ танки, танки! Семьдесят, сто, тьма!
Ершов поднял бинокль, пытливо посмотрел, небрежно заметил:
─Последнее из сусеков выскребли. Нам пахать, не привыкать! Так, Александр?
Башкин кивнул.
─ Чего желал бы?
─ Выжить. И побыть в Берлине.
─ Выживем, ─ заверил сержант. ─ Воина русская земля силою жизни питает! Как Антея! Ты еще с умом воюешь, с везением; чувствую, Александр, как пророк, чувствую ─ в тебя заложено бессмертие! Быть тебе у Гитлера!
Наводчик не отступал, в раздумье прикидывал:
─ Интересно, сколько на долю выпадет?
Командир орудия вошел в гнев:
─ Въедливый ты, Паша! Какая твоя печаль? Знай, крути жернова, и пусть с похмелья не болит голова! Или впервою коршун вьется над русскою землею?
Поклянемся выдержать!
Все сняли каски, зазвенела сталь.
На этот раз вражеские танки оставили психическую атаку. Слишком много машин горело, дымилось желтыми клубами на поле сражения. Они открыли гибельный огонь уже с дальнего расстояния! Палили бешено. И не в белый свет. Над пушками
артдивизионами высоко, у самых облаков, летали самолеты «Фокке-Вульф», какие с высоты корректировали огонь.
Все опять смешалось, спуталось в водовороте огня и дыма, снарядных разрывов. Несмотря на то, что воины, едва приподняв голову, обреченно падали в смерть, все батареи ответили на сокрушительный огонь. Началась нескончаемая дуэль пушек с танками. Свист снарядов объял, заполнил всю землю. Вспышки от выстрелов бесконечно загорались и гасли кострами, словно на поле сражения шел диковинный танец света и тьмы.
Орудие Михаила Ершова разило танки метко, удачливо. Фашисты ее отметили, стали окружать. Снаряды рвались у орудия все щедрее, воины только успевали прятаться за шит от летящих осколков. Но вот у пушки с оглушительным воем разорвался снаряд. Фонтан из огня и земли взметнулся в небо! Ощущение такое, обвалилась каменная гора! И камни разрушительным половодьем понеслись на пушку, сшибая в гибель, в излом, ее и героев-воинов.
Орудие ушло в молчание!
Над окопом взлетел траур!
Спустя время, тяжело приподнялся Ершов, выполз из могильного холма. Кровь текла по его лицу, скапывала на грудь, на гимнастерку. Отплевывая землю, превозмогая боль, тихо спросил:
─ Живые есть?
Прихрамывая, тоже крепясь от боли, подошел и встал у орудия Башкин.
─ Все? ─ сурово спросил командир.
Воин не ответил. Они оба, как сговорились, в мгновение посмотрели на наводчика. Павел Куликов лежал неподвижно, сгорбившись, руки распахнуты, словно хотел на прощание обнять и поцеловать русскую землю. Лежал в крови, какая перемешалась с землею. Смотреть было страшно.
Близко донесся грохот битвы. Ершов как ожил, опомнился. Тихо спросил:
─ Как пушка, Александр?
─ Жива! Щит разбит, броня треснула.
─ Садись в кресло наводчика!
Башкин быстро открыл затвор, загнал снаряд в казенник. И в перекрестье прицела стал рассматривать поле сражения.
Михаил Ершов, еще в трауре, тоже стал его вдумчиво рассматривать в бинокль:
─ Бери танк, что выскочил на взгорье! Сам отдается! За Родину, за Сталина! Огонь!
Выстрел не получился. Снаряд пролетел мимо.
Командир орудия взбеленился:
─ Куда к дьяволу стреляешь? ─ он сам внес поправку в прицел, пока Башкин засылал тяжелый снаряд в казенник пушки. ─ Смири волнение! В сталь обратись! В снаряд, какой посылаешь в танк!
Успокоившись, артиллерист Башкин подкрутил панораму к цели, нажал на спуск. Резкий грохот сотряс воздух. Орудие дернулось, полыхнув ослепительным пламенем, и снаряд точно ударил по черной башне танка, с которого торопливо, в панике стали спрыгивать немецкие автоматчики.
─ Быть тебе командиром батареи! ─ возликовал Ершов, довольно рассматривая в бинокль поле сражения. Увидев, как из лощины цепью вывалилась пехота, нетерпеливо подал команду: ─ Заряжай осколочными! Огонь! Огонь! ─ вновь и вновь приказывал он.
И Башкин в жаре, в поту, размазывая в суете по лицу черную гарь, сжав спекшиеся в порохе губы, без устали, уже не пригибаясь, не боясь пуль и осколков, метался по изученному крестному пути от орудия до ящиков с боеприпасами. Загонял в казенник то бронебойные снаряды, то осколочные, садился в кресло наводчика и стрелял, стрелял, поражая фашистское воинство.
Но немецкие танки все шли и шли вперед, решив умереть или разделаться с непокорным орудием.
Неожиданно Башкин вскричал в испуге:
─ Командир, кончились снаряды! Все ящики расстреляны!
─ Что, значит, кончились? ─ взревел Ершов. ─ Живо спустись в землянку командира огневого взвода. Там есть запас, тридцать снарядов! Не мельтешись, быстро! ─ с угрозою потребовал он.
И в тот момент, когда воин-храбрец занырнул в землянку, прикрытую плащ-палаткою, у пушки раздались три взрыва, заполнив вокруг пространство пороховым дымом и пламенем. Скопище осколков осыпало горячим железом пушку, изогнуло ее в подкову! Выбежав со снарядом, Башкин увидел у пушки глубокую воронку, где он сидел в кресле наводчика, и где теперь густела гибельная пустота, невольно подумал: не спустился бы в землянку, точно бы убило!
И опять удивился: почему же не убило?
Ужели его матерь Человеческая, благословенная Мария Михайловна, нашла единение со святою Богородицею, и постоянно отмаливает его от смерти?
Чудо! Живое чудо!
Вернувшись к себе, в битву, стал искать глазами Михаила Ершова, желая угадать, од каким завалом лежит командир? Надо было скорее его раскопать! Может, еще жив? Но где он, где? Ужели снаряд попал в живую плоть и та плоть обреченно разнеслась в разные стороны вместе с осколками? Так воины умирали не раз! И только у Бога заново собирали плоть, угадывали человека, кто он? Чем жил?
Так думать было страшно. Но вскоре он увидел, как в самом углу траншеи, зашевелился могильный холм, и показалась треснутая каска Ершова. Он подбежал, помог ему выбраться. Сержант встать не мог, сидел, прикрыв лицо руками. Между пальцами сочилась кровь.
─ Врача, врача! ─ во всю силу души крикнул Башкин, желая перекричать зловещие раскаты сражения. ─ Помогите, помогите!
Надежда Сурикова выносила с поля битвы раненого артиллериста, когда услышала крик о помощи. Спустившись в траншею, врач в тревоге наклонилась:
─ Михаил, родненький, что случилось? Покажи, куда ранен? В глаза? Ты ослеп? ─она пыталась с необычною нежностью отнять его руки с лица.
─ Это ты, Наденька, ягодка сладенька? ─ с любовью, пряча боль, произнес он. ─ Кто еще? Такие ласковые руки. Открою глаза ─ и увижу тебя! Увижу солнце! Ведь увижу? Как же я стану жить, если не буду видеть тебя, любимую?
Врач поняла, командир орудия контужен взрывом. Он ничего не слышал, ни себя, ни поля сражения. Он только чувствовал ее близость. И жил ею.
─ Отними руки, ─ ласково попросила женщина от милосердия. ─ Только не спеши глаза открывать. Хорошо?
Она взяла ватку с йодом, стала осторожно очищать веки от осколочного стекла. Затем чисто промыла спиртом брови и лицо. Не чувствуя больше под чуткими пальцами опасности, колкого стекла, попросила открыть глаза.
Михаил Ершов принял отречение:
─ Боюсь, ─ слепо улыбнулся сержант. ─ Боюсь, что больше не увижу тебя. И солнце.
─ Увидишь, ─ заверила врач, сама не зная, насколько права. ─ Еще надоем! И я, и праздник света.
─ О чем ты? ─ выразил волнение Ершов, блуждающе нащупав ее руки, в печали целуя. ─ Разве можешь ты надоесть? Страшно не это. Страшно жить незрячим. Не видеть тебя. Вот что страшно.
Женщина, решившись, сам разлепила ему глаза.
Со страхом спросила:
─ Видишь?
Ершов закрыл глаза ладонями, медленно открыл:
─ Вижу, Надя, вижу! ─ радостно воскликнул он. ─ Помоги встать!
Надежда подала руку, воин поднялся. И он совсем неожиданно взял ее на руки, закружил в ласковом вальсе у пушки. Но быстро обессилел, выпустил ее из рук, присел на станину. ─ Закружилась голова, ─ честно, с сожалением признался артиллерист.
─ Ты контужен, ранен, потерял много крови. Надо срочно идти к реке Девица, на пункт эвакуации. Ночью придет пароход, повезем вас в госпиталь.
─ Перевяжи мне голову, ─ тихо выговорил он. ─ И налей спирту. Я выпью.
Он выпил, поцеловал любимую:
─ Иди! Раненые ждут тебя. Я останусь. Я не могу срочно! Прости! Я должен бить врага. Я обессилел, да. Потерял много крови. Но я еще не утратил честь и совесть! Я должен взять Семилуки. Такую клятву я дал себе и России. Иди, не то я заплачу. Уже подступают слезы.
─ Почему заплачешь? ─ нежно спросила Надя Сурикова. ─ Раны мучают?
─ Зачем так спрашивать? Ты знаешь, почему? Я люблю тебя! И боюсь, что убьют! Если убьют, значит, вижу тебя в последний раз! Почему и плачу!
Он желал на прощание поцеловать ее в губы, но устыдился, и поцеловал руку, как джентльмен:
─ Все, иди, ягодка! Тебя ждут раненые.
Любимая женщина сама поцеловала воина. И, взяв сумку с красным крестом, выбралась из траншеи, и как исчезла, истаяла в дыму, спеша к раненым на поле сражения.
Михаил Ершов громко крикнул:
─ Живые есть в траншее?
─ Есть, командир! ─ подбежал Башкин, глаза горели битвою, у груди держал пулемет; правая щека опалена красно-пороховыми вылетами пуль. ─ От фашистов отбиваюсь! Прут бешено. Как озверели.
Он подошел к пушке:
─ Как голубушка? Отслужила? ─ он с любовью погладил остывший ствол.
─ Живое! Чего станет? У пушки колеса на резине! Попрыгает, как царь-государь на балу, и снова, как с гуся вода! Но сильно разбит прицел!
─ Разбит прицел! Разве это беда? ─ возликовал командир орудия. ─ Бьем враг прямою наводкою! Заряжай осколочным! Живо, гробину твою.
Башкин подтянулся:
─ Слушаюсь! ─
Снаряды понеслись в гущу врага. Смерть шла за смертью. Гитлеровцы растерялись. Они были уверены, что орудие, какое сдерживало наступление пехоты, уничтожено. И вдруг произошло невиданное чудо: пушка, загнанная в могилу, стала опять стрелять. Немецкое воинство в панике залегло.
Три танка-крестоносца развернулись и повелительно устремились на редут Ершова ─Башкина. Ждать сближения не стали, открыть огонь издали, на поражение. Грозные стволы беспрестанно озарялись вспышками.
─ Александр, живи верою! Выстоим! Или не победим? Выстоим! За Родину! За Сталина! Огонь! Огонь! ─ кричал во все поле битвы командир орудия, дабы не слышать в себе страха гибели.
Александр Башкин только успевал загонять в казенник снаряды и бить по танку, как прикажет командир; он все поле видел в бинокль, как полководец. Битва был немыслимо трудная. Пока получалось ничего. Был подбит танк командирского танка, слышно было, как с грохотом слетела башня, он задымился, заиграл огнем.
Ершов ликовал:
─ Молодчага! С тобою можно воевать.
Но танки-крестоносцы все крепче сжимали в петле редут Ершова ─Башкина. Снаряды рвались у орудия щедро. Без устали стреляли пулеметы, но трассирующие пули растекались по щиту и пока не задевали героев. Но вскоре танковый снаряд оглушительно разорвался на площадке, у самого колеса. Пушка вздыбилась, и с силою толкнула Михаила Ершова на землю. Он упал, заливаясь кровью. Он еще жил и все старался подняться, но каждый раз по боли, обреченно падал на землю. Собрав последние силы, поднял голову, дико, невидимо посмотрел в пространство, вышепнул:
─ Александр, держись! За Родину! За Сталина! ─ и упал Сашка, держись…– и упал лицом вниз.
Башкин не знал, убит командир орудия или не убит?
Он не мог ему помочь.
Танки были уже у позиции! Кровавая схватка ожесточилась. Воин один работал у пушки за пять артиллеристов. Носил снаряды, заряжал, наводил, стрелял.
─ Врете, гады! Не возьмете! ─ нервно подбадривал он себя. И стрелял, стрелял.
А злобствующий враг все наседал и наседал. И страшен был его натиск. Все ближе подбирались танки, автоматчики, какие тучею бежали по всему полю, держась за железные подолы, бежали зверьем, полупьяные, и секли, секли из автоматов все живое. Они были настолько близко, что уже уверовали в победу, что возьмут живьем отчаянного храбреца. И надменно кричали:
─ Рус, сдавай-с!
Страх гибели давно покинул Башкина. В сердце жила только ненависть к врагу. И жило желание больше взять с собою незваных пришельцев в вечность. Но страх, правда, тоже был, обжигал и мучил его. Страх попасть в плен. Сколько он в плену натерпелся, врагу не пожелаешь. Вспомнишь все муки, и ручьем льются слезы из глаз. Плена он боялся. И знал, больше враг не увидит его с поднятыми руками. Увидит только с простреленным сердцем.
─ Я вам сдамся, ─ кричал он громовым голосом, подобно богу Перуну, во всю землю и во все небо, и знал, что немцы его не слышат. Но кричал громко, разгневанно. Так было легче, приятнее душе. ─ Сюда, ближе, сволочи! Возьмите! Я вам сдамся! Кровью поганою захлебнетесь.
И бил по врагу то из орудия, то из пулемета.
Но вот снаряд угадал в пушку. Взрывная волна вознесла Александра Башкина высоко в небо и бросила по боли, со стоном на Русскую землю. Он упал, и больше не шевельнулся. Если только вспомнил на прощание стихи поэта: и сам не знаю, когда я умер, вчера или тысячу лет назад?
VI
Сколько Александр Башкин лежал, сжившись с вечностью, не помнит. Придя в себя, ощутил, жив: окаянная смерть, неразлучная подружка солдата, еще раз пронеслась мимо. Он тревожно ощупал себя. Ран не было. И даже не контужен. Только стоит невероятная боль у сердца от падения на землю и в голове густится чудовищно-страшное гудение.
Он с могильного взгорка скатился в траншею, подполз к орудию. Величия было мало, одна грусть! Пушка была разбита. Возникла немыслимая жалость! Воин слышал, еще шла битва, и надо было брать пулемет и вливаться в пламя огня, но он не мог просто так покинуть исковерканное орудие. Он присел на ящик, обнял ствол. И, посидев, помучив себя по трауру, заплакал. Плакал долго, ибо долго не отступала строгая молитвенная печаль. Орудие было живое, родное существо! Он прощался с верным другом. Прощался на все времена. Прощался с командиром орудия, со всем остальными артиллеристами, кто пал в битве с крестоносцами смертью героя.
Он взял пулемет, что лежал у разбитого орудия, гранаты, и пополз на соседнюю батарею, так и не решив для себя, а где Михаил Ершов? Бились у пушки соборно! В могилу легли по отдельности! Он видел его могилу, но не мог разобрать, это погост? Или еще не погост? Некогда было наклониться, пощупать пульс! Три танка шли на батарею! Жизнь и смерть, слились в самое крохотное мгновение!
После сам лег под траур! Явись пророком, уясни, где Михаил?
Взяли немцы? Попал в плен?
Башкина невольно, повелительно опалило жаром! Но вскоре в успокоение подумал: зачем немцам убитые? Если был ранен, то Надя Сурикова, его ангел, не могла не спасти воина.
Соседнее орудие оказалось комбатовским. Здесь располагался штаб командира батареи Ивана Мороза. Расчет у пушки убит. Смотреть страшно. Человеческие тела лежали валом, вразброс, были изувечены, лица залиты кровью. Комбат тоже погиб. Погиб ужасно. Острый веер осколков рассек шею, голова отделилась от тела и откатилась к лафету, покоилась в странном, безмолвном одиночестве дико и безобразно. Белокурые волосы, черные от крови, спутались, слиплись, и ветер безуспешно пытается растащить их, взметнуть. Глаза безжизненно смотрели в пространство, в их открытости застыла тяжелая печаль. Тело раздавлено колесом пушки, на груди зияла разорванная рана. То, что это тело капитана, он понял по двум орденам Красного Знамени, которые холодно отсвечивали эмалью на разорванной гимнастерке.
Страшно было смотреть и на остальное. Вокруг валялись пустые разбитые ящики, почерневшие от пороха гильзы, окровавленные обмотки, оторванные руки с зажатою гранатою. Он отошел к орудию, желая проверить: исправно ли? И у бруствера, в окопе, увидел связиста. Он сидел, уткнувшись лицом в рацию. С руки на проводе свисала телефонная трубка. Она жила, говорила. Тревожный голос без устали звал:
─ Иван, родной, помоги огоньком! Рота гибнет! Не можем подняться! Иван, родной, помоги! Пропаши снарядами седьмой квадрат. Ребята гибнут!
Башкин живо взял трубку:
─ Кто говорит? Слушаю вас.
─ Иван? Ты? ─ живо встрепенулся голос в телефоне. ─ Ты куда пропал, родной? Бьюсь, а ты молчишь! Это я. Командир роты Павел Синица. Помоги огоньком, родной.
Башкин тихо вымолвил:
─ Командир батареи капитан Иван Мороз пал смертью героя.
─ Кто говорит? ─ донеслось требовательно.
─ Командир батареи рядовой Александр Башкин!
─ Браток, орудие стреляет?
─ Еще не знаю. Щит не пробит, накатник не снесен. Затвор и прицел в целости.
─ Пропаши седьмой квадрат! Залегли! Не можем подняться в атаку. Огонь пожирает людей. Танк стоит живым дотом. Не пускает. Помоги, милок!
─ Помогу! Но объясните проще, где он, седьмой квадрат, который надо пропахать? Командир убит, корректировщик убит. Я один.
─ Можешь выглянуть, посмотри, где сосновое урочище. На опушке до башни вкопан танк! Мы не достаем, он не подпускает. Бьет из орудия, пулемета.
Башкин в каске осторожно выглянул из окопа. И едва в густоте порохового дыма разглядел фашистскую машину.
─ Вижу, товарищ командир роты! Уберем дот, это нам в райское блаженство!
Он огляделся в поиске снарядов. Все ящики были пусты. Заглянул в землянку командира батареи. И обнаружил то, что искал! Загнал снаряд в казенник, приник к прицелу и стал вращать маховик поворота. Выбить танк было сложно, даже невозможно. Он зарыт в землю. Попадаешь в танк, снаряд зарывается в землю. Попадаешь в башню, снаряд скользит по крышке башни и улетает в сладостное пространство. Почему в сладостное? На мгновение прожил больше.
На поле битвы танк сразить проще. Он в движение, тут, кто кого? У кого сильнее нервы, талант воина, тот и пан!
Башкин смело вступил в дуэль с крестоносцем, И уничтожил крепость. Пришлось истратить, спалить десять снарядов. Но святое дело свершилось.
Он услышал, как рота Павла Синицы поднялась в атаку, оглашая поле битвы раскатистыми криками: «Ура! За Родину! За Сталина!»
Великая радость ожила в сердце воина.
Нашлось время, оглянуться. Время близилось к вечеру, но оба воинства, и русское воинство, и немецкое, и не думали уступать друг другу. Оставалось только удивляться, где изыскивались силы? Скорее, бесконечен человек в силе, как Вселенная, ибо плоть ее.
Теперь Александр Башкин бился за всю батарею. Он один, совершенно один, сдерживал танки с черными крестами, полупьяную, взвинченную пехоту. Немцы заметили смельчака, открыли по его орудию губительный огонь. Биться пришлось с тьмою драконов! И он бился, пока была сила, пока было везение. Сам по себе воин не был плотью от Ильи Муромца, он был тонок, гибок, как тростинка, но сила духа была окаянная, и, несомненно, заложена богами Руси! И, несомненно, нес еще в себе талант полководца! На поле битвы он изыскивал чувством пророка тот танк, кто нес ему опасность. И вышибал его, вышибал свою гибель! Опережал!
Воин Руси ─ это искусство!
Он сам заряжал пушку, сам наводил, сам стрелял! И если получалось, ликовал: «За Родину, вам! За Сталина!» Но вот снаряд громом ударил в пушку, пробил щит, вывалился к лафету. Но не взорвался. Почему не взорвался, как и в лесу под Медынью, ─ можно только гадать. Взорвался бы, от смельчака ничего не осталось. Исчез бы с земли без молитвы могилы! Как дивное видение. Без осмысления смерти!
Не успев испугаться, Башкин, посмотрел на снаряд, прикинул для себя: взорвется, не взорвется? Оставит ему пушку, не оставит? Стоит ли искать спасения? Решил, стоит! И стал торопливо отползать от орудия, от еще не взорванного гостинца, в котором таилась загадка его гибели.
Загадка его спасения.
Загадка его воскресения.
Воин Башкин отполз вовремя. По редуту оглушительно, сильно разгоняя всплески огня, ударил танковый снаряд, и орудие горестно, скорбно взлетело в небо, где плыли облака, и опало грудою железа. Не отползи, и кто знает, как бы дальше сложилась жизнь воина?
Ничего не оставалось Александру, как снова взять ручной пулемет с дисками, и влиться в роту Павла Синицы. Его ратники смело поднялись в контратаку, желая подальше от деревни отогнать фашиста! Впереди роты шел капитан, держа высоко в руке пистолет.
Сошлись врукопашную, сошлись мгновенно. Бились люто, молча. Только слышались людские хрипы, придушенные стоны. Никто не уступал в упорстве, мужестве.
Александр Башкин дрался в самой гуще врагов. Он любил эту грубую солдатскую работу. Там, на смоленской земле, при первом боевом крещении было страшно. И неприятно убивать вблизи. Враг, конечно, есть враг. Никто не звал его на святую Русь. Сам пришел, самозванцем! Без жалости убивал, жег города и деревни. Но враг вблизи ─ был человек! Со своими чувствами, тревогами и печалями, с живым сердцем, в котором трепетно и изумленно билась любовь к жизни. И убивать его, насаживать на штык, разбивать прикладом голову было мучительно трудно.
Башкин не слышал себя убийцею, не слышал в себе разбойничьи посвисты атамана Кудеяра, желание по рукоять всаживать в жертву, под сердце, финский нож. В воине жила жалость за чужую человеческую жизнь! Тревожилась неуемная печаль, если видел чужую боль, чужую смерть.
Он был русским человеком! Он был до величия и загадки русским человеком! Он был растворен в Руси, как синь неба! И в первый раз, в Ярцево, вернувшись из штыкового боя, он долго стоял, прислонившись щекою к березе, смотрел на звезды в ночное время, стремясь унять мятежность в сердце, проклятую жалость к тем, кого он убил. Он сутки не мог надкусить хлеб, съесть ложку каши из солдатского котелка. Потом пообвык. Смирился с короною мстителя! Помогла лютая ненависть к фашисту за поруганную Русскую Землю, какую он любил с необычною силою. Воин знал кулачные бои, на Руси любили ходить деревня на деревню! И еще жило осмысление: если не ты, значит тебя! И теперь воин бился ловко, где кулаком, где гранатою, где штыком.
За ротою Павла Синицы поднялась вся дивизия! Вернее, то, что от дивизии осталось!
Гитлеровцы, как не бились, но отступили в свою деревню, отступили туда, откуда начали штурм. И снова встали тем же щитом у города Семилуки!
VII
Крепость Русского Воинства выстояла. Воины пели и ликовали, радостно махали касками, обнимали друг друга. Прокопченные пороховым дымом лица сияли счастьем. Тяжело далась победа, но далась! Казалось, и каждая луговая былинка, не сгоревшая в огне пожарищ, радовалась вместе с людьми, гордо распрямляясь на ветру, сладостно покачиваясь в бестревожном мире. И березы теперь не ощущали сиротливости, по ласке тянулись к солнцу, с полною щедростью укрывали от зноя зелеными ветками притомленную русскую рать.
Мгновение боя было равно само по себе прожитой жизни!
Спасибо, Русь, что сберегла!
Но битва еще не закончилась. Город Сталина был в опасности! Верховная Ставка наполняла ослабленную дивизию соками жизни. На ее вооружение поступили самолеты и танки, полевая артиллерия, стрелковые роты. На таком военном перекрестье и встретил Александр Башкин своего командира орудия Михаила Ершова.
Он в радости толкнул его плечом:
─ Вы ли, товарищ командир?
Сержант обернулся:
─ Башкин? Ты? Жив? ─ он тоже выразил изумление. ─ Скажи, где встретились? На пути к Берлину!
─ Вижу вас. И не верю. Значит, живы?
─ Жив, Александр!
─ Просто чудо! Когда снаряд разорвался у пушки, и вы упали на землю распятьем, подумал все. Звал врача, а сам не мог помочь. Отбивался от танков.
─ Получается, еще раз спас, гробину твою! Не пустил танки на позицию. Погуляли бы гусеницы! ─ он обнял воина. ─ Надежда, любовь моя, разыскала и раскопала. Уже в усыпальнице! Отправила в госпиталь. Восемь ран насчитали, весь перебинтован. Как чучело.
─ Так быстро выписали?
─ Выписали? Ха! Сбежал! После Берлина долечусь! Как ты, Александр? Где воюешь?
─ В пехоте у Павла Синицы!
─ Пойдешь ко мне наводчиком?
─ Надо спросить у командира! Как решит?
─ Спрашивать? У пехоты? ─ рассмеялся командир орудия. ─ Ты с лафета спрыгнул? Твоя пехота по полю черепахою ползает, а я над полем огненными птицами летаю! Удивляешь, гробину твою! Сам согласен? С командиром договорюсь. Орудие я получил новенькое. Сам выбирал. Вместе встанем щитом к Сталинграду. Договорились?
Тем временем в штабе дивизии шла напряженная работа, как сокрушить оборону города Семилуки? На карту наносились синие стрелы наступления, троекратно проверенные расчетами и военною наукою.
Сам он покоился на холме. И мирно, упоительно грелся под лучами золотистого солнца. В изгибе плавно текла река Девица, впадающая в Дон. Тихо плескались на волне рыбачьи лодки. Близко к окраине подступали густые хвойные леса. Видны яблоневые сады, бегущие по полю тропинки. Все жило покоем, несло ощущение красоты жизни. Ничего не говорило о том, что в русском древнем городе затаились фашисты.
И только рассматривая город в бинокли, можно было увидеть сооружения дотов и дзотов, какие грозно блестели сталью. В каждом форту-крепости стояли танки, артиллерия. Открывались взору бесконечные траншеи для пехоты, опутанные колючею проволокою. Все надо было снести, сокрушить в штурме.
Дивизия жила в окопе, ждала зова военной трубы! Немцы веселились, играли на патефоне русские песни, усиленные репродуктором, громко, смеясь, кричали:
─ Русс, чего остановился? Иди на побоище. Будем звериную кровь пускать! Боишься? Ты же дикарь, смерти не чувствуешь!
Довольно, пьяно хохотали. И снова заводили во всеуслышание задорную «барыню» или разудалую песню: «Окрасился месяц багрянцем».
И опять кричали, глумились:
─ Как, русс? Нравится похоронная музыка? Слушай, пока не лег в усыпальницу! На том свете не сыграем!
И снова уходили в скоморошество, в глумливое, оскорбительное потешество.
Воины в тоске и обиде хмурились, еще крепче сжимали оружие. Михаил Ершов в горькой злобе сжимал кулаки:
─ Рассыпались в звоннице, гробина твою! Ничего, еще покричите майн гот, фрицы подлые.
Наступило утро пятого июля.
Вокруг стояло чарующе безмолвие. По ласке и радости всходило солнце. На березе весело пели иволги. На зеленом крутогорье гудели пчелы и шмели, блаженно летали бабочки. С реки доносились крики чаек. Ветер от росы освежал лики воина Руси, что сидел в окопе, сжав автомат.
И все в мгновение разрушилось!
В небо взлетели долгожданные краснозвездные бомбардировщики и обрушили страшный бомбовый удар на город Семилуки. И в мгновение по обороне немцев ударила полковая артиллерия. Орудия били непрерывно, с одержимым упрямством, била залпами, глубоко пропахивая ее снарядами, сокрушая доты и дзоты, заливая шквальным огнем траншеи. Неумолимая смерть закружила, забушевала над воинством самозваного завоевателя! Снаряды били в цель. В бинокль можно разглядеть, как немцы обреченно мечутся в огне и дыме, мечутся, как звери, попав в западню, на отстрел, а неумолчные выстрелы все бьют и бьют. Раненые пытаются встать с земли, отползти в укрытие, но, сраженные снарядами, обессиленно падают, ползут дальше, громко стонут. В гибели извиваются, как на хворосте, на костре. И, наконец, замирают, обняв на прощание чужую землю, какую пришли завоевать, и какая оказалась не даром от Бога, а даром от Мефистофеля, и востребовалась для захоронения, для гробницы!
Ужели бы в Германии земли на то не нашлось?
В грохочущее пространство взвились две красные ракеты. Командиры рот выпрыгнули на бруствер, обнажили пистолеты, взмахнули ими.
Тихо произнесли:
─ Пошли, братушки!
Вся дивизия поднялась как смерч. Войска двигались за танками стремительною цепью, гулом перекатывалось от края до края: «За Родину! За Сталина!» Теперь для воина Руси не существовало смерти. И не было ничего невозможного. Под тяжестью людского движения гнулась земля.
Первыми шли штурмовые отряды, собранные из добровольцев. Те самые руссы, которые от века были в каждом воинстве. Они шли обреченно, мертвенно под градом пуль и снарядов, дабы расчистить крестный путь остальному войску. И в то же время шли гордо, как сказочная рать, осененная дивным светом от осознания своего величия, святого дела. Им предстояло взломать линию обороны, первыми столкнуться, сбиться врукопашную с немцами.
И уничтожить!
Ценою жизни!
Именно такие ратники были на Куликовом поле, кто шел первым, шел жертвенно, во имя Руси, на дуэль и на эшафот, прорубая мечом и топором коридор для прохода остального воинства!
В вечность падали все воины, вся рать!
И теперь штурмовые отряды ворвались в окопы врага, как гордая, мстительная сила! Смерть для героев ничего не значила! Святую, жертвенную рать на подвиг вел командир роты Павел Синица. На немцев обрушился ливень огня! Строчили пулеметы и автоматы, рвались гранаты. Штурмовая рать ввязались врукопашную во всю глубину траншеи. Падали сраженные штыком, пулею, гранатою и гунны, и руссы! Земляные стенки ее залились кровью. Вокруг жило безумие ─ крики ярости, стоны умирающего, звон стальных касок, разрывы гранат, ураганный ливень огня. Страшно взметывались над окопами окровавленные штыки и кинжалы, вынутые из человека.
Вокруг, вокруг было пиршество боли!
Пиршество смерти!
Руссы оказались крепче. Немцы бежали.
Командир роты Павел Синица, зажимая сердце, пронзенное пулею, все пытался сдержать кровь, но все больше слабел и слабел. Но еще изыскивал силы, прощаясь с жизнью, без ненависти кричать убегающим фашистам:
─ Что, голубятники, побесновались со своим фюрером? Пустили звериную кровь? Как вам показалась похоронная музыка у гробницы со свастикою а, дикари? Такая вам «барыня» на Руси! ─ Он качнулся, земля тоже качнулась, побежала каруселью, все быстрее, быстрее, разжигая перед глазами огненные нимбы, самого усиленно загоняя в огненное кружение. Кружение сжалось до петли, сдавило дыхание, и сердце воина-героя остановилось.
Но он еще успел крикнуть:
─ За Родину! За Сталина! ─ и гулко рухнул на дно траншеи погасшею Вселенною.
Рядом со своими ратниками! Они тоже превратились в камень, в птиц, ушли в бессмертие.
Но сумели сломать, разрушить оборону! Все русское воинство, перескакивая через траншею, заваленную гуннами, устремилась мстительным половодьем на штурм города. Ожесточенные бои развернулись за каждый дом, улицу, площадь.
Орудие Ершова ─ Башкина тоже билось в первом ряду наступающего воинства. Воины вели битву под градом пуль и снарядов, окутанные огнем, пороховым дымом. Башкин как наводчик, воевал на нервном пределе: мастерски ловил перекрестье прицела врага, нажимал на гашетку и слал снаряд за снарядом. От выстрелов горели танки, с грохотом взлетали пушки и люди, рушились дома. Красная кирпичная пыль разъедала легкие. Дыхание обжигало, как у костра! Губы ссохлись, спеклись. Но выпить глоток прохладной воды было невозможно. Огненная карусель крутилась, не зная остановки! Выпадешь из битвы, и в мгновение затянет в водоворот, унесет в вечность.
Командир орудия наметанным глазом высматривал в бинокль цель, указывал, каким снарядом заряжать. И командовал в отчаянной, мстительной радости:
─ Огонь! Огонь!
И если получалось удачно, хвалил:
─ Умница! Скажи, Александр, за что я тебя люблю?
Враг не ожидал такого беспощадного натиска. Сторожевая крепость разламывалась неумолимо. Становилась эшафотом и гробницею для воинства. Генерал гитлеровской армии Август фон Роттенберг в панике запросил помощи. Вильгельм Паулюс, кто должен был взять город Сталина, в мгновение отозвался.
На Семилуки гордо-неостановимым маршем помчалась отборная танковая дивизия СС «Тотен Копф», что означает «Мертвая голова». Свежие эсэсовские танки, бронею в тысячу пудов, с боем преодолели линию заградительного огня, вступили в город, окружили стрелковые батальоны и роты, и обрушили удар немыслимой силы, заливая руссов гибельною лавиною огня. Заезжали на улицы и беззащитно. безжалостно давили гусеницами залегшую пехоту. Были смельчаки, поднимались, как буревестники над седою пучиною моря, звали воинов в атаку, но через траурное мгновение падали за русскую землю, перерезанные пулеметною очередью из танка.
Дивизия залилась кровью. Гибла, истаивала. Поступил приказ: отступить! И она стала, отстреливаясь, в скорби отходить, откатываться на круги своя. Оставались в заслоне добровольцы, жертвенники, чаще комиссары, с маленьким гарнизоном. Герои, оседали в развалине дома и били по танкам из противотанкового ружья, забрасывали зажигательными бутылками. Попадал снаряд и все руссы погребались в гробнице из красного кирпича, Кто оставался жив, ползли со связкою гранат наперекор грозной машине и взрывали в страшном грохоте ее и себя. Такая была жертвенность! И такая святая жертвенность была во имя того, дабы спасти отступающую дивизию, дабы ее не настигли на марше танки, не намотали героев-страдальцев на гусеницы.
Орудие Михаила Ершова еще вело битву.
Александр Башкин напомнил:
─ Пора отходить, командир! Остаемся в одиночестве. Одно орудие и тьма танков, это битва от бессмыслицы!
Но Ершов только крикнул в ярости:
─ Заряжать бронебойными! Живо! Выбить танк со свастикою у дома Советов! Огонь!
Башкин нажал на пуск, снаряд вылетел в мгновение, со свистящим воем, с огнем. Но в танк снова не попал! Снаряд ударился в угол здания, раскрошил его в камень.
─ Ты чего? Как стреляешь? ─ взбеленился командир орудия. И в злобной ярости подал команду: ─ Заряжать еще для танка!
Гаяс Футтидинов нес снаряд, остановился:
─ Командир, зачем кричишь на Александра? Он прав! Надо отходить! Разве не было приказа?
─ Куда отходить, Гаяс? Ты только прибыл на батарею, а уже рассуждаешь, как Цезарь! Тебя, что, в Казани учили только отступать?
Лицо Гаяса залилось кровью:
─ Гаяса в Казани учили бить по глазам, если его обижают! Ты командир, а не видишь, орудию не выиграть дуэль! Танк за зданием, выглянул, выстрелил, снова в укрытие. Зачем напрасная гибель? Скажи, Александр!
Воин Башкин поддержал артиллериста:
─ Гаяс прав, командир! Танк вне сектора обстрела. Его пушкою не взять. Битва в Семилуки для нас окончена!
Командир орудия упрямо стоял на своем:
─ Я смотрю, вы оба Цезарь! Мы на прицеле у танка! Развернемся, срежет в мгновение! И попятимся раком, срежет в мгновение! Будем ждать, когда расстреляют, как зайцев в половодье?
Башкин поправил каску:
─ Ждать не надо. Но немножко обождать надо! Затаитесь, я попробую с командиром танка договориться. Как взлетит в русское небо салют, катите пушку по шоссе! Там лес. Я догоню.
Ершов смягчил сердце:
─ Может, не след? Срежет! Как я без тебя, в сиротстве, на Берлин свою артиллерию поведу?
Башкин взял противотанковые гранаты:
─ В чем сила охотника? Немец уверовал, русс это дикарь. Без разума! Я его и бью по хитрости с близкого расстояния, где он не ожидает!
Воин Башкин неслышно, как змея, сполз с редута и затаился за разбитым поваленным трамваем. И стал прикидывать, как невидимкою пробраться к дому Советов, выбить танк? И надо такому случиться, командир немецкого танка увидел, что орудие не стреляет, рассудил для себя, ─ наказал русса, приговорил к гибели. И направился к линии фронта, где гнали русское воинство, как сивую упрямую кобылу, вдоль и поперек иссякая ее пастушьим кнутом. Путь его из города пролегал только по рельсам, где у разбитого трамвая как раз и затаился русс-охотник.
Его зловещая поступь становилась все ближе. Гуд от гусениц был дик и страшен. Каменно-булыжная мостовая, едва танк съезжал с трамвайного пути, сотрясалась так, словно дьяволы, что провинились перед Мефистофелем, били и били в наказание под землею в подвешенные стальные рельсы. Башкин боялся одного, как бы танк не обнаружил его раньше, чем надо! Он был открыт, незащищен, ─ выстрел, и имени не останется. Выждав время, когда танк промчит мимо, бросил вслед гранату. Командир не ожидал охотника, и кто его мог ожидать, если дивизия руссов билась в окружении городом? Танк нервно вздрогнул, занялся огнем. И вскоре во всю Вселенную прогремел взрыв. Обожженные немцы с криками, стонами выпрыгивали из люка, из пламени огня. Воин-русс не стал расстреливать страдальцев, не было времени, и появилась жалость.
VIII
Дивизия вернулась на исходные позиции, с болью вынося из огня убитого воина и раненого. Суровы были лики. Мрачность владела сердцем. Но жили еще, не истребились святые чувства: защитить город Сталина и Россию.
Похоронив в братской могиле героев, воздав им честь троекратным прощальным ружейным салютом, воины у деревни Святые горки стали незамедлительно выстраивать оборонительные бастионы, рыть траншеи, натирая ладони до боли, до крови. Надо было скорее, скорее успеть, пока на Русь не упали звездные миры.
Не успели! Не воздвигли на вершине холма неприступную крепость.
Сражение началось восьмого июля. На рассвете, когда земля и небо были напоены тишиною, по позициям русского воинства, набатно, повелительно ударила немецкая артиллерия. Над полем битвы могильно опустились темные, тяжелые тучи.
Снаряды рвались со страшным воем, все вокруг ревело и стонало! Гибельным половодьем разнеслось по земле руссов огненное пламя! Вскоре налетели эскадрильи бомбардировщиков и, отвесно пикируя, завалили еще бомбами окопы и траншеи. Рассвет ушел во тьму! Жизнь ушла в смерть! Отовсюду слышались крики проклятия, стоны! Скорбными ручьями текла кровь! От падения бомб, люди сходили с ума, выскакивали из окопа, в злобе, в бешенстве рвали на груди гимнастерку, и кричали, глядя в небо безумными глазами, какие были еще переполнены болью и слезами: «Фашист, стреляй! Вот он я, Иван! Я тебя хрен боюсь!» Его стаскивали в окоп, связывали ремнями, успокаивали. Были и те, кто в страхе, предательски бежал с поля битвы, его тут же расстреливали.
Расчет старшего сержанта Ершова затаенно отсиживался в воронке, расположившись вокруг пушки. Сверху бастион не просматривался, он был укрыт сетью, какая сплетена из травы и сливалась с обгорелою травою взгорья. Все артиллеристы погружены в себя. Один Гаяс из Казани рассуждал по горечи:
─ Где справедливость? Куда смотрит аллах? У тевтонцев самолеты танки, а у нас только мужество!
Горечь Возражения не последовало. По рации на все батареи вознеслась суровая команда полковника Ильи Орешникова:
─ Орудия к бою! Из города Семилуки вышли вражеские танки, с автоматчиками. Именем Родины, приказываю задержать и сокрушить фашиста!
Танки шли тяжелою бронею. Земля содрогалась от гуда моторов, чугунного лязга гусениц.
─ Горячо будет, ─ выразил мнение Михаил Ершов, помогая выкатить длинноствольную пушку ближе к краю окопа.
Едва танки-крестоносцы вошли в зону поражения, артиллеристы открыли огонь. Завязалась кровавая дуэль. Двое суток отважные руссы отбивали злобные атаки врага! Горели сбитые самолеты, горели танки с черными крестами; все поле сражения было усеяно немецким воинством. Но штурм натиска фашисты не ослабляли! Силы руссов таяли и таяли! И крепость у деревни Святые горки пала! Ее окружили и рассекли танковые дивизии СС генерала Вильгельма Паулюса! Русское воинство с печалями, со слезами стало отступать к Дону. На позиции, на холме, осталось только одно орудие, орудие Ершова ─ Башкина. Увлеченные битвою, артиллеристы не услышали приказа командира дивизиона полковника Ильи Орешникова об отступлении, и героически продолжали биться с танками-крестоносцами. Тьма танков горело у позиции, но еще больше танков наползало грозною лавиною на орудие сержанта Михаила Ершова. И только, когда зеленые драконы окружили холм-бастион и немецкие автоматчики стали все ближе подниматься к орудию, когда послышались игривые крики «Русс-Иван, сдавай-с! Будем шнапс пить!» ─ он со страхом осознал, что ведет дуэль с танками один на один.
Командир орудия подозвал к себе воинов:
─ Братья, мы окружены! Нам не сдержать зеленые, огнедышащие драконы! Скоро погибнем, все погибнем, ─ честно и по печали произнес он. ─ Я принял решение вызвать огонь на себя! Погибать, так с музыкою! Больше с собою возьмем фашистов.
Он помолчал:
─ Но можно и выбросить белый флаг! Сдаться фашисту, на милость победителя! Что выбираем?
Боевые товарищи переглянулись. И поняли друг друга без слов. И зачем они, слова? Ужели воин Руси может добровольно поднять руки перед драконом?
Башкин тихо произнес:
─ А он, мятежный, просит бури! Будто в буре есть покой!
Михаил взглянул на воина из Казани:
─ Не сердись, Гаяс! Видишь вербу на краю холма, там узкая тропа-горловина. Можешь проскочить, мы прикроем!
Боец сложил ладони, прижал к груди:
─ В Коране записано: бросить брата в беде ─ смертный грех. Оставлю вас, аллах в рай не пустит. Поразмысли, командир, могу ли я нарушить волю владыки Вселенной?
Все обнялись, как родные братья, поцеловались, на мгновение застыли в прощании.
Сержант вызвал по рации командира дивизиона:
─ Товарищ полковник, командир орудия сержант Ершов! Мы по вашему приказу не успели покинуть бастион! У пушки разбито колесо. Отражаем атаки танков. Их тьма, несметная сила! Вызываю огонь на себя! Мы на высоте тридцать семь дробь восемнадцать. Ударьте «Катюшами»!
Командир дивизиона не сдержал гнева:
─ Кто позволил напрасно губить людей? Взорвал бы орудие и отошел! Вернешься, отдам под суд военного трибунала! За неисполнение приказа! И лично расстреляю!
─ Каюсь, виновен! Теперь чего? Судите, казните, ─ но лучше помните! Прерываю связь! Танки уже у орудия! Вызываю огонь на себя! Вы слышите?
Воины орудия Михаила Ершова повели последнюю, прощальную битву!
Оглянувшись, командир не в мгновение поверил. На холм-бастион заползла врач Надежда Сурикова, и теперь старательно очищала от прилипшей травы гимнастерку, санитарную сумку и колени.
─ Ты? Не привидение?
─ Я, Миша! Не крестись. Загружала в автобус с поля битвы раненую рать, слышу, вдали стреляет орудие. Сердце забилось скорбно и обреченно, я поняла: это ты. Я не могла тебя оставить в беде.
Михаил Ершов сильно расстроился:
─ Какая глупость, какая глупость! Мы же жертвенники? Ты безвинность! Зачем тебе траурное песнопение? Хор плакальщиц? И хор горевестниц? Зачем? Немедленно уходи! У орудия скоро будут немцы! И еще ударят «Катюши»! Мы бьемся у орудия, как у вырытой могилы! Слышишь? Во имя любви! Во имя памяти обо мне, о Мишке Ершове, спаси себя, спаси!
Он посмотрел в бинокль:
─ Александр, секи того, что у орудия, наглого! И он перекроет путь танкам к орудию!
Башкин махнул пот с лица:
─ Его и вышибаю, командир! И вышибу! Даром жизнь не отдам! Уже три танка загнал в траур!
Снаряды у орудия рвались густо. И не знали остановки! Словно исполняли и исполняли траурную симфонию на эшафоте героев! Один снаряд со страшным, гибельным воем разорвался рядом с врачом! Михаил обнял женщину; защитил собою. Когда осколки осыпались гибельным дождем, командир орудия взялся за сердце. Между пальцами сочилась кровь.
Надежда Сурикова отняла ладонь:
─ Куда ранило? Надо посмотреть! ─ и стала живо расстегивать гимнастерку.
Михаил взбеленился:
─ Наденька, ягодка сладенька. Иди ты к чертовой матери! Уходи, я прошу тебя! Какие осмотры? Танки у орудия! Иди, живи! Мы умрем! Зачем и тебе с безумцами?
Надежда по печали смахнула слезу:
─ Миша не гони! И куда теперь? Мы окружены.
─ Хорошо, окружены! Но плакать зачем? Слез еще не хватало! Мне больно, когда плачет женщина!
─ И мне больно, Миша, с тобою расставаться! Больно! Не могла я сбежать от любимого, зная, что ты остался биться с врагом! Я люблю! И, значит, умрем вместе. Жили вместе, и в могиле будем лежать вместе, в обнимку!
Михаил поцеловал ее руку:
─ Чудеса! Господи, останься я живым, как бы тебя любил! и все же, зачем тебе оставаться? Ты мать, дарительница жизни! Зачем тебе обреченность? И подумать, мы умрем, кто еще поставит в церкви свечу памяти? Кто еще придет к деревне Святые горки в траурной вуали, возложит цветы на братскую могилу на холме?
Михаил говорил с остановками, его все больше оставляли силы, кровь из раны лилась неумолимо. Врач Надежда Сурикова перебинтовала ему грудь, и по ласке, как целительница, поцеловала бинты на груди. рану.
Он ласково оттолкнул ее, шатаясь, подошел к краю окопа и стал рассматривать в бинокль поле битвы.
─ Умно бьешь, Александр! Перекрыл танкам путь к орудию! Может еще, и отобьемся!
─ Дракона, может, и отобьем, да зверья много! Ползут, лезут, какая ненасытная зеленая саранча!
Фрицы и в самом деле неумолимо, карабкались по холму, желая взять храбрецов живыми. Танки подступили уже к бастиону. И воины-жертвенники стали отбиваться гранатами. И тут по бастиону ударили русские «Катюши». Неистовое море огня затопило вражеские танки. Побоище было страшным! Танки горели во все земное пространство гибельно-обреченными костры, словно были не от земли, а от неба, и сброшены богами Руси из Вселенной.
Снаряды вокруг орудия рвались беспрерывно. Высота Михаила Ершова теперь жила, как огненный остров в пространстве. Вот Гаяс, смельчак-жертвенник из Казани, взялся за голову, застонал, испытав прощальную земную боль, и рухнул на землю, как Колос Любви и Жизни, подрезанный серпом.
Командир орудия сам стал подносить снаряды и лихо загружать в казенник, и не забывал командовать:
─ Александр, беглым огнем! Огонь! Огонь!
Но вот Михаил Ершов споткнулся на полпути, зашатался, упал на колени, и ползком загнал снаряд в ствол орудия, со стоном взялся за сердце, сдерживая кровь, ─ и рухнул на землю, на разбросанные гильзы. Но он еще жил, чувствовал себя, в его умирающем сердце билась неистребимая любовь к жизни! В последнем отчаянном порыве он сумел приподняться, бледные губы вышепнули:
─ Прощай, Наденька, ягодка сладенька, прощай, любовь!
Он дышал шумно и дико. С сумасшедшим хрипом. И силился еще произнести нежные, ласковые, прощальные слова. Но не успел. Разорвался еще танковый снаряд и горячие, острые осколки густо осыпали и разорвали его тело.
─ Миша, родненький, куда ты? ─ горьким, молитвенным криком вознеслась над огненным миром Надежда Сурикова.
Любимая женщина всего и знала счастья три дня и три ночи, теперь по боли, по печали обняла званого мужа, и стала целовать в холодные губы:
─ Миша, миленький, родненький, нет. Нет! Ты не убит! Ты живой. Если убит, воскреснешь. Я сумею, я исцелю тебя, ─ рыдая, скорее в беспамятстве, приговаривала женщина. И в этот момент ее сразила пулеметная очередь. Она по-женски виновато и беспомощно вскрикнула, как издала прощальный лебединый трубный клик и упала рядом с Михаилом. Крепко обняла его, словно прикрыла лебединым крылом. И обессилено, еще слыша в себе мучительное расставание, или воссоединение с любимым, опустила голову на его грудь, мокрую от липкой крови, ее слез. И вместе, на одной ладье, вознеслись в вечность, в свое бессмертие любви.
Но битва еще не была окончена. Фашисты озверели. Они в пламени огня «Катюш» лезли и лезли на высоту, карабкались по ее скользким склонам, цепляясь за чертополох, обгоревшие цветы и травы, проваливаясь в воронки от снарядов, крест-накрест простреливая ее автоматными очередями. И было трудно понять эту исступленность, это дикое предсмертное желание отвоевать и сокрушить редут, который и так, сам по себе, был жертвенно обречен. Защищал его один Башкин. Он стрелял и стрелял из орудия, выплескивая в пламени снаряды из багрово раскаленного ствола, не зная ни секунды промедления, когда удачно, когда не совсем, поражая танки и пехоту. Русский богатырь-ратник был весь в бою. Воевал в полный рост, не жалея себя, не страшась ни пуль, ни снарядов, не опасаясь смерти. Воевал жертвенно, как смертник, знающий, что это его последнее и решительное сражение, что в такой огненной свистопляске не выживет даже дьявол.
Немцы пытались взять его живым. Они любили героев, чтили смелость и храбрость. И так учили воевать своих солдат. На живом явлении. И теперь по-своему берегли его. Стараясь не убить, а ранить. Башкин же отбивался из последних сил.
И кричал:
─ За Родину! За Сталина! – и без милосердия крушил из автомата фашиста.
Кончались патроны, в ход шли гранаты. Когда кончились и они, он встал у края окопа, окруженный пламенем огня, кочующими клубами порохового дыма, подставил разгоряченное лицо освежающему ветру. Сердце бешено стучало, разнося по телу мучительную усталость и боль. Вскоре все это исчезло. Пришло успокоение, просветленное, чудотворное. Он достал последнюю осколочную гранату, не торопясь, снял с чеки, зажал в кулаке. И стал по покою ждать, когда на редут поднимутся фашисты, чтобы взорвать себя, орудие. И несметную подступающую силу. Горланистые крики были слышны уже рядом.
Поединок завершен.
Вскоре завершится жизнь.
Это его последняя дуэль, теперь он шагнет в свою тьму, в свою смерть.
В свое таинство.
Мысли были чистые, изумительно чистые. Ни жалости к себе, ни раскаяния за прожитую жизнь, ни страха гибели и вечности. Полное самоотречение от всего. Но ощущение жизни было. Лучи солнца, пробиваясь сквозь густые тучи дыма, грели голову в каске, ласкали плечи и руки. Он даже посмотрел в небо, в колодец дыма, на плывущие облака и солнце. И о милости подумал: хорошо было бы умереть по-русски, под иконою Казанской Богоматери, с прощально горевшими свечами, в русской вышитой рубашке.
Умирать же приходится не так, в одиночестве, в изодранной, прожженной гимнастерке. Стоя в пламени костра, отчаянно задыхаясь в расхристано летающем пороховом дыму. Вдали от дома, от матери. От девочки Капитолины с двумя косичками, какую теперь видел идущею с коромыслом на плече и двумя полными ведрами воды, взятыми из колодца!
Видеть девочку-россиянку, было чудом из чудес!
Такая благословенность, такое видение могло быть только от Бога!
На прощание с землею!
На прощание с жизнью!
Поняв, что орудие больше не стреляет, немцев смело вошли на бастион. Александр Башкин ждал мгновение, дабы взорвать себя и врага. Но в это время рядом разорвался снаряд, и взрывная волна отбросила воина далеко в сторону от исковерканной пушки, и он сам по себе покатился с косогора на равнину, к стоящим у озера вербам.
И все, больше не поднялся.
Ушел в смерть.
IX
Брянский фронт был окружен танковыми армиями Гудериана, рассечен, разгромлен, истерзан гусеницами танков. И отступал от города Семилуки к Сталинграду. Поля, где шли жестокие битвы, какие были густо омыты кровью, досыта напитаны стоном, болями и мужеством, понесли печаль сиротливости и скорбные, скорбные во всю Русь братские могилы.
Отступая, солдаты шли по жаре, шли, молча, испытывая неукротимую боль и печаль, и по тяжести несли на себе пулеметы «Максим», противотанковые ружья, гранатометы, ящики с патронами, с трудом выплевывая дорожную пыль, какая забивала легкие. На гимнастерке, как севшие белые голуби, выступала соль. Не легче было и артиллеристам полковника Ильи Орешникова. Все лошади были убиты в сражении. И теперь на себе приходилось тянуть орудия, впрягшись бурлаками в лямки, обливаясь потом, разрывая жилы. Раненые шли рядом, опираясь на осиновый посох, на плечо товарища, тихо постанывая от ран, от боли, оставляя на земле кровавые следы.
Вместе со всеми катил орудие, натирая плечи до слез и крови Александр Башкин. Трудно сказать, какие боги опять спасли его, земные или небесные? Невозможно объяснить его невероятную живучесть, его воскресение! Что ни битва, где от пуль, от танка, он гибнет и гибнет, как Христос на Голгофе, и как он, неумолимо воскресает и воскресает! Поневоле начинаешь думать, есть, есть невидимая, загадочная, милосердная связка между Вселенною и каждым человеком на земле! Где от века, на тысячи лет расписано, кому жить под пулями в битве, кому умирать? Не хочется верить, что вся невероятная, земная, милосердная живучесть Александра Башкина ─ от случая! Даже пусть от случая, все едино это ─ загадка!
Но раздумье раздумьем, а правда правдою. Смерть еще раз обошла воина. И все объяснимо! На бастионе, что был уже эшафотом, разорвался снаряд; он взрывною волною отбросил воина к подножью холма. Немцы даже не стали его достреливать, ибо он был мертв! Не влетел бы тот снаряд от танка на бастион, Александр Башкин через мгновение взорвал бы гранату, зажатую в руке, и погиб с десятком немцев!
Его и свои уже повезли к братской могиле! Но он пришел в себя; в результате, как, оказалось, получил сильную контузию, утратил слух и речь. У братской могилы воина забрали сестры милосердия, повезли в госпиталь. Но лечь в госпиталь Александр Башкин отказался.
Не мог. Душа не позволяла! Враг неумолимо преследовал отступающее русское воинство! По привольным донским степям, след в след, двигались к Сталинграду орды чужеземцев, взметывая танками смерчи просушенной зноем земли, в каждом городе разжигая пожарища, каруселью разгоняя смерть.
Гибель и гибель кружила над войсками. Огонь с тыла, огонь с фронта, огонь из леса, огонь с неба. Вся земля была в огне. И повсюду лязг гусениц, скрежет немецкой брони. Отбивались, как могли. Кровопролитные бои не затихали ни на мгновение. Те, кто умирал, оставаясь незамеченным на лежбище в лесу, шептал в бреду запекшимися губами:
─ Сталинград! Спасите Сталинград!
Вместе с товарищами, отчаянными смельчаками и жертвенниками, Башкин сдерживал бешеный натиск врага у станиц Каширская, Верхняя Тишанка, Михайловская,
Серафимовичи. Бился и с танками, и с озверелою пехотою. И как артиллерист, и как пулеметчик, и как боец рукопашной. Густо и там поливалась земля святою славянскою кровью.
И все напрасно, напрасно!
Отвоеванные крепости приходилось сдавать.
И отступать дальше. К Сталинграду.
Все отступать, отступать
Где героическое, а где паническое отступление русского воинства, сильно сказывалось на настроении, тревожил горечь, страдание. Свершался душевный надлом! И на чем держаться сердцу? Фронт у Сталинграда рухнул! Отечество гибло! Велико храбр русс! Но его гнев, ненависть, несравненное мужество не смогли остановить орды чужеземцев! Сила ломала горстку жертвенников! Крестоносцы фюрера казались непобедимым! Поддавшись панике, ослабевшие воины бросали оружие на поле сражения. И уходили Каинами в леса, жили на болоте, затаивались на мельнице, в избе вдовы-крестьянки. Отчаянные стрелялись. Те, кто еще пытался спасти Отечество, истинные воины Руси, кто нес в сердце честь и совесть, отважно бились с врагом.
Но отступали, отступали!
Мудрые старцы, русские мадонны с младенцами на руках, встав у калиток своих изб, скорбно, со скрытым осуждением смотрели им вслед.
Черные дни!
Черные мысли.
Александр, как человек и воин, как сын Руси, тоже испытывал потрясение. Тоже шел и плакал. Его душа тоже стонала, билась в крике, почему так? Почему отступаем?
Поневоле задумаешься, все дальше отступая к городу Сталина под натиском несметного немецкого полчища, а выживет ли Россия? Не уведут ли ее потомки гуннов царя Аттилы в полон с петлею на шее? Как рабыню, как земную оскорбленность, надруганность? Не станет ли разрушенным миром во Вселенной?
Тому, кто любит Россию, тяжело видеть ее в несчастье, в рабстве, видеть на смертном одре!
Можно с отчаяния застрелиться! И были такие мысли, были! Чего греха таить? Тянулась рука к оружию! Сам себе не признаешься! Ибо стыдно, стыдно! За слабость свою стыдно. Но было! Тянулась рука к оружию! И не от горя, а от печального сердца! Он есть ─ Русь святая! Если кончается Русь святая, то зачем ему быть на земле? Зачем, если земля осиротеет от Руси? С каким смыслом? С какою правдою? С какою честью? С каким милосердием? С какою любовью? С каким сердцем?
Он знал, сдаться легче легкого. Пустил пулю в висок, и не стало тебя! Мук не стало! Немцев не стало! России не стало! Ничего не стало. Так поступали воины не раз, когда приходила душевная опустошенность, утрачивалась всякая надежда на спасение. Он не раз видел в лесу человека-воина с простреленным виском, который сидел скорбно, сгорбленно на сваленном дереве или на траве, лежащим на земле, как на Голгофе, руки раскинуты, как прибиты к кресту, а сам смотрит в небо со всеми печалями! Они умирали с дивным спокойствием, с достоинством и честью русского офицера. Он не мог себе объяснить, что это: трусость? Или геройство? Осудить всегда легче. Понять намного сложнее. Во время боя, на миру и смерть красна! Но как быть, если ты остался один на один с собою? Со своим страданием? Как быть, если нет больше сил, уходить в лес от наседающего фашиста? Ты ранен и не желаешь больше быть тяжестью для воинов, в надежде уходящих от погони, но кому тоже вряд ли удастся сберечь себя в дьявольской игре со смертью? Но их не мучают раны, они не теряют сознание, не орошают своей кровью землю, у них есть посох – сила и воля. Они имеют возможность выжить! Зачем же собственною слабостью обрекать их на смерть?
Милосердно?
Не лучше ли застрелиться? Спасти еще живые души, тоже попавшие в гибельное половодье? Сколько их, сколько уже застрелилось от отчаяния, от утраты веры в победу, Россию.
Растревоженность за Отечество отнимает последние силы, отбирает волю, кровавым бредом заполняет сознание, и не остается ничего, совершенно ничего в глубине человеческого сердца, чтобы вести с собою заманчивую и расчетливую борьбу за жизнь. И человек опускает себя в могилу. Это самое страшное, что бывает на войне.
Александр Башкин отказался от выстрела.
Он имел характер и волю. Не было в мире бури, кому бы он покорился, поклонился! В сердце, от предков, жило истинное дыхание вольного духа, бунтарства! И считал роскошью расслабляться, уходить в угрюмое забытье. Он умел властвовать собою, быть диктатором собственной воли! Он был тот, кто не испытывал страха перед вечностью! Смерть никак не могла быть властелиншею его сердца! Он был выше ее, сильнее.
Вместе с тем, разве он один отступает?
Разве только его душа плачет на всю Русскую землю?
Все русское воинство слышит в себе печаль за Отечество!
У всего народа стонала, билась в крике и плакала надруганная душа! Воины понимали, дальше Сталинграда отступать было нельзя!
Тогда, 28 июля, и появился карательный приказ Сталина за номером 227. В приказе с суровою правдивостью раскрывалась опасность, какая нависла над Отечеством, говорилось о падении воинского духа, об утрате веры в победу. И законом вменялось для русского воинства требование: «Ни шагу назад!» ─ повернулся спиною к фашисту, предательски бежал с поля битвы, получи в награду пулю. Справедливую пулю! Чекисты будут ждать тебя с пулеметом!
Жестокий приказ.
Бесчеловечный!
Но он давал надежду на спасение России!
Даровал надежду на победу!
Александр Башкин сердцем воспринял его; нельзя предавать Отечество!
Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин вместе с народом и воинством тяжело переживал разгром Брянского фронта, назвал Федора Голикова бездарным генералом в Красной Армии. И снял его. Был создан Сталинградский фронт, во главе его стояли генералы от таланта Константин Рокоссовский и Николай Ватутин.
Битва за город Сталина началась 17 июля. Александр Башкин продолжал воевать в артиллерийском полку полковника Ильи Орешникова. И снова оказался там, где шли ближние битвы с фашистами. Где надо отбивать танки! Где люто лютует смерть! Где пули летают и жалят так осы, растревоженные на меду. Воин, в ком жила несокрушимая сила Пересвета, скорее, был повенчан богами Руси, стоять с мечом и щитом в первом ряду, на самом излете жизни и смерти. Артиллеристы заняли оборону в излучине Дона у хутора Ерзовка. С ее взгорья открывался весь Сталинград. Черные стаи крестоносцев, как лютые могильщики, уже бомбили город от красоты, от величия. И город по боли уже погружался в огненное пламя, где слышался плач земли, плач женщины с сыном.
18 июля в атаку на город Сталина пошли сотни танков. Они шли грозно, воинственно, стреляя на ходу, следом бежала пехота, прячась за броню, стреляя из автоматов трассирующими пулями, они бились светлыми шарами по щитам пушек, по брустверу, по каскам воинов. Грохот сотрясал землю. Орудия полковника Орешникова открыли ураганную стрельбу, желая сдержать, приостановить натиск орды. Повергнуть знамена со свастикою! Поле битвы запылало огнем, покрылось пороховым дымом. Началось еще невиданное сражение! Такое скопище танков воин Башкин еще не видел, ─ танки-крестоносцы закрыли собою всю землю, куда не глянешь, танки и танки.
Сила шла страшная, повелительная!
Встанет на пути Вселенная, сметет и Вселенную!
Битва, где сбились на дуэли несметные силы, где жизнь и смерть перестали быть ценностью, где в пиршестве свободы стояла только ценность Отечества, ее честь, ее свобода, ─ напоминала сражение при Бородино, но только на поле сечи была не конница, а танки, танки.
Командир батареи капитан Никита Данилов, с красивым ликом, белокур, как Лель, с крутыми плечами богатыря, не отрывал взгляда от стереотрубы, умно, вдумчиво рассматривал поле сражения, и не забывал покрикивать по связи командирам орудий:
─ Метче бейте! Владеть собою! Владеть! Посмотрите, на нашу высоту нахально прут двенадцать танков и рота автоматчиков! Делим на четыре пушки! Что получается? По три танка на брата! Заряжать бронебойными! Прицел постоянный! Огонь! Огонь! Не пропустим врага к Дону!
Александр Башкин, чья душа уже не раз была обожжена боями, снова воевал по смелости, по таланту. Он в кресле наводчика, без нервности, выискивал танк в перекрестье прицела, кричал командиру орудия:
─ Есть цель!
В ответ слышалось грозное, неизменное:
─ По фашистским гадам огонь! Огонь!
Сражение длилось трое суток с переменным успехом. Бились со страшною силою. Неумолимая смерть кружила то над русским воинством, то над воинством завоевателя! Они опять брали числом, танками и самолетами. И сражались отчаянно, умно, с невиданным упорством! Поле битвы сплошь было усеяно фашистами, горевшими танками. Но танки шли и шли на редут Данилова-Башкина у хутора Ерзовка! Генерал Вильгельм Паулюс начертал немецкому воинству на черном знамени бессмертия, ─ погибни, но зачерпни каскою воды из Дона!
И жаркая битва не утихала! На батарее было разбито две пушки. Ее расчеты, кто оставался живым, в самые острые мгновения, когда танки-крестоносцы устрашающе приближались к траншее, брали связку гранат и гордо, бесстрашно ползли на танк, прячась за обгорелую траву. И в ловком броске взрывали себя и танк! Такую долю уготовил себе и Александр Башкин. Выжить в таком бою было немыслимо! Оставалось две пушки, а танков тьма и тьма! Рано-поздно, но танки доберутся до редута и каждого артиллериста-защитника, кто останется жив, бесславно раздавят тяжелыми гусеницами, перемешают с могильною землею. В плен не возьмут! Ни одного! У редута горят десятки танков-крестоносцев! Несомненно, несомненно, прокатятся мщением за своего брата-тевтонца, кого полегло у подножья превеликое множество.
И покатят дальше, к городу Сталина. И герои продолжали биться, удерживать редут! Вскоре разнеслась по полю битвы горестная весть, ─ снаряд разорвался на батарее, тяжело ранен любимец артиллеристов командир Никита Данилов с Рязанщины, с родины Есенина. Он и ликом был похож на Сергея Есенина. Спасти ему жизнь не удалось. И разбита, изувечена снарядом и грозная пушка.
На батарее осталось одно орудие. То самое орудие, где воевал наводчиком Александр Башкин. Это орудие и повело, один на один, смертельную дуэль с немецким воинством! Орды обрушили на редут пиршество снарядов и огня! Гибли воины! Гибли в стоне, в прощальном крике, в плаче. Но воин Башкин стоял и стоял над полем битвы, как святорусский богатырь, как внук Ильи Муромца, как заколдованный, заговоренный от пуль и снарядов. Стоял как сама Русь, непреклонно и непоклонно. И упрямо, задыхаясь в огне и дыму, на прощальном усилии, отбивал и отбивал атаки врага!
Но сила шла несметная. Чужеземцы-крестоносцы окружили редут. Один танк удачливо, воинственно ворвался на позицию и подмял, исковеркал гусеницами пушку, вмял ее в землю! Все произошло в мгновение. Воин Башкин даже не успел снять с пояса гранаты. Все, что успел, рысью отпрыгнуть в глубину траншеи. Танк не стал им заниматься. Пушка была разбита, а человек без пушки ему был не страшен.
Пережив страх, успокоив себя, Александр Башкин переполз по огненному полю к траншеям, где отбивалась от врага пехота. И стал воевать как пехотинец. По команде ротного поднимался в атаки, разил врага очередью из автомата, вел гранатные схватки. Забивал его ножом врукопашную.
Ночами не спал. Не позволяли нервы. И было в обиду, невыносимо слышать злое, оскорбительное со стороны немецкого воинства:
─ Рус, сдавай-с, возьмем Дон, будет буль-буль!
Немцы были уверены в победе. И с рассветом снова бросались в атаку за атакою. И Башкин, как мог, держал удары. В его сердце требовательно заселилась святая жертвенная обреченность: лечь в землю, но не пустить врага в Сталинград!
12 августа он принял последнюю битву с немецким воинством. К траншеям, где отбивалась от штурма пехота, близко-близко подошли танки-крестоносцы. Надо было сбить головную, командирскую машину! И воин Башкин усиленно пытался зажечь ее, зная по битвам, не будет командира, остальные танки обратятся в стадо! Но сколько он не бросал гранаты, ни одна не поразила цель; то ли руки тряслись от усталости, то ли сдали нервы! Он, во зло себе, выполз из окопа, достиг танка и, поднявшись в рост, бросил в грохочущее чудище связку гранат. И только успел это сделать, успел увидеть, как он содрогнулся, запылал пламенем, но успел дать гибельную очередь из пулемета.
По груди прошел жар, ноги, как подрезали косою, он услышал в боль. И со стоном упал на поле сражения, на пепелище, на свою могилу, раскинув руки крестом. Он еще слышал, как горячая кровь густо изливалась из тела, обильно смачивая землю. Но перевязать раны, не было сил. Без страха, без мук, пришло забытье. И воин Белым Лебедем отделился от земли и легко, по сладости и покою, полетел в загадочное созвездие Ориона, которое от века светило над его милою деревнею Пряхино. Сблизился со звездами, растворился в синеве, в вечности, где не бывает воскресения.
Наверное, все же жила на прощание радостная мысль ─ враг не прошел к Сталинграду!
Глава семнадцатая
ТАНКИ ИДУТ НА РАСПЯТЬЕ
I
На полуразрушенном вокзале в Сталинграде усердно раздувал пары заезженный, с латаными пробоинами, паровозик. Рывком выбрасывал из трубы дым, пахнущий мазутом и углем. Поезд-госпиталь под белым флагом с красным крестом отправлялся в Сибирь с минуты на минуту. Сестра милосердия неотступно следовала по перрону за начальником госпиталя Павлином Георгиевичем Булановым, благообразным старичком с добродушным лицом, умным и острым взглядом, и со слезами просила:
─ Товарищ полковник, возьмите еще раненую троицу. Привезли с поля битвы! Они истекли кровью. Им срочно необходима операция! Могут умереть. Проявите сострадание, пожалуйста!
─ Милочка, куда я их возьму? Посмотрите, что творится в каждом вагоне! Они переполнены! Раненые лежат в проходе, ─ неизменно отвечал он, приостанавливаясь, опираясь на трость, с рыцарским сочувствием рассматривая веснушчатое лицо девушки. ─ И документы не оформлены. Я не могу нарушить законный порядок. Или вы желаете, чтобы меня как преступника судил военный трибунал?
─ Куда теперь воинов? ─ не унималась сестра милосердия. ─ Оставить на перроне, под бомбы фашистских самолетов?
─ Везите в полевой госпиталь. И срочно! Не теряйте времени, милочка, если хотите сохранить им жизнь.
─ Не успеем, товарищ полковник! Он в станице; езды двадцать километров. Воины погибнут! Они бились с танками, и лежали там, где вокруг горели костры! Еще бы мгновение, и танки с крестами раздавили героев, мы еле успели стащить в траншею! И к вам, к поезду! Какие документы? У вас два сына на фронте. И вы им убийца! ─ не сдерживая слез, по боли выговорила сестра милосердия. ─ Если они умрут, так и будет! Посмотрите, совсем еще мальчики, им жить и жить.
Полковник Буланов остановился у носилок с раненым Башкиным, долго рассматривал его бледное, мертвенное лицо, пощупал пульс. Да, жизнь теплилась только с Божьего благословения.
─ Эх, эх, ─ соображая, он почмокал губами. ─ Верно заметил мудрец: чего хочет женщина, того хочет Бог. Отнесите юношу в мое купе. Он, похоже, на фатальном исходе. Остальную рать, пусть расселят в четвертом вагоне.
Начальник поезда живо написал записку, отдал ее сестре, она бросилась профессору на шею, стала целовать. Он отстранился, сухо заметил:
─ Милочка моя, потрудитесь срочно выслать документы на самозваную рать в город Сталинск Кемеровской области, на военный госпиталь.
После чего милостиво раскланялся и пошел дальше вдоль эшелона лично проверить готовность к отправлению.
Рана оказалась тяжелою. Александр Башкин находился на излечении в госпитале в Сталинске месяцы. Долго лежал в беспамятстве. И хорошо еще, что отлежался. Рана оказалась зловещею, роковою. Угрожала жизни. Врачи даже хотели отнять ногу. Он не согласился.
И сказал гордо:
─ Я воин Руси, и с тросточкою? Лучше смерть!
И все же без тросточки не обошлось. Врач Ирина Владимировна, сняв гипс, строгим, профессорским оком осмотрела зажившую рану, прямо заявила:
─ Все, солдатик, отвоевал! Радуйся! Теперь не убьют. Жить тебе сто лет!
Он с мольбою посмотрел на врача:
─ То есть, как отвоевал? Вы шутите, Ирина Владимировна! Я хочу на фронт.
То же самое Александр Башкин пытался объяснить на авторитетной медицинской комиссии при выписке из госпиталя. Но врачи, внимательно изучив историю болезни, тоже не пошли ему навстречу.
Начальник госпиталя профессор Владлен Львович Брокгауз, когда иссяк резерв уговоров, с раздражением заявил:
─ Молодой человек, вы стоите на костылях! О каком фронте мы можем говорить? Зачем смешить врачей, генералов, себя? И министра пропаганды Геббельса?
Ему выдали документы, где было написано: солдат Александр Башкин признан непригодным для службы в русском воинстве. Покинул он госпиталь с тяжелым сердцем, как раз на Новый 1943 год. У пивного ларька остановился, выпил сто грамм водки, кружку пива, и пошел на площадь, опираясь на костыль, ежась от мороза. И долго кружил вокруг елки, любуясь разноцветью гирлянды, рассматривая причудливые игрушки, шары, какие красиво качались на ветру в загадочном свете. Великолепна была и красная звезду на макушке таежной сибирской красавицы. И в то же время, ни водка, ни елка душу не грели! Волчий билет в кармане гимнастерки тревожил печаль, хор плакальщиц над могилою! Казалось, что жизнь кончена! Быть воином Руси, храбро сражаться с врагом, жить на острие жизни и смерти, чувствовать свою душевную соборность с Отечеством, и вдруг оказаться даже ─ не хлебным колосом, а травою-лебедою на ветру, на русском поле! Такая угрюмая явь обижала, оскорбляла! Сжиться, свыкнуться с такою былью, с такою печалью было невозможно. Свыше сил.
Думается, в благородном сердце Александра Башкина еще со времен жизни Великого князя Руси Буса Белояра, кого крестоносцы распяли на кресте и сожгли, и кого в народе назвали русским Христом, ─ неизменно, неисцелимо, ожили вещие зовы воина и пахаря! И он им стал, и слышал в себе постоянно, требовательно мудро-загадочный зов России, будь воином, будь воином! На то тебя благословили боги Руси. Вернешься в свои края, становись за плугом, паши землю, дари людям караваи хлеба, как Христос! Были такие зовы, были! Во все русское пространство разливали о том русские церкви, разливали благовестом, строго-радостным благовестом, в пиршестве перезвона колоколов!
Он слышал в себе такие зовы!
Слышал, слышал!
Откуда еще мог явиться в сердце вечный зов ─ быть Пересветом в грозовое время для Отечества, и мчать, мчать с копьем и мечом на белом коне на поле битвы?
И вот он, трава-лебеда, даже не хлебный колос от пахаря Руси!
Легко ли о себе такое знать?
И он ли на костылях? Не дьявол ли? Не сон ли?
Конечно, Русь не упрекнет, а в трамвае даже уступят место. Он теперь земная печаль! Горечь войны! В его глаза люди будут смотреть с жалостью. И, конечно, сострадать! Но зачем ему такая доля? Нет и нет, Башкин, как земная плоть от гордости, от непоклонности, так жить не мог! Он станет биться за фронт!
Одно время подумалось, не навестить ли матерь Человеческую, родное Пряхино? Все же соскучился, очень соскучился! Но остановил себя! Возвращаться в родные края, ─ возвращаться на посмешище? Кому будет в радость и сладость калека? Только с печалью, с болью будут смотреть вслед деревенские! Отыщутся и злобные змеи, кто любит быть не пахарем, а Диогеном в бочке, те, непременно, ударят тугою вожжою, ласково, пьяненько спросят, не рано под пули подставился? Мудро, мудро! Пусть Россия воюет, гордые соколы гибнут за русскую правду, а мы на костыле погуляем! Угостись самогонкою, тебе теперь можно, сам себе хозяин!
Ни воин, и не пахарь!
Калека!
И смех завьюжит над деревнею!
Нет, только фронт, только битва за бессмертие России!
Но пока надо было жить, и он пошел работать в Кузнецке на металлургический комбинат, охранником в бюро пропусков. Но с вещим желанием, попасть на фронт! Башкин каждый вечер занимался в спортивном зале комбината, а утром совершал километровые прогулки; воин пытался оживить ногу. И не щадил себя, работал до головокружения, до остановки сердца. И вскоре подарил костыль старушке-вахтерше, которая страдала одышкою. Выстругал себе березовый посох! И снова работа, работа над собою, и полное презрение к боли! И свершилось, он услышал в благословении под собою целительную силу земли.
Башкин пошел в Сталинске в военкомат. И попросил отправить его на фронт. Военный комиссар, однорукий майор, тщательно ознакомился с его солдатскими документами, выпискою из госпиталя, устало спросил:
─ Не надоело воевать?
─ Никак нет, товарищ майор!
─ Медом там помазано?
─ Так точно, товарищ майор! ─ гордо подтянулся воин.
─ Эх, эх, ─ стал серьезным фронтовик. ─ Бестолковый вы народ, молодые. Врачи госпиталя признали вас непригодным для армии! Как я могу возражать служителям Гиппократа? Я давал присягу! Нарушу ее, отправлю вас на фронт! Меня, куда отправят? В военный трибунал! Толпами идете, толпами! Мне больше заняться нечем?
Он вернул Башкину документы:
─Все, вы свободны Кругом марш! И больше в мою душу не лезьте!
Александр Башкин не шевельнулся:
─ Врачи ошиблись, товарищ майор! Ошиблись! Желаете, станцую? Сами убедитесь.
Военный комиссар устало подпер ладонью щеку, ради вежливости, согласился:
─ Ну, станцуй!
Башкин прошелся кадрилью.
─ Как? Устойчив? Я же говорю, ошибочка вышла!
─ Ошибочка, да не совсем! ─ не согласился майор. ─ Прихрамываешь! Правда, хитро, как бы в танце прихрамываешь, но прихрамываешь! Кого провести хочешь?
Воин тоже не согласился:
─ Хорошо, не буду скоморохом! Буду воином императора Руси Павла Первого!
И он стал ходить строевым шагом, как по плацу, высоко поднимая ногу, припечатывая шаг!
─ Довольно, брат, ─ остановил его офицер военкомата. ─ Вижу, разработал ногу, раструдил ее! Эх, эх, понимаю я тебя, солдат! Самому неохота черта в тылу гонять! Да отвоевал! Руку вражескою гранатою срезало. Что ж! Влюбил ты меня! Дам направление на медицинскую комиссию. Пройдешь ее, пошлю учиться на танкиста, там не так заметна хромота!
Они простились друзьями.
II
Военную науку танкиста Александр Башкин постигает в сибирском городе Кургане. На полигоне Уральского военного округа, стреляя на ходу из танка, показывает чудеса меткости; бьет без промаха, куда укажут генералы: по венцу ли башни, по перископу ли командира, по гусенице ли, рассыпая ее на траки. Ему присваивается звание сержанта. На полигоне к воину подходит лейтенант с белокурым вихром из-под ребристой ушанки.
Отдал честь, представился:
─ Командир танка «Т-34» Роман Завьялов! Ищу башнера! Сговоримся?
─ Как начальство распорядится, ─ тут же согласился Башкин, все еще живя в неизвестности, в страхе, возьмут ли на фронт?
─ Вижу, воевал? ─ поинтересовался офицер.
─ Было, и в пехоте, и в артиллерии.
─ Вижу, хорошо воевал. Метко стреляешь. Отточил глаз. И по крестам бил?
─ Жег и танки, ─ скромно отозвался Башкин.
─ Странная судьба получается, как находишь? ─ с улыбкою заметил лейтенант. ─ Ты жег танки, теперь пушкари тебя станут жечь в танке! Выстоим! ─ он дружески ударил его в плечо.
Воин отозвался в согласии:
─ Ясно, выстоим! Я знаю, с каким замахом бьет наводчик! Бок с горючим не подставлю!
Танкистам Сибири выпало воевать на Первом Украинском фронте под командованием генерала армии Николая Ватутина. Краснозвездные машины воины получили сами на заводе в Нижнем Тагиле, сами погрузили не открытые платформы длиннющего поезда, где стояли для защиты зенитные орудия. До Киева воинский эшелон мчался на предельной скорости, без задержки, на каждой станции молниеносно зажигались зеленые огни светофоров.
Экипаж танка молод. Все ребята нецелованные, необстрелянные. Над губою едва пробивается светлый пушок. Но воины долга, живы бесстрашием. Командир танка лейтенант Роман Завьялов совсем молод. Белокур, синеглаз, похож на пастушка Леля. Получил аттестат зрелости, и добровольно поступил в танковое училище. Офицер без году неделя. Строгость дается с трудом! Телом гибок, лицо полное, девичье, напоминает большую радостную вишенку. Играет на гармошке. Любит петь старинные сибирские песни. Сердце боевое. Под стать ему живые, взвихренные, чтущие святые узы боевого товарищества: механик-водитель Никита Пекарь, тракторист, а теперь радист-пулеметчик Алеша Правдин, заряжающий Юра Осокин. Командир башни Александр Башкин тоже юн. Фронтовая, бескорыстная дружба наладилась в мгновение.
Сейчас все сидели за танком, укрывшись от ледяного ветра брезентом, пили спирт. И под гармонь командира пели песню, испытывая ласковое тепло от близости, от соседнего сердца, от красиво-печальной мелодии. И песня эта, песня от Михаила Лермонтова широко разносилась над заснеженными просторами, как молитва-исповедь души:
Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.
Метели, как белые змеи от безумия, откружили за поездом. Взору открылся Киев, украинская земля, откуда, только изгнали крестоносца-завоевателя! Грустно было смотреть Александру Башкину на села, похожие на кладбища, с сожженными, обугленными домами, где печи стояли сиротливо, одиноко, не скрывая печали, стояли, как поминальные кресты, на хлебные нивы, осыпанные густым серым пеплом, перепаханные гусеницами танков. Разбитыми, сломленными стояли в саду яблони и вишни, сложив, как в молитве, руки-ветви, как просили не сечь, не убивать земную радостную плоть. Но ее убили, сожгли, и ослабевшие ветви в подступающем огне упали на землю, упали в смерть! По горько-сиротливой деревне, снежная замять перекатами гнала мерзлую ржаную солому, повыдергав ее из снопа, какие одиноко стояли на мерзлом ветру.
Одна печаль! Одно, одно пиршество боли! Отсюда начиналась Русь! Что оставили варвары? Ненасытную разрушенность! Ненасытную обреченность земли Русской! Ненасытное желание мстить и мстить самозваному крестоносцу-захватчику! Кто звал на Русь такого зверя? Такую злую бесчувственность?
В Киеве сибирское воинство было зачислено в гвардейскую танковую армию генерала Михаила Евграфовича Катукова. Как раз начиналась Житомирская операция по освобождению Украины до Южного Буга с выходом на рубеж Винница ─ Липовец. Танкисты Сибири без промедления получила задание ─ взять крупное селение Боярка. И по декабрю гвардейские краснозвездные машины упругим марш-броском устремились к немецкому бастиону, оглашая все окрест вселенским грохотом, гордо и яростно врубаясь гусеницами в снежно-разжиженную плоть дороги.
Подступив незаметно к селу, командир танкового полка Иван Терещенко не пожелал ожидать стрелковые батальоны. Было заманчиво, ударить по фашисту внезапно, когда он того не ожидает. Он согласовал свое желание со штабом армии И на рассвете, едва опали зимние сумерки, танки с зажженными фарами лютою лавиною ворвались в спящую немецкую крепость. Танк Завьялова ─ Башкина шел впереди, пробиваясь со стороны вокзала по колее железной дороги. Тесно было Башкину в строго и повелительно ограниченной келье-башне, непривычно от жары и качки, но он и сгорбившись метко поражал железобетонные доты, тяжелые танки, едва те выдвигались на огневые позиции из своих логовищ, противотанковые пушки, растянувшиеся на земле зелеными змеями. Командир тоже был молодцом. Он хорошо видел поле боя, ловко, находчиво и бесстрашно маневрировал. Решительно бросал машину туда, где подстерегала опасность, не считаясь с превосходством врага. И все чаще слышались под гусеницами сокрушающий железный хруст пушек, крики немцев.
─ Это вам за Украину! ─ в радостном азарте боя кричал Завьялов, протирая глаза от гари, жадно высматривая новую цель.
Все танки стреляли с ходу, веером. Побоище было лютым, грозно справедливым, какое и должно быть палачу Руси! Завоеватели, захваченные врасплох, выбегали из домов со сна, в чем были, и, ослепленные светом фар, метались по улицам, как ночные бабочки над горящим костром! И гибли, гибли в неумолимо огненном разлете снарядов и пуль! Оглушительные, громовые ревы сотен моторов еще больше создавали ощущение земного ада, разгул дьявольской силы! Злобная, нервная, кричащая паника перелилась в горе, в тоску, в боль! И кружила, кружила во все ночное пространство, без жалости затягивала самозваного завоевателя в омут гибели! Ни в одно сердце постучалась властелином Женщина в Черном! Кто остался жив, не желал покориться смерти, бежали из города воющею, озверелою толпою, оставляя в городке разрушенные доты, самоходные пушки, машины. И виселицы с повешенными руссами, какие, став льдиною, покорно качались на морозном ветру, в черном пламени знамен со свастикою!
И карающее возмездие пришло! Танкисты в лютую ненависть гнали убегающего врага, во все пространство, разжигая им костер Джордано Бруно! Александр Башкин, когда кончились снаряды, приоткрыв люк, грозно и люто, расстреливал убегающую рать из автомата.
Остановились там, где текла красавица река Рось, впадая в Днепр, где синие волны раскачивали звезды, и где серебрился, отражаясь, Млечный путь.
Танковый полк полковника Ивана Терещенко направили на ночлег-бивуак в деревеньку с милым украинским названием Ружинка. Танкисты Романа Завьялова расселились в избе солдатки бабы Лизаветы. Собрали застолье, пригласили на пир хозяюшку. Разлили по кружкам спирт. Выпили за Сталина, за победу. И завязалась нечаянная беседа.
─ Хорошо погоняли черта в омуте! ─ не скрыл ликования Роман. ─ С честью выдержали боевое крещение! Молодцы, вижу, гвардия! Так будем биться, что останется от фрица? Только с вами не лад, товарищ сержант! Не по молитве жизнь складывается!
─ Провинился? Чем? ─ встревожился Башкин.
─ Воевать, воюете! Две красные нашивки по ранению, а где ордена? ─ с напускною строгостью осудил командир танка.
Башкин отозвался по вине:
─ Сколько воевал, столько отступал! За что давать орден?
там как раз и была жизнь по молитве! Идешь с обреченным воинством по деревне, несешь на себе пулемет, и у каждой из бы стоят старики, опершись на трость, кто веками держал на мече и на плуге Русь святую. Стоят росянки-мадонны с младенцем у груди, и все милы и прекрасны, как с картины Рафаэля, и все, все смотрят с болью, с укором, смотрят, как на Каина, на предателя России! Страшными были те укоры! Стыдно было стакан молока попросить, краюху хлеба!
Отступаешь, и сделать ничего не можешь! Вот, где боль! Вот, где печаль! Вот, где молитва! Молитва скорби за старика, творца жизни, за мадонну и за Русь! Мы уходим, кто заполняет пространство Руси? Палач-Пилат русского народа! Как не слышать укоры! Как не слышать боль? Что несешь в душе? Полонез Огинского? Еще большую боль, чем те россияне, что встретились на скорбном пути! Еще большую печаль! Еще большую скорбь! Еще большую смерть!
Он выпил спирт, успокоил себя:
─ Я нес в себе смерть, командир! Но осилил себя! Не стал стреляться! Легче это, чем выстоять и повергнуть самозваного завоевателя-крестоносца! Скажи, за что вручать орден?
Офицер задумчиво посмотрел из окна избы на зимнюю красоту леса, на молоденькие елочки, какие стояли, как принцессы в снежной короне, согласно покивал:
─ Верно, тяжело жила Россия! Не до орденов было! Но ничего, восполним! Докатим с ветерком до Винницы, подам прошение на орден! Храбро воюешь! По отваге! И должна быть справедливость!
Он разлил спирт:
─ Эх, как хочется поскорее попасть в Винницу, в село Стрижавку!
─ Матерь живет? ─ спросил Никита Пекарь, открывая банку с тушенкою. ─ Повидаться, да, чудесно было бы.
─ Моя мама Анна Тарасовна проживает в Омске, отрок от любопытства. Я сибиряк! В том селе, за густыми дубами и липами, секретная ставка Гитлера «Вервольф», в переводе «Волчье логово». Я ─ таежный охотник! На медведя с рогатиною ходил! Вдруг заловлю? Исполню мечту, и свою, и человечества?
─ Так он тебя и ждет, ─ усомнился пулеметчик Правдин.
─ Чем черт не шутит, когда Бог спит, ─ защитился Роман Завьялов. ─ Пути охотника неисповедимы! Выстрела из ружья вполне может прокатиться радостным эхом над зимним лесом!
Юра Осокин заметил:
─ Командир, хозяюшка Лизавета заскучала.
Хозяюшка отозвалась с Богом:
─ Нет, нет, я не скучаю. Вы такие молодые, красивые. Вас приятно слушать. И на вас приятно смотреть.
Но роман уже взял гармонь и заиграл плясовую. Тут уж хоровод закружился сам по себе. Танкисты вспомнили свою деревню, пляски под гармонь, гуляние у елочек, скромные, сладкие поцелуи у сенного стога, ─ и пошло удалое-преудалое пиршество веселья.
Плясали русского. Заводилою был Никита Пекарь. Он и вприсядку ходил, и чечеточку отбивал. И частушку вывил, как жених перед невестою:
Люблю сани с вырезами,
а коня за быстроту.
Деревенскую, эх, девчоночку
люблю за красоту!
─ В круг, хозяюшка!
Солдатка-молодка Лизавета тоже оказалась и певунья, и плясунья. И тоже лихо отбила чечетку. И тоже вывела частушку, как невеста перед женихом:
С неба звездочка упала
на росу и на туман.
Давай, милый, погадаем,
ты любовь или обман?
Пляска пошла забубенная, кто кого перепоет, кто кого перепляшет! Не пляска была, а сказка, сказка-заглядение, по щучьему велению! После все вместе, в разлете и в роскошестве, выплясывали кадриль. Подустав, пригубив еще спирту, душевно пели под гармонь, и русские песни, какие тревожили сладкую грусть, и украинские нежные-принежные, какие тревожили слезу и радость.
Никита Пекарь и Лизавета пришли к согласию, погулять под звездами. Отпусти, командир, я не долго! Разберемся, кто я, любовь или обман, и вернусь! Роман потревожил свои белокурые волосы, осудил: гуляка, мать твою! Но зову внял.
Бивуак-ночлег был недолог. Уже на рассвете краснозвездные танки полковника Ивана Терещенко покинули разоренную украинскую деревню с милым названием Ружинка. И упругим марш-броском, оглашая зимние просторы, ревом моторов, врубаясь цепкими гусеницами в снежную плоть дороги, устремились к городу Белая Церковь. У стен его уже стояли русские армии и чехословацкая армия генерала Людвига Свободы. Город превращен захватчиками в неприступную крепость. И был вознесен в пространстве, как острие меча, о который должны разбиться все русские воинства, какие освобождали Украину и шли на Винницу. Мышь и та не должна была проскочить, ибо в том краю расположилась строго засекреченная Верховная ставка канцлера Германии Адольфа Гитлера! Крепость закована в бетон, бесконечные веера дотов с орудиями, взгорья прошиты пулеметными гнездами. Траншеи вырыты в четыре ряда, опутаны колючею проволокою. Видны воинственные танки «Тигр», черно-гибельные, как смерть, самоходные пушки «артштурм». Поле битвы густо укрыто паутиною мин, где один шаг, и человеку приговор.
─ Хорошо укрепились, ─ похвалил немцев Роман Завьялов, рассматривая в бинокль грозную цитадель. ─ Чувствуешь, Александр?
─ Как не чувствовать? ─ отозвался Башкин. ─ Впервые вижу такую крепость! Неземное создание. Ее, как опустили с неба на канате Мефистофель и его дьяволы!
─ Осилим?
─ Должны, командир! Несомненно, тяжело будет побиваться к городу под стволами пушек, под гибельным веером снарядов! Но сумели русские воины Александра Суворова осилить непреступные заснеженные Альпы! Мы тоже руссы!
Он помолчал:
─ Сокрушим или погибнем!
─ Погибнуть, Александр, и дурак может! Надо выжить, выплыть, как Чапаев!
Ночь выпала метельная. Снег кружил хороводом, слепил глаза. Но минеры-жертвенники уверенно вышли на минном поле, дабы пробить, расчистить атакующие коридоры. То там, то здесь слышались скорбные, отчаянные взрывы, это минер не сумел разгадать загадку-мину, и взорвал себя на мине, во имя Отечества. Гибли и так, минер в снегу не разглядел стервятницу смерти, наступил там, где не надо, и тоже ушел по боли, по печали в ликующее, гибельное пламя.
Такова доля солдатская!
Жертвенная доля!
Тяжело было слышать из ночи горькую тревожность. Словно слышалась траурные марши Бетховена! То тишина, тишина, то взрыв, оскал пламени во тьме, то снова тишина! И снова взрыв, оскал пламени!
Помолись, Русь, за сына своего, за воина своего!
Пусть земля будет пухом!
И с рассветом, едва опала тьма, русская дальнобойная артиллерия с яростью обрушила гибельное пиршество огня на крепость. Орудия били метко, неумолчно. Земля стона, кричала болями человека; дыбилась там и там, словно под землею во все пространство в страхе ползли первобытные ящуры! С мучительным ревом взлетали в небо разорванные плиты дота, исковерканные пушки, разрушенные траншеи с проволокою; она извивалась на лету, как змеи под рогатиною! Кострами занимались танки! Повсюду, повсюду в стане врага бушевала смерть!
Пришло время штурма. В заснеженное небо вознеслись красные ракеты. И гордые, краснозвездные танки уверенно устремились в долину, в те самые атакующие коридоры, какие выпестовали, ценою жизни, минеры-жертвенники, ─ и понеслись на штурм крепости; следом бежали в соборности, в братстве воины Руси и воины Чехословакии. Они стреляли из автоматов, заливали вражеские окопы градом пуль. Танк Завьялова ─ Башкина тоже воинственно рванулся в заснеженное пространство и помчался под пулями и снарядами к дотам и батареям пушек. Он стрелял по врагу на ходу, не останавливаясь даже на мгновение. Командир понимал: стоит остановиться для меткого выстрела, и сам станешь мишенью. Да и не было нужды останавливаться! Александр Башкин и при движении танка стрелял с предельною точностью, показывая воинское мастерство, умение быстрее молнии опередить выстрел врага, ─ ни один снаряд не летел в небо, в белый свет!
Танк Романа Завьялова первым достиг траншеи, порвал железную проволоку, как Гулливер путы лилипутов, и стал дерзко расстреливать батарею пушек. Немцы в панике шарахались от танка-мстителя, покидали окопы. И тут же падали, сраженные пулеметною очередью, какие в гневе, мстительно посылал из танка радист-пулеметчик Алеша Правдин, наполняя поле битвы трауром и трауром!
Танк был удачлив, бесстрашен! Его меткие, неумолимо меткие выстрелы, рушили доты, заваливали блиндажи, он гусеницами давил огневые точки ─ и мчал дальше под лавиною пуль и снарядов к городу Белая Церковь. И всюду, где проезжал, оставлял гробницы для завоевателя, какие тут же заметало снегом, как саваном.
Бесстрашную, везучую машину заметили. На танк Романа Завьялова, рассекая метель-круговерть, воинственно пошли в лобовую атаку самоходные пушки «артштурм». Они пожелали охватить танк подковою и расстрелять перекрестным огнем! Командир понял, танк героев оказался в западне! Гибель была неизбежна! Фашиста не переиграть. Только развернешься, и по башне танка ударят огненными хлыстами , расстреляют в мгновение и удовольствие!
Он передал в эфир:
─ Друзья мои, Александр Башкин, Никита Пекарь, Алеша Правдин, Юра Осокин, прощайтесь! Мы окружены! Княжескую карету вот-вот расстреляют перекрестным огнем! Иду на таран! Россия или смерть! Простите!
Командир напел краасивую русскую песню:
Ты правишь в открытое море,
где с бурей не справиться нам.
В такую шальную погоду
Нельзя доверяться волнам.
И бесстрашно повел танк на самоходные пушки. Александр Башкин для прощального салюта заложил в ствол орудия снаряд и стал рассматривать в прицел вязко-разжиженное снежное поле, усеянное убитыми, искореженными пушками, горящими танками. Он тоже видел, видел, как пророчица Кассандра, гибель неизбежна! Пушки неизменно возьмут танк в кольцо, как берут охотники волка, окружив красными флажками! Куда ему деться? Только в смерть!
Танку Романа Завьялова ─ Александра Башкина тоже деться некуда! Только в смерть! Остаться живым на дуэли с тьмою пушек никак не получится! Задумали расстрелять, расстреляют!
Остается одно, достичь пушек, не дать себя раньше времени сразить метким снарядом, ─ и сколько получится, без милосердия втоптать гусеницами в землю-страдалицу самоходные пушки, черные, как смерть!
Гибель опять пришла на свидание к воину Руси. Опять подступила близко-близко Черная Странница! Странница-нежеланница!
Но что она?
Смерть уже перестала волновать! В каждом бою пули летят веером, огненным веером, и никто не скажет, какая твоя? Каждая пуля ─ твоя, каждая бомба, падающая с неба, сброшенная самолетом-крестоносцем, ─ тоже твоя, ибо неумолимо летит на тебя и только на тебя! Молиться бессмысленно! Успеть на прощание сказать матери: мама, я тебя люблю, прости, что ушел из боя, из жизни, и тем сильно огорчил тебя; попрощаться с Отечеством, сказать, живи, Русь в благословение, ─ и там и там будет пиршество удачи!
И вскоре видишь, пуля пролетела, а ты живой! Самолеты улетели, бомбы не падают, и ты снова живой! Получается, еще раз явился на свет, явился воскресением, как Христос на Голгофе!
То человеком-птицею улетаешь во Вселенную!
То звездою-человеком возвращаешься на землю!
И так много раз, много раз!
Но теперь умирать Александру Башкину, воину Руси, никак не хотелось! Он мчал на танке в логово врага, в западню, в гибель, еще мгновение и он исчезнет в могильном безмолвии, но слышал в себе не угрюмую сиротливость усыпальницы, а слышал ликование гармоники на берегу реки, у елочек, в родном краю. Играл на гармони, несомненно, Леонид Рогулин, кто пал уже смертью героя за Русь, но играл на гармони, несомненно, он, Леонид, вставая живым с поля битвы, из порохового дыма, из тьмы земного Мавзолея. Его, его гармонь он слышал в ликующем пространстве души, почему и захотелось до боли и ненасытности, взлететь теперь с обреченного погоста журавлем-лебедем и осесть на крыше дома в родном-преродном краю. Попрощаться с матерью Человеческою, увидеть россиянку Капитолину, поцеловать ее, насладиться сладостью любви, узнать хоть раз перед гибелью, что это такое на земле? Его россиянке уже шестнадцать лет!
Странно, конечно! На все времена уходит в угрюмую гробницу-усыпальницу, и ни разу не поцеловал девочку, не коснулся ее руки по любви и ласке.
Странно!
Его любовь будет жить, а его не будет!
Чарующее пространство пашен будет жить, а его не будет! Пахарь, шепча святую молитву, будет ходить за плугом, колос будет подниматься к солнцу, а его не будет! Матерь Человеческая будет печь сладкодушистые караваи в печи, угощать гостя, а его не будет!
Зеленые елочки у реки, где шли пляски, кружились в хороводе красавицы-россиянки, будут стоять, как живые-преживые принцессы Русского царства, а его не будет!
В высокой осоке будут в раздолье плакать коростели, а его не будет! Он ничего не услышит, ничего! Ни печаль ее о любимом, ни радость свидания!
Кто так придумал? И зачем? Все остается, а человек уходит!
Зачем? Почему?
Александр Башкин услышал в себе слезы, услышал, что плачет. И то были первые слезы воина Руси на поле битвы! Слезы боли расставания со всем, что оставалось на Руси.
И именно на Украине.
И именно у города Белая церковь.
Танк Романа Завьялова все больше шел на сближение с элитными, грозными пушками «артштурм». Командир вел машину умело, с отчаянною храбростью. Он видел пушки, видел, как с пугающею огненною силою вылетали снаряды, и скоро, по разуму, рассчитывал, долетят до танка, не долетят? И тут же давал команду ─ остановиться, или мчать во всю скорость. И краснозвездная машина то останавливалась, как вкопанная, кружилась каруселью, и снова мчалась на скорости, на врага, на свою плаху.
Он вдумчиво, очень вдумчиво играл со смертью!
Командиру непременно надо было достичь батареи пушек, и достичь раньше, чем расстреляют его танк. Он должен взять с собою еще три-четыре пушки врага! Он идет на таран! Он выбрал дуэль-поединок! И дуэль-поединок должен завершиться по чести, как завершился на Куликовом поле, где в мгновение погибли оба копьеборца, воин Руси Александр Пересвет и воин Золотой Орды Челубей.
Водитель Пекарь героически вел машину, исполнял каждое пожелание командира, несмотря на лютое перенапряжение, на то, что от усталости падал в забытье, а его ладони были истерзаны до боли, до крови.
Неожиданно Башкин крикнул:
─ Командир, есть цель! В перекрестье прицела вижу борт пушки.
─ Огонь! ─ немедленно скомандовал Завьялов.
Танкист-Башкин нажал на гашетку. Выстрел получился удачным.
─ Горит! Горит! ─ заликовал экипаж танка.
Командир стремительно бросил машину на вторую пушку. Еще раздался выстрел. Загорелась и она, окутываясь черным дымом.
И тут Роман Завьялов вскричал:
─ Саша, на выстреле третья пушка! Бери ее в прицел! И гаси! Живо! Надо успеть, успеть! Родина или смерть!
Но «погасить» третью пушку не удалось. Танкисты не успели, опоздали на мгновение. Фашист-пушкарь оказалась удачливее. Снаряд в нимбе пламени с силою ударил в башню. Громовой удар потряс машину. Она накренилась, повисла на гусенице, снова выпрямилась, все танкисты жестко ударились о стальные ребристые стены. Потеряли сознание.
Первым пришел в память Башкин. В его сердце от века жило строго-непостижимое чувство долга. Он, казалось, и убитым воскреснет, если почувствует опасность для Руси! Отведет ее. С его разбитого лица текла кровь. Уши ломило, мучили оглушающие колокольные звоны-перезвоны. Пересилив боль, первым делом, прильнул к перекрестью прицела и увидел, как фашист-наводчик наводил орудие на танк, считая его подбитым, но не уничтоженным. И теперь желал добить! Без воскресения. И отпевания. Башкин сам был пушкарем и быстро понял прощальное желание палача.
Он крикнул по связи:
─ Командир, фашист на выстреле! Целит в бок! Мы на отпевании! Надо давить ее!
Лейтенант Завьялов молниеносно, чужим, контуженым голосом подал команду:
─ Пекарь, курс ноль!
Но танк не двинулся с места, так и остался стоять на погосте. Только было слышно, как во всю полную, бешеную силу сиротливо крутился мотор.
─ В чем дело? ─ вскричал командир.
По трауру отозвался радист-пулеметчик:
─ Похоже, Никитка убит!
─ Нашел время умирать, ─ осудил его Роман Завьялов. ─ Откинь его к переборке. Живо!
Командир быстро сел в кресло водителя, выжал вперед рычаг, и чудом, в долю секунды, сумел развернуть машину, не позволил врагу выстрелить в бок, ─ не то бы танк теперь горел на поле сражения земным прощальным костром.
Перекрестившись удаче, победе, он смело повел танк на пушку-палача! В лобовую броню ударил снаряд. Затем еще. Танк вздрагивал, о броню бились осколки, глодали сталь. Но все было не смертельно! Грозная машина упрямо рвалась вперед, и вскоре с разлету наехал на злобную пушку, вмял ее в снег, опаленный порохом, и стал разгневанно давить ее расчет гусеницами. Немцы бежали, крича, как галочья стая, в страхе завывая волчьим воем.
Остальные самоходные пушки, не желая больше иметь дело с танком-смертником, быстро покатили за бетонные укрытия, откуда расстрелять танк в упор было невозможно.
Это была победа! Лейтенант Завьялов выиграл дуэль.
Глаза его плакали и смеялись:
─ Выстояли, а? ─ сказал он по радости, и устало откинулся на спинку кресла.
Передышка длилась мгновение. Расслабляться было нельзя. Танковый полк нес превеликие потери, но продолжал усиленно штурмовать город. Пехота с грозными криками «ура-а-а», выбивала врага из траншеи четвертого ряда, все было в цене ─ пуля, штык, граната. Танк Завьялова ─ Башкина тут же догнал атакующие цепи и с танками устремился на Белую Церковь. По пути он крушил элитные пушки, разбивал доты, рвал суровым движением паутину из колючей проволоки, помогая пехоте еще ближе продвинуться к городу-крепости. И все пока получалось.
Неожиданно из березовой рощицы, наперерез ему, вывалился тяжелый танк «тигр» из воинства СС.
Роман Завьялов не свернул, смело, гордым соколом, пошел на танк. И про себя прошептал: «Возьму фашиста, возьму! Победа или смерть!»
Машины мчались друг на друга, не снижая скорости. Когда позволило расстояние, он подал команду:
─ Саша, бронебойными, огонь! И огонь!
Воин-Башкин стрелял метко, все снаряды, как один, попадали в танк с черным крестом, но отлетали от брони, как горох. Только оставляли вмятины и синие, быстро гаснущие змейки огня. Немец-эсесовец тоже знал свое дело, бил прицельно, с хорошею точностью. Один снаряд, как ни увертывался командир на поле сражения, тяжело ухнул в башню, закружил танк. Выровняв его, Завьялов крикнул по рации:
─ Башкин, жив?
─ Жив, товарищ командир!
─ Почему не стреляешь? Не получается лоб, секи по гусеницам! И в жерло гони снаряд, в жерло, когда он втягивает пушку.
─ Орудие заклинило, командир! Снаряд угадал в пушку, ствол поднять не могу. И прицел разворошило.
─ Башку бы тебе заклинило! Вояка хренов, мать твою перемать, ─ разразился проклятьями командир, не сдерживая гнева, хотя понимал безвинность башнера. Но успокоиться не мог. И все изливал гнев, изливал: ─ Ты танк хоронишь! Заживо! И друзей! Могильщик окаянный! Чего примолк? Наводи пушку прямою наводкою, без прицела! Даю разворот башни ноль пятнадцать. И огонь, огонь!
Но теперь пущенные снаряды перестали слушаться воле русского пушкаря, то не долетали до танка-крестоносца, то перелетали. И командир принял решение, единственное в неравном поединке.
─ Пока не забили снарядами, иду на таран! ─ объявил он по рации. ─ Россия или смерть! Прости, Саша, за разгневанность! Сердцу больно! Такая прекрасная команда сложилась, и надо гибнуть! И куда отступать, позади Отечество! Все простите! Простите! И прощайте!
И он снова с песнею и снова бесстрашно повел машину на сближение, на гибель, по иссеченному, изорванному снарядами и минами полю, среди огня и дыма, на скорости перелетая через окопы и воронки. Машину раскачивало. Ветер в роскошестве свистел за бронею. Мотор гудел с лютою ожесточенностью. Гусеницы в напоре взметывали обожженный снег, густо перемешанный с пеплом, разбрасывали его в разные стороны осеннею хлябью. И каждый по боли, по печали ощущал это движение, ибо понимал, ─ сердце стучит на прощальном стуке, на прощальном стуке!
Еще мгновение и танк с экипажем опустится в земные лабиринты Мавзолея!
И ветер, уже ветер гудит за бронею, как поминальная молитва, где вплелось-переплелось траурное песнопение хора плакальщиц и хора горевестниц!
Прощай, Россия!
Помяни сына-воина своего в памяти, и мы оживем, ибо ушли в бессмертие!
Из экипажа один Алеша Правдин еще пытался оттолкнуть гибель, остановить ее, он бил и бил ураганным огнем из пулемета по смотровой щели «тигра». Ему хотелось, очень хотелось поразить водителя, залить его ненавистные глаза кровью. Но все было безуспешно. Танки сближались. Немец тоже оказался крепким, не из трусливого десятка. И тоже шел на таран, не боясь схлестнуться лоб в лоб. И все же, у фашиста сдали нервы, едва пришло роковое мгновение он отвернул танк, не пожелал воспылать костром Джордано Бруно! И тем погубил себя. Машина Завьялова на ожесточенной скорости врезалась в ее борт. Броня остро соприкоснулась с бронею, раздался страшный тяжелый звон. Вражеский танк неуклюже, беспомощно накренился, и Башкин, не растерявшись, прямою наводкою, расстрелял его двумя снарядами.
Танк-крестоносец воспылал костром! Танкисты даже не открыли люк, не попытались спастись. Гибла эсесовская элита, гибла в огне, жертвенно, героями, ─ пусть видят русские, как умирают настоящие воины Третьего рейха!
Танк Романа Завьялова от страшного удара пострадал не меньше, он завис на гусенице и грозил перевернуться. Но танкисты в удаль раскачали его, поставили на обе гусеницы; краснозвездный танк вернулся на круги своя. Но воевать не мог. Гусеницы распались, с оси соскочило переднее колесо, прозванное танкистами ленивцем.
Командир отнял ладони от лица, с которого текла кровь, тихо попросил:
─ Друзья, надо вершить ремонт.
Но только танкисты покинули израненную, поверженную машину, как внезапно из дота выскочили вражеские автоматчики. И открыли огонь.
Пришлось занять круговую оборону, отбиваться.
Силы были неравны. Враг окружал. Злобно кричал:
─ Рус, сдавайся!
Роман Завьялов понял, фашисты решили взять танкистов живыми! И рассчитаться за гибель друзей! В плену помучить, выбросить на свалку, на корм коршунам! Загонят в танк, подожгут танк. И все примут мучительную гибель.
Как праведники.
На костре.
И так бы случилось. Радист, отстреливаясь от врага, услышал в наушнике суровый голос командира танковой роты капитана Василенко:
─ Что у тебя, лейтенант, почему стоишь?
Алеша Правдин толкнул в бок командира танка:
─ Вас, Роман. Ротный вызывает!
Завьялов холодно, незнакомо посмотрел, ничего не ответил.
Радист-пулеметчик все понял. Передал по связи:
─ Командир танка контужен, товарищ капитан! Машина разбита. Отбиваемся от врага. Немцы близко, желают взять живыми. Мы не сдадимся! Родина или смерть! Говорил ефрейтор Правдин. Отбой.
─ Вас понял! Идем на выручку. Держитесь.
Четыре танка, посланные капитаном Василенко, живо смяли вражеское воинство, кого расстреляли из пулемета, кого подавили гусеницами, и те в страхе, в панике бежали с поля сражения.
К поверженному танку вызвали санитаров из полкового госпиталя. Все герои-танкисты были оглушены жутким таранным ударом о танк из воинства СС, нуждались в помощи врача. В госпитале у Романа Завьялова и Александра Башкина всю ночь шла кровь из носа и ушей; в голове бесконечно, неотвратимо, стоял звон-перезвон колоколов Руси, мучил страхами, болью, тело тоже жило по скорби, змеино извивалось судороге, стонало. Горело в огне. Они долго метались в бреду, кричали,─ Вперед! В атаку! За Родину, за Сталина! Кричали так, что задыхалось сердце! Но только поправились, окрепли здоровьем, тут же стали просить начальника госпиталя о выписке.
Но консилиум врачей строго-настрого запретил даже слово молвить о фронте, недолеченные вы, недопеченные, какие из вас воины Руси?
Но друзья сбежали.
─ Нам Гитлера надо в клетку загнать. Вытащить его из волчьего логова в Виннице, ─ объяснил профессору Роман Завьялов. ─Прохлаждаться не время. Сокрушим орды гуннов и понежимся на пуховых перинах. Так, Саша?
─ Угадано, ─ охотно отозвался воин.
Танк Завьялова ─ Башкина первым ворвался в Белую Церковь. Крепость пала. Над городом взметнулось Красное знамя. Но битва за Украину не закончилась. Первая гвардейская танковая армия Михаила Катукова под бешеным огнем гитлеровцев перешла реки Сквира и Россь и устремилась на Винницу, о чем так желал Роман Завьялов. Но Гитлера у села Стрижавка не разыскали. Его секретная, верховная ставка «Вервольф» была взорвана.
Командир танка горевал бесконечно:
─ Какая печаль. Сбежал, гад! ─ не уставал повторять в тоске.
Александр Башкин успокаивал, как мог:
─ Оставь, печаль! Догоним! Куда он сбежит? Только в Берлин! Мы куда, путь держим? Куда мчит краснозвездная тачанка? В Берлин! О чем горевать? Там и встретимся! Поговорим за жизнь за кружкою пива!
К середине января Первый Украинский фронт освободил Житомир. Операция завершилась.
Враг откатывался на запад.
III
Предстояло последнее сражение по изгнанию фашистов с Украины. На этот раз Верховная Ставка разработала новую операцию, какая была названа Корсунь-шевченковская.
Битва началась 24 января 1944 года. Все силы русского воинства были собраны у города-крепости Звенигородка, какую предстояло взять штурмом. Обороняли крепость отборные эсесовские войска под командованием генерала СС Эрнста Штеммермана, на его столе лежало личное послание фюрера Адольфа Гитлера, в котором он повелевал ─ город держать до последнего солдата. Отступать запрещаю! Каина-отступника расстреливать без суда и следствия, перед строем! Надо помнить, генерал, в схватке миров, вы защищаете уже не Украину, а Берлин, столицу бессмертного Третьего рейха на дальнем подступе.
Танковые батальоны полковника Василия Терещенко стояли в укрытии, на опушке леса. Едва наступил рассвет, с громовою силою ударила «Катюша», которая огненным валом, неумолимо долго разрушала сильные укрепления врага. И когда, казалось, все живое было уничтожено, исчезло в огне, в одном кострище, русское воинство с гордыми, орлиными криками ─ «За Родину! За Сталина», поднялось в атаку. На лютом, необозримом побоище, в страшном ударе, столкнулись две силы, неисчислимо великие и грозные. Под тяжестью танков, пушек «артштурм», людского скопления гнулась земля.
Пехота сходилась врукопашную, прокладывала путь к желанной победе штыком и гранатою. Но постоянно возвращалась в свои траншеи. Фашисты бились люто, с превеликим отчаянием, в битве сверкали штыки врага, как молнии в грозу. Глаза переполнены мщением, гневом! Вместе с тем, несли в себе полное презрение к смерти! Да, это была элита немецкого воинства! Жизнь и смерть ─ все на одном дыхании!
Руссы, переждав лавину огня в траншее, снова поднимались в атаку, вслед за комиссарами, достигали врага, бились кинжалами и штыками, но гибли и гибли на поле битвы! Продвигаться к городу-крепости мешали танки, врытые в землю. У самого хутора Рудница. Достать танки было нельзя. Они высились на холме и простреливали все стороны, посылали смерть и смерть! Все поле битвы было усеяно русским воинством.
К месту атаки прибыл командир танковой армии Михаил Катуков и повелел танкам все же прорвать немыслимую оборону! И краснозвездные танки, в который раз, поднялись на штурм! Вместе со всеми штурмовали холм-крепость и танкисты Романа Завьялова, но снова пришлось отступить! Никто не достиг удачи! Танки снова поднимались на штурм, и снова возвращались обратно, оставляя на поле сражения подбитые, горящие машины.
Дело принимало серьезный оборот. Из штаба Первого Украинского фронта, прибыл начальник особого отдела Борис Кучкаровский, в сопровождении автоматчиков. Узнав, что высоту у хутора Рудница никак не могут взять танки полковника Терещенко, приказал ее спешить с танков, выстроить.
Посмотрев, оценив офицера, строго спросил:
─ Почему отступаем, полковник?
─ Несем большие потери! ─ повинно отозвался Терещенко, подтянувшись.
─ Я спрашиваю, почему отступаем? ─ обратился в грозу вельможный чекист. ─ Не знаете приказа Сталина «Ни шагу назад!» В трибунал захотели?
Он строго посмотрел на танкистов, гневно бросил:
─ Трусы! Расстреляю! Орды злодеев топчут русскую землю, безмерно, бесстыдно измываются над народом, а вы бегаете с поля боя, как суслики! Кому же защищать Родину, матерь Человеческую, отца, сына? Трусы вы! Нет вам прощения.
─ Мы не трусы, ─ не сдержал себя Роман Завьялов,
поддерживая раненого Юру Осокина.
─ Молчать! Шаг вперед! Кто такой? ─ не смиряя гнева, поинтересовался Кучкаровский.
─ Командир танка лейтенант Завьялов! – шагнул вперед воин, передав раненого другу.
─ Почему сбежали с поля битвы?
─ Я не суслик, дабы бегать с поля битвы! ─ с вызовом произнес командир танка, зная, что могут за дерзость расстрелять. Но душа его бунтовала! Он не был трусом! И не будет! И не надо так обвинять, так оскорблять воина Руси!
Мягче произнес:
─ Погибнуть проще, победить сложнее! Мы отошли, дабы не погибнуть! Мы семь раз поднимались в атаку! И все бессмысленно! Я считаю приказ неразумным! Танками врытые доты не взять. Пробить броню немецкого танка невозможно, она непробиваема! Разрешите, я подползу и забросаю подвижные доты гранатами! И путь пехоте будет свободен!
─ Страте-ег, ─ ернически протянул вельможный чекист. ─ Прямо генералиссимус. Вы тоже так думаете? ─ он посмотрел на Терещенко.
─ Никак нет! ─ подтянулся полковник. ─ Мы уже посылали храбрецов! Все расстреляны у подножия роковой высоты! Неотразимо метко стреляют снайперы! Надо вызвать бомбардировщики и разбомбить крепость с неба.
─ Еще один стратег, ─ он с милою улыбкою посмотрел на генерала, стоявшего рядом. ─ Не голова, штаб фронта! О чем вы, господа офицеры? Вы же видите, какая погода! Густые тучи, кружит мокрый снег! Могут краснозвездные самолеты взлететь в небо, поразить ваш бастион? И «Катюшами» выбить невозможно, поскольку распутица, не можем подвезти снаряды! Штаб фронта вам, танкистам, доставляет горючее и снаряды по болотам, загоняя в смерть лошадей! И от вас мы ждем подвига! Вы же трусами бежите с поля сражения!
Он резко посмотрел:
─ Или не бежите?
Полковник повинно склонил голову.
─ Вы что объясните, лейтенант? ─ чекист зловеще посмотрел на командира танка.
─ Что объяснять? Будем драться, ─ подтянулся Завьялов.
─ Вы уже не будете драться! Вы трус и изменник Родины! И весь экипаж, трусы! У такого командира не могут быть герои!
Чекист из штаба армии зычно, нервно подал команду:
─ Всему экипажу шаг вперед! Встать к обрыву, у могилы. И назвать себя.
Александр Башкин вместе с раненым танкистом подошел к обрыву, горестно подумал: «Милая Русь моя, что творится? Откуда такая злоба? Такое невезение? Чем провинился? И перед кем? Вся жизнь одна тревожность, одно отчаяние! Каждое движение, каждое разумное движение по земле Руси омывается слезами! Берут и берут в окружение снежные вьюги, закручивают и закручивают в смерь!
Немецкая пуля не берет, убьет своя, русская! В одну сторону взглянешь, Златогривые Кони везут гроб! В другую сторону взглянешь, снова Златогривые Кони везут гроб! Сплошное безумие! То приговаривают к расстрелу чекисты в Вяземской тюрьме, то фашисты в лагере смерти под Холм-Жирковским, то снова русские, командир штрафной роты Молодцов под Медынью ставит на расстрел, то снова немцы в плену ─ три раза ставили на расстрел. И снова ставят на расстрел русские, державные чекисты.
Без хора плакальщиц и хора горевестниц, мама, гоняют и гоняют по земному кругу смерти.
С распятья на распятье!
Как великого преступника Руси!
Одна окаянность, одна окаянность!
И смерть опять же без похоронки! Без гробницы со звездою! Без воскресения на Руси!
Мама, как умру, воскреси мое сердце, измученное тоскою.
Поживи с моим сердцем! Принеси успокоение, дабы там я слышал любовь к жизни, к человеку, слышал справедливость жизни! Пусть хоть там поживу по-человечески!
Роман Завьялов вышел к обрыву, на погост, походкою Олега Кошевого; глаза его горели гневом к чекисту. Алеша Правдин встал покорно, обреченно, и по покою стал ловить с любопытством на ладонь падающий снег.
─ Взводу автоматчиков изготовиться!
Он дождался, когда стрелки встанут полукругом, направят на танкистов, на обреченность, черные дула автоматов, чекист-полковник достал из кармана френча документ с грифом НКВД СССР, вписал фамилии, и стал читать:
─ Именем Родины, за проявленную трусость на поле сражения приговорить к высшей мере наказания Романа Завьялова, Александра Башкина, Алексея Правдина, Юрия Осокина! Приговор исполнить немедленно!
─ Отставить, полковник!
На погосте, в мученической тишине голос прозвучал сильно, как раскат грома.
От неожиданности вельможный чекист стеклянными глазами уставился на офицера, на голове которого была бинтовая повязка с разливом запекшейся крови.
─ Что-о? Вы мне?
─ Вам, полковник!
─ Кто такой? Представьтесь!
─ Политрук танковой роты капитан Влад Ерохин! Прошу прекратить самосуд! Они не трусы и не изменники Родины! Командир танка Роман Завьялов, командир орудия сержант Александр Башкин за проявленный героизм по освобождению городов Белая Церковь, Винница представлены к ордену Ленина и ордену Красной Звезды. Представление подписано генералом танковой армии Михаилом Катуковым!
Они не повинны в отступлении! Это я приказал, беречь танки! Зачем им бессмысленно идти на распятье и просто так, гореть на поле боя? Посмотрите, в долине горит двенадцать танков! Чего они достигли в атаке? Только гибель! Танки врыты в землю, простреливают все стороны! Подступиться совершенно невозможно! Мы изучаем ситуацию, и заверяю командование фронта: мы возьмем высоту.
Начальник особого отдела армии привык к строгому подчинению, и, услышав команду: «Отставить!» ─ люто растерялся. Это как бы с неба сам Бог повелел ему отставить! Но, увидев перед собою тщедушного человечка, снова обрел себя, вошел в гнев:
─ Молчать! Ты кого учишь, мокрая курица? Трусов защищаешь? ─ Он распахнул кобуру, достал пистолет. ─ Да, я тебя, лично расстреляю, комиссар! Надо защищать честь солдата, а не труса!
─ Прошу говорить мне вы, ─ по покою произнес политрук. ─ Я сижу не в штабе, а в танке с танкистом! И мне дорога моя честь!
Чекиста окружили дьяволы, он взбеленился:
─ Выйти из строя! Бунтовать?
Дыша гневом и ненавистью, он близко подошел к комиссару, пытался во зло сорвать погон. Не получилось. Тогда он рванул звезду на рукаве гимнастерки. Опять не получилось.
Его трясло. Рука потянулась к кобуре.
Командир дивизии генерал Ефремов не выдержал иезуитского унижения комиссара, тихо попросил:
─ Борис Львович, успокойтесь. Не будем оскорблять друг друга! Сами разберемся! По совести и чести! Обещаю!
Чекист-полковник сумел взять себя в руки. Поостыв, вернул пистолет в кобуру. И еще помучившись, приказал обреченным танкистам вернуться в колонну.
На прощание попросил генерала:
─ Сбейте подвижные доты, возьмите город-крепость Звенигородку! За освобождением Украины следит сам товарищ Сталин!
И гневно приказал чекистам:
─ Мерзавца-политрука арестовать! За саботаж! Поработаем, посмотрим, что за красноперая птица? Не фашистский ли прихвостень?
Он чинно подал руку генералу, сел в штабную «эмку». Машина плавно вошла в колею распутицы-дороги. Следом двинулся бронетранспортер с охраною.
IV
Полковник Терещенко встал на броню танка:
─ Коммунисты вперед! За Родину, за Сталина!
В гибельную атаку устремился и танк Завьялова ─ Башкина. Страшно лязгая гусеницами, разбрасывая в стороны мокрые лавины снега, машины обреченно пошли на штурм крепости, минуя разрушенные избы, вишневые сады с поваленными плетнями, церковь времен Византии с разбитою колокольнею. Никто уже не думал о жизни и смерти, все думали, как разрушить крепость. Фашистские танки были врыты в землю и с холма, с небес простреливали всю заснеженную долину, не давая подняться русскому воинству на штурм города. Стоило дивизии подняться в атаку, и враг косил воинов, как косою.
Краснозвездные танки полковника Василия Терещенко еще издали обрушили на зловещую, непокорную крепость безжалостную лавину огня, били прицельно, неумолчно, били залпами! Но врытые танки-крестоносцы разрушить не удавалось. Дуэль не складывалась. Снаряды не могли пробить бетонные щиты, за какими они скрывались.
Крепость молчала, не открывала огонь. Ждали, когда краснозвездные танки подступят ближе. И когда расстояние сократилось до ста метров, ─ разразилась страшными выстрелами. Тяжелые орудия били в упор! В избиение! И в мгновение командирский танк полковника Терещенко попал под перекрестный огонь. Где стоял танк, земля разожглась пожарищем до небес.
Машины поспешили на выручку. Но услышали по рации приказ умирающего командира:
─ Вперед! На штурм! Выбить танки! Дать пехоте подняться в атаку! Родина или смерть! Я умираю. Прощайте!
Вражеские танки, чувствуя свою силу, простреливали заснеженную долину, как на охоте. Неторопливо, прицельно. Выстрел, и машина возгоралась факелом! Еще выстрел, и еще на земле разжигалось пожарище.
─ Что делать, командир? ─ тревожно спросил по рации Башкин. ─ Скоро наша очередь!
─ Хрен его знает, Саша, ─ в печали отозвался Завьялов, черный от копоти. ─ Танки идут на распятье! Один за другим! Я пока кручусь, не даю по себе ударить. Но они же, сволочи, выберут время, спустят курок.
─ Высади меня у дуба! ─ задумчиво попросил Александр Башкин. ─ Я ему связку гранат в зоб закину!
─ Не добежишь, снайпер снимет! Но идея привлекательная! Так и надо делать! Я буду кружиться, а ты лови в прицел его ствол! И в жерло, в жерло. Понял?
─ Не сладить, ─ усомнился воин. ─ В его ствол можно только с самолета попасть, а не с танка!
─ Жди, когда он опустится! И целься! ─ рассердился Завьялов. ─ Взялся перечить! Под расстрел захотел? Выживем, точно отдам на суд военного трибунала! Исполнять приказ!
Выразив сомнение, Башкин, несомненно, был согласен с командиром. Как еще разбить крепость? Только ствол в ствол! И мастерством пушкаря! Еще верою в удачу! Работа ювелирная! Но надо пробовать! Пробовать! И воин умно, вдумчиво, с завидным напряжением, стал следить за стволом пушки. Все увереннее стал просчитывать, как башня танка повертывается? Когда опускается и поднимается ствол? И ссыпал туда снаряд за снарядом! У воина все больше крепла уверенность в удачу, он уже сердцем, всею растревоженною злостью понимал, что сможет выиграть дуэль, сможет угадать снарядом в жерло пушки.
Но неожиданно по рации прозвучал приказ командира дивизии: танкам вернуться на исходную позицию.
Башкин спросил:
─ Будем возвращаться?
─ Хрен ему, генералу! Каким танкам возвращаться, Саша, скажи? ─ бешено, со слезами вскричал Роман Завьялов. ─ Тем, что горят кострами вместе с людьми? Одумались, когда загнали на земное кострище всю танковую роту, мать вашу перемать! Смотри, одиннадцать танков горит на поле Идолище, на поле Побоище! Нельзя было самолетами разбить зловещую цитадель? Будем биться. Саша! Свое дело сделаем, и вернемся!
Башкин возразил:
─ Но это трибунал, командир!
─ Плевал я на трибунал! И на расстрел! Мы остались одни, Саша! Одни! И должны исполнить посмертное повеление полковника Терещенко ─ уничтожить крепость и поднять русское воинство на штурм города!
Я иду ва-банк, Саша! То есть, спускаюсь в долину, под расстрел! Пушки, непременно, опустят стволы! Лови момент, и круши! Круши метче! Разорви зоб гадине! Я буду вертеться, дабы огненные дары не коснулись раньше! Россия или смерть! ─ и он бесстрашно, жертвенно повел машину на последнюю дуэль.
Битва пошла окаянная! Воин Башкин работал невероятно скоро, посылая в раскаленный ствол всесильного «тигра» снаряд за снарядом. В этот момент он был равен богу Зевсу, кто разжигал в небе молнию за молнией. Заряжающий Юра Осокин падал от усталости, но снова и снова поднимался, надо было, и полз, но снаряды подавал без передышки, в беспредельном исступлении. И свершилось невероятное. Снаряд могильно попал в самое жерло фашистского «тигра». Ствол разорвался, раскинулся красными лепестками стали, как цветок, выставив в небо исковерканные острые пики. Поразить второе орудие было уже легче.
Третье орудие подорвали смельчаки из пехоты.
Роман Завьялову уже не слышал, как гвардейская стрелковая дивизия, какая с тревогою наблюдала за поединком, победоносно взметнулась трубным криком «ура-а» и поднялась на штурм города. Он выключил мотор, от которого шла сильная жаркость, устало откинулся на спинку сиденья. Руки его тряслись, пальцы все еще по памяти сжимали рычаги, тело сплошь горело, как завязалось в жаркий узел. Лицо тоже пылало. Было мокрым. Он без тревоги подумал: не ранен ли? И коснулся щек, посмотрел на ладонь. Нет, была не кровь. Были слезы. Он плакал. Неужели так испугался смерти? Чушь! Он земные поклоны не отбивает печальнице в черном. Необычная расслабленность от жалости! Отсюда человеческие слезы! Отсюда шли нестерпимые, неумолимые боль и скорбь!
Погибли боевые друзья, с кем сроднился, слюбился, с кем не раз ходил в огневые атаки! Погибли те, кто творил молитву богу солнца, богу любви и радости, кому бы жить и жить, но ушли в вечность! Ушли горьким эхом! За что погибли? За какие прегрешения? Почему, недолюбив, недострадав, должны покорно лечь в братскую могилу? Тяжело, гибельно тяжело смотреть на поле сражения, на обреченно горящие танки! На воина Руси, какие лежат растерзанные у гусениц, у пожарищ, лежат в горестном могильном распаде.
Уже не люди! Не воины!
Уже обгоревшие звездные миры!
Жалко! И жалко!
Смерть должна нести смысл!
Расстегнув шлем у подбородка, Завьялов спросил по рации:
─ Жив, Саша?
─ Жив, командир, ─ тихо отозвался Башкин; он тоже сидел, запрокинув голову, раскрылатив руки, черные от пороховой гари, тяжело дышал. И все старался унять нервную дрожь, какая никак не желала обрести покорность, смирение.
─ Ты, Юра, жив?
─ Жив, командир! ─ отозвался Осокин.
─ Ты, Алеша?
─ Бог миловал, командир! ─ эхом произнес танкист.
─ Повезло! Чудом выжили! Посмотрите на поле битвы, сколько полегло! И все безвинность, безвинность! Какая Зловещая Глупость могла послать дивизию на штурм цитадели, какую можно было разрушить с самолета одною бомбою? Нет, надо положить одиннадцать танков и тысячу воинов Руси! За что? Да еще погнали в атаку под дулами пистолетов! Не принимаю такую правду!
Он помолчал в трауре:
─ Отсалютовать бы, Саша!
Башкин зарядил орудие:
─ Дай три залпа.
Над полем битвы раздались три выстрела, единственные, которые не несли смерть.
Офицер Завьялов надел ушанку:
─ К бою, братья! Будем мстить!
─ Будем мстить! ─ в голос отозвались воины.
И краснозвездная машина Завьялова ─ Башкина устремилась туда, где шла битва. Танкисты не ведали страха! Танк метался в гуще врага, как огненная, оскорбленная молния ─ сжигал огнем надменную эсесовскую рать, косил ее разливом пуль, мятежно налетал на окопы, на пушки, давил все живое гусеницами.
Танк, как сошел с ума. Как обезумел от боли за безвинно павшего полковника Василия Терещенко, за безвинно павшего русского воина-танкиста, что и теперь еще догорают на поле сечи, как на костре Джордано Бруно! Он перестал быть танком, он обратился в вихрь-движение, в вихрь мщения, в вихрь ненависти!
И сами танкисты обратились в Гнев и Ненависть!
И сами танкисты забыли, что существует смерть! утратили чувство смерти!
В каждом жила одна боль, боль стонущая, кричащая, тревожная!
При виде танка-безумца, его лютого кружения, немцы в страхе выпрыгивали из окопов, с диким воем разбегались во все стороны. Но нигде не находили спасения. Александр Башкин бил из пушки без устали, забыв, что есть жизнь, есть разлив гармоники на берегу реки в родном Пряхино!
Он был ─ одна битва!
Одна битва!
Он был Гераклом воли и силы, гнева и ненависти, кого победить невозможно, как великого князя Руси Буса Белояра!
И сгорит, на костре, на распятье гордо и жертвенно, как великий князь Руси Бус Белояр!
Но не сдастся!
Он слышал в себе родственность с великими воинами Руси с самого детства; сказания деда Михаила Захаровича не прошли мимо его гордого сердца.
Почему и воскресил в себе силу воина Руси!
Воскресил в себе любовь к русскому Отечеству, непобедимость, бессмертие!
Битва за город-крепость Звенигородку шла до вечера. С поля битвы вернулись целехонькими! Даже себе не поверили? Могло ли такое быть? Ушли по безумию, по мщению в смерть, себя никак не жалели, и вернулись живыми! Но на броне танка командир насчитал сорок вмятин; то были «черные метки» от снарядов, мин, брошенной гранаты.
На ночлег расположились в одиноком и сиротливом блиндаже, оставленном стрелковою ротою. Роман Завьялов разлил в кружки спирт.
В трауре произнес:
─ Помянем героев-мучеников, братья! Погибли самые-самые богатыри земли Русской, рабочие и пахари! Никто не хотел умирать! Но исчезли из мира, унеся с собою великое ожидание победы! Печально. что ушли по горю! И по бессмыслице! Горько и несправедливо!
─ Война все спишет, ─ хмуро отозвался Юра Осокин, поглаживая раненую руку.
─ Верно, спишет! ─ согласился командир. ─ Только кто осмыслит и исцелит боль матери? Боль вдовы? Боль Отечества? Смерть на фронте должна быть со смыслом! И это гордая смерть! Смерть за Русь святую, за матерь Человеческую, за любимую! Такая смерть не страшна для воина! Как Икару, кто желал покорить солнце! Мы желаем покорить вселенское Зло, какое пришло на землю! Покорить во имя того, кто будет жить и дальше, и дальше, в русском бессмертии; тот же красавец-юноша, та же красавица-россиянка, царь девица! Мы им, им даем жизнь! Во имя чего и бьемся!
─ Во имя чего?
─ Чтобы во все времена жило на земле Русское Человечество! И звонило в колокола бессмертия!
Он стряхнул слезу:
─ Почему и страшна мне бессмысленная смерть! И жалость, лютая, проклятая жалость по безвинно погибшим никак не отпускает сердце! Сибиряк я! Правнук Ермака! Почему, скорее, и живет во мне такое чувственное сердце!
Он встал:
─ Помянем!
Четыре кружки соединились воедино.
Выпили. Посидели молча.
─ Не след, расслабляться, командир, ─ нарушил молчание Башкин. ─ Такова солдатская доля.
Роман Завьялов покивал:
─ Ты прав, сержант. Прав! Но текут слезы, и все. Недолго воюю, почему и разжалобился! Ты воин с Куликова поля, с июня 41 идешь от битвы к битве, и в каждую битву видел смерть в глаза, и уже привык! Только я не знаю, хорошо это? Или не хорошо? В том смысле, хорошо ли нести в себе бесчувственное сердце?
Башкин угрюмо возразил:
─ Ты не прав, командир! К смерти товарища привыкнуть нельзя! И как привыкнуть? Пили-ели из одного котелка, гармонь слушали вместе, а возвращаешься с поля битвы и видишь его распятым на земле! Слышишь в себе, холод, и слышишь, как по сердцу ─ косою!
Он помолчал:
─ Не поверишь, я не сплю на войне.
─ Почему не спишь?
─ Не могу. Едва прикрою глаза, обжигает пожарищем. Душа сожжена, там горе, ужас и пепелище, пепелище! С каждого поля Куликова, с каждого поля, вижу павшего товарища! Живым вижу! Случается, и призраком! Спускаются на крыльях с неба, как белые лебеди, как моя совесть, ─ с Млечного пути, от луны. И утром возвращаются в небо! Но перед разлукою, перед прощанием, посидят. По горю поплачут. Случается, начинают казнить, ─ почему ты жив, а мы не живы? Почему ты на земле, а мы в кроваво-братской могиле? И почему в ту могилу, как в золоченую карету впрягаются бесы и гоняют нас во всю звездную Вселенную? Жуткость одна! Так бешено гоняют, что вот-вот перевернут! И сбросят на землю! Опять в кровь, в боль, в стонущую яму!
Воин отпил спирт:
─ На рассвете еще страшнее! Отправляясь в путь, начинают плясать, водить хоровод; пляшут в исступлении, как скоморохи, как окаянные, и вроде бы в живой радости, в огненном веселье, но с холодными неподвижными ликами, как выточенными из мрамора. И вскоре бешено закрутятся, как метель, и понеслись, понеслись, горько и скорбно, в свою усыпальницу! В свою горько-угрюмую Вселенную.
Юра Осокин спросил на серьезе:
─ Живыми казнят, танцуют? По чувству?
─ Не знаю. Я убитого воина вижу живым! Как в жизни! Сна не слышу! Живу, ─ как с тобою живу! Но пришельцы из тьмы, из бессмертия, не знаю! Скорее, живыми! Плачут, почему ангелы рано забрали на небо? Почему лежат не в земном Мавзолее? Просят поклониться матери, любимой, чтобы те принесли им цветы.
─ Живым? Или на могилу? ─ опять проявил интерес танкист.
Башкин подумал:
─ Скорее, на могилу. Все вершится в пространстве, по ту сторону земли, по ту сторону неба, все в переплетении, в одном узле, не разберешь, где сон, где жизнь? Может быть, даже попадаешь во сне в девятый круг земного ада по Данте! Беспредельно страшны такие видения! Я, когда просыпаюсь, становлюсь сумасшедшим! Или слышу себя иноком, кто молится за каждого убитого на поле сечи за Русь святую!
Он еще отпил спирт:
─ Так что, война во мне останется на все времена! Погибну, поднимусь журавлем в небо, в звезды ─ и там буду слышать, что такое война, долго буду слышать, долго, очень долго, пока жива Вселенная!
Душа моя вся изругана и изранена войною! Я ведь много, бесчисленно много опустил друзей-ратников в великорусские братские курганы, в человеческую боль и память. Так что, не прав ты, командир!
Боевая тревога прозвучала неожиданно. Танкисты строго выстроились со своими танками. Перед воинами держал пламенное слово командир танкового корпуса генерал Иван Лазарев:
─ Друзья! Благодаря вашему мужеству, мы взяли в кольцо окружения немецкое воинство на Украине! Еще усилие, и мы принесем свободу братскому народу! Враг не желает того! Канцлер Германии Адольф Гитлер послал им на выручку танковые дивизии генерала СС Вильгельма Хубе, какие намерены пробить коридор спасения у села Малые Боярки. Мы должны остановить надменного генерала СС Хубе, не допустить прорыва эсэсовского воинства! Тем самым пленим фашистов, спасем жизни тысячам русских воинов! Я толково объяснил?
─Так точно, товарищ генерал! ─ дружно отозвались командиры танков.
─ По машинам! Да осенит вас победоносное знамя великого Сталина!
Танковый корпус шел по шоссе в таинстве, не включая фар. Моторы работали слабо. Рации молчали. Полутьма ночи скрывала танки. Но ближе к линии фронта идти незаметно становилось труднее. В небо то и дело взлетали ракеты, рассыпаясь ярко-красно-синим фейерверком. Появились немецкие самолеты-разведчики. Едва проехали сосновую рощу, как у села Малые Боярки увидели бесконечную колонну вражеских машин.
По рации прозвучала команда генерала Лазарева:
─ Эсэсовские танки Хубе! К бою! Курс нулевой.
Нажимая на стартер, давая скорость машине, Роман Завьялов тяжко вымолвил:
─ Целый зверинец согнали! Одни «тигры» и «пантеры»! Как же мы такое зверье раскидаем? Что ж, начнем облаву! Юра, заряжать снарядом, что пробивает броню!
─ Есть, командир! ─ отозвался Осокин, закидывая снаряд в казенник.
─ Битва будет серьезная! Все слышали?
─ Все, ─ произнес Башкин. ─ Битва за Отечество всегда вершится на полном серьезе! Не красавицу-россиянку с танцев провожаем, ожидая поцелуя, для сладости сердца!
Танки генерала Лазарева смело пошли в атаку по степи с гуляющими метелями, озаряя вспышками выстрелов тьму ночи. Грозные вражеские танки, как ждали атаки, в мгновение перестроились, собрались в боевую силу. И тоже бесстрашною лавиною понеслась навстречу битве.
Все ближе и ближе сходились две великие гладиаторские силы, как на римском Колизее!
И вот столкнулись, ударились друг о друга ─ мечами и щитами! На земле раздался гром; гром силою бога Зевса потряс и расколол небо. Началось сражение. Вкруговую били орудия! В водовороте огня кружились и гибли танки. Окаянство битвы было безмерным! Эсэсовцы бились до погибели, они тоже не знали чувства смерти! Поле битвы обратилось в эшафот для каждого воина! В тяжелом бою Александр Башкин подбил четыре «тигра». Но вскоре вражеский снаряд метко и зловеще ударил по гусенице, рассек ее надвое. Танк Завьялова ─ Башкина был обречен на смерть. Он закружил на месте, как от горя! Движения вперед не было. В броню ударил еще снаряд. Пробил ее. Танк вспыхнул. Через две-три секунды мог последовать взрыв.
Машину расстреливали в упор. Командир это понял и живо передал по рации команду:
─ Уходить всем, немедленно!
Лейтенант привстал, головою уперся в стальной люк, выскочил из башни, за ним Башкин, оглохший, полуслепой, слизывая кровь с разбитого, обожженного лица. Бежали как можно дальше! Услышав взрыв, беглецы оглянулись. И в трауре замерли. Радист-пулеметчик Алеша Правдин и Юра Осокин выбраться не успели. Сгорели в танке. Ушли в бесконечность. Обугленными птицами.
И только тут Башкин в тревожности ощутил жар ─ ватные брюки, и все одеяние танкиста горело страшным огнем! И сам он уже обратился в факел! Ветер раздувал пламя! Огонь уже обжигал спину! Он стал бешено кататься в снегу, стремясь сбить пламя, невероятно жарящее, убивающее. Но огонь уже достал его, обратил сердце в уголь; теряя сознание, силы, он еще пытался подняться с земли, которая не отпускала, тянула, притягивала к себе, звала в свою глубину, в свою гробницу. И сколько он ни пытался пересилить ее роковое притяжение, вырваться из омута смерти не получалось. Обессилев, он упал лицом в снег, по печали прошептал, ─ пришло и мое время! Жалко! И жалко то, что умираешь в чужом краю. И совсем без молитвы, без исповеди, без хора плакальщиц и горевестниц! И совсем, совсем, не по-христиански! И нет матери Человеческой у могилы в траурной вуали! И нет девочки-россиянки в черной вуали! Тяжело уходить в смерть в одиночестве! Тяжело! И тяжело сказать тебе, Русь моя святая, прощай!
Александр Башкин понимал, что умирает. Сознание еще жило, и он слышал, как без задержки падает в бездонную, окровавленную, стонущую яму. И не было силы, какая бы остановила падение. И все же на прощание он увидел родную деревню, матерь Человеческую, какая стояла на крыльце родительского дома в черном траурном одеянии. Девочку-россиянку, что остановилась у его дома, держа на плече коромысло с полным ведрами студеной воды. Даже увидел на прощание любимого опечаленного коня Левитана на лугу, у костра, яблоневый сад в белоснежном цветении.
Но вот со стороны церкви, из Дьяконова, куда он отвез дедушку на житие, во спасение,─ возгорели поминальные свечи, какие все больше росли, становясь пламенем до неба и во всю землю! И пламя то, всесильное и безжалостное, стало все ближе подступать к его сердцу. И вскоре сам он ушел в пламя.
То ли в пламя костра Джордано Бруно, то ли в пламя поминальной свечи!
V
Воинство генерала СС Вильгельма Хубе было разбито. Фашисты покинули село Малые Борки. Но пока они были в селе, убирать героев не позволяли; всю ночь на поле битвы слышались стоны раненого русского воинства. Только к рассвету вышли на эшафот похоронные команды собирать траурную жатву.
Башкин очнулся от тихого голоса:
─ Танкиста бери. Отмучился! Сильно его пламя замуровало. Повезем к братской могиле, в лесок.
Воин услышал, как холодные и пронырливые руки могильщика живо ощупали карманы его гимнастерки. Ценного ничего не нашлось. Были только часы. Могильщик расстегивать ремешок не стал, сорвал с руки силою.
─ Жаден ты, Степан, ─ осудил его пожилой могильщик Аристарх Васильевич.
─ Зачем добру пропадать, начальник? Там счастливые часов тоже не наблюдают! Там время вечное, ─ отозвался Степан, позевывая. ─ И сапожки, зачем ему? Кадрили выплясывать? Бог, он строг. Там под гармонию не попляшешь!
Наступив на живот Башкина, он с ленивым безразличием снял сапоги, потянул воина за ноги и, приподняв, как бревно, закатил на телегу, на горы трупов. Воин от обиды, от оскорбления крикнул голосом Зевса: «Сволочь мародерская, чего делаешь? Обворовал и в могилу? Живую жизнь хоронишь! Совесть имеешь?» Но себя он не услышал. Голоса не было. Крик боли остался в груди. Где еле-еле теплилась слабенькая жизнь. Получился только стон. И вмиг скорбною каруселью побежали, закружились маленькие костры пожарищ.
Пожилой солдат прислушался:
─ Кажется, сержант-танкист оклемался. Стон слышал!
Степан рассмеялся:
─ С похмелья чего не покажется! Я вечор проснулся, воды испить. Зажег лампу, смотрю, по шинельной скатке змеи ползут. Ужас! Я их штыком цепляю. Думаю, шашлык сделаю. Не поддаются, увертливые. Испуг взял! Перекрестился перед Богом. Исчезли. И ты, солдат, перекрестись. Стон и отступит! Жалости в тебе много! Каждого умершего жалеешь! С твоею ли душою в могильные бездны заглядывать?
Аристарх Васильевич боязливо подошел к телеге. Еще прислушался. Больше стона не было. Подумал, и впрямь, почудилось? Успокоив себя, сел на облучок.
Ударил вожжою по лошади:
─ Но, савраска!
И лошадь тихо, степенно повезла героев в лес, где была вырыта братская могила; ямщик нет-нет, да оглянется на «горы златые», прислушается, нет ли стона?
Степан достал фляжку, выпил спирт:
─ Чего ты все смотришь и смотришь?
─ Зашла тревожность, и никак не успокоится!
─ Глотни спирту, и совесть приведешь в усмирение.
─ Не желаю. Раз тревожится совесть, пусть тревожится! Живого человека, брат, тяжело хоронить!
─ Эх, эх, где ты увидел живого человека? Оттуда, мил человек, не возвращаются! Даже самые заговоренные. От пули! От власти Мефистофеля! Ушел, вознес себя в звездные дали, все. Во все времена станешь блуждать и блуждать в тоске и печали, где звезды, где мрачность и загадочная бесконечность!
Соскучился по земле, можно и вернуться! Призраком!
Погулял вволю, на свою могилу взглянул. Интересно все же: несут ли цветы? Помнят ли скитальца? И все. Заиграл луч солнца, опять возносись в свои звездные просторы! И так до бесконечности.
Призраки, мил человек, не стонут! Может, выпьешь, изгонишь из себя дьявола? Это Мефистофель в тебе стоном ворочается, мучает твою святую, жалостливую и безвинную душу!
Аристарх Васильевич снова принял отречение:
─ Не тронь душу! Сказано, не буду!
Въехали в лес, телега запрыгала по ухабам. И только стали подъезжать к краю могилы, ямщик снова услышал стон. Не выдержал, остановил лошадь, подошел к телеге, послушал, снова молчание.
Он стал слегка ударять лопатою по трупам.
Башкин застонал.
─ Грю, стонет! Оклемался танкист, ─ строго и неумолимо произнес похоронщик.
Степан тоже подошел к телеге:
─ Чего дуришь, душа твоя окаянная? ─ озлился Степан. ─ Не слышал, как мертвецы стонут? Они все стонут, если послушать! Это они распрямляются от судороги, от страдания, и кажется, что живые. Мы уже у края могилы! Пора сбрасывать! Посмотри, на поле сражения, сколько еще осталось! Чего время впустую терять?
─ Не стрекочи! Грю, живой, ─ настоял на своем бригадир похоронной команды. ─ Помоги снять!
Умирающего воина Башкина сняли с телеги, бережно усадили, прислонив к колесу. Пожилой солдат бережливо снял ватник, он был прожжен насквозь, снял гимнастерку, тоже опаленную огнем. Достал фляжку со спиртом, налил в ладонь, сложив ее ковшиком, и стал по ласке, по заботе растирать прожженную грудь.
Башкин открыл глаза.
Могильщик Степан пришел в удивление:
─ Ты смотри, и правда живой! Ну, живуч!
Весело спросил:
─ С возвращением на землю, человече! Чего там видел, у Мефистофеля?
─ Тебя, дурня!
Аристарх Васильевич довольно рассмеялся:
─ Осмыслил, Степа, почем Европа? Возвращай сапожки и часики, осмелюсь стыдливо напомнить. Не то лик осквернит. Это тебе не мертвецов грабить.
Он разыскал на телеге полушубок и гимнастерку, густо
залитые кровью, одел Башкина. Тот даже услышал тепло, распрямил плечи.
─ Видишь, ожил человек! Еще бы шаг, и в могилу сбросили! Кто там будет к стону прислушиваться!
Степан поскреб затылок:
─ Да, странно! Впервые такое вижу!
Похоронщик заметил устами Сократа:
─ Ничего странного! От Бога человек! Был бы сам по себе, не спасся! Увидел в танкисте воина-инока Александра Пересвета, кому еще биться и биться с ворогом за Русь святую! И спас, послал ангела-хранителя!
«Воскресшему» воину дали выпить спирту. И повели к автобусу с красным крестом. Он стоял на шоссе, был скрыт елочками. Постучали в дверь.
─ Нина Сергеевна, это Аристарх, возьми еще раненого, ─ тихо попросил он.
В автобусе зажглась лампочка. На ступени вышла врач, миловидная, красивая женщина с уставшим лицом. На плечи накинута шинель с погонами капитана.
─ Сильное ранение? ─ деловито поинтересовалась врач. ─ Если сильное, не довезем!
─ Танкист он. В танке горел! Обожжен и контужен. Везли на погост, в усыпальницу. С того света вернули.
Женщина осмотрела воина, пощупала пульс:
─ Взять, возьму. Но мы сами при беде! Автобус попал под обстрел танкистов генерала СС Хубе! Посмотрите, на борту одни пробоинами, колеса спущены! Жду тягач! Обещали в дереве! Жду и тревожусь: кто придет на выручку первым? Русские? Немцы? Придут немцы, каждого раненого расстреляют! Странно получится! Вы, могильщики, спасли воина, а я, врач, убила воина! Пусть и не сама! Но убила!
Как раз в это время со стороны деревни послышалось грозное тревожное гудение танков. Колонна мчалась на скорости, включив фары, какие рассекали снежную замять, освещали вдаль Житомирское шоссе.
Женщина-врач обратилась в страх и тревожность:
─ Свои? Чужие?
─ Наши, Нина Сергеевна, краснозвездные, ─ уверенно успокоил ее бригадир, рассмотрев за снежною круговертью гвардейские танки Михаила Катукова. ─ Мчат на Житомир, на последнюю сечу! Где секирами погонят врага с Украины!
Желая помочь врачу, раненым в автобусе и своему крестнику, он выбежал на дорогу и стал размахивать красными флажками. Машины мчались на скорости, и, казалось, в мгновение сомнут сигнальщика, растащат тело гусеницами по земле. Но неожиданно головной танк резко затормозил, коснувшись бронею бесстрашного солдата.
На нерве открылся люк. Выглянул майор в ушанке, лицо прокопченное, усталое, глаза горят гневом:
─ Ты чего тощею задницею виляешь, как перед красотками кабаре? Смерти ищешь, ослиная голова? Чего надо? Сходи с дороги!
─ Молодой а заливистый! Постеснялся бы на отца кричать! Сосунок, мать твою неродную, ─ пожилой солдат не постеснялся осадить командира. ─ Надо малость, командир! Взять раненое воинство и завезти в полевой госпиталь.
─ Какие еще к ху-мою раненые? Зачем они мне? Мы идем на Житомир! На выручку! Там на поле сражения бьются в окружении воины Руси, истекают кровью, гибнут жертвенно, безвинно! Вы что, не слышите боль и исповедь русского офицера?
─ Слышим, командир! Но в автобусе тоже воины Руси! И не просто воины Руси, герои Отечества! Они разбили танковую армию генерала СС Хубе! Бессовестно бросать в беде такую воинскую знатность! ─ стоял на своем Аристарх Васильевич.
Военный врач тоже замолвила слово:
─ Помогите, майор! Возьмите! Каждого ждет гибель. Мы в окружении немцев.
─ Сколько надо взять? ─ смягчился офицер.
─ Двадцать четыре человека, ─ быстро отозвалась Нина Сергеевна.
─ Ху-мою, ─ вмиг опечалился майор, поглаживая рыжую бороду. ─ Где же я смогу поместить такую рать, мадмуазель? Это же танки, а не яхты для увеселительных прогулок.
─ Сажай на броню! Не умирать же им в поле, ─ вынес приговор Аристарх Васильевич.
─ Раненые на броне? О чем вы? Они же на крутом вираже, все ссыпятся, как горох. И по лесу не проскочить, фашисты дорогу простреливают! Под пули повезу? Казнись потом всю жизнь.
─ Сынок! О чем спорим? Так, может, проскочите, а в поле, ─ смерть! Не укрыться, не прикрыться! Заметут снега! И немцы могут явиться! Воины раненые! Как отобьются?
Из второго танка выглянул заспанный комиссар:
─ Что там, майор? Почему встали? Вперед, вперед!
─ Да вот красный крест дороги не дает. В любви объясняется! Возьми, говорит, раненую рать, а я по вечеру в твою келью загляну, заласкаю.
─ Ну и возьми. Чего ты уперся? После боя назначь свидание. Ты уступил. И она пусть уступит! ─ посмеялся комиссар.
─ Мадмуазель, все слышали? Рассаживайте по каретам свою раненую рать. Только живо! ─ дал добро командир танковой колонны. ─ Ссажу на повороте, до госпиталя сами доберетесь. Мне крюк в пятнадцать километров делать недосуг.
Александра Башкина с трудом довели до танка, усадили на крыло за башнею; в автобусе он увидел раненого Романа Завьялова, сильно обрадовался, но обнять его, сказать слова любви, не мог, не было сил. Так и получилось, встретились, как две льдинки в проруби, а сблизиться не смогли! Командира танка разместили впереди, под стволом пушки. Удобно расселись и остальные раненые.
Танки на скорости понеслись к линии фронта, к Житомиру. Самое страшное было ─ проскочить сосновый бор, где окопалось разбитое воинство генерала СС Хубе, кого добить пока не было сил. Как раз в бору, у села Тарасовка, и свершилась непоправимая беда, чего больше все и опасался командир танковой колонны. Едва машины вошли в сумрачную таинственность бора, задела стволами пушистые заснеженные ветви, как в мгновение ударили шестиствольные минометы, понесся огонь из пулеметов. Били наугад, на шум моторов, но очень удачно. Летящие пули то и дело находили свои жертвы. Раненые, теперь убитые, ссыпались с танков на дорогу в снег, свою смерть. Прошитый пулями, свалился с брони и русский офицер Роман Завьялов. Рядом разорвалась мина, ее осколками отсекло руки. Но командир еще оставался жив и долго полз по сугробу, подгребая под себя снег обрубленными окровавленными руками. Он все пытался поднять себя, догнать убегающие, грохочущие машины, пока не ослабел, не попал в снежной кутерьме под гусеницы танка.
Воин Башкин видел жуткую гибель командира, слезы до стона сжали сердце, но что он мог изменить? И чем помочь? Он сам, как проклятый, был прикован к колеснице смерти, еле держался за скобу, дабы не слететь в снег печальною, подстреленною птицею. И все же смерть не обошла воина. Когда танки уже выезжали из бора, пулеметная очередь достала и Александра Башкина. Пули прошили грудь, где еле стучало сердце. Он потерял ощущение жизни. Но с танка не скатился. Падая в вечность, воин на последнее мгновение цепко, властно ухватился за скобу и таким образом сумел добраться до походного госпиталя под ласково-тихим городом Тернополем.
И опять же сумел выжить. Выжить чудом! Он один вырвался из гибельного заснеженного пространства. Один удержался на броне танка, остальные раненые воины не смогли, оказались слабее жизни и смерти!
Загадочная, неумолимо загадочная любовь к жизни была вложена в совсем еще юного воина Руси!
И изумительная, неземная, неслыханная сила воли!
Бился с врагом, был ранен, но снова бился и бился с врагом! Горел в танке, как на костре Джордано Бруно, сумел выбраться, выползти из костра, сумел не отдать себя во власть пламени, но пламя достало тело, выжгло всю силу. И воин безвольно, горько и скорбно, остался лежать один и среди неба и земли!
Он уже ─ смерть! Даже глаза открыть больно, дабы на прощание посмотреть на небо, как кружит метель. ¸Сердце ─ пламя свечи; дунул ветер, горит свеча, перестал дуть ветер, перестала гореть свеча. На то время, когда свеча еле колебалась, и положили смиренно раненого воина на катафалк-дровни. Его везут на погост, в братскую могилу. Но дунул ветер жизни, и свеча заколебалась пламенем! Вся земля услышала, как из его ожившего сердца воскрес во всю Вселенную стон его скорби, стон его любви к жизни!
Юношу-воина пристраивают на танке, он снова на пути спасения! Но какое там спасение? Он истекает кровью, на сердце полное безволие. Нет силы, дабы удержать себя за скобу на танке! Кажется, еще мгновение, и он слетит в снег! Но вокруг еще бьют пулеметы, с гневом летят пули из тьмы, ранят еще и еще, несут еще страшную, мучительную боль! Мины взрываются, как грозовые молнии! Он в любое мгновение может обратиться молнию, в огненное свечение, а надо еще выстоять против гневного, ледяного ветра.
Где вы златогривые кони?
Где?
Весь мир, все боги Злобы и Гнева повелительно восстали против раненого, окровавленного воина, вышибают и вышибают из жизни, он уже один остается на броне танка, ─ но все держится, держится, не сдается! Пересиливает все печали и скорби мира, самую смерть!
Смерть ужаснулась его верноподданности к жизни!
И отступила!
Неумолимая сила воли!
Неумолимая, загадочная любовь к жизни!
Врачи госпиталя с трудом сумели разжать его мертвую хватку, отсоединить от скобы; ослабевшие, синюшные, с сорванною кожею ладони вмиг напитались кровью; Башкина положили скрюченного, как в параличе, на брезентовые носилки, поднесли к палатке приемного покоя. Дежурный доктор, капитан медицинской службы, неказистый, худенький, с великодушными глазами, осматривал раненую рать. И устало ронял сестре милосердия: офицера на перевязку, пехотинца тоже, летчика срочно в операционную палату к хирургам.
Осмотрев Александра Башкина, он призадумался. Воин был уже по ту сторону жизни. Тело оледенело, было бесчувственным; он попросил сестру милосердия сделать ему укол; воин даже не шевельнулся. Лицо мертвецки бледное, глаза раскрыты, без смысла взирают в пространство, они уже ничьи, нечеловечьи, света не чувствуют. Огонь, живший в глубине глаз, дотлевал. Доктор пощупал пульс, он не прослушивался; расстегнул гимнастерку, какая тут же рассыпалась, как прах. Все тело было обожжено, залито кровью. Пули не остались в теле, прошли насквозь; раны на спине были рваные.
Доктор посмотрел на сестру:
─ Танкист?
─ Скорее, да. Обгорел в танке. Такие ожоги могут быть только в гробнице.
─ Безымянный?
─ Талисман-пулька на шее, с именем и адресом, утрачен. Скорее, в бою. На нательном белье вышиты только инициалы.
─ Сообщите комиссару госпиталя, пусть разыщет воинское соединение, узнает имя, фамилию. И вышлет матери похоронку.
Сестра кивнула, сделала отметку в карте:
─ Значит, перевязывать не надо?
─ С каким смыслом? Он уже нежилец! Жалко, совсем еще мальчик!
Доктор подал команду санитарам:
─ В морг, ─ и стал осматривать очередного раненого.
Но Башкин, обреченный на гибель, выжил и на этот раз. Его положили в открытую палату, какая продувалась всеми ветрами, рядом с теми, кто лежал кротко, тишайше, и кто всерьез отстрадал на земле. Юноша танкист был жив. мороз оледенил его раны, и тем не дал истечь кровью. Ночью выпал снег, утеплил тело. Вернул ему чувственность, биение сердца. Утром санитары безразлично положили воина-героя на носилки и понесли на погост, к земному Мавзолею, и совсем неожиданно Башкин открыл глаза; из скорбной тьмы со слезами вырвался бесконечно тревожный крик о любви к жизни.
Глава восемнадцатая
В ЧЬЕМ ТЫ СЕРДЦЕ ТЕПЕРЬ, МОЕ МИЛОЕ ДЕТСТВО?
I
Александр Башкин находился на излечении на Украине, какую освобождал от фашистов и густо полил кровью. Раны заживали, и он снова стал проситься на фронт.
Начальник госпиталя Иван Кузьмич Захарченко не раз пытался объяснить воину:
─ Грешное дитя, у вас перебиты пулями ноги, ладони не разгибаются, скрючены. И сами вы еще безмерно слабы! Вы, как тростинка, качаетесь на ветру, не можете поднять на плечо пулемет! О каком фронте вы изволите говорить? Вы откровенно замучили своими вероломными желаниями Нину Алексеевну, лечащего врача!
Но воин был неумолим:
─ Красная Армия на марше к Берлину! Мне тяжело просто лежать в госпитале! Я слышу в себе боль и слезы! Я хочу быть там, где бьются за свободу России! Что же я делаю не так?
Начальник госпиталя подумал:
─ Хорошо, я вам выпишу направление в Тулу, где вы долечитесь, и где, полагаю, златогривые кони скорее вознесут вас в огненную метель. Вы призывались в Туле, и только она вольна решать вашу фронтовую одиссею. Поедете в плацкартном вагоне. Как воин от храбрости!
Впервые за время войны Башкин ехал в родные края в пассажирском поезде. Путь лежал через Харьков, Белгород, Курск, Орел. Он с болью смотрел из окна на разрушенные города и села, на сиротливо-обезлюдевшие поля и луга. Только в одном месте тощая лошаденка, которую погонял мальчик ивовым прутом, с трудом тянула деревянную соху, вспахивала обожженную землю, дабы одарить человека хлебом. В Туле воина разместили в госпитале в Криволучье. О фронте просили пока начальство не тревожить! Придет время, и военные трубы, позовут на гордую битву с врагом каждого воина Руси!
Снова оставалось ждать и ждать.
Снова жизнь ушла в печаль, в окаянство! Так уж было устроено сердце Александра Башкина; он был соткан из чести и совести, и не мог слышать радость, слышать в себе солнце, если на поле сечи его руссы неумолимо и повелительно бьются за великую Русь! Гибнут, заливаются кровью, несут боль и страдание, а он, воин от долга, разгуливает по аллее среди берез. И живет, не зная печали! Он зримо слышал в себе земную бессмысленность жизни, земную неполноценность! И не знал, как исцелить свою тревожность; было тяжело, очень тяжело жить в ожидании, в неизвестности! И кто знает, сколько еще оскорбленная гордость воина будет жить в бунте?
Александр все же рискнул написать прошение на имя начальника госпиталя, но отзвука не свершилось.
Оставалось, ждать и ждать!
Вместе с тем, жизнь была одна благодать; и это спасало! Шел апрель. Жарко светило солнце. В разгул бежали ручьи. Под окном школы-госпиталя стояли яблони. В снежном одеянии они были чарующе милы и смотрелись близнецами-снегурочками. Но вскоре ветер разметал снега, обнажил ветви, и те прямо на виду, гордо и дивно, налились соком жизни, стали осенять себя зеленым свечением листвы, белым цветением.
Вся земля пробуждалась, начинала зеленеть трава, все чаще стали появляться синие цветы, это медуница, живое диво каждого апреля! Еще их называют ─ подснежники, или, снежная нежность, те самые, какие дарят по целомудрию любимым девушкам. Тут же вдумчиво жужжат пчелы, радуясь сладкому застолью.
В певучую радость смотреть, как в небе разливаются малиновые зори, одаряя мир бесконечным пением птиц. По величию заявили о себе скворушки, заливисто щебечут, славят русскую землю, русское солнце, ибо прилетели с юга, где жить хорошо, а дома лучше; поют иволги, свистят рябчики, а далеко за лугом, за болотом, слышно, как плачет коростель. Ночью являются соловушки, разливают трели во все лунное пространство, птицы необычно жизнелюбивые, неустанно поющие, от века не знающие, что такое боль и скорбь. Во всем, во всем слышишь воскресение земли, чудодвижение ее красоты! Как не наполнить сердце хмелем жизни, где отступают горькие, растревоженные раздумья о фронте, о сиротливости, как воина Руси!
Александр Башкин ощутил слезы.
Вспомнилась своя деревня, яблоневый сад у дома, и близко воскресила себя строгая и дивная матерь Человеческая, любимая Капитолина, какая шествует, сладостно покачиваясь, от колодца с ведрами воды мимо его дома, и до кричащей боли, до тоски и смерти, захотелось в родные терема. Земные пути неисповедимы! Вполне могут из госпиталя отписать на фронт, где примешь благословенную смерть за Отечество, где все земное пространство иссечено пулями, снарядами, прожженно кострами Джордано Бруно! И больше в веки вечные, как бы ни желал, ни рвался на отчую землю, дабы осмотреть прощальным взглядом сына, так и не увидишь ее красоту дивную, несказанную, ее стыдливо-молитвенную простоту, какая престольном живет в каждом крестьянском тереме, в каждом пахаре, ее нежную таинственность в ночное безмолвие, в лунном свечении! Больше не услышишь тоску осени, медовые запахи земли и клевера, свадебные серенады перепелов во ржи, как текут родниковые воды по Руси, как радуется пахарь на Спас, пересыпая зерно урожая из ладони в ладонь, и слышит в себе, Гордость Творца Земного.
Все исчезнет, ибо все на земле проходит!
Если увидишь деревню, Святую Богиню Земную, какая стоит в нимбе лесов и озер, то из глубины неба! И то, если проплывешь облаком мимо терема, пролетишь тоскующим журавлем над полями ржи, постучишь в грозу, в родное окно, каплями дождя, каплями слезы. Несомненно, можно перетерпеть свое стоически-повелительное желание посетить отчие края!
Но как забыть ту гармонь, те гусли, то веселье, те хороводы девушек от зари до зари?
Забыть студеные ключи России?
Забыть, как пасутся кони в ночном таинстве? Сами костры с печеною картошкою?
Все на Руси тревожило, и било, било, било в церковные колокола-зовы!
И Александр Башкин, не спрашивая разрешения у начальства, измучив себя страданием о родном крае, о матери, зная, что может попасть под расстрел, в таинстве выпросил у кладовщицы бабы Кати нищенское пальтишко, кому помогал писать письма сыну на фронт, и под ночь махнул через ограду госпиталя. И живо направился на железнодорожную станцию. Пассажирские поезда ходили редко, да и денег не было на билет. Откуда они у солдата, кого вынесли едва живым с поля боя? И куда они в могиле? Немножко занял у летчика, раненого в голову, ─ на подарок матери, на конфеты сестрам Нине и Аннушке. И попросил при случае прикрыть с тыла.
На станции подошел к машинисту товарного поезда:
─ Командир, возьми до Мордвеса, ─ со стыдливым отчаянием попросил беглец, узнав, что поезд везет лес до Каширы. ─ Служивый я. Завтра на фронт. С матерью надо повидаться. Вдруг в последний раз?
Машинист, пожилой мужчина, с большими седыми усами, неспешно обтер угольно-черные ладони ветошью, подозрительно посмотрел на просителя; вид его не вызывал доверия:
─ Я там не останавливаюсь.
─ И не надо. Ты возьми. Я на ходу спрыгну.
─ Как спрыгнешь? И куда? Под колеса? В свою обитель вечности?
─ Надо, командир! Осмысли! ─ Не отступал Александр. ─ Не смотри на тряпье! Не бродяга я! Из госпиталя! В таинстве ушел. На сутки, на воскресенье! Отсюда и маскарад, нищенское пальто. Мать-то у тебя есть?
Подумав, машинист сменил гнев на милость:
─ Садись на платформу с углем, там укроешься от ветра. Ночи еще прохладные. У Мордвеса приторможу. Только без суеты спрыгивай. Не лезь под колеса. Верующий я, с крестом. Держи потом ответ перед Богом.
Из Мордвеса до деревни Пряхина Александр Башкин бежал бегом. Бежал по обледенелой тропке, спотыкаясь, падал, больно разбивал колени, и очень-очень страшился упасть на грудь, тогда бы раны вскрылись, и он бы залился кровью. И мог бы не встать! Но бежал и бежал, и никак не мог пересилить в себе Зов Отчего Края!
Уже рассвело. Туман ушел в луга. Деревня открылась, воскресила себя в красоте. Над его избою из трубы, ласково и кротко, вился белесый дымок. Матерь растапливала печь. У крыльца беглец остановился, перевел дыхание, мысленно перекрестил себя ─ и соколом вошел в избу.
─ Мир и согласие дому родительскому! ─ произнес с неудержимым ликованием.
Мария Михайловна стояла у печи, строгала лучины. Он крепко обнял ее, поцеловал. Матерь тоже обняла сына, поцеловала, и живо отстранилась, как от чужого. И долго, сумрачно рассматривала. Сине-отцветающие глаза матери, какие обычно тревожили ласковость, смотрели с укором, несли холодность! Тонкие губы танцующе подергивались.
Глухо уронила:
─ Не разберу, кто вернулся? То ли сын? То ли выпь ночная болотная?
─ Сын, мама! ─ радость Александра поубавилась. Его обдало мукою и печалью; матерь смотрелась, как застывшая скорбная горечь. ─ Ты нездорова? ─ спросил ласково.
─ Нездорова, сын! Тобою изболелась, измучилась. Вот и не можется! Ты весь миропорядок в душе порушил! Откуда пришел? Из каких краев? В тот раз взошел, как черное солнце! Смотреть тяжело! И снова явился ─ нищим странником! Вижу, сын, а не примает сердце! Оброс, худ, до себя неузнаваем. Пальто обтрепано, как собаки гнались, одни клочья обвисают!
─ Чужое пальто, ─ повинно произнес сын.
─ Вижу, что чужое, почему и волнение, откуда пришел?
─ Из госпиталя, мама!
─ Как признать, что из госпиталя?
Сын пришел в удивление:
─ Ужель не веришь?
─ Как верить, сын? Ты несешь, матери одно пиршество боли! В тот раз явился набегом, в таинстве, и снова явился набегом, в таинстве! Такое ощущение, бегаешь от кого! Вот и разбери, где, в каком краю, ты посохом пути себе выстукиваешь! Как разгадать твою загадку; аль я пророчица Кассандра? Вот и живу усомнением; не из леса ли ты явился, на погляд деревне? Не от разбойника ли Кудеяра?
Александр взбунтовался:
─ От разбойника Кудеяра, мама, из леса!
Мария Михайловна вдумчиво посмотрела:
─ С того и надо было начинать поклон Христу! То и чекисты ведают!
─ Какие еще чекисты?
─ Те самые, с красными петлицами; какие на Соловки народ сгоняют!
Александр испытал растерянность:
─ Чудеса! Я и чекисты! Что за песнопение? Богом клянусь, из госпиталя я, ─ он перекрестился на икону в углу. ─ Был ранен. Везли на катафалке в братскую могилу! Тебе комиссаром похоронка была выписана! Но выжил, как видишь! И, скорее, твоими молитвами! Теперь лежу в госпитале в Туле! Уже выписываюсь, могут в любое мгновение отправить на фронт!
Битва, мама, это гибель и гибель! Вот и решил увидеться с тобою, с родным краем! Увидеться, попрощаться!
Почему в нищенском пальто? Нельзя покидать госпиталь без разрешения военкома! Могут отдать на суд трибунала, расстрелять! Но я рискнул, пришлось одеться странником; и все во имя того, дабы увидеть с тобою! С родным краем! С могилою отца! Увидеть и попрощаться!
Матерь строго поинтересовалась:
─ Как рискнул? Под расстрел?
─ Под расстрел, мама! Но, надеюсь, все обойдется! Я только на воскресенье себе позволил отступить от закона!
Матерь Человеческая услышала в себе смирение, но посмотрела холодно:
─ Вижу, горазд на выдумки! Разберемся в обед, кто есть? Пока скинь нищенство! Прими баню. Одень отцовское. Явился сын незваным и нежданным гостем, а потчевать надо!
Она посмотрела на сына без ласки, не скрыла скорби. Взяла ухват, подцепила чугунок, с очищенною картошкою, поставила на уголья, взметнув красно-синие язычки пламени, и стала старательно обкладывать его поленьями. Оставшись наедине с собою, Александр ощутил в сердце щемящую боль. Родительский дом перестал быть солнечным свечением, стал святилищем печали и сиротливости! Услышав ссоры-переборы, с печи выглянул Алеша, похожий на Леля, несказанно обрадовался брату, ласково ударил кулаком в плечо:
─ Возмужал! Воин, Илья Муромец!
Брат не согласился:
─ На поле битвы, может, и Муромец, но теперь качаюсь, как былинка на ветру. И подожди бить в бубен, раны вскроются! Объясни, что с матерью? Совсем не своя.
Брат откровения не явил:
─ Переживется! Мало ли какая печаль зашла? Жизнь для матери ─ страшная казнь! За тебя страдает, за Ивана, за Нину и Анну, пора в замужество, а мужья, повенчанные от Бога, бьются за Русь на поле сечи! Я тоже за Иваном на фронт ухожу! Мы все в ее сердце. Как не обезуметь тревогами?
Александр вышел на крыльцо, послушал, как голосисто пропел петух. Стало милее на душе, роднее! Но горечь осталась, горечь мучила! Мучила неизвестность! Матерь не досказывает, брат уклоняется от правды, по всему видать ожидает его ─ злое откровение от Кассандры!
Подумалось, не навестить ли отца? Не погрустить ли на могиле? Вдруг и станет легче? Мария Михайловна разрешила навестить родителя, но просила не опаздывать к обеду.
II
Брат сноровисто запряг Левитана. Нанес в розвальни охапки мерзлого сена, разверстал по добру и постелил пушистый тулуп деда Михаила Захаровича! Александр узнал его, он был оттуда, из детства! В его плоти еще жили-ютились сказания о великом князе Руси Бусе Белояре, кто бился с готами за славянские земли и кого в народе назвали русским Христом; его тоже распяли на кресте и сожгли; остались запахи крепкого табака, конфет, запахи испеченного каравая. Александр невольно прижался щекою к тулупу.
Брат тронул лошадь, лукаво вымолвил:
─ Чего ласкаешься, не женский тулуп, деда! Вижу, одичал! Ты Евдокию помнишь? Первая певунья и плясунья была в Пряхине! Избранница самого Леонида Рогулина, гармониста! Убило его под Муромом! Эх, эх, и зачем на войне убивают гармонистов? Столько радости дарил он людям! С обеда девицы ждали его гармонь! В хороводе кружилась деревня, а теперь ─ один траур!
Он ударил кнутом лошадь:
─ Я к чему? Евдокия вдовою живет! Могу свозить, как свечереет! Повеличаешь ее присутствием! Не откажет!
─ Не елозь языком, где не надо. Погоняй! ─ строго оборвал его Александр.
До кладбища в Стомне четыре версты. Сам большак еще покрыт снегом. Конь Левитан бежит, легко и вольно, по накатанной колее, разбрасывая во все стороны золотые слитки снега, сани, приятно раскачиваются, несутся в разбег, как с ледяной горки на масленицу. В небе ни облачка. Только солнце и дивное сияние неба. Мимо пробегают родные поля и луга,
заиленные речушки, пашни. Где пашни, еще густится снег, но встречаются и черные омуты проталин, где бесчисленно разгуливают грачи, отлавливают полевок. На пиру согласие, ни обид, ни задиристого драчливого гама. Насытившись, грачи изыскивают в снежнице по соломинке, несут бережно в клюве до леса, ─ вьют гнезда. Вьюжки-метели истаяли, пришла пора любви, свадеб.
В березовой роще поют иволги, сзывают красавиц на брачные серенады, на заманчивые поцелуи, на любовь.
Милая родина, сколько в тебе красоты!
Сколько жизни!
Сколько любви!
Видишь тебя, и до слез, до боли, начинает тревожить печаль, что ты не вечен! Александр по печали смахнул слезу.
На кладбище сиротливо и тревожно. Повсюду, в кротком, загадочном безмолвии, высятся могильные холмики, увенчанные крестами, обелисками со звездою. Кресты, где накренились, где держались с достоинством. Деревья стояли молча, как в трауре. Дул уныло-загробный ветер, казалось, с неба, от звезд, и еще больше нагонял неземную тоску и грусть. Венки, перевитые траурными лентами, с ветром возносились над землею, как черные молнии.
С рябины слетела стая синиц. И стало еще сиротливее, тревожнее.
Александр шел по аллее, еле слышно, стараясь не потревожить поступью, сокровенное целомудрие могил, святую уединенность предков. И жило от правды такое чувство! За какую ограду не загляни, не опечаль себя у могилы, ─ лежали его деды и прадеды, те самые, что срубили первую избу у реки Мордвес, провели сохою первую борозду в забубенно полынном поле, дали жизнь пашне, хлебному колосу, деревне Пряхине. И ему, Александру! Как не смотреть на могилы без молитвенного благословения?
Могила отца находилась на самом краю кладбища. Дальше шел скат в мрачный, глубокий овраг, он зарос крапивою,
колючими кустами шиповника. Могилу отца окружали ракиты, какие несли тень, оберегали от солнца, зимою по милосердию смиряли разгульные метели.
Остановившись, Александр снял шапку, поклонился:
─ Здравствуй, отец! Вот и свиделись!
Он присел на пенек, смахнув веткою листву осени. Посидел в трауре, послушал неземные кладбищенские звуки, достал самогон, разлил в стаканы. Вместе с Алексеем помянули родителя Ивана Васильевича. Неоспоримо, жизнь дает матерь Человеческая. Она дарительница мира! И все же, не будь отца, был бы он на пиру жизни? Знал бы про Земное Величие?
Он заметил еще одну любопытную странность:
Отец умер в декабре на Николины праздники.
И Сын родился в декабре на Николины праздники.
Произошла своеобразная сменяемость жизни!
Кто так рассудил?
Какие боги? Боги Руси? Боги бессмертия?
Получается, боги Руси и боги бессмертия! Ибо жизнь Отца, душа Отца в полном смысле слова перетекла в Сына!
Получилось две Жизни!
Но в одной! В сыне, в Александре!
Придет время, он тоже ляжет в саркофаг покоя, станет былым временем! От века, кто обретает жизнь, тот обретает смерть! Он тоже должен остаться жить в сыне, внуке, кто, несомненно, придет на его могилу, из Руси, дабы разделить его вечную уединенность, еще раз осмыслить ценность жизни!
И так будет бесконечно; родство душ со смертью не распадается!
Башкины были, Башкины будут жить!
БЫЛА ЛИ ДУШЕВНАЯ РОДСТВЕННОСТЬ С ОТЦОМ? Скорбь-раздумье на могиле о времени и о себе
Александр помнит себя с шести лет. Откуда началась любовь к отцу? Он до края любил лошадей! Его необычно волновали неземные, колдовские создания! Едва завидев, он терял себя! Весь мир исчезал: котенок, что играл под вишнею с летящими на ветру соломинками, трубно гудящий шмель над желто-золотистым зверобоем, вдумчиво прикидывая, из какого цветка-кубка приятнее испить-отведать сладостное зелье. Не радовали порхающие бабочки и даже красивые, белогрудые ласточки, влюблено летающие над синим раздольем реки. Он очарованно смотрел, как отец степенно вел Левитана и Бубенчика на вечерний выгон в табун, как, задрав хвосты, они начинали носиться, резвиться по лугу со своими избранницами, как ласкались друг о друга. Но удивительнее всего было видеть, как кони шли на водопой к реке, сытые, довольные. Александр быстро скатывался по косогору, раздирая колени в кровь, не чувствуя жжения крапивы, останавливался в отдалении и с восхищением наблюдал, как они с достоинством пили воду, важно, лениво размахивая хвостами. Это уже была земная сказка! В такие минуты так тянуло прислониться, приласкаться к живому необычному волшебству.
И вскоре он стал в таинстве приходить в стойло. Подставив скамью, обнимал за шею лошадь и влюблено шептал о бабочке, которую изловил и отпустил, что больше не мучает котенка за хвост, что разыскал в траве умирающего, с раскинутым клювом скворушка, выпавшего из гнезда, и сам перевязал ему сломанное крыло, выхаживает. Он уже не дичится, берет размоченные крошки с ладони. Как вырастет, окрепнет, выпустит на волю. Шептал обо всем, что держала детская память! Испуганная и разгневанная мать, разыскав сына, с трудом, с плачем оттаскивала от лошади, не жалея, драла за ухо, грозила исполосовать жгучею крапивою. Пыталась объяснить, что лошадь может нечаянно ударить копытом. И все, истечешь кровью! Много ли тебе надо? Выстроим гробик, отнесем на кладбище. Умрешь маленьким, как твои братики Коля и Миша, сестренки две Верочки. Мать осиротишь. Отца опечалишь. Осмысливаешь беду?
Сын горе матери не осмысливал. Держась за ее сарафан, он капризно, угрюмо смотрел в сторону и, напрягая ум, пытался понять: почему мама так несправедлива? Почему разлучает с волшебством?
Не дождавшись покаяния, Мария Михайловна давала сыну подзатыльник, а затем, жалея, прижимала к себе, но грозы не смиряла:
─ Еще увижу, убью! ─ и внушительно потрясала вожжою.
Но, ни внушением, ни угрозою уже нельзя было высечь блаженную любовь! Вспомнилось, как он впервые слился в беге с лошадью, наградил красотою душу, вознес себя до гордости! И чуть был не затоптан лошадью! Это свершилось в то время, когда пряхинские мужики, повеселив себя самогоном, подсадили мальчика шести лет на Левитана, сильно ударили кнутом, по-разбойничьи лихо присвистнули, и конь, как молния сорвалась с тучи, неудержимо понесся по деревне, на лету перепрыгивая через изгороди, через бревна у подворья, долго резвился на лугу. Александр держался за гриву до последнего. И выпал из седла у крыльца дома, когда конь вздыбился, трубно заржал, радуясь, что доставил удовольствие ездоку.
Мария Михайловна кормила овец, крошила тесаком кормовую свеклу в корытце. К сыну вбежала сама не своя, бледная, расхристанная, с криками страха за его жизнь. Взяв в охапку, бережно отнесла в горницу, ощупала, целы ли кости? Они были целы. Испуг прошел; растревожилась злость.
Матерь ударила его по щеке:
─ Убивец! Сколько еще будешь казнить меня?
Женщина нарвала крапивы и стала без жалости со слезами хлестать его, приговаривая: «Убью, убью, басурман, ослушник! Я тебе покажу, как над матерью издеваться!»
Александр держался стоически, не плакал. Болела ушибленная грудь, ныло правое плечо, крапивным пламенем горело тело, но он все пересиливал, гордо смотрел в окно.
Он не слышал вины, он слышал себя героем! Теперь все мальчишки станут восхищаться им!
Когда пришел отец, Мария Михайловна в бессилии тут же пожаловалась:
─ Совсем извел сын. Льнет и льнет к лошадям. Мужики уже смеются, юродивый! И прокатили его. Еще немножко и насмерть бы расшиб себя! Бери ремень, учи. Я больше не могу.
Александр косо посмотрел на отца. Он неторопливо расстегнул пиджак, вынул из брюк ремень, грозно сложил вдвое:
─ Ну, господин-человек, объясни, почему мать не слушаешь?
─ Она меня не любит. И бьет крапивою.
─ Правильно делает. Кто будет любить ослушника? Лошадь и ту кнутом полосуют, если повела себя с норовом! Ты еще кроха земная, шесть лет, не знаешь, как жить, чего опасаться? Кто поможет? Только мать. Она в ответе за тебя. Перед собою и Богом! Как матери не печалиться, если ты ее не слушаешь? Обижаешь?
─ Я слушаю, ─ в горле Александра заиграли слезы. ─ И люблю ее. Даже воду носил из колодца в маленьком ведерке, когда мама стирала! И лошадь, ее красоту люблю. Разве я виноват?
─ Не виноват, конечно! Люби! ─ согласился Иван Васильевич. ─ Но на расстоянии! Договорились?
Сын угрюмо помолчал:
─ Ты боишься, я умру, если стану близко любить лошадей?
Знаешь, как было хорошо мчаться на Левитане! Ветер в лицо, вокруг луга, рощи, синяя речка, а ты летишь над землею, словно на коньке-горбунке! Красиво было! И гордо! Теперь все мальчишки станут завидовать!
─ Ну, норов! ─ озлился Иван Васильевич. ─ Юн, а уже вьюн! Совсем не чувствует вины! Что ж, люби! Но смотри, что случится, жалеть не стану! Жалеть надо живого, а не того, кто ушел в звезды и вечность! О печальнике, чего плакать? Печальники живут в своем временном измерении, в своем царстве, без чувств и разумения. Они наше страдание с земли не слышат, на нашу боль не отзываются. Они плывут и плывут на ладье бессмертия, среди облаков и звезд. Куда? Знают ли? И кто знает? Плывут по ветру, по течению! И с полным равнодушием к земле, жизни! Они все оставили людям! И вот мы мучаемся, крутим землю, вершим праздник жизни! Порою крутим, как волы, и падаем в изнеможении в свою гробницу с разбитым сердцем! Живого и надо жалеть! Его и надо радовать-величать жалостью! Мы же плачем за человека, когда он в гробнице! Когда не слышит, когда ему не надо! Понял?
Александр отозвался:
─ Да, папа!
─ Что понял?
─ Жалеть надо живого!
─ Вот именно! ─ и тихо попросил сына: ─ Перед матерью извинись. Хорошо?
─ Хорошо, папа.
С той поры и завязалась знатная любовь к отцу. Теперь он, наигравшись, смиренно и терпеливо ожидал его каждый вечер с работы, присев на скамью у палисадника под развесистою вишнею. Увидев отца, опрометью бежал навстречу. Родитель приходил оживленным, ласково-добрым, словно нес в себе солнце, с которым не расставался. И нес еще запахи пашни, необычно свежие ветры луга. Взяв сына на руки, Иван Васильевич легко, в сладость, подбрасывал его, ловил, прижимал к себе и нес до крыльца, как самую-самую земную драгоценность. Мальчик тоже по ласке прижимался к отцу, обняв его за шею, наслаждаясь его силою, щекотливою бородою.
Родитель не только подарил ему мир, он еще открыл ему Прекрасность Жития Земного.
Они спали в горнице, и Александр, лежа в кроватке у окна, рассматривая звезды, облака, с интересом спрашивал:
─ Папа, а что такое Отечество?
─ Это ты, я. Твоя мама. Деревня Пряхина. Тула. Москва. Все мы, великороссы.
─ Мы сильные?
─ Сильные, но непутевые.
─ Почему? ─допытывался сын.
─ Варвары мы, умом бесшабашные, душою расхристанные. Стихия-ветер! Народы державы выстраивали, богатства копили для сынов и внуков, а мы, как неприкаянные, как земные странники-печальники кочевали в кибитке у Черного моря, в то время Русского моря, от костра к костру, от городища к городищу. Тысячи лет себя вольницею тешили; жили на лошади и спали в седле. И свершилось, опомнись руссы! Великую державу выстроили, во все земное пространство, от океана до океана! Только жить и радоваться! И жили, и радовались; по 16 детей семья имела! Да теперь заленились мужики! Пахать и то разучились. Всего и надо, бутыль самогона, песню и разудалую пляску. Чего ожидать внукам? Только нищенства, а живем на золоте!
Отец как председатель колхоза больше, и, скорее, по печали, рассуждал для себя. Но Александр отбирал, отсеивал свое.
─ Теперь я понимаю, почему люблю лошадей! Я тоже варвар!
─ Спи, варвар, ─ с улыбкою отозвался Иван Васильевич. ─ Варвары, варвары, а какую красавицу Москву выстроили!
─ Покажешь ее?
─ Непременно. С Кремлем, с колоколами!
─ Когда вырасту? ─ загорелся надеждою мальчик.
─ Раньше покажу. Утром, по солнышку.
─ Утром я сплю.
─ Напрасно. Надо раньше вставать. Солнце для кого всходит? Для тебя. Иволги для кого на березе поют? Для тебя. Медуница для кого распрямляется, переваливаясь цветами-радугами, разнося сладость меда? Для тебя. Речка для кого несет родниковые воды с солнечными зайчиками? Для тебя, Сашка! Но ты спишь. Получается непочтение к природе.
Мальчик повелел себе:
─ Хорошо, утром встану.
Александр шутку оценил, когда отец, сжав его уши ладонями, поднял высоко в небо, весело спросил:
─ Видишь матушку Москву белокаменную, златоглавую, хлебосольную, богатырскую?
─ Вижу, папа! Эх, и краси-и-вая!
─ Быть тебе атаманом!
Отец тоже расположился к сыну, он был ему мил и приятен, становился ближе, роднее, чем Иван и Алеша. И наступило чувство неизведанное, незнакомое, когда разлука с сыном начинала наполнять печалью, несказанной тоскою. Не отсюда ли он стал брать его с собою на пашню, на сенокос, показывал красоту растущего хлебного колоса! Он был пахарь, и именно он научил Александра любить Русь крестьянскую, православную, любить синее небо с облаками-лебедями, грозы с молниями; землю, украшенную пашнею и рожью, с гуляющим ветром!
Березы и ивы, шелест листвы, зеленую лозу и осоку у реки, ее журчание, пение птиц, летящую паутинку, стрекот кузнечика в клеверном стоге сена.
В свободное время, гуляя с сыном у реки по тропинкам луга, отец присаживался на землю, срывал ромашку, спрашивал:
─ Что видишь?
─ Цветок.
─ Еще что?
─ Божью коровку.
─ Еще что? Чувствуешь боль сорванной травинки?
Александр погрузился в глубокую думу:
─ Не знаю, папа.
─ Надо чувствовать ее боль. Боль сорванной ягоды, березы.
─ Разве цветку бывает больно?
─ Наша жизнь таинство. И жизнь былинки таинство. Может, слышит боль, может, не слышит. Видишь, сок на срыве? Стало быть, плачет. И березка плачет, когда ее топором рубят. Что тебе важно по жизни? Чувствовать ее боль! Разбудишь в себе сострадание, будешь много и много богаче! Весь мир будет твой, мир чудес и радости!
Александр услышал отца. И обрел ценное, он научился любить природу, свою родину! Летом мальчик все дни пропадал на речке, ловил рыбу и раков, с усилием приподнимая замшелые камни, и, случалось, присядет на берегу, задумчиво посмотрит, как плавают в тихом затоне в красоте белые кувшинки, устраивают игрища лучи солнца на песчаном дне, как обнявшись, влюблено, летают стрекозы. Задержит в себе мгновение жизни, красоту ее, ощутит ее прекрасность, ее первозданность, ее родственную связь с миром, с родиною ─ и снова возвращается на землю, в ее суету и будничность, бежит на речку ловить плотву и раков.
Много было прекрасного в детстве. Но больше всего задержались в памяти поездка в ночное и праздничная ярмарка.
ПОЕЗДКА В НОЧНОЕ
где мальчик начинает слышать свое земное величие, понимать, насколько мила и красива его Русь
.
Александр резвился с ребятами на лугу, когда его позвали к отцу. Иван Васильевич подозвал сына к себе, посадил на колени:
─ Как живешь, герой?
─ Героем и живу! Сражались с ребятами на мечах, все бои выиграл!
─ Точно, быть атаманом! Значит так, Шура, тебе семь лет, пора к семье приобщаться. Подошла очередь пасти лошадей в ночном! Я занят, мать тоже. Пойдешь с Иваном. Согласен?
У мальчика перехватило дыхание. Согласен ли он? О чем спрашивать? Он готов был за такую весть пуститься в пляс, расцеловать отца. Но быстро смирил радость. Отозвался с достоинством:
─ Постараюсь справиться.
─ Стало быть, договорились. Послужишь хорошо Отечеству, возьму на день Успенья на ярмарку!
Они и сейчас горят, сладкие жаркие костры в сердце, те самые, которые горели на берегу реки Мордвес. После избы-темницы луг кажется необычно привольным, пугает и тревожит таинственно-колдовскою красотою. Вся пространственность залита синим, неземным светом. Кони спутаны легко, вольно, теребя и жуя траву, переступают ногами неторопливо, и даже, видится, стыдливо, целомудренно, словно бесконечно дорожат расстеленной на пиру скатертью-самобранкою. Во всем, во всем жило очарование, даже в бесконечности, которое пряталось за березовою рощею, но было видно, как возносилось к облакам и звездам. Ребята уже расселись у костра, пекли картошку, рассказывали притчи, смеялись. Александр тоже скромно присел рядом. Иван, одетый в красную ситцевую рубаху, в картузе, слегка отстранившись от огня, трескуче играющего искрами, морщась от дыма, выкатывает обожженною веткою из золы черную, обугленную картофелину, подает ее брату:
─ Попробуешь?
Мальчик с охотою берет ее в ладонь, начинает перекатывать из руки в руку, дабы не обжечь пальцы. Терпимо остуженную, надламывает, скупо посыпает солью, она еще горячая, дымится, начинает есть. У-ух, и чудо-перечудо, эта картошка, пахнущая костром и дымом и студеным ветром с реки.
И как все мило! Так бы и жить, жить! Посидев в приятности у костра, маленький хозяин табуна принес хворост, ссыпал его в костер, но отвернуться не успел. Горячие искры разудало взметнулись и стрелами понеслись в лицо, глаза. От боли выбивались слезы.
─ Сейчас заплачет, ─ подтрунил Сережа Елизаров.
─ Не заплачет. Он у нас герой, ─ защитил брата Иван.
И, получалось, плакать мальчику было уже нельзя. Пришлось боль перетерпеть. И слезы перетерпеть. Ближе к полуночи, Александр по-хозяйски обошел табун и прилег на траву, стал смотреть на звезды и облака, на ромашки у изголовья. Приподнявшись на локте, посмотрел на луг и взволновался увиденным так, словно по телу прошел громовой раскат: в голубом сиянии неба и звезд пасущиеся кони виделись тоже голубыми, колдовскими, неземными! Сколько же было заманчивого чародейства в таком превращении! Звезды в небе, костер у реки, задумчиво-загадочный шелест-перешелест прибрежных берез и осоки, хмельной ветер с запахами ржаного хлеба, голубые кони, что еще есть чудеснее в мире?
Милая, милая родина! Какое величие ─ жить!
Если он умрет, то куда все денется? В чье сердце перельется? И неужели он может умереть? Пришел один раз на землю, до боли впитал ее красоту! И исчез! Он исчез, а красота осталась! Кто же придумал такую разлуку?
С рассветом, едва заалела заря, коней с любовью повели к водопою и на купание.
В деревню Александр въезжал верхом на Левитане на восходе солнца. Во всю деревню окна в избе горели гордым, неземным огнем! Певуче пели в березовом перелеске иволги, в небе игриво вились стрижи! Сам табунщик сидел гордо, властелином мира, приосанившись, еле сдерживая праведную радость; словно воином Руси сразил стоглавого дракона и добыл за океаном неутешнице-принцессе перо жар-птицы от любимого принца! Въезжал так, как сам Цезарь на белом коне в Рим под колокольный перезвон и ликование народа, покорив земные царствия.
ПРАЗДНИЧНАЯ ЯРМАРКА НА РУСИ, где Александр впервые в удивление видит Русь, насколько она велика, многолюдна, и с каждым можно чувствовать земную родственность
На праздник Успенья 28 августа отец поднялся рано, выкатил из навесного сарая во двор красавец-тарантас с резьбою на переднике, помыл Левитана теплою водою с мылом и березовым веником, надел хомут, цветастую русскую дугу. Подумав, украсил гриву лентами, прикрепил к дуге колокольчик. Забравшись по лестнице на чердак, где до края стояла густота душистого сена, пощекотал спящего сына:
─ Вставай, Шурка! Ярмарку проспишь. Пора в дорогу!
Ночью под Пряхиным гулял дождь. Но день начинался с солнцем. И предвещал быть ясным, жарким. Небо уже источало зной. Сильно парило. Земля страдала одышкою. Белые облака зависли неподвижно; нет даже легкого ветерка. Но Левитану что жара, что мороз, он по удали мчит, шелковисто вскидывая гриву, по накатанному тракту, удачливо выбираясь из колеи, какая еще не просохла от дождя. Дорога бесконечно длинная и вилась среди поля, где еще дозревала рожь, радуя взгляд медово-золотистыми колосьями, благодатною тяжестью зерен, родственно прильнувших один к одному в колко-усатой зыбке. По межам сытно разливались песнями вечные перепела. Дальний лес скрыт в тумане. Из Дьяконова, где была ярмарка, зазывно доносился звон-перезвон колоколов церкви. В звоне слышится святая сила! Сердце само, неумолимо, неистово, зовет, торопит туда, где слышны набатные зовы!
Александр невольно прижимается к отцу, все виденное волнует до чувства, где опять просятся по приятности слова: милая, милая родна!
Ехали на ярмарку не одни. По дороге, взметывая пыль, еще неслись телеги, забитые до отказа нарядными мужиками и бабами, светловолосыми ребятишками. По обочине, красиво одетые в празднично-нарядные платья, шли девушки, живо и привычно ступая босыми ногами придорожную пыль, несли в руке туфли, красные высокие сапожки. Лица загорелые, веселые, смеются без устали, как расщекоченные, лузгают семечки, подняв подолы, бойко перепрыгивают через лужицы. В глазах неостывающая синь молодости и веселья.
На ярмарке ошеломляющее многолюдье. Вокруг гул и невероятное раздолье голосов, смех, суетные крики. Заливисто ржут кони, тревожно ревут коровы, пронзительно визжат поросята. Все смешалось-перемешалось на ярмарочном пиру, в его праздничном ералаше. Над площадью висит кисея пыли. Пахнет дегтем, сеном, свежими, подрумяненными баранками, пряниками и сахарными петушками, яблоками и самогоном. Торги идут повсюду, куда ни глянь. Продают вороного коня, хомуты, тяжелые колеса, горшки, ситец, лыко, всего не перечесть. И в продовольственном ряду полное изобилие. Нет только птичьего молока. Торгует на пьяную радость души кабак. Играет развесело гармонь.
Невиданное зрелище поражает. Трудно все вобрать в сердце, осмыслить. Но Александр пытается. Отец, взяв его за руку, водит по ярмарке и сам наслаждается ее радостною разноголосицею. Сын ему не в тягость. Все разъясняет, ни в чем не отказывает.
Остановившись у карусели с парными расписными лошадками, он спрашивает:
─ Папа, это что? Крутящееся стойло?
─ Карусель, Шурка. Прокатить?
Мальчик опасается:
─ Только вместе.
─ Зачем разлучаться?
После сладостно-вихревого катания слушали шарманку, смотрели, как плясали и пели курчавые цыганята, собирали брошенные копейки. Поразили Александра нищие слепцы, идущие гуськом за поводырем, положив руку на плечо соседа; невыносимо страшны их безглазые лица. Они просят милостыню, поют о Заступнице, о милосердии к ближнему. Иван Васильевич достает из кошелька медные деньги, ссыпает в торбу замыкающего старца.
─ Они, правда, слепые? Не видят солнца?
─ Правда, сын.
Он замыкается в себе. Ему жалко слепцов. И не может понять, как можно жить и не видеть солнца?
В толпе проворно бегают мальчики с лукошком на ремне, выкрикивают:
─ Пирожки с рисом горячие, пятак пара! Налетай, не зевай!
Отец выпил в кабаке и теперь стал добрее, покупает пряники, длинные конфеты, обкрученные по спирали ленточками, свистульку-петушка. Разрешил сыну поиграть на рулетке с бегающим гусиным пером, и он наудачу выиграл гребень с нарисованными ангелами, какие летели по небу и пели в трубы о любви.
─ Маме подарю. Порадую ее, ─ важно сообщает счастливчик.
Иван Васильевич ласково сжимает ладонь сына, радуется за его любовь к матери. Замечает книжную лавку, ведет сын к книгам.
─ Выбери по вкусу. Скоро в школу. Научишься читать, будешь постигать мир не только в оглядку, через себя, а еще через человеческую мудрость!
Александр выбрал книгу с веселою, лубочною картинкою во всю обложку: на коньке-горбунке, среди звезд и месяца, перескакивая через леса, мчит в неведомые края за царицею Иванушка-простак в лихо заломленной шапке.
Подошла старшая дочь Евдокия с мужем Иваном Григорьевичем Нестеровым, инженером-дорожником.
─ Все балуешь любимое чадо, отец? Белоручкою вырастет, ─ для завязи разговора произнесла женщина, одетая по моде.
─ Не вырастет! ─ заверил отец. Верно, Шурка?
Мальчик скромно потупился:
─ Постараюсь.
Иван Васильевич лукаво расправил усы:
─ Ты, Евдокия, покажи с колокольни брату Москву, давно просит! Я пока для колхоза хомуты и сбруи посмотрю.
Церковь в Дьяконове стояла на холме, недалеко от площади. Они спросили у священника, и медленно поднялись по древним, скрипуче-таинственным ступеням лестницы на колокольню. Деревянная площадка была просторною. Под синим куполом ютились голуби. На крепкую лессовую плаху навешано три колокола. Окружные перила сделаны из витого остроконечного копья, красиво соединены.
─ Смотри Москву, ─ разрешила сестра.
Такого чуда Александр еще не видел. С высоты колокольни открылась вся красота и бесконечность его крестьянской родины, с зеленым лугом, хлебными колосистыми полями, с косогорами и речкою, сенными стогами-колоколами и лесом, заросшим малинником и медуницею, пахнущим грибами, с россыпью дальних деревенек с избами под соломенными крышами. Интересно было смотреть на ярмарку, на нарядную толпу, на торговые палатки, на вороного коня, жующего овес. Все было как игрушечное. Доносилась игривая гармонь. Облака совсем рядом, протяни руку, и сможешь быть рядом с небом. Близко вьются, свищут стрижи.
Появился звонарь в черном одеянии, поинтересовался, с какою молитвою вознесли себя на колокольню, поближе к Богу? Евдокия разъяснила, зашли не сам по себя с молитвою, а с разрешения служителя церкви, дабы посмотреть с высоты на свою родину, на красавицу Русь. И попросила звонаря, разрешить мальчику ударить в колокол.
─ Ежели без баловства, ради любопытства земного, пусть испробует власть колокола, медовую сладость звонницы, ─ великодушно разрешил звонарь.
Александр звучно ударил в медный колокол, сильно дернув за витую веревку. Изумительно чистые, чудесные звоны разнеслись над бесконечным пространством его Русского Отечества. Но радостью не возблагодарил, был он грустен и тревожен.
Этот тревожный звон над Русью загустел в его сердце на все времена.
ОТЕЦ, ОТЕЦ!
ГДЕ, НА КАКОМ ПОВОРОТЕ ОНИ РАЗОШЛИСЬ,
РАЗЪЕДИНИЛИСЬ ЛЮБОВЬЮ?
Кто разлучил отца и сына?
Почему осталась боль, и только боль в сердце?
И еще лютое чувство вины?
Перед отцом. Перед родителем!
Деревня Пряхина, где родился, черпал силу для подвигов Александр Башкин, как Антей от земли, стоит на земле за тысячу лет. Селились славяне на северную землю с реки Рось, притока Днепра, теснимые воинственными кочевниками с Дикого поля, скифами, половцами. По вере ─ язычники. После крещения Руси выстроили бревенчатый кремль с деревянною церковью и крестом, избы-терема, крытые тесом. И стали пасти стада и растить колос. Играть свадьбы. И величать бессмертие.
Древние предки умели защищать свою маленькую Русь. Они собирали пешие и конные дружины, бились под знаменами Дмитрия Донского на Куликовской битве, изгоняли с тульской земли у Иван-Озера воинство крымского хана Девлет-Гирея, храбро сражались и дальше с незваными пришельцами.
Древне предки умели и созидать. Едва суздальский князь Юрий Долгорукий воззвал руссов соборно выстроить Москву, они, отложив мечи и щиты, артелями подались возводить еще один град на Руси, и вскоре он воскресил себя в красоте и пространстве, как Древний Рим. И был одарен столицею Русского православного царства.
Само городище названия не имело. За особые воинские заслуги перед Отечеством, царь Иван Грозный отписал его боярину Ивану Васильевичу Шереметьеву. Его люди при крепостном праве жили вольно, с достоинством. И после отмены рабства так и назвали свою деревню ─ Вольная. Со временем амазонки-пряхи, по ремеслу, назвали ее Пряхины, но слобода Вольная осталась.
В слободе Вольная и жили Башкины. Все они были пахари. Любили и дело свое, и порядок на земле. Отец Александра ─ Иван Васильевич, потомок славян-руссов с рек Рось: могучего сложения, белокур, глаза чисто синие, скулы выдвинуты, как у скифа. Такими были и сыновья. Так получилось, что в семье он был один кормилец-пахарь. Росли писаными красавицами сестры Евдокия, Маланья и Агафья, на кого царским указом земли не отмеривали. И волею-неволею приходилось Ивану Васильевичу ходить батрачить к богатому мужику Михаилу Захаровичу Вдовину. В барском доме он и присмотрел себе невесту Марию. Любовь обожгла немыслимо! И зашла загадкою; свет померк. Едва завидит ее в цветастом сарафане на сенокосе, как она, подоткнув подол, топчет босыми ногами на телеге пахучий клевер, или носит снопы к молотилке, или по-лебединому гордо ступает-плывет по деревне зимним утром в белом собольем полушубке, сердце его обрывалось. Наступало забвение. Не выдержав муки, он попросил отца заслать к Вдовиным сватов.
Но Василий Трофимович наотрез отказался:
─ Не по чину в калашный ряд, сынове! Кто он? Первый богач. Кто мы? Голь перекатная. Не даст родительского благословения дочери.
Но сын просил по молитве, сл слезами. И даже пригрозил:
─ Не зашлете сватов, повешусь! Я люблю, тять, люблю! Без Марии мне жизнь не в жизнь!
Но печаль и обещание сына не взволновали старика. Он опять проявил неуступчивость.
─ Переживешь, сынове. Не окажет он божескую милость! Зачем себя выставлять на посмешище? Не последние мы люди, чтобы над нами вся деревня потешалась!
Арина Евсеевна, матерь, не выдержала:
─ Пошли, пошли! Чего дитя мучаешь? Откажут так откажут! Кольями не изгонят! Михаил Захарович, да, богач, но с сердцем.
Слывет в деревне книгочеем и правдолюбцем, мог в застолье обругать и царя, и Григория Распутина за деяния, гибельные для России. В его барские терема не раз наезжало грозное волостное начальство, дабы укротить его вольнодумство, и даже пугали тюрьмою, но всякий раз уезжали от хозяина веселые, несусветно пьяные, клялись в любви и дружбе. И непременно с богатыми дарами.
И мужики его чтут-уважают, что нажил богатство своим трудом. Он и лес сплавлял, и землю сам пахал. И далее разберись, кто в деревне лучше Вдовина делает бочки для засолки, колеса для телег? Тележные колеса без оковки целовали землю год. И не рассыпались. На деревне колесников звали колодеем. Его звали чародеем.
В уборочную страду вся нищенская деревня торопилась записаться в работники. За рабочий день на барщине Михаил Захарович платил пуд пшеницы! И мы тем жили! О чем печаль?
И, наконец, ужель наш сын не достоин принцессы князя? Сложен от Бога, ликом красив, трудолюбив на зависть, самогон ему не в лесть! не шалый. Нравом весел. И на гармони сыграет!
Чего унижать себя? Не видишь, сын у могилы стоит? Чего ждешь? Прощальное отпевание пахарскому роду? Так и свершится! Девочки вызреют, расселятся в чужом гнездовье с любимыми и осиротят твою земную быль! Без молитвы и покаяния исчезнуть желаешь?
Василий Трофимович услышал сказание жены, нашел его разумным, и согласился ступить сватом на княжеское подворье. И на долгое время отдал себя молитве.
На удивление деревни, Михаил Захарович принял смущенно-застенчивых сватов милостиво и даже с барским размахом постелил ковровую дорожку по крыльцу в терем. Ему давно пригляделся юноша с русским ликом, с кроткими сними глазами. Он был первым на пашне и первым на косьбе колосьев ржи. Был воеводою от плуга и сохи! Любимая дочь его Мария тоже не росла белоручкою. Он научил ее пахать, косить серпом рожь, вязать и обмолачивать снопы. Сама научилась тонко вышивать и прясть. Мужу на шею не сядет! И в загуле остановит! Строга и властна, вся в отца! Но по разумению. Живет на молитве. Раздоров в семье не будет.
Для порядка посидели-поговорили. Михаил Захарович воззвал дочь Марию к застолью, спросил, согласна ли связать свою судьбу с добрым молодцем Иваном Васильевичем, дочь приняла к сердцу жениха, дала согласие на венчание и брак, низко ему поклонилась. После чего хозяин вынес икону с Христом, в раздолье перекрестил жениха и невесту, трижды, по русскому обычаю, поцеловал.
И сваты поняли, ─ поцеловал сына!
На свадьбу была звана вся деревня.
Гуляли три дня.
Как на языческом празднике, жгли на лугу костры, молодицы водили хоровод, мужички, разгоряченные самогоном, в радость отплясывали под гармонь с красавицами краковяк, страдание, ноченьку, пели и разудалые, и грустно-протяжные русские песни.
Все получилось.
Сложилась и семья. Как поженились молодые, соединились сердцами по любви, так и повелось по Богу на все времена.
II
Александр явился в мир в декабре, в созвездие Козерога. Козероги несут на земле самую превеликую ответственность, и за человека, и за Отечество! Это люди от Бога! В созвездие Козерога явился Иисус Христос. Он и шел на битву, как инок, как служитель Бога с копьем Пересвета, и постоянно нес победу Отечеству! По жизни, по битве воина Руси вполне можно сравнить с Гераклом в современном величии; та же непримиримость к Злу, те же битвы за Добро, та же постоянная победимость!
Александру везло на любовь. Еще в люльке он был заласкан бабушкою Ариною. Это была женщина, какая светилась вся любовью к людям. Часто в избу, где жили Башкины, стучались, просили о приюте, хожалые люди: погорельцы, богомольные странники и просто нищие. И каждого хозяюшка привечала, одаривала ночлегом и едою. В деревне Арина Евсеевна слыла знахаркою. Умела заговаривать болезни; лечила травами. Если случались тяжелые роды, то звали ее. И как бы роженица ни мучилась, ни стонала на всю деревню, едва повитуха начинала с благочестием читать псалтырь ─ все боли отходили! Ни разу перед Богом не согрешила, все живыми выходили из материнского чрева! И жили долго! Знахарка могла наговорами вылечить ум-сумасшествие; исцелить умирающего больного, словно имела загадочную власть над жизнью и смертью, полученную то ли от дьявола, то ли от Бога. Ее чтили! Ее боялись! И за глаза называли, ─ колдунья, и сожгли бы, живи она в жестокие времена.
Добро чаще наказуемо!
Такая была няня у Александра. Уже в колыбели он постигал, что такое Зло и Добро? Что такое любовь к людям?
Бабушка Арина была превеликою сказительницею, и знала сказок не меньше, чем Арина Родионовна, няня Пушкина. Мальчик на всю жизнь запомнил, как душа его тревожно замирала в ожидании сказки. От бабушки он узнал, что мир разделен на Любовь и Зло, как Иван сражается за Русскую Землю с Драконом, дабы люди жили по красоте, по любви друг к другу, где им откроется, что такое свобода, справедливость! И часто, уже мальчиком, Александр видел себя сказочным богатырем, кто вступает в битву один на один не только с Драконом, но и с целым вражеским воинством, посягнувшим на его землю. И, конечно, побеждает его! И не только видел себя народным заступником, но и был им. Брал ивовый прут и опрометью бросался с косогора на крапивные заросли и, не боясь ран-ожогов, неутомимо сражался с воинством, пока растерзанная крапива повержено и безмолвно не полегала на поле битвы.
То есть, через сказки, сердцем ─ постигал любовь к Отечеству!
Постигал себя народным заступником!
И уже брал меч, дабы защитить свою землю!
Дед по матери Михаил Захарович тоже любил внука, научил читать книги. И так совпало, он до самозабвения любил Древнюю Русь, и часто ведал мальчику, как великие князья и храбрые руссы-воины защищали Отечество, а шли на Русь все века, воинство за воинством! Но все соловьи-разбойники пали в битве от русского меча, не смогли сломить и покорить Русь, она выжила и обрела бессмертие. Нет на земле сильнее русса-воина, кому во все времена приходится защищать не только свою землю, но Любовь и Свободу в мире!
И такая гордая правда, несомненно, тоже осталась в сердце мальчика, кому предстояло стать воином Руси и храбро, жертвенно биться с Драконом за все земное человечество!
Михаил Захарович услышал в мальчике любовь к знаниям. И привел его шести лет в школу в Пряхине, наказал учителю внимательнее отнестись к любопытствующему отроку. И подарил школе десятилинейные лампы. Александр учился с желанием, в школу ходил пешком четыре километра, в суконном зипуне, обувь была латаная-перелатаная. Дед давал полушубок из овчины, но мать отказалась:
─ Зачем нам подати? Что мы, нищие? Чем богаты, тем и рады. Не надоть ему жить по иждивенчеству.
И мудрый Михаил Захарович соглашался:
─ Права, дочка! Я отроком тоже в бедной одежде ходил. Плакал от бедности, и слезы на морозе замерзали. И что теперь? Близко простуда не донимает. И он крепче будет!
В грозу, в снежные вьюги Мария Михайловна, жалея сына, в школу не отпускала. Но он сбегал. Ему было приятно идти в снежную бурю, слышать ее силу и свою силу, и в непокорстве побеждать ее. Это уже было в крови.
III
Но что отец? Где, на каком повороте они разъединились любовью? Почему он оказался только в поле внимания бабушки Арины и деда Михаила? Где легла межа между отцом и сыном?
Почему осталась только боль? Боль за себя!
И еще чувство вины!
Перед отцом!
Иван Васильевич был почитаем в деревне за трудолюбие, за человечность. Еще он остро чувствовал справедливость, исконную правду жизни; был мечтателем и радетелем за народное счастье. И во все времена горел желанием наполнить сложную жизнь на Руси молитвенно-целомудренным милосердием! И когда по Руси пронесся вихрь революции и в деревне под красным знаменем стали создаваться трудовые коммуны, то пряхинские мужики выбрали именно его председателем.
Иван Башкин от сердца верил, что пришло время расстаться с людским горем, с постыдною нищетою, дабы в человеке ожило человеческое. Только трудом и соборно можно выстроить праведную жизнь в деревне.
И при каждом случае теперь бил в колокол:
─ За дело, мужи! За дело пахари-руссы! Будем строить новую жизнь по молитве.
Но строить новую жизнь по молитве не пришлось.
Над Русью задули злые ветры.
Из Кремля самим Лениным был брошен клич на смиренное Отечество, ─ народ, Грабь награбленное.
Ретивые, вольные пряхинские мужики тут же оставили на пашне плуг, взяли вилы и отправились злою, разгульною толпою грабить помещицу Марию Ивановну Шереметьеву. Впереди, размахивая топором, шел каторжанин Прохор Зорин. Он и объявил барыне волю народа:
─ Поместье наше, земли наши! Кровопийц на березу.
Мудрая хозяюшка возражать толпе не рискнула:
─ Ваше, берите. Только не жгите усадьбу, а к смерти я готова, ─ обреченная женщина гордо взглянула. ─ Только помолюсь перед Христом. Не за себя, за вас, ибо творите вы зло в заблуждении!
Прохор достал веревку, сладил петлю:
─ Там помолишься, барыня-сударыня! ─ он набросил ее на сук дерева, толкнул дворянку к эшафоту, накинул петлю.
Но пряхинские мужики ненависти к вдове-помещице не имели, благословили на житие:
─ Пусть идет с Богом!
Каторжанин задираться не стал, повторил клич из Кремля:
─ Грабь награбленное!
И человек-насильник в мгновение услышал в себе скорбную, окаянную жадность! И стал тащить из комнат барского поместья фамильные драгоценности, мраморные столы, кресла, мягкие диваны, стулья, перины, ночные горшки.
В подвале разыскали французское вино, тут же устроили застолье. Пили на барском кладбище, усевшись на могильные плиты. И всю ночь выплясывали кадрили под гармонь, пели песни. Ближе к утру все опились и уткнулись лицами в мышиный помет.
Прохор зажег факел и далеко бросил его в разграбленные барские покои. Усадьба занялась пламенем. В огне сгорели три человека, не сумев по пьянке отползти подальше от костра, от смерти.
Милосердная душа деревни, душа от Бога, не приняла звериного варварства!
Гроза зашла и в семью, где жили Башкины.
И стоило Ивана Васильевичу явиться домой, как матерь Человеческая Арина Евсеевна в гневе бросила сыну:
─ Что, злыдень, доволен?
Иван Васильевич повесил пальто на вешалку:
─ Ты о чем, мама?
─ Не знаешь? Порушил дворянское имение и рад? Гордым петушком разгуливаешь! Чем тебе барыня Шереметьева не угодила?
─ Разве мне? Власти.
─ Ты кто? Не власть? Свою правду не можешь защитить перед разбойниками? Мало она добра сделала? И зерном оделяла в бесхлебицу, и сосновым тесом для овина. Так ты за добро платишь?
Иван Васильевич усиленно защищался:
─ Не могу, мама! Не могу! Барыня ─ не моя воля и не есть правда народа! Барыня записана в класс.
─ Какой еще класс? ─ матерь гневно стукнула ухватом.
─ Эксплуататоров! Она враг народа! И подлежит уничтожению!
Бабушка Арина взъярилась:
─ Какого народа? Пьяниц, которые валяются у кабака? Кто ни разу не взялся за рогатины плуга? Не взрастил колоса в поле? Не та голытьба шла с вилами на беззащитную женщину? И за что ее казнить? Кого барыня ограбила? Барыня из знатного дворянского рода на Руси! Посчитай, сколько Шереметьевы блага для Отечества свершили, награду получили от царя Ивана Грозного! То наследство и досталось Марии Ивановне! Где ее вина? В чем?
Арина Евсеевна строго посмотрела:
─ И опять же, ладно, пришло время воровское ─ возьми! Но вознеси школу, раскинь пашни для обильного ржаного колоса! Вы, что сделали? Поместье сожгли! Земли забросали камнями, могильные плиты стащили к реке, ─ пусть бабы белье полощут. Срам! Стыдобушка неприкаянная! Что же вы делаете с Русью, бесы окаянные? Ты же православный! Я тебя в церковь в Дьяконово крестить возила! Крест на шее носишь! Иль сбросил? Накажет Бог, Иван, накажет!
─ Не только поместье, людей сожгли, ─ вставила слово Мария Михайловна.
─ Какие они люди? Твари земные! ─ отозвался с печи Василий Трофимович. ─ Бог и наказал, прикрыл им глазницы!
Иван Васильевич возражать не стал. Понимал, все бессмысленно. Он оказался в одиночестве! Семья не приняла его правду! Его душа пахаря, душа от любви и милосердия к людям, распалась на Боль и Печаль. Но больше всего было обидно, его не поняли самые близкие, самые любимые люди; и до ужаса, до гибели высекли кнутом! И вознесли святую душу на костер! Он прошел в комнату, и, не раздеваясь, упал на кровать. И долго неподвижными глазами, глазами мученика, смотрел в потолок, чувствуя, как в обиженном сердце неумолимо завязываются слезы. Слезы непоправимого горя. он грустно запел песню, там, в степи глухой замерзал ямщик. Пел долго, отрешенно. Отвернувшись, заплакал в подушку. Домашние молчали, никто не подошел, не осветлил его настроение.
Что же сын Александр? Он видел, свершилась казнь над отцом! Ему было невыносимо жалко отца. В таком горьком распаде чувств он его еще не видел. Его маленькая совесть не жила в покое, его маленькая совесть, неумолимо и повелительно тревожила сердце. И сердце кричало, там, где жила любовь к отцу, где жило милосердие, ─ не стыдись окружения, пересиль себя, и смиренно, иди к отцу!
Иди к отцу!
Встань на колени, возьми его руку, осыпь поцелуями. Наконец, ляг рядом с отцом, ласково обними. И держи его у сердца, пока не смиришь слезы, пока в отце не оживет душа, не возникнет преображение, не возникнет земное величие. Ты же видишь, как мучается душа его, святая и безгрешная!
Помоги отцу! Исцели его слезы!
Но сын не подошел! Сын предал отца, стал ему Пилатом, оставил один на один с печалями, с горькою земною обидою.
Он остался стоять у матери! И не осилил в себе ту злую любовь!
Александр сидит у могилы отца на кладбище в Стомне!
Ему горько и больно!
Он слышит в себе слезы боли!
Он слышит в себе слезы раскаяния!
Прости, отец! Прости!
И в то же время, не надо прощать! Того, кто предал отца, прощать не надо! Пилата нельзя прощать.
IV
Дальше пошло еще хуже. В деревне началось крутое раскулачивание; ковчег жития пахаря вынесло в шторм! Вскоре Иван Васильевич сообщил домашним, что в НКВД выписан ордер на арест Михаила Захарович Вдовина.
Арина Евсеевна ужаснулась:
─ Он что, тоже записан в класс?
─ Тоже, мать!
─ Чудеса! Он что, разбойник? Убивец-Кудеяр? Или нажил богатство на мужицком горе? Он полвека ходил за сохою и плугом; был лесорубом, плотогоном! Он свое царство воздвиг горбом! Его ладони и теперь еще несут кровавые мозоли! Он в голодное время с христовым сочувствием помогал деревне, и тебе, жить-бедовать! И не раз, не раз спасал пахаря от голода, от вымирания! Люди в очередь просились на уборку урожая, он давал за день работы пуд зерна! Ты сколько даешь в колхозе? Триста граммов!
Михаил Захарович корень земли, на ком держится Русь! И ты что, готов с чекистами волочь на плаху корень земли, корень жизни? Готов с чекистами за добро волочь Христову Душу на плаху, как врага народа?
Иван Васильевич переминался с ноги на ногу:
─ Не готов, мать, не готов!
─ Но поволочешь, как курицу за крыло!
─ Не моя вина, мать!
─ Чья? Чья вина, убивец? Михаил Захарович даровал тебе в жены самое ценное, любимую дочь! И ты за такое дарение готов величать его в Соловки, отвести на расстрел? Что же вы делаете с Русью, бесы окаянные?
Мужчина отозвался с трудом:
─ Ты права, мать! Права! Нельзя корень Руси из пашни выдергивать! Мое сердце тоже бунтует и тоже тяжелеет от тоски! Но осмысли, наконец, смири себя, разве я выписываю ордера на арест человека и раскулачивание?
Арина Евсеевна стояла на своем:
─ Защити его как власть! Собери народ на вече, пусть он решит ─ Михаил Захарович враг народа? Или друг народа? В Москву отпиши!
Сын в печали уронил:
─ Нельзя идти против власти, мать! Самого под расстрел загонят! Чекисты не станут разбираться, друг он народу? Или враг? Спасал деревню от голода, не спасал? Там люди непоколебимые, служат за идею! Встань поперек, тут же вынут револьвер: мировую революцию предаешь? Ошиблись в тебе, товарищ! И повели под конвоем с петлею на шее по матушке-Рассее. Могут на Соловки! Но могут и за стог сена!
Сын горько произнес:
─ Я согласен, вершится несправедливость! Но я не знаю, как быть, просто не знаю!
Нарушила скорбное молчание Мария Михайловна:
─ Я знаю!
Она взяла у печи топор, прямо заявила мужу:
─ Тронешь отца, отрублю голову!
Началась не жизнь, светопреставление. Иван Васильевич слышал в себе вину. Именно в это время, в тридцать семь лет, он впервые оглушил себя крепким стаканом самогона. Пьяному легче переносить обиды, оскорбления. Он теперь все чаще стал приходить домой выпивши. И старался приходить, когда семья спала. Ибо знал, в избе густится одна ненависть, стоит, кому чего сказать, и разразится такая окаянная буря в избе, что мало не покажется; понесутся несусветные проклятия, начнут отпевать его самого хором плакальщиц, гнать к могиле.
Но в избе никто не спал. Не спал и Александр! Все слышали, как мученик от Христа, Иов, неслышно раздевался, на цыпочках подходил к печи, наливал из чугунка похлебки, ел. И садился к окну за занавеску. И долго сидел, пошатываясь, с мукою и залихватски напевая песню, сижу за решеткой в темнице сырой.
Мальчик понимал, как отцу тяжело жить без покоя в душе! Видел, как отец искал равновесие в себе, пытался остановить бесовскую пляску тоски и боли, и не мог! Один не мог! Но сын опять не подошел к отцу, не приласкал! Укрылся от печали отца, как лебедь крылом от холода!
Конечно, Александр был еще мал, дабы осмыслить по совести правду матери! Осмыслить по совести правду отца! На то мгновение сама Земная Жизнь, сама Русь кружилась в хороводе загадок, в хороводе печали! Но Сын, несомненно, испытывал любовь к отцу! Он и подумать не мог, что к отцу можно испытывать ненависть! Он был святость для сына, солнечное свечение. В доброе время, встречаясь с отцом, он испытывал красоту чувств! И только красоту чувств! И даже не раз думал по любви, по взрослому разумению, ─ как хорошо, что они встретились на земле!
И вполне, вполне мог бы облагородить сердце отца, смягчить его скорбные раздумья! Всего и надо было, прижаться к его сердцу, подержать руку! И отец бы воскресил себя, ибо страшно Нести Горе в безлюдье, а если есть сын, они уже двое на земле, они уже соборность, они уже два сердца, и, значит, непобедимы!
Но сын и в этот раз не подошел к родителю!
Снова предал отца!
И что теперь? Что теперь сказать себе, когда сидишь на кладбище в Стомне у могилы отца?
Больно, отец! Больно!
Теперь бы я не мог, никак не мог оставить отца одного, где вся земля тебе была ─ сиротливость.
Но я во все мгновения был с тобою, был с тобою.
Слышу слезы раскаяния!
Слышу слезы боли!
Прости, отец!
Прости!
И не надо прощать! Того, кто предал отца, не прощают! Пилата, кто распял Христа, не прощают! Как сына прощать, если оставил на распятье отца?
Иван Васильевич не мог обречь корень Руси на скитальчество, на расстрел. Восстал против себя! Он решил, рискуя попасть на каторгу, на Соловки, вызволить из плена ненависти родовитого великоросса! Под покровом ночи запряг Левитана, подогнал сани к богатому дому Вдовина, тихо постучал в окно, разбудил Михаила Захаровича и бабушку Матрену. И с опаскою прислушиваясь, как скрипит на сильном ветру колодезная бадья, спросонья ржут лошади, напуганные неизвестно кем, быстро объяснил, в чем дело. И вскоре Вдовины со скромными пожитками удобно расположились на сене; Иван Васильевич попросил укрыться тулупом, ─ стеганул лошадь, и в строгом таинстве отвез семью в Приваловку к дочери Анастасии; Михаил Захарович, кто был приговорен к каторге и расстрелу на севере, прожил 96 лет.
Спас его Иван Васильевич ценою жизни. Его забрали в НКВД, вели допрос, грозили каторгою, расстрелом, желая узнать, где он затаил кулака-родственника, но он ничего не признал.
Власть его отстояла.
Иван Башкин правил колхозом десять лет. Много добра сделал людям. Увел деревню от бедности, платил на трудодень три килограмма зерна, расширил в раздолье пашни, тракторный парк, открыл Народный дом, завез кино. Пошли удалые пляски под гармонь у реки под елочками, россиянки закружились в хороводе.
Жизнь наладилась. Но для себя так и не обрел сокровенного, душевного уюта. Ему стали неотступно являться и на улице, и в избе, когда горит одинокая свеча, и являться, с молитвенным укором, ─ раскулаченные им мужики, с бледными иконописными ликами, с длинными боярскими бородами. Брали его в окружение плачущие женщины, дети, до боли свои, до боли оторванные от сердца, те самые, какие по его воле изгонялись с земли руссов на север, на гибель. Никто не вернулся. Все застыли в Сибири, в неволе на морозном ветру ледяными глыбами, так и не узнав пиршество уюта в ковчеге бессмертия. И на солнце истаяли, ушли в землю слезами!
Ни имени не осталось, ни отчества!
Жить в окружении призраков становилось все страшнее. Иван Васильевич стал пить. Пьяным в терем не являлся, ночевал в правлении. Там и застудился; уснул на скамье под окном, и ветер с мороза воспалил спину и легкие.
Арина Евсеевна усиленно лечила сына колдовскими наговорами, травами. Но ему становилось все хуже.
Мария Михайловна в тревоге спрашивала:
─ Что Ванюшка, не помогают снадобья?
─ Не помогают, Мария. Бог зовет к себе к себе. Знать, не простил грехи, что рушил миропорядок жизни, что был им установлен по любви, правде и совести.
Его отвезли в Каширу в больницу. При отце постоянно находилась старшая дочь Евдокия. 17 декабря он попросил, пусть приедет Шурка. Почему он? Не Иван, не Алеша, не жена Мария Михайловна, не мать Арина Евсеевна? Чем вызвано такое желание? Такая избранность? Никто не знал. Услышал смерть и решил попрощаться? Но почему именно с Шуркою?
Увидел в своем предсмертье его жизнь? И, разгадав загадку его гибели, спешил предостеречь сына от бед?
Но опять же, чем жил отец? Какими чувствами? Жила горечь за сына? Или радость за сына? Все сошлись на одном, Иван Васильевич, страдалец Иов от Христа, решил на прощание осудить сына, что предал отца!
Но возразила Арина Евсеевна:
─ Он не мог на прощание желать сыну зла! И не мог не видеть в Шурке стыдливо-нежную, жертвенную любовь к себе. Он жил отцом, жил его печалями, его одиночеством. Я видела в Шурке слезы, он не раз желал обнять, приласкать отца, когда тот приходил пьяным и ел похлебку, налив ее из чугунка. Он страдал за отца, но таил любовь! Как тучи таят солнце. Только у гроба плачут о любви к человеку! И здесь я не знаю, почему, почему надо убивать в себе мятеж любви при жизни?
Тем и виновен, грешен Шурка, что таил любовь к отцу, когда надо было ее не таить!
Что хотел сказать отец? Чем поделиться? Все ушло в таинство! Теперь уже не узнаешь! Все сокрыто могильною плитою, ушло в вечное таинство.
Александр мчался в Каширу на Левитане вровень с ветром. Тихо вошел в палату. Отец лежал неподвижно, глаза закрыты. По-крестьянски жилистые и крепкие руки лежали в смирении поверх одеяла. Юноша с печалью посмотрел на отца, невольно подумал: такая могучая плоть, и прощально, загадочно исчезает из империи по имени Земная Жизнь.
Он присел на кровать:
─ Я пришел, отец. Ты желал меня видеть?
Иван Васильевич услышал сына. Возможно, даже не сына, а журавля, с кем летел в поднебесье, который отозвался голосом сына. Слегка напрягся, но глаза не открыл, только по щекам потекли слезы. И опять все ушло в таинство! Откуда слезы? Откуда последняя печаль? От веры, что непременно воскреснет в красоте праведное Крестьянское Отечество и сам человек?
Или чувства жили поближе к Александру?
Текут слезы радости свидания с сыном?
Слезы прощания с родственною плотью?
Или со всем земным?
Вскоре Отец прощально шевельнул рукою, и закрыл глаза.
Ушел из жизни смиренно, как уходят святые.
V
В последний путь на кладбище в Стомне Ивана Васильевича провожала вся деревня. Гроб накрыли красным знаменем, несли по Руси знатные пахари; печально играла гармонь, в толпе слышался плач.
Плач этот и теперь густится в сердце Александра. Но не тот, не из толпы. Свой плач! Но тоже оттуда! Не таи он любви к отцу, поделись ласкою в горькие минуты, и вполне, вполне, отец мог бы жить и теперь! Он был одинок, семья не приняла его сердце, отданное крестьянскому делу, людям, и было безвинно растоптано, до искорки, до искорки ─ как сердце Данко.
И что сын? Он, почему не понес отцу душевно-родственное единение?
Неоспоримо, жизнь дает мать. Она дарит мир. И все же, и все же, не будь отца, не полюби он писаную красавицу, не яви бунта против воли родителя, не было бы и его, Александра.
?????
Теперь отец в могиле.
Он жив. Он еще на земле. Смерть разделила. На правду жизни и на правду вечной тайны. Странно и страшно! Как все осмыслить? Было две жизни, осталась одна. Кто так рассудил? И куда она ушла? В сына? Получается так. Отец умер в декабре на Николины праздники. И он родился в декабре на Николины праздники. Произошла своеобразная сменяемость жизни. По сути, стало две жизни. Но в одной. В его.
Странно и страшно!
О чем же печаль? Мало любил отца, мало жалел.
Почему?
Александр встал на колени перед могилою, перед отцом, поцеловал горсть земли и задумчиво ссыпал ее обратно на холмик любви и печали.
─ Прости, отец! Прости! Я помню твои слова из детства: любить надо живого! Любить и не таить! Теперь я понимаю, почему во мне жила такая окаянная боль разлуки? Почему я видел тебя, отец, живого и живого в пиршестве жизни! И почему казнили и казнили о тебе мысли? Мало любил, отец! Мало любил!
Едва выехали с кладбища, поднялась снежная метель. Но кружила не ко времени. И быстро опомнилась. Опять выглянуло солнце. Конь застоялся, бежал легко.
Подъезжая к Пряхину, Александр спросил:
─ Чего мать бунтует? Смотрит, как на злодея? Чем провинился?
─ У матери и спроси. Чего меня пытаешь?
─ Ты не знаешь?
─ Отколь?
Александр посмотрел на дорогу. На земле, среди лужиц, пировали грачи, старательно выбирая клювами с осени вмерзшие зерна. На лошадь взирали недовольно, нахохлившись, но проехать давали, подпрыгнув раз, второй, отлетали в сторону. И вновь задорно, с
НА МОГИЛЕ ОТЦА
человеческою важностью, возвращаются на круги своя.
─ Не пойму, чего вы таите!
Брат нахмурился:
─ Чекисты тебя из Тулы разыскивают! Не раз по твою милость приезжали на «воронке». Мать совсем замучили, пытают, где сын прячется, в каком лесу? Пусть с повинною явится. Жить будет, а так расстреляем!
─ Чудеса, ─ раздумчиво произнес воин. ─ И за что обещали расстрелять?
─ Тебе лучше знать.
Александр наложил на себя крест:
─ Поверь, не врублюсь.
─ За измену Родине. Мать и воет по ночам с горя, как волчица. Родила, грит, окаянность, ни чести, ни совести. Знала бы, что род опозорит, в колыбели бы задушила!
─ Чудеса в решете, ─ не на шутку встревожился воин.
Глава девятнадцатая
МАТЬ ОТРЕКАЕТСЯ ОТ СЫНА
I
В избе было сумрачно. Услышав, как подъехали сыновья, Мария Михайловна зажгла лампу. Не зная почему, она услышала в себе печаль и тревожность. Но настроение свое скрыла, отозвалась с радушием:
─ Долго отца навещали. Заждалась! Пожалуйте к угощению.
Стол уже накрыт. Стоял чугунок с похлебкою, дымились картофель в чашке, яичница в сковороде, с шипящим салом; были любимые лакомства Александра: кулага с калиною, коржики со сметаною.
Непримиримая ненавистница самогона, матерь выставила чекушку, разлила огненный хмель в граненые стаканчики:
─ Что ж, помянем блаженного Ивана Васильевича! Земля ему пухом!
Выпив, долго не могла продышаться, то и дело промокала платком выступавшие слезы.
─ Злая окаянница!
─ Первач, ─ уточнил Алеша.
─ Ты отколь знаешь? Смотри! Быстро ухватом уважу, ─ строго пригрозила Мария Михайловна. Скромно взяла из миски моченое яблоко и стала скрытно, пристально всматриваться в сына, желая, как злая пророчица Кассандра, на расстоянии, постичь таинство его души.
Что там?
Солнечное свечение от свидания с матерью?
Или тяжкий крест?
Александр ел, молча, вдумчиво, стараясь не глядеть в глаза матери. Он боялся глядеть в глаза матери. Он слышал ее смятение, ее тоску, ее пугающую горечь. И тоже желал постичь душу родного существа. В чем дело? Откуда печали? Но одарить себя истиною, чем жила матерь, почему несла боль и тревожность, не мог. Получалось две загадка. И матерь загадка! И сын загадка! И оба желают знать правду! И оба боятся знать правду! И оба не знают, как пробраться через метельные ветры, друг к другу.
Сын слышал, в сердце матери приговор.
Но почему, почему?
Мария Михайловна тонко похвалила:
─ Хорошо кушаешь! Вижу, сильно оголодал в лесу.
─ В каком лесу, мама?
─ Отколь я знаю? В веневском, тамбовском?
─ Не ведаешь, зачем осуждаешь? ─ обиделся сын.
─ Не беспричинно корю, от горя и печали. Зашли они самозвано в сердце и не отпускают, тревожат. Обессиливают, как тревожат! И никакого душевного спасения, исцеления!
Ждала я тебя, невыносимо сильно ждала, полагала, успокоение посеешь, тоску и тревогу отринешь, а ты опять пришел в дом-терем, как нищий бродяга, обросший, худой, в залатанном полушубке с чужого плеча! Откуда пришел? И зачем? ─ строго спросила матерь Человеческая.
─ С фронта! Повидаться с тобою, братьями, сестрами. Разве нельзя? Почему так спрашиваешь?
─ Как ─ спрашиваю?
─ Строго очень.
─ Еще строже спрошу. Ты воюешь, аль нет?
─ Воюю, мама.
─ Где ордена, медали?
─ Я, мама, не ради наград воюю, ради Отечества!
─ Плохо воюешь, ради Отечества, раз наград не имеешь, ─ вынесла приговор Мария Михайловна. ─ Воевал бы лучше, были бы ордена.
─ Как умею, ─ покорно отозвался Александр; глаза его понесли беспредельную грусть. ─ Вижу, неспроста разговор завела?
Матерь допила самогон:
─ Угадал, сынок! Твои чекисты замучили.
─ Какие еще чекисты?
─ Те самые, с малиновыми петлицами! Как наезжают, так начинают издеваться: «Ну, говори, баба, без лукавства, где отрок? Ты знаешь, кого родила? Изменника Родины! Извести, где он? В какую берлогу спрятался?» Я усиленно отбиваюсь: «О чем вы говорите, господа? Разве он зверь, по берлогам таиться? Сын там, где вся честная, гордая Русь, он на фронте, с немцем воюет!»
Чекисты неизменно свое: «Врешь, глумливая баба! Сын не воюет, он в лесу скрывается! Он сбежал из армии, он дезертир! Говори, куда ему еду носишь? В какую лисью нору?» И смеются ненасытно! Затем лезут на чердак, смотрят, не там ли ты скрываешься? Заглядывают в подполье, не там ли затаился?
Устанут искать, снова начинают требовать: «Открывайся, где сына затаила? Не то и тебя повяжем как пособницу! Посидишь в тюрьме, быстрее в разум войдешь, ─ кого надо рожать, дезертиров или героев Отечества!» И опять смеются весело и сытно, как бесы расщекоченные! Я стою в горе, безвинно униженная! В безумном оскорблении. И не знаю, куда деваться! В землю бы провалилась, да земля-Русь сама оцепенела, не распадается! Каково? Каково испытывать такую казнь? Неумолимо, ненасытно душа омрачена скорбным позором! Такого позора я ожидала от сына?
Александр пришел в ужас:
─ Какие чекисты, мама? Я воюю третий год! У меня и красноармейская книжка есть!
─ Где она? Покажи! ─ потребовала Мария Михайловна.
─ В госпитале осталась, у главного врача.
─ Почему в госпитале? Почему не у тебя?
─ Господи, мама! О чем ты? Ты меня не слушаешь! Я лежу в госпитали в Туле, после третьего ранения! Еще не выписали. На воле солнце, поют иволги! Сердце и затосковало о доме! О родном крае! Я и примчался к вам на коньке-горбунке, на сутки, дабы повидаться, и кто знает, ─ может быть на прощальное мгновение?
─ И снова самочинно? Как с гулянья кот-сумасброд! ─ пытливо посмотрела женщина.
─ У кого спрашивать, мама? Отпустить может только военный комиссар Тулы, и то, когда выпишут из госпиталя. Может отпустить, может не отпустить. в любое мгновение могут позвать военные трубы, и тут же вручат шинель, пулемет, гранаты ─ и в маршевую роту, на фронт! И с матерью не повидаешься! Одна благость ─ сбежать самочинно! Подло? Да! Зато есть возможность увидеться и попрощаться с вами, с милым, родным краем! Осмысли, мама, завтра иду на битву! Иду ─ под пули! В огненный вихрь! Долго ли упасть в битве в костер и вечность? Зачем же осуждать за побег из госпиталя?
Мария Михайловна отозвалась мягче:
─ Я твою стихию не осуждаю. Бессмысленно! Ты живешь по законам собственного сердца, а сердце у тебя самолюбивое и самовластное! И весь ты стихия крестьянского мужика! Тебе ничего не стоит нарушить законы жизни, праведные они, не праведные! Выстрадаешь истину, будешь отстаивать ее до погибели, а не отступишь. И опять же не зная, прав ты или не прав! Ты идешь по жизни, как отец! Он тоже восстал против миропорядка, не захотел жить, как стреноженный конь на лугу. И что от его бунта, его сумасбродства? Ранняя смерть! Ушел, как молния в землю! Вышел светоносно из тьмы, и снова ушел во тьму. Исчез бесследно, а кем себя возомнил? Властителем истины, царствующим разумом! Как оказалось на деле? Раньше батраку платили за трудовой день пуд зерна, а он сколько платил? Горсть на ладони, и то с превеликим трудом, с печалями сердца! Кто выиграл? Отец? Крестьяне? Почему и надорвал свои силы ─ от бессмыслицы.
И ты почитаешь себя, всевластием истины! И постоянно живешь в разладе с разумом. Постоянно! Помнишь, куда тебя привела стихия? В Вяземскую тюрьму, под расстрел! И снова ушел в стихию, как Стенька Разин, пожелал, ─ убежал из госпиталя, не пожелал, остался! Война же идет, бесов сын! Изловят чекисты, снова под расстрел подведут! Ты чего, смерти ищешь? Зачем это тебе?
Александр уронил повинно:
─ Каюсь, мама, я не прав! Но не мог я себя пересилить! Душа, душа просила ─ с тобою повидаться!
Мария Михайловна привстала, поклонилась:
─ Поклон до земли, что мать не забываешь, радуешь ее своим явлением! Но почему пришел снова воровски, без документов? Как я могу знать, воюешь ты? Или беглец с поля битвы, изменник Отечества и прячешься, как зверь, по тамбовским лесам? Вдруг и правы те, с малиновыми петлицами, какие наезжали к тебе в гости!
─ В чем правы?
─ В том, что ты есть предатель Отечества!
Александр вытер с лица пот:
─ Разве ты не получала мои письма с фронта?
Матерь не сдавалась:
─ Письма можно написать отколь хочешь! И штамп воинской части поставить.
─ И кто тебе такое известил?
─ Те и известили, что наезжали, с малиновыми петлицами!
Сглотнув слезы, сын с болью отозвался:
─ Получается, ты не веришь своему сыну?
Мария Михайловна погладила на груди крест с распятьем Христа:
─ Верю, не верю, мое ли богатство? ─ она подошла к старомодному сундуку, достала документа. ─ Прочти сам. И осмысли, в каком ты звании? Пересвет Отечеству? Или Каин Отечеству?
Ощутив невольную тревогу, Александр Башкин развернул документы, сложенные трубочкою. На гербовом бланке, где был оттиск ─ ГУГБ НКВД СССР. Тульское областное управление, были напечатаны на машинке адрес, письмо матери.
Воин, волнуясь, стал читать:
«Уважаемая Мария Михайловна! С печалью сообщаем: ваш сын Александр Иванович Башкин сбежал из артиллерийского училища, где собирались, вооружались воинские дивизии для отправки на фронт. Таким образом, он дезертировал из армии, стал изменником социалистического Отечества!
Еще есть возможность спасти ему жизнь. Пусть явится в Тульское управление НКВД с повинною. Объясните ему: если явится с повинною, то военный трибунал может проявить милосердие, не вынесет смертный приговор. Он получит десять лет тюрьмы и и будет отправлен солдатом в штрафную роту на фронт, где сможет искупить свою вину. Если разыщем его мы, то ваш сын будет расстрелян без всякого снисхождения, ─ как враг народа и Родины!
Не пожелает явиться, спасти загубленную жизнь, Вы сами, как матерь, проявите благоразумие, сообщите о его появлении в отдел НКВД в Мордвесе.
Начальник управления НКВД старший майор государственной безопасности В. Н. Суходольский».
Александр исподволь научился принимать злые удары судьбы. И оставаться с мечом на коне, как воин Пересвет, несломленным, непобежденным. Мать была не права, он не жил расхристано, он жил вдумчиво. И строго, повелительно строго к себе! Да, были сломы, повороты, он разрушал в себе миропорядок, они нарушали равновесие между жизнью и смертью. Он платил за это слезами и сердцем! Так было и в роковом побеге из училища, и в тюрьме, и перед расстрелом, и в штрафном батальоне, и в плену.
Но он никогда не слышал в себе отчаяния, гибельного страха, в любые времена, в любые испытания оставался человеком, с честною и правдивою душою, еще более влюбленным в свою землю. Он был из гордого племени руссов, кто первым выходит на Куликово поле с мечом и щитом защитить великую Русь. Он не боялся смерти. Он совсем не боялся смерти! Упасть за святую Русь на поле сечи, как падали на поле сечи за Русь его предки, пахари и воины, было ему пиршеством радости, пиршеством благословения от Бога! Он ничего не боялся, ни грозы, ни бурь, ни пули, летящей в сердце, но прочитанное письмо наполнило ужасом, повергло наземь, как сразило копьем Челубея!
─ Это кошмар, мама! ─ воин не скрыл душевного потрясения. ─ Такие письма может принести только злая пророчица Кассандра! Получается, сын у тебя враг народа? Объявлен вне закона? Круто! Может каждый арестовать и загнать пулю в затылок. Круто! И что же теперь? Я сама неполноценность в доме-тереме! Не имею права на застолье! Я чужак в доме! Разбойник Кудеяр, из тамбовского леса? Так вы изволите думать, милые родители?
Мария Михайловна посмотрела с тоскою:
─ Правда, не из леса пришел?
─ Из леса, мама! Кабаном бегал! Споткнулся о пень, стал человеком. И пришел, ─ с надрывом в сердце отозвался Александр.
Он строго помолчал:
─ Что я хочу сказать? Слушай! Я появился на свет от русской крестьянки, вскормлен твоею грудью. Во мне свет твоего сердца! Я получил в наследство от отца, от дедов ─ пахарское поле, березовые рощи, пение иволг, раздольные песни и пляски на берегу реки, красоту ромашкового луга, всю Россию.
Я слышу в себе мучительную связь с Отечеством руссов! До боли слышу, до слез! Мне все дорого, мило. И синяя бездонность неба, и поля с колосьями ржи, и сама деревня с колодцами и журавлями, со снопами ржи, косогор, что осыпан ромашками, по которому я не раз водил под уздцы Левитана и Бубенчика на водопои к реке! Дорог-мил и тополь с вороньими гнездами, где я спас выпавшую птицу, и то, как на болоте стонет выпь, и то, как трубит пастух, щелкает кнутом, выгоняя сонное стадо коров на медово пахнущий луг, и даже ветка крушины с ягодами. Смотришь, крутишь ее в руке, и оторваться нет сил!
Нет сил, оторваться от красоты, слышишь ли, мама? Я во все времена, на фронте, ухожу в смерть и смерть! Каждое мгновение со мною ─ смерть, смерть и смерть! Я вижу мир так обостренно, что плачу, если вижу цветок у луговой тропки, который истоптан копытом лошади! Копытом человека! Из жалости плачу! Из любви к жизни! Из радости, что еще живу в окаянно красивом и в окаянно жестоком мире!
Вся земная красота, мама, светоносно вошла в меня с такою силою, с такою любовью, что я каждые разы удивляюсь, как бы я мог не жить, не жить на земле, а проплыть призрачным облаком там, где звезды, где Вселенная. Проплыть на время и исчезнуть в звездном бесконечном пространстве!
Но я есть на земле!
Есть, ибо есть ты!
И быть на земле, это чудо! Чудо! И это чудо явила ты!
И это чудо Воскресения на Земле пришло не само по себе, мама, а там, в битве, когда в тебя летят пули, когда рядом рвутся мины и снаряды, когда рядом умирают люди с пробитым сердцем, где кровь льется ручьями! Там я постиг страшную, мучительную любовь к людям, и к жизни, и к России тоже. Могу ли я все это предать?
─ Все так, сынок, все так, ─ милостиво согласилась Мария Михайловна. ─ Не о том речь, кого сечь! По разуму ли ты обиду во мне воскресил? Коли твоя правда, то почему беда-печальница так насильственно в мою избу вошла, сердце омрачила?
Повинная я в том?
─ Нет, конечно. Я виноват. Сам. Моя боль, моя скорбь. Откуда все? Ты права: от стихии, от непутевости, от разгульного сердца Стеньки Разина! Мне тяжко, очень тяжко было жить на плацу в училище, где выстраивались воинские полки для отправки на фронт! Воина-русса учили колоть штыком тряпичные, набитые опилками куклы. И маршировать по плацу по восемь часов! Я к тому времени уже сражался на нерве, один на один с тьмою танков с черными крестами! И стыдно, оскорбительно было мне, мама, суетиться штыком, как на карнавале идиотов! И зачем? С каким смыслом? Там танки с черными крестами, огонь шлют, не подняться, а мы бежим на танки со штыками наперевес! Не только роту, полк положат на поле сечи в одно мгновение! Я не выдержал унижения! Не выдержал унижения, мама, слышишь? И сбежал! Сбежал на фронт, мама, а не в тамбовские леса! И я уже был у фронта! И ждал на шоссе маршевую роту, дабы пристроиться воином и по чести добраться до места, где шла битва!
Но задержали чекисты! Так я оказался в Вяземской тюрьме, был приговорен военным трибуналом к смертной казни. За дезертирство! По роковой ошибке! Понимаешь? Я бежал на фронт, а судьи посчитали, ─ бежал с фронта. Разобрались, отправили в штрафной батальон. Я, мама, весь изранен, я давно искупил вину кровью, а они все мучают!
─ Кто они? ─ прицельно спросила мать.
─ Чекисты. За храбрость я четыре раза был представлен к награде! Все срезали они, с малиновыми петлицами.
─ Плутаешь ты, сын. Плутаешь! ─ не согласилась и нахмурилась Мария Михайловна. ─ Они уверены, ты изменник Родины, затаился в лесу, в берлоге. И ищут там! В логовище зверя! Как же они могут срезать тебе награды, ─ как солдату Отечества, который воюет, а не прячется зверем в чащобе?
─ Потому что я не человек, мама! ─ с болью вскричал Александр. ─ Я волк, волк, потому и окружают красными флажками! В моем личном деле записано: был в тюрьме, приговорен к смерти за измену Родине! И я теперь для чекистов, мама, извечно ─ враг народа! Им безразлично, искупил я вину кровью, не искупил, все едино будут всю жизнь преследовать, и всю жизнь не жаловать! Сколько буду воевать, я во все времена, во все времена не получу ордена! Чекисты будут срезать! Тем более, звание Героя! Я есть горькая земная прокаженность, мама, помечен знаком дьявола!
Матерь Человеческая стояла на своем:
─ Ты, правда, воюешь?
─ Воюю, мама.
─ В таком случае, почему тульские чекисты шлют тебе проклятья? Грозят расстрелять как изменника Родины?
─ Все просто, мама! ─ по покою отозвался сын. ─ Меня как изменника Отечества арестовали чекисты из Смоленска! Там разобрались, ─ через страшное избиение в НКВД, через приговор о смертной казни в Вяземской тюрьме, что я есть не изменник, а есть воин Отечества! И благословили на битву! Чекисты из Тулы, скорее, о том не знают! В шкатулке у чекистов лежит заявление от начальника артиллерийского училища о моем побеге! Они и продолжают, по долгу службы, разыскивать мою земную греховность!
─ Сходи, объясни. Повинись, ─ с теплотою потребовала Мария Михайловна.
─ Куда я пойду, мама? Война в Отечестве! Тысячи и тысячи воинов-руссов гибнет в безумстве сражения! Половодье горя! Половодье боли! Половодье слез! Столкнулись миры, обожжена Вселенная! И тут я пришел к чекистам, принес на суд, на поиск истины и справедливости одну-единственную судьбу! Кто станет разбираться, мама? Только в радость возликуют, о, беглец Башкин! Долго ждали! Выбрался из берлоги! Выбросил белый флаг! Помучил! Поморозил! Теперь и мы погреемся.
И устроят побоище. Собьют с табурета и будут бить резиновыми шлангами, сапогами, пока кровью не истечешь, не дашь признание, что ты германский шпион! Я стану кричать от боли и обиды: я не шпион! Я воин Руси! Я пришел с поля битвы установить истину, вы зря меня преследуете, зря стараетесь загнать как волка за красные флажки! Я не волк! Я воюю! Без вины мучаете!
И что чекисты? Изольются слезами? Встревожат совесть? Не встревожат! Я жертва, они палачи! Я смерть, они ─ жизнь! Еще в сладость позлорадствуют: говоришь, забрали ни за что! Подлую клевету на ЧК возводишь! И ─ удар в челюсть, новые избиения! Хорошо, если отправят на урановые рудники, а то и забьют! Им убить человека, в заслугу! Одним врагом народа меньше, а то, что стало меньше одним солдатом России, им совершенно безразлично. Народу ─ тьма, его хватит! Разве это исключено, если возможно? Идти в ЧК безумие, мама! Я все это прошел. Весь избит. Не так повернусь, все слышно, как кости двигаются, хрустят; во все тело боль царствует. Я до сих пор плачу!
Мария Михайловна не приняла его исповедь:
─ На морозном хворосте в берлоге полежишь, еще не так кости начнут хрустеть, а боль царствовать!
Александр сжал ладоням виски:
─ Мама, ты хоть понимаешь, какую обиду мне несешь?
─ А какую ты мне принес? Не отследил еще сердцем? Лжешь ты, крутишь! Если ты по ошибке попал к чекистам, по ошибке приговорили в Вяземской тюрьме к смертной казни, где, наконец, разобрались и вернули тебе достоинство, то почему не сообщили чекистам в Туле, что ты чист перед Родиною, оправдан, отправлен на фронт?
─ Не знаю, мама! Не знаю! Когда я был в тюрьме, фашисты взяли Смоленск и уже штурмовали Вязьму! Чекисты вполне могли встать на защиту города-крепости! И пасть смертью героя! Кто будет сообщать? И куда сообщать? Чекисты из Тулы вполне могли не выслать заявку в Смоленск! Велико событие ─ Башкин сбежал на фронт! Или с фронта! По лесам тьмою беглецы скрываются! Будут по каждому звонить в колокол по Руси?
Возникло гробовое молчание.
─ Что ж, так и будешь жить на земле как загадочный рок? ─ задумчиво произнесла Мария Михайловна.
─ Лучше быть им, романтичнее, чем лежать в земном Мавзолее. Я еще погожусь Отечеству.
─ Где погодишься? ─ печально посмотрела женщина.
─ На поле битвы.
Невыразимо тяжело было Александру уезжать из родного дома-терема без прощения матери. Он встал с рассветом, едва солнце озолотило обесснеженные пашни, ладные избы и речку, спрятанную в ольховом кустарнике. Взяв котомку, крепко пожал руку Алексею, поцеловал спящую сестру Нину и Аннушку, прощально посмотрел на икону святой Богоматери, какая была озарена гранатовым светом от горящей лампадки, и быстро вышел в сенцы, нечаянно задев порожнее ведро, которое отозвалось грустным и прощальным звоном.
Постоял на крыльце; с поля дул житняк, приятно пахло соломою. Подышав свежим, росистым воздухом, послушав пение иволги на березе, зашагал с косогора по тропке к мосту.
Мария Михайловна вызвалась проводить до околицы. Всю дорогу шла и плакала, все никак не смогла смирить в себе боль, обиду и горечь.
Перед Мордвесом, у кладбища, остановилась:
─ Прощай, сын.
─ Прощай, мама, ─ он поцеловал ее.
Она отстранилась, задумчиво потеребила платок. Глаза ее жили в тоске:
─ Не приходи к нам больше, ─ вымолвила с мучительною грустью. И строго повторила: ─ Не приходи!
─ Как не приходи? ─ сын ощутил в сердце гибельную скорбь. ─ Опомнись, что ты говоришь, родная моя?
─ Не приходи, и весь сказ. Ты принес в дом вековечный позор. Я могла бы тебя убить! И должна была бы убить! Так и так в тебе нет смысла, ты есть чужое невспаханное поле, где не прорасти колосу, и обречен, слышать проклятия предков. Но я люблю тебя! И не могу даже пожелать смерти. Ты мой сын! К несчастью! Уходи!
─ Грузные у тебя слова.
─ Какие встревожил
─ Ты несправедлива, мама! Я не изменник, я воин Отечества! ─ с болью произнес Александр. ─ Твоя казнь есть безжалостность! Тебе изменила мудрость! Тебе изменила матерь Человеческая! Отрекаясь от сына, ты отрекаешься от правды!
Мария Михайловна была непреклонна:
─ Не клади меня в гроб раньше времени. Уходи! И больше не являйся.
Александр растерянно постоял. Его сердце содрогнулось, сжалось в тревоге и боли. Он по молитве посмотрел. И с ужасом отвел глаза. Объясняться было бессмысленно! Матерь по ненависти утратила силу милосердия, силу от Бога! Она чтила в себе только правду, какую выстрадала! И никакая сила в мире не сумеет ее переубедить. Примет смерть, но не отречение от истины, какую выстрадала!
Сын стоял одна бледность, одна униженность и одна оскорбленность! Он остро слышал свое горе. Родственная связь оборвалась. Все разрушено, они отсоединились. Но он не винил матерь Человеческую, понимал ее сердце. И прощал ее сердце.
Он повинно произнес:
─ Прости, мама, что безвинно принес тебе столько горя! Получается, больше не приду.
─ И писем не пиши.
─ Хорошо. Не буду писать.
─ И забудь мой дом.
─ Забуду, мама.
Он развернулся и пошел в Мордвес. Сын спиною слышал, как стоит на тропе его мать, его великая крестьянская матерь Человеческая, стоит сгорбленно, губы сжаты в строгости, невольно текут слезы, какие промокает платком, Но слезы льются и льются, душа никак не испытает утоления. Но глаза уже несут солнечное свечение, незваную ласковость. Матерь не шлет вслед проклятья. Ее мучают тревога за сына, горькое смятение и растерянность.
Во имя чистоты рода, крестьянского Отечества она принесла в жертву себя. И сына.
Горько ему. Горько матери.
Немыслимо горько!
Сыну бы оглянуться, ласково помахать рукою, на миг соединиться душами , какие уже плывут в звездном небе Одинокими Мирами, но какие еще несут в себе сладкую родственность. Возможно, возникнет прежняя нежность, потревожит себя надежа на сближение; но Александр не оглянулся, он шел упрямо, с суровою непреклонностью,
и гордо сдерживал себя, дабы не оскорбить матерь Человеческую своими слезами! Он тоже плакал, ибо нес в себе крест с распятием Христа! И слышал себя у Голгофы! И слышал во всю Русь хор плакальщиц и горевестниц! И слышал, что он перестал Быть Человеком, а стал Обидою и Болью!
Страшно, немыслимо страшно было с приговором матери уходить на фронт! Он вполне может больше не вернуться в отчие края; смерть-насильница, смерть-печальница может в любое мгновение стать вещею правдою. И все, отжил, отцвел! Но даже если выживет, гибель минует его, он, опять же, не сможет переступить порог родного дома, увидеть радостно-печальные глаза матери, братьев и сестер; он изгнанник, он обречен на одиночество, обречен святым Иовом странствовать по дорогам войны! И нести, нести оглушительное страдание в душе.
За что казнит его жизнь?
Матерь Человеческая считает его изменником русского Отечества!
Немыслимо!
Что ж, раз так, он больше не явится в отчий дом! И писем не станет писать.
И не писал.
Пока не получил звание Героя Советского Союза.
Не ушел в бессмертие!
Глава двадцатая
НОВЫЕ ДОРОГИ ЖИЗНИ И СМЕРТИ СОЛДАТА РОССИИ
I
Начальник госпиталя в Криволучье Валентин Иванович Чернышев узнал о побеге воина, однако обвинительное заявление в НКВД не выслал.
Но внушение при выписке сделал:
─ Вы знаете, чем рисковали, молодой человек? Расстрелом! Зачем? В военном комиссариате в Туле на вас лежат наградные листы, ваш путь отмечен подвигами! Вам дарован отпуск, на свидание с матерью! Златогривые кони ждут вас.
Александр вернул предписание:
─ Я больше не нуждаюсь в свидании! Прошу отправить на фронт.
В военном комиссариате Тулы Александру Башкину присваивают звание старшего сержанта и направляют командиром орудия в истребительный противотанковый дивизион Второго Белорусского фронта, под командованием генерала Георгия Федоровича Захарова. Жизнь развернулась круче некуда. Был танкистом, стал истребителем танков.
В мае 1944 года Верховная Ставка разработала план операции «Багратион» по освобождению Белоруссии. На долю воинов фронта выпало взять штурмом города Витебск, Оршу, Могилев, Бобруйск, Минск, преодолеть под шквальным огнем полноводные реки Днепр, Березину, Свислочь, разгромить немецкое воинство в миллион двести тысяч, где было 900 танков, 1300 самолетов, 9 тысяч орудий; командовал ими генерал-фельдмаршал Вильгельм Модель.
Наступление началась 23 июня. Сражение развернулось на тысячу километров. Миры столкнулись не на жизнь, а на смерть. Истребительному дивизиону майора Ивана Артамонова была поставлена задача: любою ценою удержать мост у Бобруйска через реку Березину, дабы отрезать пути отступления немецкому воинству из города. Воины Краснознаменной стрелковой дивизии генерала Эдуарда Казакевича и танкового корпуса генерала Бориса Бахарова уже усиленно, и без надежды на спасение, загоняли фрица в кольцо окружения.
Занял свое место и расчет Александра Башкина. Расчет ─ все флаги в гости: наводчик орудия ─ таджик Очил Гадабаев, заряжающий ─ молдаванин Ион Кустрица, подносчики снарядов татарин Феодосий Муранов и русский Василий Бессонов из Орла.
И только гитлеровцы, не желая попасть в котел, стали отходить с рубежа Жлобин ─ Рогачев, подошли к мосту через Березину, как артиллеристы в полную огневую силу, стали расстреливать вражеские танки, пехоту. Немцы не ожидали такого неукротимого, гибельного натиска, растерялись, но быстро выстроились в боевые колонны и гордым, безжалостным тараном, как жертвенники, пошли на приступ.
Орудие Башкина, врытое в землю, стояло за огромными валунами для защиты от снарядов и мин, на самом острие наступления немцев. Выдвинуть сюда орудие задумало командование, требовались храбрецы, жертвенники! Он вызвался добровольно. Вызвался ─ не ради героизма. Просто после ссоры с матерью пришел распад души, жить не хотелось! И какая жизнь, если ты перестал быть Человеком, а стал на земле Обидою и Болью! Тяжело, тяжело, когда в тебя безвинно летят проклятья! Так и мучает желание перелиться в гром, и эхом по печали отгреметь над землею! Стать в половодье одинокою льдиною и уплыть в море-океан, где в безбрежье растаять!
Мучила, мучила обида! Но в бою, как и раньше, был собран и бился люто, бесстрашно. Без устали в грохоте разрывов мин и снарядов, реве танковых моторов слышались его громовые раскаты:
─ Внимание-е! По головному танку ─ бить бронебойными, живо, живо, прицел постоянный. Ого-онь!
Посмотрев в бинокль, радовал:
─ Молодцы! Сбили! Пошла пехота! Заряжай шрапнелью! Живо! По орде злодеев огонь, огонь!
Его орудие первым принимало всю огневую силу удара немецкой пехоты и танков, рассекая колонну, словно острием меча, сея страх и панику, а то воинство, что просачивалось к мосту, до моста, до спасения не добиралось; обезумевшего фрица расстреливали прямою наводкою пушки сержанта Матвея Кузякина и сержанта Сергея Новикова.
Битва шла уже сутки, вторые, пятые, и все без еды, без сна. Все поле сражения было изрыто снарядами, взрывами бомб и гранат, завалено трупами немцев и воинов-руссов. Лежали вперемешку, обнявшись в последней смертельной схватке. Горели танки, подбитые, опрокинутые. Высились печалями раздавленные орудия. И все это смешалось-перемешалось в скорбном и безбрежном столкновении жизни и смерти. Но гитлеровцы все шли и шли на штурм цитадели. Им надо было любою ценою сломить мужество артиллеристов, расстрелять из танков или отбросить за мост, но непременно перебраться через Березину, вырваться из роковой западни на свободу. Только так они еще могли не попасть в плен, выжить. И с честью вынести боевые полковые знамена с поля сражения.
Башкин стоял за щитом орудия. Свистящие снаряды и пули с жутким воем проносились над головою, бились о броню, крошили валуны. По его лицу, черному от порохового дыма, текла кровь, но ранение было не опасным, пуля слегка задела щеку, взрезав кожу. Он рассматривал в бинокль поле битвы в грохоте железа и разливе огня, отыскивал наиболее опасный танк, что близко подходил к мосту, кричал охрипшим голосом:
─ Ион, заряжай бронебойным! Живо, живо, сучий сын! Очил, видишь танк на косогоре, у колонки? По машине ого-онь!
Случалось, и сам не выдержав суетливости, в злобе давил на ручной спуск. Он остро чувствовал момент прицела, когда танк выходил на перекрестье, на сам выстрела. Несомненно, это шло не только от мастерства, но и от таланта. Раздавался выстрел, и машину охватывало пламя. Но дальше случилось невероятное. Подбитый танк, стоявший на обочине дороги долгое время без движения, неожиданно взревел мотором и, обгоревший, шумно лязгая гусеницами, с наведенным орудием, на бешеной скорости, помчался на позицию Башкина, грозя смять его орудие, вкопать в землю весь расчет.
Близкий чугунный гул ползущего танка оглушил наводчика Очила, затмил сознание. Он на миг растерялся, в испуге, в изумлении замер. Башкин, сорвавшись, как зверь, в молниеносном броске с силою оттолкнул Очила:
─ От панорамы! Мигом! Убью! Ион, заряжай бронебойным! Живо, сукин сын! Сомнет же крестоносец!
И сам в суетном и невольном волнении приник к прицелу, стал бешено вращать маховики, стараясь скорее, скорее загнать грохочущую машину в перекрестье. Он выстрелил раз, второй, третий. Он видел, что снаряды метко ложились на цель, били в броню. Но танк устрашающе упрямо, неумолимо, необъяснимо шел и шел на редут Башкина, оставаясь до загадки неуязвимым. Прозвучал четвертый выстрел, снаряд угадал в бок башни. Но снова танк не содрогнулся, не возгорел пламенем. После ранения в бою он был как заговоренный. Как дьявол в железе.
Гибель под гусеницами была настолько близка, что подносчик снарядов Феодосии Муранов в панике закрыл лицо руками и молитвенно, как в забытьи, стал шептать и плакать:
─ Аллах, спаси и помилуй! Спаси и помилуй! Ой, не хочу умирать! ─ он по-волчьи взвыл и, шепча проклятья, бросился стремглав от орудия к мосту. Но Вася Бессонов задержал воина, успел подставить подножку. И сильно ударил сапогом в лицо, дабы пришел в память.
Странно! Но и пятый выстрел не помог! Тогда Башкин, обезумев, взял связку гранат, бешеным разозленным зверем вспрыгнул на бруствер и напрямую, одержимо, среди летящих пуль и огня пошел на танк. Он понимал свое безумие, свою безнадежность, свою печаль и свою смерть, но другого исхода не было. Не веря в Бога, он молил Бога помочь ему дойти до железного рыцаря-крестоносца на бросок гранаты. Пусть молнии выстрелов из пушки и пулеметов не сожгут его раньше. Дойти, дойти!
Немец-танкист не испугался поединка и двинулся неостановимым, железным тараном на безумца. Он не спешил стрелять, решил позабавиться, пожить бесконечно дивными чувствами властелина чужой жизни и смерти, зная, что ему ничего не стоит в любое мгновение расправиться с русским солдатом. Один меткий выстрел из орудия ─ и он вознесется пламенем в небо. Пусть еще поживет миг славянин-русс в награду за храбрость, порадует себя надеждою выиграть дуэль.
Человек и танк сходились все ближе. За каждым стояла жизнь. И мать. За каждым стояло свое Отечество. Один защищал славянскую Русь, где пахали землю трактора и растили хлеб, другой Германию, где еще умильно и победоносно кричали «Зиг хайль!» И славили бога войны Ареса.
Один должен умереть в неравном поединке. Совсем-совсем! И никто не спасет. Обратись в скорбную птицу-тоску, в радостную птицу– надежду, а выстрел прозвучит. Кто же ляжет в могилу? Чья мать получит похоронку и зажжет поминальные свечи о сыне в церкви и зальется слезами? Они оба воины и оба любят жизнь. И свою матерь Человеческую. И свою любимую. И свою землю. И свое небо.
Почему один должен умереть?
И все же должен!
Дико и страшно!
Фашисту завоевателю надоело играть в благородство, видеть в бойницу прокопченное, улыбающееся лицо воина-00000000000русса, своего убийцы, он нажал на гашетку. Но меткого выстрела не получилось, снаряд не сразил безумца, а только с гулом пронесся над его головою и оглушительно, в жарком пламени, разорвался у моста. Второй снаряд тоже пролетел мимо. Немец с тревогою и опозданием, до слез и боли осмыслил: сошелся с храбрецом слишком близко. Получалось, перехитрил себя. И свою жизнь. Снаряды неумолимо, неумолимо будут проноситься с перелетом! Уже в страхе и панике, танкист попытался развернуть башню и обрушить пулеметный огонь на смельчака. Но забыл, что в подножие башни попал снаряд, ее заклинило. Тогда он догадливо переключил скорость, дал задний ход, чтобы поскорее, своевременно отъехать на безопасное расстояние, но раненая машина тоже не слушалась. Он взвыл, от бессилия заплакал. Башкин видел, как плачет фашист, в сердце кольнула жалость, но расслабляться, медлить было нельзя. Он размашисто бросил связку гранат и припал к земле. Раздался оглушительный взрыв, танк-дьявол возгорел пламенем.
Расчет орудия с волнением следил за гладиаторским поединком своего командира с танком. Все понимали, командир пошел на смерть, дабы защитить расчет. И воины, уже ждавшие гибели под гусеницами танка, увидев, что все обошлось, танк источает дым и огонь на поле сражения, бросились качать командира, когда он устало спрыгнул в окоп.
Но Александр Башкин отстранился, присел на станину и долго унимал нервную дрожь, стараясь распрямить обгоревшие ладони, удержать губы, зашедшие в судороге.
Заряжающий Ион, посмотрев вдаль, тревожно крикнул:
─ Командир, на шоссе клубится пыль. Еще колонна фрицев подходит!
Быстро поднявшись, Башкин посмотрел в бинокль, подал команду:
─ К орудию! По местам! Заряжать осколочными!
ПОЕДИНОК С ТАНКОМ
Гадабаев пнул ногами груду гильз, быстро
припал к панораме прицела; он все еще не мог сдер
жать радости:
─ Живы, мама моя! Еще повоюем! Признаться, я уже любимую девушку в губы поцеловал, попрощался! Эх, эх, думал, почил таджик Очил!
─ Прекратить разговоры, ─ строго потребовал Башкин. ─ Наводи в самую гущу. Метче! Осколочными бить и бить по пехоте, о-огонь! О-огонь!
Орудие выпустило тридцать снарядов по колонне; не меньше и соседние пушки. Вдали на шоссе закружился гибельный смерч. Грузовые машины, крытые брезентом, переполненные немецкими солдатами и офицерами, в грохоте взрывов переворачивались, вспыхивали огнем в мгновение ока. Взлетали ввысь разорванные люди. Живые уползали в поле, спасаясь от пуль, снарядов и разлива огня, собирались в отряды. И под прикрытием танков, снова устремлялись на прорыв к мосту.
Фашистов расстреливала вся артиллерия. Но они атаковали и атаковали обреченно, жертвенно, в невероятном зверином натиске, безжалостно шли по трупам своих воинов. Один воинственный клич возвышал дух немцев над полем битвы ─ вперед, к мосту! К мосту! Тем временем, все безжалостнее истаивали ряды защитников моста! Артиллеристы-истребители истекали кровью, уже с невероятным усилием сдерживали натиск танков с черными крестами и следом бегущую, пьяную, стреляющую пехоту. Перевернулось, превратилось в груду металла от прямого попадания танкового снаряда орудие Матвея Кузякина. Перестало отражать злобные атаки врага орудие Сергея Новикова. На его позицию шла туча танков. Артиллеристы, отбиваясь, разожгли вокруг танковые костры, но сами пали смертью героев; отчаянно храбрый сержант Сережа Новиков, загоняя последний снаряд в казенник, закрывая замок, был сбит танком и, уже лежа под его гусеницами, надавил на спуск. От выстрела танк опрокинуло, перевернуло, он запылал огнем. И стал по печали гореть вместе с пушкою и отважным воином-руссом.
Теперь у моста осталось одно орудие. Орудие Александра Башкина. Остальные батареи стояли за мостом, на самом берегу Березины. И оттуда вели огонь по противнику.
─ Ничего, и с такою силою постоим за Русь святую! Так, бронебойщики? Живы будем, не помрем, ─ сухими губами вымолвил Александр Башкин, желая поднять настроение.
Но воины угрюмо молчали, на шутку радостью не отозвались. Была короткая передышка, и все жадно курили, допивали из фляжек последние капли водки. Они все смертельно устали; бои шли беспрерывно, нельзя было ни на минуту сомкнуть глаза, прилечь. И страшно то, жили без еды; командир батареи майор Иван Артамонов выслал смельчакам-жертвенникам походную кухню, но ее расстреляли немцы; и теперь она догорала на мосту, рядом лежали убитые метким выстрелом лошадь и повар в белом колпаке. Совершенно непонятно было, какая невероятная сила еще держала воинов на земле?
─ Нас не будут убивать, командир, ─ неожиданно произнес Очил. ─ Живьем постараются взять.
─ Почему? ─ с тревогою спросил Муранов.
─ Дабы на костре поджарить. Как туземцев, ─ весело отозвался Ион. ─ И твое сердце поднести генералу СС. Они же тоже голодные!
─ Оставь печали, Феодос! Не за тем, не убьют! ─ успокоил Очил, гася окурок о подошву сапога. ─ Фрицам надо мост уберечь, каждый перелет снаряда разрушает его. Зачем вся битва, половодье смертей, если не смогут переправиться через Березину? Мы потому и живы, что они стреляют в нас бережно. Так бы давно разнесли.
Он помолчал:
─ В нашей азиатской стороне живет любопытная саранча. Племя имеет короля, знать, гаремных любовниц, воинов и смертников-жертвенников. Отправляясь на новое пастбище, встретив на пути реку, жертвенники опускаются на дно, на любую глубину, и от берега к берегу выстраиваются цепочкою, следом еще и еще, пока не образуется мост. По нему по величию и шествуют король, жрецы, знать, остальная саранча. Жертвенники остаются в реке, не воскресают; они навечно замурованы водами.
Так и фашисты. Тоже имеют жертвенников, которым предначертано лечь у моста, а генералы и элитные войска переправятся на тот берег.
─ Как еще переправятся! ─ возразил молдаванин.
─ Переправятся, Ион, ─ настоял Очил. ─ Думаешь, мы одни выстоим? Фрицев тьма! Сомнут! Мы ─ та же саранча! Те же жертвенники. Обидно! Осталось одно орудие, наше! Почему не подогнать еще пушки! Нет, будут в бинокли рассматривать, как станем умирать! Справедливо? Не подло?
Башкин пожелал, было, пресечь злобное настроение, но перемолчал; правда была за Очилом. В мире любви, воинского братства, конечно, не справедливо оставлять на поле сражения одно орудие, когда за мостом стоит несметная рать. Но у командования свои соображения. Может быть, и в самом деле они та саранча?
Но о чем печаль? Сами сюда, на острие атаки, вызвались, добровольно! На кого теперь обижаться? И зачем разжигать в сердце скорбь-тоску, если сама война ─ есть горькая несправедливость! Перед жизнью! Солнцем! Белыми облаками, плывущими в небе! Перед обгоревшею сосною на берегу Березины! Перед убитою женщиною, какая полоскала белье в реке и безвинно была сражена пулею, и какая досыта напоила волны собственною кровью.
Война ─ проклятье!
Но фашист самозвано пришел на твою землю, Очил!
Кому ее защищать? Кому идти Пересветом на Куликово поле?
Тебе, Очил, и мне!
Александр посмотрел на небо:
─ Ночь, какая! И звезды! Всем искать лежбище. Я остаюсь за часового.
II
Немцы были аристократы. Ночью воевать не любили. Но только пришло утро, снова двинулись в атаку. Башкин рассматривал в бинокль бесконечную колонну, какая вытекала из леса. Попытался считать танки. Но считать танки с черными крестами было бессмысленно. И надо ли было считать? Все танки были воина-русса. На этот раз танки не пошли напролом через мост, свернули к реке и по берегу реки устремились дальше за Бобруйск, где немецкие саперы навели понтонные переправы через Березину под прикрытием самолетов. Там и развернулась жестокая битва, и на земле, и в небе.
Тяжелые устрашающие «Тигры» с черными крестами пошли штурмом на мост. Сержант Башкин подсчитал; было девять танков. И по радости подумал, с такою силою биться можно. Танки уже выстроились в боевые порядки и мчались по полю, изрытому воронками, мимо рощи в пожаре, догорающих танков, тупорылых разбитых машин; жерла орудий грозно раскачивались, все слышнее доносился страшный лязг гусениц. За танками бежала тьма солдат; зеленые мундиры расстегнуты, рукава засучены, на весу держат автоматы, спотыкаются, то ли с усталости, то ли спьяну. Поют песню но песня не складывается, они издавали хоровой звериный рев тоже был лют страшен. т было такое ощущение, мчалось на штурм моста стадо дьяволов.
Когда танки подошли на выстрел, Александр Башкин застегнул на ремешок каску, деловито подал команду:
─ Ион, заряжать бронебойным! Очил, по головным машинам, прицел постоянный, о-огонь!
От выстрела орудие злобно подпрыгнуло, откатилось назад, но снова, как послушное дитя, вернулось на позицию. Гитлеровцы не остались в долгу, танки властно, с ожесточением ударили из пушек по редуту Башкина, сотрясая его оглушительными взрывами, обдавая защитников летящими осколками, жаром пламени, пороховым дымом. Битва началась. Расчет сержанта Башкина один на один вступил в смертельную дуэль с девятью танками.
Грозные, зеленые чудища подбирались все ближе.
─ Огонь! Огонь! ─ хрипел Башкин в хаосе грохота, стараясь облизнуть сухим языком высушенные, как стручки, губы. ─ Ни секунды промедления! Держать танки на расстоянии! Подпустим к себе, навяжут на гусеницы!
Валентин Бессонов крикнул:
─ Командир, пошли на штурм автоматчики!
Он тут же повелел:
─ Ион, заряжать шрапнелью! Живо, мать твою! Очил, огонь! Огонь!
Сражение шло до вечера, без передышки, истребители отразили все танковые атаки; бились в ярости, в подвиге, с лютою одержимостью. Все понимали, битва прощальная, все, все примут жертвенную гибель за русское Отечество. Почему и оставалось ─ дороже отдать свою жизнь! На поле битвы уже горело четыре танка.
Героев-жертвенников поддерживала огнем артиллерия Ивана Артамонова, стоящая за мостом. Но не было силы остановить безумие. Немецкие «тигры» в атаке все ближе и ближе приближались к редуту Башкина; им удалось разбить и разрушить скалу, где стояло орудие Башкина. Орудие оказалось оголенным, беззащитным. Теперь воины бились уже, как истинные жертвенники! Бились неизменно в ярости, в подвиге. Бились, как соколы, не думая о себе! У редута падала и падала несметная рать.
Но вот снаряд пробил щит орудия, оглушил защитников редута огнем и взрывом. Люди устояли, но у пушки оторвало колесо, она осела на бруствер. Подносчик Феодос в страхе и панике крикнул:
─ Все, командир! Сели! Погасла свеча! Надо отходить. Мы свое дело сделали! Смотри, еще танки. Туча! Не побороть.
Башкин повернул лицо, прокопченное пороховою гарью, с застывшей на щеке кровью, зло крикнул:
─ Куда отходить?
─ За мост! Мы свое дело сделали. Пять суток врага не отпускаем с прицела! Пушка разбита! Зачем зря гибнуть?
Башкин повернул злое, прокопченное лицо:
─ Приказ к отступлению был? Не был! Стоять насмерть! Ион, заряжать бронебойными! Бить танки! Бить! Танки подошли близко! Такие танки бить, одна радость! И им будет в радость ─ добить открытую пушку! Теперь, кто кого? Пошла открытая дуэль!
Наводчик Очил изворачивался, как мог. Вставал на колени, ложился на спину, стремясь в перекрестье прицела изловить несущийся танк.
─ Есть, командир! ─ в радости отзывался он, когда удавалось быстро загнать его под выстрел.
─ Огонь! ─ и еще грозная машина с оборванною гусеницею закружилась на месте.
─ Феодос, неси еще бронебойные! Не унывай! Живы будем, не помрем! ─ в пылу боя кричал командир орудия, желая подбодрить ослабевшего артиллериста.
Еще выстрел. И еще танк заклубился дымом.
─ Молодец, Очил! Умница! Метко бьешь, ─ величал и его похвалою командир. ─ Теперь нервничать нельзя. Промахнемся, мигом окажемся в гробнице!
Очил, солдат от храбрости, на лесть не поддался. Он не воевал, а работал. Хладнокровно, вдумчиво. Живи в нем даже маленький трус, не выстоять бы артиллеристам в бою, давно бы немцы загнали орудие в землю. Но храбрость не панацея от смерти! Ему, безусловно, светила звезда удачи! Полководец от удачи, может завоевать мир. Воин от удачи, может выиграть сражение. Удача в бою ─ царская шуба с плеча.
И был еще человек от удачи, от храбрости, талантливо-загадочный командир. Сам Башкин.
Битва внезапно приостановилась.
Феодос выглянул из окопа, дико закричал:
─ Командир, крестоносцы повернули обратно! Ты смотри, мы победили, победили!
Очил закурил, презрительно произнес:
─ Вояки! Столько машин на одно орудие, и не взяли!
─ Зря ты, ─ осудил его Валентин. ─ Смело бились. Шесть танков в костры вошло; а сколько полегло фрицев на поле битвы! Просто мы, руссы, сильнее, и правдою, и духом.
Башкин поддержал воина-русса:
─ И я так считаю. Ты воин от Бога, Очил! Но и немцы ─ не меньше воины от Бога! Они тысячелетия звенят мечами на земном побоище! Они и в мир являются для битв. Воинственность густо замешена в крови, в характере. И такую правду надо осилить, не зазнаваться. Недооценил врага, и сшибли рога. Учти, если еще хочешь жить и воевать.
Все вдумчиво помолчали. Командир орудия стал с напряжением вслушиваться в грозно-таинственную тишину, нависшую над полем сражения. Бесчисленно горели костры, к небу тянулись густые черные клубы дыма, над полем, в ожидании пира, кружили стаи ворон. Внизу, под обрывом, по покою плескались волны Березины. Немцы, безусловно, ушли не совсем. Затишье временное. Танки через мост не прошли! Значит, пошлют автоматчиков. Это страшнее. Танки можно жечь! Пехота ─ тысяча летящих пуль, не уклониться, не поднять головы. Немцам достало разума осмыслить, излишняя роскошь губить машины перед одним орудием, полуразбитым, полурастерзанным. И вскоре он разглядел в бинокль, как из соснового урочища вышли немцы и бесстрашно, не пригибаясь, пошли на его редут, красиво и строго расчерчивая вечернюю мглу автоматными огненными трассами.
Башкин подал команду:
─ К бою!
Битва была последняя. Воины знали, на дуэли никому не выжить! Артиллеристы расстреливали врага в упор, но сдержать бешеный натиск не смогли. Немец превосходил числом несметным. Кольцо окружения, кольцо гибели сжималось вокруг редута Башкина все очевиднее. Немцы уже подступили на бросок гранаты.
Они воинственно кричали:
─ Русс Иван, не надо воевать! Сдавайся! Сохраним жизнь!
Расчет Башкина окружили. Уже слышалось злобное, радостно-окаянное дыхание немцев. Сам командир стоял за щитом, был страшно бледен, ожесточен, заточен на гибель. Было видно, ушел в глубокую думу. Думал за ребят! Вокруг вповалку валялись пустые снарядные ящики, горы гильз. Остался один снаряд, осколочный, как раз для наседавших автоматчиков. Дальше все. Трагическая неравная кровавая дуэль прекращалась. Немцы перебежками, с пьяными криками, бесконечно, рассеивая веером оранжево-огненные пулевые трассы, уже накатывали на орудие Башкина.
Оттолкнув Очила, он сам загнал последний снаряд в ствол, припал к панораме и выстрелил в самую гущу врага. Раздались проклятья, стоны. Выстрелил вовремя. От броска гранаты загорелось орудие. Все стояли среди огня, обжигаемые его пламенем. Сгореть в огне, на костре? Смиренно? Покорно?
─ Постоим за Русь, братушки! Победа или смерть! ─ крикнул Башкин.
Он взял немецкий пулемет, с которым не расставался все бои, и пошел на врага в прощальную битву. Рядом его товарищи. У горевшей пушки остался один Феодос Муранов. Он ошалел от взрыва, от битвы. И теперь, встав на колени, закрыв лицо руками, молитвенно, как в забытьи, шептал и плакал:
─ О, аллах, спаси нас! Господи, спаси!
Но четверка пошла. Шли полукругом, впереди Александр Башкин, шли истерзанные, изможденные непрерывными боями, но гордые, грозные и страшные. Шли, не таясь, не пригибаясь, в человеческий рост. Каждый знал: это его прощальная битва, его последнее земное время. Они шли в смерть. Врагов было полчище, а их четверо. Безумием было думать и надеяться на возвращение в жизнь. Они уходили в салюты, в разноцветье огней, в обелиски, в победу.
И то воистину было на эшафоте за Русь ─ безумство храбрых!
И даже немцы, отчаянные вояки, видя окаянное бесстрашие печальников России, растерялись, ужаснулись. Они не стреляли, ждали сближения. Видимо, был приказ взять смельчаков живыми, чтобы казнить и испить из черепа хмельное вино, и тем насытить себя храбростью, как позволяли себе завоеватели с Великим князем и великим воином Руси Святославом! Или в наказание выжечь раскаленным штыком на спине красную звезду. И распять на кресте. И было за что! Вокруг редута Башкина, как на страшном погосте, лежали воины-завоеватели, и не было им числа, а подальше, на поле сражения угрюмо и бесчисленно высились черные, обгоревшие танки, остановленные метким выстрелом в своем разгоряченном беге. Надо посмотреть, что за люди? И люди ли? Не дьяволы?
Воины сблизились. Завязалась рукопашная. Жертвенники вошли в смерть! Без воскресения! Били врага гранатою, кинжалом, камнем, всем, что было под рукою.
И неожиданно ─ немцы побежали!
Что такое?
Испугались четверки воинов, какие были истерзанны, измученны, и еле стоящих на земле в окровавленных гимнастерках?
Башкин оглянулся. По мосту на бешеной скорости, стреляя из орудия, мчались краснозвездные танки, следом, рассыпавшись цепью, бежали солдаты в касках, держа у груди автоматы.
Командиры кричали:
─ За Родину! За Сталина! Вперед!
В небе с пронзительным гулом пронеслись истребители и бомбардировщики: там, в сосновом урочище, где стояло еще фашистское воинство, от бомб содрогнулась земля.
К сержанту Башкину, что стоял обессилено, в изорванной одежде, с окровавленным лицом, опершись на дуло пулемета, дабы не упасть на землю от усталости, подбежал командир дивизиона Иван Артамонов, крепко обнял, расцеловал.
─ Сопереживал я за вас. Герои! Каждого, каждого ожидает награда! ─ Он обнял и поцеловал по очереди каждого защитника моста через Березину у Бобруйска: Очила, Иона, Василия, и подоспевшего Феодосия. ─ Видели, видели ваш поединок с танками, да помочь ничем не могли. Простите, сынки! Армия штурмовала Бобруйск! В котле удержали сорок тысяч фашистов! И вы на хмельном пиру были, мед-пиво пили! Еще раз спасибо, сынки!
III
Александр Башкин после боев похудел на девять килограммов. Его поместили в походную лечебницу поправить здоровье, набраться сил. Спустя время, у санатория с крутым шиком притормозил «виллис» из штаба дивизии. Распахнулась дверь и с подножки молодцевато спрыгнул подполковник в фуражке с красным околышем, с планшетом и биноклем на ремне через плечо; зловеще виднелся пистолет в расстегнутой кобуре. Он осмотрелся, строго подтянул ремень, ─ и решительно направился в кабинет главного врача.
Постучав, повелительно вошел, не дожидаясь разрешения. Быстро и строго спросил:
─ Могу я видеть сержанта Башкина?
Главный врач, сухонький старик, с библейскими глазами, пил чай, макая в стакане баранку. Вежливо спросил:
─ С кем имею честь?
Подполковник показал удостоверение начальника особого отдела дивизии.
─ Мне он требуется срочно. Я ждать не могу.
По покою отпив чай, доктор поинтересовался:
─ Нельзя ли уточнить, подполковник, по какому именно вопросу? Старший сержант Башкин находится на лечении, он провел в бою пять суток, без сна, еды и пищи. Нервная система истощена предельно. Организм разрушен. Требуется восстановление сил. Надеюсь, вам знакомы труды Гиппократа: разрушаем себя в мгновение, созидаем ─ вечность?
─ Мне лучше знать, доктор, что надо разрушать, что созидать! ─ повысил голос ранговый чекист. ─ В какой палате он размещен?
Главный врач отрешенно заглянул в его надменные глаза, покорно махнул рукою:
─ В седьмой палате, батенька. В седьмой! Прямо по коридору и налево. Вас сопроводить?
─ Не беспокойтесь, доктор! Я не привык ходить под конвоем.
Башкин играл в шахматы с соседом по палате. Появившись, подполковник повелительно спросил:
─ Старший сержант Башкин кто будет?
Воин подтянулся:
─ Я, товарищ подполковник!
─ Александр Иванович? ─ строго уточнил офицер.
─ Так точно, товарищ подполковник! Командир орудия истребительного дивизиона старший сержант Александр Башкин!
─ Собирайтесь. Поедете со мною.
─ Далеко ли? ─ насторожился воин.
─ Куда надо, туда и повезу! Исполняйте приказ, товарищ сержант!
Развязно-оскорбительный тон офицера не понравился Башкину. Он задел. Омрачил. И обидел. Сознание обожгла черная молния: подполковник наверняка из контрразведки «СМЕРШ». Только они могут вести себя так нагло, развязно. Башкин стал одеваться и размышлять: чем на этот раз провинился перед чекистами? С поля боя не сбежал. Приказ выполнил с честью, мост удержали! К ордену обещали представить. В чем же дело? Скорее, берут на тоску и на распятье за прежние, давно отмоленные грехи. Из Тульского областного НКВД пришла на Особый отдел дивизии строгая депеша: арестовать врага народа, сопроводить в тюрьму, отдать под суд Военного трибунала. И приговорить, если не к смерти, то к каторге. За измену Родине! Измену прощать нельзя. Предательство должно быть наказуемо.
Но каким образом чекисты из Тулы смогли его разыскать? Отписала им матерь Человеческая? Отписала, не подумав о его Голгофе, о его распятье, о его страдании? Просто им явила, был сын на побывке и отбыл на фронт. Куда, не знаю! Чекисты и раскрутили.
Неужели мать предала? Самое близкое, самое родное существо? Есть ли что страшнее и печальнее? Но разобраться, со зла ли написала? Не со зла! Больше от горечи, от тревожной материнской тоски, от желания узнать, кто ее сын, воин? Или беглец от Отечества, Каин Отечества? Матерь отреклась, но любит его, не отпускает от сердца, от своей боли и печали. И с полным материнским желанием и правом намерена сыну помочь выбраться из дикого хаоса чувств, из ужасно-постыдного мира, в котором он оказался по вине непутевого, необузданного характера.
Но поможет ли ее неосмысленная доброта?
Не станет ли хуже?
Любовь матери бывает и с солнцем, и с гнетом!
Если разыскали тульские чекисты, то наверняка отправят в кандалах в родные края как особо опасного преступника, как Емельяна Пугачева в железной клетке. И в Туле станут пытать: почему сбежал из училища? Где скрывался все это время? Воевал? Где? На Украине? Танкистом? Кто командир танка? Роман Завьялов? Он может подтвердить? Не может! Почему? Пал героем в бою! Назови командира танкового полка! Не знаешь? Дурочку ломаешь, парень! Удар в челюсть. И понеслись вскачь вороные кони: почему мать не послушал? В ЧК не явился? Почему мы должны тебя в мордвесском лесу отлавливать? И пошла раскрутка ─ от тоски к тоске, от плача к плачу, а там и тюрьма, и расстрел!
Не дают, не дают чекисты ни жить, ни воевать!
Лучше бы остался там, на эшафоте у моста, у реки Березины. И был бы навеки недосягаем для люда с эмблемою щита и меча! И умер бы героем. По чести, без позора. За себя и за Россию.
Горько и скорбно!
Он с печалью посмотрел на офицера-чекиста:
─ Еще раз осмелюсь спросить, товарищ подполковник, далеко ли собираться? Я в том смысле, с вещами? Или налегке?
─ В штаб дивизии! А с вещами или налегке, вам лучше знать, сержант! Я только исполняю приказ генерала Казакевича.
Штаб дивизии расположился в роскошном особняке. Все помещения убраны коврами. Ярко горели люстры. В каждой комнате шла своя жизнь. В одной работали телеграфные аппараты, за которыми сидели серьезные и симпатичные девушки, отстукивая сообщения по азбуке Морзе, в другой суетились адъютанты, раздавая командирам полков и рот приказы и донесения, в третьей связисты разматывали катушку с проводом, устанавливали связь. Подполковник неторопливо, с достоинством провел Башкина через все помещения, забежав вперед, открыл массивные двери. Они вошли в большой зал, где за длинным столом расслабленно сидели штабные офицеры, слушали игру на рояле молодого, с осколочным шрамом на щеке, полковника, виртуозно исполняющего вальс Чайковского. На столе, устланном белою скатертью с золотистою бахромою, обильно, необозримо стояли бутылки с вином, вазы с фруктами, хрустальные рюмки с недопитою водкою, открытые консервные банки с икрою, мясом, рыбою.
Башкин про себя отметил: пир, скорее, по случаю освобождения Бобруйска. На душе стало легче. Даже грудь обожгли слезы радости. Свершилось неожиданное, невероятное, полагал, что везут на чекистском «виллисе» в тюрьму, на суд трибунала и на расстрел, а угадал на пир званым гостем к офицерам дивизии. Но так ли? Он осудил себя. Не рано ли возликовал в радости, посчитал себя спасенным?
Подполковник, подтянувшись, четко доложил:
─ Товарищ генерал, старший сержант Башкин по вашему приказанию доставлен!
Командир дивизии Эммануил Казакевич отодвинул рюмку, моментально встал, подошел. И долго, пытливо рассматривал воина:
─ Рад видеть, солдат! Как отца величают?
─ По-русски, ─ вытянулся в струнку Башкин. ─Иван.
─ Долго ли воюешь, Александр Иванович?
─ Три года, товарищ генерал! На фронт ушел добровольцем. 30 июня зачислен в коммунистический полк. Воевал под Ярцевом, Вязьмою, Смоленском, Курском, Сталинградом. Все битвы не перескажешь. Теперь бьюсь за Белоруссию. И время на земном календаре как раз 30 июня. Получаются своеобразные именины.
─ Храбро воюешь. Что ж без наград?
─ Ни ради чинов и наград воюю, товарищ генерал! Ради Отечества.
─ И орден бы не помешал. Как считаешь, солдат? ─ улыбнулся командир дивизии.
─ Так точно! ─ согласился воин. ─Кто же откажется от генеральского благословения за ратные труды?
─ Сам откуда?
─ С Куликова поля.
─ Символически?
─ По правде, товарищ генерал!
─ По правде мы все оттуда, ─ пожелал уточнить Эммануил Казакевич. ─ И как воины, и как защитники России.
─ Я по самой правде, ─ не сдавал свое старший сержант. Он испытывал неловкость перед генералом, стоял навытяжку, но дара речи не терял.
─ Предки мои обосновались как раз у поля Куликова, в деревне Пряхино, под Тулою. Ходили дружиною против печенегов и половцев, гуннов царя Аттилы, германских крестоносцев Священной Римской империи. Защитили Русь. Теперь я воюю, как их потомок, как славянин-русс! Кому еще подниматься за свое Отечество? За славянские земли? За матерей? Вот и иду с дружиною походом на Берлин! От Куликова поля! Мне грешно худо воевать! Извините, если наскучил, ─ подтянулся Башкин.
Казакевич закурил папиросу.
─ Зачем же извиняться? Все верно оцениваешь. С любопытством выслушал твою исповедь. Мне, генералу, командиру дивизии, интересно знать, чем жив солдат? Вижу, жив верою. Самое прекрасное, что услышал. Без веры не осилить фашиста! Сила пришла на Русь преогромная. По святцам фюрера нашему Отечеству предначертано исчезнуть с земли. На веки вечные! Без мольбы и пощады. Без воскресения! Как и славянам! Все должны были, без исповеди и траурного плача женщин, забыть свою великую и таинственную правду жизни, познать страшную и таинственную правду смерти! И исчезнуть бесследно, во тьме, в бесконечных холодных просторах вечности.
Мы защищаем не только себя и Русь от гибели и разрушения, но и весь славянский мир, и жертвенно умираем за то, чтобы не зазвонили в последний раз в тоске и скорби, колокола церквей в печальной звоннице на прощальном славянском погосте. Мы даем славянам жизнь на тысячелетия, как воины и вещие пророки, как земные боги! Я вижу, ты это осмыслил, раз идешь с дружиною походом на Берлин с Куликова поля. Осмыслят ли то наши потомки? Вспомнят ли за рюмкою водки, что мы были, жили и, не жалея себя, жертвенно бились за жизнь русса, за бессмертие Отечества! Или исчезнем в забвении? Вот о чем болит моя душа, солдат! Уже не о победе! Будем ли мы там, где русская вечность?
Он грустно посмотрел в окно, как летают голуби над крышею костела, но сказал весело:
─ Говоришь, именины у тебя? Три года добываешь победу? Что ж, за это не грешно и выпить. Садись к застолью. И не обессудь за угощение. Чем богаты, тем и рады.
Башкин сел рядом с генералом. Его адъютант сообразительно поставил на стол графин с водкою, разлил по рюмкам, пододвинул тарелку с икрою, бананы, и почтительно отошел на расстояние.
Казакевич поднялся с рюмкою:
─ Товарищи офицеры! Перед вами командир орудия старший сержант Александр Башкин. Он пять суток с храбрецами удерживал мост у Березины, отражая несметные полчища врагов. Он и еще тысячи и тысячи солдат принесли нам победу в Бобруйске. Встань, воин. Покажись миру.
Башкин смущенно поднялся. Неожиданно поднялись и офицеры, стали аплодировать.
─ Выпьем стоя за русского солдата, товарищи офицеры! ─ по молитве выразил желание командир дивизии.
Когда все выпили, расселись, занялись разговорами, он подозвал командира дивизиона майора Артамонова.
─ Как полагаешь, Иван Филиппович, заслуживает солдат звания Героя?
─ Вполне, товарищ генерал!
─ Сочиняй наградной лист на Героя Советского Союза. Я подпишу. Невообразимо! Пять суток держать у моста танки с черными крестами! И какие? «Тигры»! Сколько надо силы, таланта, храбрости! Я удивлен, право, право.
Иван Артамонов повинно возразил:
─ Есть печаль, товарищ генерал!
─ Что за печаль?
─ Вороные кони не доскачут до Кремля. Зауздают на
переправе.
─ Что так?
─ Он бывший штрафник, Эммануил Львович. Живет под прицелом чекистов. Потому и воюет без наград.
─ Солдат имеет нашивки за ранения. Разве он еще не смыл кровью свою вину?
─ Смыл, товарищ генерал! Еще, как смыл! Да и вины не было. Было мальчишество, романтизм! Бежал на фронт, попал к чекистам! Приговорили к расстрелу за измену! Разобрались, оказалось не виновен! Воин предельно чист перед Отечеством, но чекисты есть чекисты! Наверняка наградной лист не завизируют особые отделы армии, фронта.
─ Так уверен? ─ выразил сомнение генерал.
─ Он уже был Героем! От маршала Константина Рокоссовского имеется благодарность! Александр Башкина и еще два штрафника двое суток удерживали у Медыни танки Гудериана, не пускали к Москве! Был представлен к Герою! Срезали!
─ Чекисты?
─ Чекисты.
Генерал печально покачал головою:
─ Что ж, наградим орденом Ленина. Наводчику, как его?
Майор немедленно отозвался:
─ Очил Гадабаев.
─ Ему орден Красной Звезды. Остальным боевые медали «За отвагу».
─ Будет исполнено, товарищ генерал!
Вновь трогательно заиграл рояль. Офицеры тихо запели песню о любви.
Генерал Казакевич наклонился к Башкину, заботливо и виновато произнес:
─ Кушай, солдат, кушай. И не кори, что не смог больше. Не моя вина. Сам все слышал.
IV
Прошло время, но ордена Александр Башкин так и не получил. Военные контрразведчики не стали визировать его наградной лист, вернули генералу Эммануилу Казакевичу, и приписали: о чем вы думаете, генерал? Воин Александр Башкин приговорен Военным трибуналом в Вяземской тюрьме к смертной казни за измену Родине, и герой! Станет разгуливать с орденом Ленина?
Не кощунственно ли?
Тяжело было Башкину слышать себя Каином Отечества! Повелительно не желали снимать его с распятья! Но что делать? Воевать было надо. Одно утешало, радовало: его боевые друзья получили за храбрость заслуженное благодарение. Очил гордо ходил с орденом Красной Звезды, остальные носили медаль «За отвагу». И даже Феодос Муранов. Он не стал его осуждать. Тем более, предавать.
Убить человека обвинением легко. Сложнее поднять до себя!
Война ─ это страшно!
В каждого человека заложена богами земли и неба светоносная любовь к жизни, и в битве, где смерть и смерть, и в тебя, и только в тебя летят все пули и бомбы, попробуй не бояться гибели! Все ее боятся! Кто не боится, тот лжец или сумасшедший! Просто загоняешь страх подальше в сердце, в его бездонные, неразгаданные глубины, и идешь соколом биться с врагом! Солдат Муранов этого не может! Еще не осилил себя! Что ж, силою загонять его на битву? Колоть штыком? Грозить пистолетом? Трус в бою не воин! Даже пуля его чувствует, летит в сердце, разрывает его.
Смелого пуля боится!
Это не только в песне поется, это от правды жизни, от правды битвы! Почему? Еще не разгадано, почему. Но так было, есть и будет.
И воин Феодос пересилит в себе слабость, воскресит храбрость. Станет воином.
Александр Башкин был командиром!
Александр Башкин был психологом!
Тем временем, воинство Второго Белорусского фронта продвигалось с боями все дальше, к Минску. Бои шли жаркие, на пределе сил, немцы никак не желали возвращать Белоруссию, то была последняя цитадель, какая оберегала Третий рейх! Дальше открывалась столбовая дорога на Польшу и Берлин.
У города-крепости Белосток случилось роковое, непредвиденное. Краснознаменная стрелковая дивизия генерала Эммануила Казакевича наткнулась на сильного врага, несла большие потери, приостановила наступление. Замер, как вздыбленный конь над обрывом, весь Второй Белорусский фронт! Краснозвездные бомбардировщики, дальнобойная артиллерия усиленно, вдумчиво и не раз пропахивали глубокую оборону врага, крепость становилась одним пожаром, одним костром Джордано Бруно, но стоило воинам подняться на штурм, как сова и снова они попадали под губительный огонь. На роковое поле битвы было страшно смотреть, поле было сплошь усеяно воинами Руси!
Приносить дальше жертвоприношения богу войны Аресу было бессмысленно.
Под угрозою оказался исход операции «Багратион». Из Кремля шли гневные молнии о трусости, о предательстве! Требовали немедленно пленить город Белосток!
Командир дивизии Эммануил Казакевич первым разгадал роковые причины неудач под Белостоком. Разведчики армии не сумели точно выверить расположения огневой системы противника, почему самолеты и бросали бомбы на позиции врага больше наугад, наудачу, почему и получалось: бомбили много, а все безрезультатно.
Разведчики дивизии Казакевича повели охоту за «языком». Нужен был не окопный солдат, а штабной офицер, хранитель карты с секретными военными сооружениями! Только так можно разгромить крепость! От разведчиков зависела жизнь и смерть русского воинства, стоящего у стен Белостока! Но для дивизии пошел косяк неудач! Разведчики уходили на разведку и не возвращались, натыкались на засады, гибли. Все держалось на нерве. Дивизия попала в беду.
Тогда Александр Башкин и услышал в себе душевное родство с генералом Эммануилом Казакевичем, услышал его боль, его тоску, и сердце его закричало во все военное пространство, помоги!
Ближе к вечеру, он спустился в командирскую землянку, сыро пахнущую землею.
─ Разрешите, товарищ майор, ─обратился он к Артамонову, ─ сходить за «языком»? Вдруг повезет?
Командир дивизиона брился у зеркальца при свете керосиновой лампы. Освежив лицо одеколоном, вытер его полотенцем. Неожиданно спросил:
─ Красавицу в уме держишь?
─ Как не держу? Моя красавица, березка русская! Заря над озером! Радуга над пашенным полем!
─ Поссорился?
─ С кем?
─ С радугою над пашенным полем?
Башкин застенчиво помолчал:
─ Мы не переписываемся, товарищ майор! И в любви не смог объясниться! Красавице было 13 лет. когда я ушел добровольцем на фронт!
Командир дивизиона пытливо посмотрел:
─ Тогда, значит, с матерью поссорился!
─ И с матерью не ссорятся, ─ четко ответил Башкин. ─ В каждом недоразумении права только мать. Сыну остается смиренно выслушивать ее наказы, ее приговор. И жить, как она повелела. Я есть на земле не сам по себе. Я ее мир, ее творение, ее праздник, ее боль. Во мне ее сердце, а мое сердце ─ в матери. Преступно обижать ее своими обидами!
─ В таком случае, не разберу, сержант, чего ты смерти ищешь? Ты первый пушкарь! Осиротить меня хочешь? Тоскою омрачить? Так мне горя хватает! Я три батареи с храбрецами я под Белостоком положил! Теперь еще ты! Осмысли, ты мне как сын. И люблю как сына! За храбрость, удачливость! За талант воина! Завершим битву, дам направление в артиллерийское училище. Офицером будешь! Теперь иди и запомни: на войне у каждого свое: Богу ─ Богово, кесарю ─ кесарево.
Башкин попытался возразить:
─ Я это понимаю. Но в беде человек, кто одарил солдата ласкою, верою, даровал орден! Теперь он в тоске, тоска ненасытная! Не возьмет дивизия Белосток, вполне могут заковать в кандалы чекисты по воле Кремля! Весь фронт остановился! Не шутки!
Я добуду языка, поверьте, Иван Филиппович! Я легкий, хожу неслышно. И юркий, как змея. И стреляю метко.
Командиру дивизиона надоели пререкания:
─ Сержант Башкин, круго-ом марш! Еще станешь надоедать, получишь пять суток гауптвахты.
Но Башкин был упрямее, чем сто ветров. В разведке дивизии служил его хороший товарищ Александр Никифорович Анурьев, в звании старшина; они были одногодки, дружили и после победы. В землянке разведчики как раз собирались в тыл врага; чинили маскхалаты, пробитые пулями, примеряли лапти, пристегивали к ремню автоматные диски в чехле.
─ Возьми с собою. Не подведу! ─ прямо попросил Александр. ─ Мучает желание добыть фрица. За дивизию обидно! За весь фронт! В случае удачи лавровый венок тебе не помешает! Я не курю. В рукопашной был не раз. Чувствую опасность издали, как птицы бурю.
─ У бати спрашивал? ─ с любопытством посмотрел командир взвода разведчиков.
─ Отказал.
─ Вот видишь, бережет тебя. Понимает, что в разведке жизнь коротка! Разведчик особая профессия. Надо иметь не только бесстрашие, но и строгость к себе, ходить тише, чем барс, без промаха бросать нож в часового. Выдал себя дыханием, нечаянно задел консервную банку, орудия уже не отпустят, взроют могилу.
Анурьев посмотрел в его грустные глаза:
─ Ладно! Чего воду носить в решете? Собирайся! С Иваном Филипповичем договорюсь.
Едва стемнело, разведчики тронулись в путь. Шли лощиною, с опаскою, стараясь идти гуськом по тропе, какая была протоптана коваными сапогами немцев. Едва поднялись на взгорье, как ударили шестиствольные минометы, прямо над головою пронеслась огненная пулеметная очередь. В небо взметнулась ракета, разрывая тьму ночи, озаряя землю ослепительно ярким светом. Разведчики еле успели припасть к земле.
─ Неужели обнаружили? ─ с печалью вышепнул Анурьев. ─ Тогда все, мы в могиле.
Башкин тихо отозвался:
─ Не тревожься, командир! Без прицела фашист бьет. На испуг берет. Снаряды шальные, разорвались за лощиною, пули ушли в березовую рощу.
─ На испуг только дураки берут. Немец ─ не глуп. Он себе на уме. Не пускает к своим позициям, ─ разъяснил старшина. И дал команду разведчику изучить тропу метров на тридцать вперед, попросив следовать осторожнее, чтобы не задеть проволоку, натянутую от мины. Разведчик быстро по-пластунски пополз и невидимо, юрко, как ящерица, исчез в темноте. Неожиданно раздался взрыв, в небо взметнулся огненный столб.
Анурьев помолчал, перекрестился. Все тоже в скорби, в трауре помолчали.
─ Видишь, не пускает фриц! ─ не скрыл он печали. ─ Догадываюсь, это тропа смерти. На ее плахе полегли все наши разведчики. Она ближе всего ведет к штабу танковой дивизии СС «Викинг», где сокрыты секреты крепости. Обхитрили, сволочи! Теперь наша очередь обхитрить пришельца. ─ Криком совы он подозвал разведчиков, объявил: ─ Идем по минному полю, где фашист не ждет! Следовать за мною, след в след.
─ Осмотрительно ли, командир? ─ подал голос Башкин. ─ На поле расставлены прыгающие мины, осколки бьют в грудь и живот. Можем не преодолеть. Не лучше ли перебраться вплавь через реку, без риска получится и без жертв.
─ Это приказ, сержант! ─ строго вышепнул командир разведчиков. ─ И больше не рассуждать, не то пристрелю.
Он смело шагнул во тьму, подлез под колючую проволоку. И с опаскою, строго-медленно пошел по минному полю, зорко, с напряжением всматриваясь в землю, рискуя с каждым шагом угодить в смерть. Разведчики шли следом. Обнаружив натянутую проволоку, старшина легонько наступал ногою, прижимал к земле. И жестом приказывал идти вперед, осторожно переступать через минное заграждение. Когда все разведчики перешагивали, он бережно, не без страха, сходил с проволоки, отпускал ее, и она вновь натягивалась, как струна. И шествие продолжалось тем же смертельно-опасным порядком. Едва небо прожигали осветительные ракеты, все быстро ложились на землю, каменно замирали.
Ближе к фашистскому логовищу Башкин предложил продвигаться дальше ползком, разделившись на группы. Уничтожат немцы одну, до штаба доберется другая. Анурьев идею одобрил. Штаб танковой дивизии СС охраняли два дота. На штурм дота у реки повел разведчиков, с разрешения командира, Башкин. Он воевал вдумчиво и на минном поле проявил свою хитрость, свою мудрость. Подползая к проволоке, не прижимал ее к земле, а перегрызал кусачками. И смерть отступала. Конечно, затрачивалось больше времени, но зато было надежнее. И оставался проход к отступлению, возвращению.
Вскоре показался дот. Он врублен высоко в скалу. У ее подножия лежат, как мирно спят, наши разведчики, кто прилег у камня, прижав автомат к окровавленной груди, кто замер на земле, окрасив кровью траву. Скорее всего, им не удалось незаметно подползти к доту, были обнаружены, поднялись в атаку и все были расстреляны.
Дот защищал городскую площадь, здание райкома партии, где и размещался штаб дивизии СС «Викинг», где и была спрятана жизнь Кощея Бессмертного.
Башкин прикинул: огневой дот на скале нельзя взять ни пулею, ни гранатою. Он оставил разведчиков лежать в ольховом кустарнике, а сам, как наступила ночь, подполз незаметно к доту с тыла, и стал бесшумно, как барс, подниматься по ступеням лестницы, какая прорублена в скале, и по которой, скорее всего, поднимались в маленькую крепость сами немцы, хозяева ее. Он крепко сжимал в руке автомат, вынул гранату. Добравшись до стальной двери, тихо толкнул ее. Она не поддалась. Слышно было, как в доте фриц, страдая от бессонницы, играл очаровательную мелодию на губной гармошке. Легким свистом Башкин подозвал к себе разведчиков. Собравшись вместе, стали соображать, что делать? Дверь так не открыть. Ее надо взрывать. Но взрывать тут же передумали, поднимется шум, начнется стрельба. Перестреляют, как уток! Решили ждать. Чего? Скорее, чуда!
На востоке появились зарницы. Наступал рассвет. Это уже было смертельно опасно. Башкин сильно постучал в дверь. Тишина. Таинственная, необычная. Странно! Не разбежались ли фрицы на ночь к женщинам, на любовные утехи? По идее, не должны. Фриц играет на гармошке. Значит, остальные спят! Он еще постучал. Опять тишина. И безмолвие! Разведчики растерялись! Стало ясно, двери им не откроют! Не велено! Надо знать условные сигналы. Оставалось одно, пустить пулю в висок, дабы не попасть в плен!
И тут свершилось чудо! Воистину, чудо! Неожиданно дверь с грохотом раскрылась. Вышел фриц, посмотрел на небо, сладко зевнул. Расстегнул брюки. Все понятно, вышел по нужде. Его ударили ножом в сердце, оттащили. И ворвались в дот. Быстро и беззвучно истребили гарнизон. Переоделись в немецкую форму, вышли на площадь. Выбирать офицера долго не пришлось. Массивные двери штаба танковой дивизии СС «Викинг» открывались и закрывались каждое мгновение. Выбрали посановнее, с солидным животом и портфелем, с витыми полковничьими погонами. Выждали, как усядется в легковую машину с флагом-свастикою на радиаторе, тронется в путь. Обогнали ее на мотоцикле и остановились у железнодорожного переезда, с семафором и шлагбаумом. На дороге шла своя жизнь, катили тупорылые грузовики, с пушками на борту, крытые брезентом, с песнями маршировали пехотинцы; в рельсовом тупике, с платформ разгружали танки. Раскатывали паровозы, осыпая быстро гаснущими искрами мазутную траву. Вокруг разгуливали немцы.
Соседство с врагом было опаснее опасного. Стоило часовому внимательно вглядеться в лицо русского воина, тут же панически крикнуть:
─ Рус, парашютисты!
И им бы не скрыться! Были бы расстреляны на месте. Но Башкин выбрал именно эту одиссею. На переезде легче было остановить штабную машину; среди немцев легче быть незаметным. Игра смертельная, но выигрышная, в которую играют только отчаянные смельчаки. Сержант-артиллерист и был смельчаком.
Вскоре на шоссе показалась легковая машина с полковником, поблескивая на солнце черным лаком. Башкин в мундире офицера СС вышел навстречу, поднял руку. Машина остановилась. Он потребовал, предъявить документы. Едва водитель открыл дверцу, его ударили автоматом. Немец упал на руль с окровавленным лицом, его оттащили на обочину, в густую крапиву. Самого полковника тоже пришлось нокаутировать. И на скорости помчались к линии фронта по шоссе, затем круто свернули в дубовое урочище, в самое логово фашистского воинства. Свернули и помчались наудачу, проскочат, не проскочат? Другого пути спасения, пути к своим не было!
В густом дубовом лесу стояли колонны танков, скрытые густым ельником. Немецкое воинство, увидел генеральскую машину с флагом-свастикою на радиаторе, подтягивались, отдавали честь. Но вскоре в дивизии СС «Викинг» забили тревогу, русскими похищен инженер-полковник Вильгельм Роттенберг! Повелели, задержать, задержать! Началась погоня. Вслед машине понеслись пулеметные трассирующие пули, запоздалые взрывы гранат, послышались остервенелые лаи овчарок, лес огласился рычанием мотоциклов. Надежда на спасение таяла! Дорога в лесу ухабистая, вязкая, с крутыми поворотами, на корневом выступе, на взгорье машину подбрасывало, как пушинку, предательски заносило на сосны и пни, обычный овраг становился неодолимою преградою; колеса вязли в болотном иле, совершенно обессилевали. Машину-аристократку приходилось подталкивать. И одновременно отбиваться от наседавшего воинства СС. Срезали врага из автомата, били гранатою. И снова мчались к своим.
Машину вел разведчик Семен Лукашов, вел из последних сил, не раз терял сознание. В такие мгновения Александр Башкин бил его по щекам, подносил ко рту флягу, вливал спирт. Погоня то затихала, то приближалась, наполняя лес громким эхом выстрелов, злым лаем собак. Когда фашисты, разогнав мотоциклы, догоняли машину, строчили из автоматов, срезая бурю листьев, Башкин залегал за пулемет и через заднее разбитое окно короткими очередями метко бил по врагу. Погоню удавалось сдержать, рассеять. Но однажды в разгар перестрелки, у лесного озера, машину снесло с дороги. И она никак не могла вернуться на колею, взять песочную насыпь, сколько ее усиленно не подталкивали. Задержка была смерти подобна! Вдали на опушку уже выскочили эсэсовские солдаты и с опаскою, держа на весу автоматы, пошли к машине. Какие силы помогли, знает Бог, но машину, еле-еле, удалось вытащить на дорогу.
Башкин повелел разведчикам:
─ Жмите к своим! Я задержу врага.
Но его не отпустили на гибель. Как без командира? Выпросился остаться в засаде разведчик Борис Оленчук. Но Башкин, подумав, его не оставил, пожалел. Какая польза от новобранца? Убьют первою же пулею. Он, только он может задержать фашиста! Не раз оставался в засаде. Нужна не только храбрость, но и ум, хитрость. Воинская смекалка. Надо часто менять позицию. Выстрелил ─ и исчез! Фашист бьет в твою точку, а ты неожиданно срезаешь его очередью со стороны.
Башкин, пригибаясь, быстро побежал по берегу озера и залег за валун-камень. Эсесовцы его не заметили, и только сошли с опушки на лесную тропу, открылись, и Башкин по покою и деловито повел огонь из пулемета. Немцы на пули не полезли, умные оказались, залегли в ложбине, заросшею густым орешником. Послышались стоны. Воин подождал, не бросятся ли в атаку, не пожелают ли взять живым? Нет, все было тихо. И Башкин, насколько было силы, побежал по берегу озера к разведчикам, живо прыгнул в машину, и она не скорости понеслась к линии фронта по дороге спасения. Лес кончился. Впереди открылось колхозное поле, с березовою рощицею у реки. За рекою окопалось русское воинство, где стояли танки, артиллерия. То было воинство Эммануила Казакевича. Водитель Семен Лукашов заметил, по полю не проскочим, командир, расстреляют! Башкин подумал и повелел следовать прямо по полю, по кочкам и рытвинам. Дорога опасная, но короткая! Едва штабной лимузин вырвался на открытое пространство, как немцы открыли огонь из шестиствольных минометов. Мины со злобным воем ложились все ближе, метче. Каждая последующая могла стать могильщицею. Погибать теперь, было бестолково и тяжело. Очередной промах уже считался чудом! Водитель Лукашов исхитрялся, как мог. Он, то увеличивал скорость, то внезапно снижал ее, то резко отворачивал в сторону. Его неисповедимые зигзаги, каждый раз спасительно выручали, не давали угодить под минометный огонь.
Но страх, попасть под мину, был. Башкина злило, бесило, почему молчит батарея Ивана Артамонова, почему не защитит, почему только по покою наблюдают из окопов, как фашисты расстреливают беззащитную машину? Осатанели разумом? Он открыл дверцу, стал на ступеньку, громко закричал:
─ Братки, мы свои, русские! Защитите! Ударьте по озверевшему врагу!
Но кто его мог услышать за километр? Тогда сержант ударил ножом по руке, смочил платок кровь, привязал его к дулу автомата и стал в отчаянье, неистово ругая русскую леность ума, стрелять в небо, посылая очередь за очередью. И просветление пришло; воины-руссы увидели красное знамя. Артиллерия обрушила губительный огонь на позиции, где в удаль тешились палачи, расстреливая беззащитную машину.
Там, где была радость, все ушло в пожар!
V
Башкина и пленного эсэсовского офицера немедленно доставили к командиру дивизии Эммануилу Казакевичу. Допрос сняли в мгновение. Время торопило. Стоять и дальше у стен города-крепости Белостока становилось страшнее смерти. Воинство жаждало битвы и победы! Контрразведчики Особого отдела разговорили полковника СС предельно быстро; втиснули дуло пистолета в рот и стали прилежно рвать зубы, пока он, не выдержав пытки, не взвыл от боли, не посмотрел на мучителя, как преданная собака. Выплюнув в белоснежный платок вырванные зубы с обильною кровью, деликатно промокнув им голубоватые глаза, источающие слезы, с достоинством приосанился, произнес:
─ Я слушаю ваши вопросы, господин коммунист!
Он дал ценные сведения. Они донесением пошли в штаб армии, затем в штаб фронта и Ставку Верховного Главнокомандования, в Москву. Из ее резерва были выделены армии и дивизии для штурма мощные «катюши» и танки, присланные от маршала Петра Рыбалко.
27 июля войска освободили город Белосток.
Лавровый венок славы не стал лишним для генерала Эммануила Казакевича. Одно он не мог осмыслить, чем отблагодарить храброго и удачливого сержанта Башкина? Чем отозваться, добро на добро? Орден Ленина, который он ему даровал за подвиг у реки Березины, чекисты не благословили. Выпиши еще раз наградной лист, представь к ордену Красного Знамени, опять могут не завизировать.
Он посмотрел на воина, стоявшего навытяжку перед генералом, в печали признался:
─ Чем повеличать за службу, сержант, в разум не возьму! Три дня отпуска устроит?
─ Никак нет, товарищ генерал! ─ по-военному четко отозвался Башкин. ─ Идем на Варшаву, а там на Берлин! Время ли разъезжать по домам?
─ Что ж, и с матерью не желаешь увидеться? С любимою девушкою?
─ После победы увижусь!
Подумав, генерал решил обойтись без наградного листа. Открыл сейф, стал перебирать синие коробочки с боевыми наградами. Он искал орден Славы, но его в генеральской шкатулке не оказалось. Казакевич достал коробочку с медалью, попросил подойти. И сам прикрепил к гимнастерке воина медаль «За отвагу».
Влюблено посмотрел, виновато сказал:
─ Не обессудь, солдат! Чем богат, тем и рад. Носи с честью, ─ и крепко поцеловал его.
Гордость и радость переполнили сердце отважного воина. Даже выступили слезы, слезы печали, боли и радости. Ужели пришла справедливость? Всю войну он был под пулями, снарядами, бомбами, где витает тысячеликая смерть! Где погибнуть, влиться в салюты, почить в земном Мавзолее можно каждое мгновение! Где он выигрывал битву за битвою, совершал на поле битвы подвиг за подвигом, ─ и только в июле 1944 года, его груди коснулась первая боевая награда.
Велики слезы боли.
Велики слезы радости.
Глава двадцать первая
КОМАНДИР ДИВИЗИИ ПОСЛАЛ ЕГО НА СМЕРТЬ, А ОН УШЕЛ В БЕССМЕРТИЕ, или Великий подвиг Александра Башкина на реке Нарев в Польше
I
После освобождения Белоруссии воинство Второго Белорусского фронта с кровопролитными боями подошло к границе Польши.
Стояла ночь. Было затишье. Башкин спал в блиндаже, при коптилке, подстелив лежалую солому, уютно укрывшись старою шинелькою. Вокруг вповалку, кто как пристроился, спали его артиллеристы, спали тревожно, кто жил в битве и слал проклятья танкам с черными крестами, кто стонал, как был распят на кресте, Очил ласково называл имя девушки, с кем прогуливался при луне. И кому желал объясниться в любви.
Жить в себе, жить по покою, не слышать ненасытного воя снарядов, свиста пуль, не слышать лютого, злобного рева танков из дивизии СС «Герман Геринг», пусть на мгновение, было для солдата превеликое счастье.
Не было обреченности!
Не было правды гибели!
Было только солнечное свечение во всем мире, и в сердце.
Спи по покою, солдат, спи! Да благословят тебя на жизнь боги Руси!
В землянку вошел связист Петро Гордеев, разыскал глазами Башкина, тронул за плечо:
─ Товарищ старший сержант, вас срочно требует к себе командир дивизиона!
Александр Башкин надел каску, взял автомат и по ходу сообщения побежал, согнувшись, по начальству. Майор Артамонов ждал его. Он был при параде, в новом кителе с орденами, строго застегнут на все пуговицы, туго подпоясан ремнем, где висела кобура с пистолетом ТТ; хромовые сапоги начищены до блеска, отражают свет луны. Иван Филиппович курил папиросу, старательно пряча огонь в кулаке, когда небо озарялось гроздьями ракет, в бинокль рассматривал позиции противника. Как только Башкин появился, миролюбиво заметил:
─ Вовремя, товарищ сержант! Опаздывать нельзя! Сам генерал ждет!
─ На суд? Провинились?
─ В Берлин тебя посылают. Гитлера изловить, ─ живо отшутился Артамонов. ─ Ты бы, преуспел! Посадил в клетку. Ты ─ как воин, крещен от Бога и от молитвы матери! Не зря над тобою водят хороводы сильные ангелы жизни!
Толкнул его в плечо:
─ Не тревожь себя, не сглажу! Не по ненависти говорю, по любви. Пошли!
Но едва они выпрыгнули из окопа на бруствер, как ночную тишину вспороли пронзительные свисты мин, совсем рядом раздались малиново-красные разрывы, рассыпав вокруг метели осколков, опалив неистово горячим и тугим напором ветра. Артиллеристы, ослепленные огнем, только-только успели залечь. И мигом над их головами пронеслись трассирующие пулеметные очереди.
Когда все стихло, Артамонов поднялся, старательно отряхнулся, матерно выругался:
─ Вот сволочи! Чего не спят? Как приоденусь к генералу, непременно на землю положат! Как на погост, для отпевания! Ни разу до начальства при параде не дошел. Стерегут, что ли?
─ Наугад ударили, ─ отозвался Башкин. ─ Спросонья. Вышел покурить. Покурил, решил припугнуть. Случается, и страх домучает! Выстрелят, и на сердце легче!
─ Наугад, наугад, а чуть не угодили в Эдемов сад! Не твое присутствие, сержант, точно бы уже летели журавлями в поднебесье. Без шуток скажу, везучий! Магнитное поле в тебе сильное. Как щит гладиатора! Все пули отталкивает! Впервые такого человека вижу. Право, право!
В просторном блиндаже командира дивизии было тихо и уютно. Сам Эммануил Казакевич сидел в кресле и внимательно рассматривал карту Польши, разложенную на ломберном столике, рисуя ведомые только ему загадочные круги карандашом. Рядом лежал томик Гете на немецком языке. Временами он наливал в чашку кофе, брал из хрустальной вазы французский шоколад с рисунком Эйфелевой башни и вприкуску отпивал глоток, другой. И снова с прежним напряжением, потирая виски, продолжал изучать карту.
Генерал услышал, как вошли артиллеристы. Поднял голову. Командир дивизиона, подтянувшись, лихо доложил:
─ Майор Артамонов и старший сержант Башкин прибыли по вашему приказанию!
Он встал, поздоровался за руку:
─ Очень хорошо-с. ─ Задумчиво прошелся по ворсистому ковру. Видно было, что собирается с мыслями. ─ Значит так, друзья артиллеристы! Мы идем на Варшаву. 17 июля 1944 года танковая бригада полковника Льва Гусаковского осилила половодную реку Западный Буг и захватила первый на польской земле плацдарм; 29 июля воинство генерала Ивана Конева осилила полноводную реку Вислу и захватила еще плацдарм. Теперь пришла наша очередь. Командующий фронтом генерал Георгий Захаров приказал дивизии осилить полноводную реку Нарев у острова Мазовецкого, где отвоевать плацдарм, с которого воины Второго Белорусского фронта поведут наступление на Варшаву.
Эммануил Казакевич помолчал:
─ Овладеть плацдармом на западном берегу реки Нарев и удерживать его трое суток я вверяю вам, старший сержант Башкин! За трое суток я выстрою переправы и приду на выручку со своим воинством!
Башкин сделал шаг вперед:
─ Благодарю за доверие, товарищ генерал!
Казакевич взял со стола сигарету:
─ Оставь, сержант! Какое доверие? Я посылаю тебя на смерть! Во имя Отечества! И во имя жизни на земле! Посылаю, ибо верю тебе! Посылаю, как сына. Как лучшего воина в дивизии! С болью посылаю, сержант!
Что есть война? Смерть. И слезы. И все же солдат, поднимаясь в атаку на поле сражения, верит, что его не убьют. Убивают, конечно. И не одного. Чувствуют ли они гибель, падая на землю, в свои саркофаги, иссеченные пулеметною очередью, кто знает?
Он жадно покурил:
─ Но в вашем раскладе, сержант, нет, ни веры, ни надежды ─ вернуться живым! Я посылаю вас на смерть! Но могу не посылать! Сделайте выбор сами, добровольно! Освободите совесть! Вы можете остаться! Я вам обещаю, слово генерала, никто не будет знать о вашем выборе, о нашем разговоре.
Башкин строго подтянулся:
─ Я исполню долг воина!
Генерал медленно расправил плечи, словно сбросил с себя давящую тяжесть.
Отечески произнес:
─ Что ж, решили! Идете на битву соборно! Я придаю вам три орудия с боевыми расчетами, три танка, стрелковую роту сержанта Владимира Листопада. Вы назначаетесь командиром десантного отряда.
Он подозвал сержанта к штабной карте:
─ Вам лучше всего переправиться через реку Нарев у притока Бебжа, у села Новогрид! Почему лучше? Река шире! Фашист не ждет. И берег, скала на скале! Можно укрыть танки, орудия! Дальше, смотрите. На Варшаву пролегает одна шоссейная дорога, она зажата болотом, горами. Воинство генерала-фельдмаршала Вильгельма Моделя, танки СС «Герман Геринг» могут вас атаковать только с шоссе! Если вы удачно выбьете головные танки, остальные танки завязнут в узком ущелье. Будут расчищать путь, а это время! Русскому воинству, только и надо, выиграть времени! Уразумели?
─ Так точно, товарищ генерал! ─ вдумчиво всматриваясь в карту, отозвался Башкин.
─ Все документы оставить у комиссара дивизии. Написать письма матери, родным.
Он посмотрел на командира дивизиона:
─ Вам, Иван Филиппович, по-отечески снарядить штурмовой десант, сопроводить. И постоянно поддерживать артиллерийским огнем! Боеприпасов не жалеть! На сборы даю сутки! Вы свободны.
Воины, отдав честь, четко пошли к выходу.
Неожиданно генерал Казакевич остановил сержанта Башкина, обнял, поцеловал.
Подумав, перекрестил воина:
─ Пусть грозовые молнии пронесутся мимо вашего эшафота у реки Нарев!
II
Александр бескрайне и необычно любил свою мать, Марию Михайловну. Жива на Руси такая притча. Зашел в одну деревню седой старик, остановился у колодца, где женщины черпали воду, набирая полные ведра. Попросил напиться, спросил, хороши ли их сыновья, радуют ли? И женщины в голос заговорили, как милы, нежны, красивы их дети, какие они удальцы-умельцы. Один с подсвистом дудит в пастушью свирель, другой умеет кувыркаться на лугу, как в цирке, изгибаясь тележным колесом… Только одна крестьянка молчит. Мудрый пришелец-странник ее и спрашивает: а ты почему молчишь, свет-красавица, не хвалишь своего сына? Она смиренно отвечает: чего его похвалою баловать, сын как сын. Божьей искрою не отмечен, светом звезд не осыпан; без таланта живет. Чем его выделить? И как раз на росистый васильковый луг вышли их сыновья: один в дуду играет, заслушаешься, другой в танце кружится, залюбуешься. И только один подошел к матери, взял полные ведра с водою, понес в гору. Женщины нетерпеливо спрашивают у старца: как вам наши дети? Не правда ли, красивы, как звезды? И несказанно талантливы? Библейский старик погладил седую пышную бороду, тихо сказал: я только одного и видел сына, того, кто взял ведра у матери, понес в избу. Александр Башкин и был таким сыном. С семи лет он носил воду из колодца домой, заливая полную кадку. Если заигрывался с ребятами, забывал принести воды, видел, как ее несла из колодца мать – долго не мог уснуть, страдал. И утром, за завтраком, чувствовал себя виноватым, стыдился смотреть в ее глаза. Он всячески стремился порадовать ее: строгал лучины для растопки, втихую складывал у печки и от души ликовал, когда видел, как Мария Михайловна, притворно ругала неведомую басурманскую силу, которая опять настругала лучин помимо ее воли, не известив; зачем бы она, неразумная, столько времени выбирала из заснеженной поленницы сухую березовую растопку. И грозила пальцем в его сторону: небось, все ты, Шурка, проказишь? Он игриво отнекивался, довольный и радостный убегал на улицу. Доброе дело, сделанное для матери, наполняло его гордостью и светлым, сладостным чувством. Будило человеческое, мужественное.
И мать было за что любить. Мария Михайловна была великая женщина. Она до подвига, до самопожертвования любила жизнь и детей. Не каждая решится подарить солнце одиннадцати созданиям. Она подарила. Без любви такое невозможно. В предвоенное время жизнь была тяжелая, голодная. А она праздновала и праздновала новые жизни.
Ссора с матерью повергла его в уныние. Даже не ссора, произошло самое страшное ─ разрублена Живая Земная Сущность Любви и Родства! Ушла в одиночество матерь, ушел в одиночество сын! Она не осудила его измену Родине, сделала больше, мать отреклась. Справедливо ли? По совести? Он не может ее осудить. Не может! Ее правда от сердца, от вековых законов Руси. Сколько она стоит на древней земле, столько пестуется, живет суровая ненависть к предателям и трусам на поле брани. Будь у него сын, он бы тоже не простил ему измену Отечеству. И мог расстрелять за страшное прегрешение, случись это на поле боя. В нем живет Русь, в нем живет строгость матери, ее правда. Но ведь есть еще одна земная правда, его правда. Правда, по святцам которой он не предатель Отечества, а воин его. И не последний в бою. Велико храбр, как сказал сам командир дивизии. А мать отреклась. Пусть и ошибочно. Разве не больно? Не обидно? По сути, она сама предала его. И себя! Раз усомнилась в сыне. Непростительно усомнилась. Чем теперь жить? По какой правде? Ее? Своей? По правде покаяния? Перед кем? Перед собою? Перед матерью? Он бы покаялся, смирил себя, укротил гордость. Но в чем? В чем виниться? Он чист перед матерью, Отечеством, боевыми друзьями. Объяснить матери ничего нельзя, нельзя разрушить ее уверенность, ее страдание, ее правду. Она пребудет вечно в печали заблуждения, в своем материнском святилище, в своем таинственном безмолвии. Она жива своим благородством, пусть и обманчивым. И боль ее не смирить. Только время исцелит ее. Когда все прояснится. А времени нет. Кончается его земное время. Всего и остается, смиренно терпеть боль, пересиливать обиду, как бы ни было тяжело, безысходно.
И теперь он думал, писать ли письмо матери? Или не писать? Жить, как живут, отдельными мирами! Что он скажет в письме-страдалице? В чем повинится? И зачем? Разве его жизнь, его правда нуждаются в покаянии? Какие слова любви он изыщет, если они разделились на разные Вселенные, между которыми пропасть и пропасть и где неумолимо дуют холодные, леденящие ветры?
Получит похоронку, и достаточно!
С похоронкою сказ о человеке заканчивается!
И боль заканчивается! И обиды! И Вселенные, скорее, соединяются! Зачем им жить в разлуке, звездным вселенным, если человек уже ушел на погост, ушел в синее небесное свечение!
Матерь, может, всплакнет, утирая слезы цветастою шалью. Может, и не всплакнет, осилит в себе слезы! И по покою зажжет свечу, опустится на колени перед иконою Богоматери и в молитве возблагодарит Господа, что взял к себе непутевого блудного сына! И никто не станет больше омрачать знатность пахарского рода Башкиных. В похоронке комиссар дивизии, несомненно, напишет: «С прискорбием извещаем, ваш сын Александр Башкин пал на поле битвы смертью героя за русское Отечество, за вольную жизнь Польши! Посмертно награжден орденом Красного Знамени».
Поверит ли? Может, поверит! Конечно, поверит! Но холод в себе не растопит! Так, чтобы ничего не осталось. Гордая она! Не примет свое заблуждение, ─ как ложь! Никогда не примет! Так и будет жить с болью, со слезами! Возможно, со временем и придет прозрение от Бога, сбросит черные одежды заблуждения, насытит сердце полным, повелевающим исцелением! Но испытает ли радость? Не испытает! Еще большею муку обретет! На казнь себя явит перед Господом! Всю жизнь станет винить себя, что предала сына по заблуждению!
Башкин есть Земная Гордость! Матерь тоже есть Земная Гордость!
Одна кровь.
Никто виниться не любит!
Сложно все сложилось! Было в семье солнечное свечение, а пришла тьма от Мефистофеля!
Так писать матери, не писать?
Все же, помучившись, решить написать, ибо письмо было не очередное, не земное, а прощальное! В землянке было тихо; артиллеристы чистили орудие. Башкин отодвинул котелок с пшенною кашею, зажег немецкую свечу, пламя которой не колебалось на ветру, а стойко тянулось вверх, озаряя угрюмое, сжатое пространство землянки ярко-голубоватым светом, расстелил тетрадные листы, взял чернильный карандаш, языком помусолил его. И долго думал, с чего начать; в сердце вошла тревожность, пальцы дрожали.
«Здравствуй мама! ─ вывел сын ровным, аккуратным почерком. ─ Когда получишь это письмо, меня уже не будет. Смерть стала страшною явью. Я больше по жизни не вернусь в родную и милую деревеньку Пряхино, в свою маленькую Русь, не переступлю порог родительского дома, не увижу твои сурово-добрые и печальные глаза, братьев не увижу, сестер, могилу отца. Ничего не увижу. Печально и страшно. Как жил печальником на Руси, так печальником и останусь в могиле. Как был твоим изгнанником, так им, скорее всего, и останусь. Великую боль уношу с собою, горькую, острую, страшную. От несправедливости. Твоей несправедливости. Но обиды не несу, не имею права. Ты мать, я сын. Даже если бы имел право, и тогда бы ее не нес. Ты мать, я сын. Пусть нарушилось мое окаянное равновесие между жизнью и смертью, война есть война, но я ушел в загадочную вечность несломленным, непобежденным, с честною и правдивою душою. С совестливым сердцем. Перед самим собой, мама!
Я не знаю, где буду похоронен. И буду ли? Конечно, каждому человеку хорошо бы иметь свою могилку на земле, свою память. И русские березы вокруг застывшим девичьим хороводом, как в трауре, вечной печали. Но солдату могила одна – поле битвы. Возможно, возможно, я буду лежать в братской могиле, уйду в землю, в свой мавзолей под салютные прощальные залпы боевых товарищей, как сам хоронил не раз павших в бою, в суровой печали бросая ком земли, трижды стреляя в небо из автомата, чтобы расчистить путь им, улетающим птицами в поднебесье. Теперь выстрелы в синюю высь прозвучат для очередной улетающей стаи. Такова жизнь. Такова смерть. Приходим на землю в очередь и уходим в очередь. Возможно, не будет и братского саркофага. Угадает снаряд, и ничего не останется. Только пламя. И то на мгновение.
С тоскою и болью представляю, родная моя, как опечалит тебя это письмо. У тебя не будет больше сына. Не будет его и у Родины».
Башкин отложил перо, посмотрел, как колеблется от ветра пламя над гильзою, погулял по землянке, три шага туда, три обратно. Призадумался: то ли он пишет? Не слишком ли печально? И не слишком ли пространно? Все нормально. От правды. От чувства. Зачем себя сдерживать? Раз летят и летят мысли печальными журавлями в поднебесье, туда, где отчий дом. Пусть и летят. Исповедь прощальная не только перед матерью. Исповедь перед жизнью, которую он покидает, перед собою. Его и для себя не будет. Почему бы не поговорить на прощание с самим собою? И одновременно с матерью? И одновременно со всем миром?
«Да, родная, да! Если еще бьется сердце и течет кровь, значит, еще текут и слезы. Странно! Мое сердце содрогнулось. Слышишь, мама, мое сердце дико забилось в боли и тревоге! С чего бы? Я внезапно и близко-близко ощутил, как громоподобно обрушился мир с синим небом. И мой. И тот, который стоит на земле. И стало страшно. Страшно! Да, да, мама, на самом слиянии жизни и вечности, когда чувствуешь смерть, оказывается, страшно умирать. Я не боялся печальницы в Вяземской тюрьме, не боялся, когда был приговорен к смертной казни. И не потому, что не хотел преклоняться перед палачами, желал умереть стойко и мужественно. Человеком! Просто я не чувствовал смерти. Не слышал ее. Возможно, от страха спасали твои молитвы. Возможно, не было выбора, спасительной надежды. Страдай не страдай, а придет рассвет, выглянет солнце, и тебя расстреляют. И никто, никто в мире тебя не спасет. О чем же скорбеть? Излейся страданием, превратись в птицу-тоску, а выстрел все едино себя порадует! Сколько их прозвучало в тюрьме на рассвете? Сколько убито? Тысяча? Больше? Еще больше? Сеятельница-смерть была щедрою! Я один выжил в тюрьме, не был расстрелян. Тот, кто зачислен в камеру смертника, уже не ведает о спасении! И я не ведал о спасении, но спасение явилось. И, несомненно, его принесли боги Справедливости, те, что живут в саду Эдем, те, что защищают мою жизнь!
Мою жизнь защищают, мама! И я это чувствую! Очень сильно чувствую! И очень сильно защищают! Как еще осмыслить такое чудо? такую правду? Твоего сына вывели из камеры Смертника конвойные в самое солнце, когда расстреливают, но повели не по тропе тоски и скорби, как Каина Отечества, не на расстрел, а в жизнь!
И снова позвали на битву!
Кто позвал?
Несомненно, боги Справедливости!
И боги Руси, кому дороги воины с сердцем Пересвета!
В моем раскладе жизни нет Мефистофеля, мама!
Я не его воин!
И не стоило, не стоило меня оскорблять!
Я еще молод. И не боюсь смерти. И не боялся смерти, как себя помню! Но теперь Смерть явилась ─ как правда, как окаянство, как самая превеликая боль Земная! Я ухожу на битву, где нет ни веры, ни надежда на возвращение! Ухожу добровольно! И мне страшно, мама, очень страшно ─ уходить на битву, где не будет возвращения! И я не скрываю свою откровенную печаль, свою горькую тревожность!
Я чувствую смерть, мама!
Почему, почему?
Если бы ты знала, мама, как хочется на прощание прогуляться по деревне, побыть в яблоневом саду, послушать, как гудят шмели, постоять на радости под ливнем, в самую-самую грозу, с громом и молниями! Пробежаться по лугу, где жег костры и пас коней в ночном, по меже ржаного поля, где захлебываются в песне любви перепела, а в небе со свистом вьются стрижи!
И ужель не чудо, побыть на косогоре у реки Мордвес, посмотреть, как игриво плавают золотистые рыбки, летают над осокою стрекозы, как соблазнительно блестят в росистой траве неизменно модными женскими шляпками ромашки, как цветет иван-да-марья. Посмотреть, как ты топишь раскидистую печь, согнувшись, отстранившись от пламени, размешиваешь кочергою уголья, как в полную силу загораются поленья, и ты ухватом заносишь в печку чугунок, привычно не ощущая тяжести.
Больно слышать из Звездного Пространства, что кончается, исчезает твое земное время! Все дорого, мама, все бесценно дорого! Тоскующий крик зверя рвется из сердца! И совсем замучили слезы.
Такова моя исповедь, родная. Предсмертная исповедь. Без солнца и радости. И сам не знаю – почему? Просто грустно и все. Я не раз писал тебе письма мысленно, и в окопе, и в походе. Странствуя по дорогам войны, я жил тобою. Общался с тобою. Никогда не расставался, пусть и был твоим изгоем, обреченным на одиночество. Очень хочу порадовать тебя, я получил боевую награду ─ медаль «За отвагу». К прожженной огнем гимнастерке ее прикрепил сам командир дивизии. И поцеловал. Как воина, как сына. За храбрость! я тут же пожелал тебя порадовать, но не рискнул, боялся, что не поверишь! Ты же больше веришь, что я Каин Отечества, твои чувства чисты, и ты не сможешь поверить, что сам генерал вручил мне награду! Посчитаешь все ложью! Ложь ─ змея, ложь растревожит в твоем сердце горечь и оскорбление! Зачем лишний раз нести боль тебе и себе? Моя боль просто невыносима, боль изгоя, отверженного, которую никак не одолеть, не превозмочь.
И все же я люблю тебя! И думаю, прав ли был, что не порадовал тебя? Наверное, не прав! Надо было порадовать наградою!
Почему не смог?
От обиды? Нет! От гордости? Тоже нет! Просто мучает наша разъединенность.
Прощай, моя боль! Прощай, я ухожу на свое Куликово поле, на честный поединок честным воином, воином-руссом. Плакать не надо. Огорчаться тоже. Чему быть, того не миновать. Знай, я погиб за Отечество. Смертью героя. Гордись и помни. Целую тебя. Как сын. Низкий поклон братьям и сестрам, отчей земле. Твой Шурка. Второе сентября, 1944 года».
Сложив письмо в солдатский треугольник, Башкин посидел в печальной задумчивости. Выживет ли мать, получив его предсмертное письмо? Не положат ли в гроб? Может быть, не посылать? Пусть все будет, как у людей. Получит похоронку, поплачет, и скорее отмолит печаль! Зачем еще утяжелять ее скорбь письмом? Но подумав, решил послать. Гибель сына, печаль о сыне, никакие молитвы не отмолят! Греховную ересь явил Сенека миру, что время залечивает боль! Не залечивает! Не залечивает Время боль по сыну, если любовь была настоящая! Письмо может остаться памятью! И путь останется памятью!
Памятью любви,
памятью примирения,
памятью единения сына с матерью!
Так будет по совести, по справедливости.
Не просто ушел из жизни, а с покаянием!
Ушел с любовью к матери!
Закончив раздумье, Башкин поспешил в землянку разведчиков. Передал письмо другу Александру Анурьеву, по печали сказал:
─ Ухожу в крепость врага, за Нарев. Не вернусь, отошлешь матери.
─ Как вернешься?
─ Спляшем «барыню». Письмо прощальное! О любви, о жизни, о смерти. Вернусь, с каким смыслом ее огорчать?
─ Понял, Саша! ─ по чести отозвался воин. ─ Исполню, как велишь. Но постарайся не обижать дарительницу жизни.
─ Сам того желаю. И думаю, не огорчу. Но я не волен быть пророчицею Кассандрою. Мое спасение в матери! Какие молитвы прочтет, такие Господь и зачтет!
Расставаясь, они по-братски обнялись.
III
В ночь на третье сентября плоты с орудиями и людьми тихо, осторожно оттолкнулись от берега. Плыли по реке не торопясь, без всплесков, стараясь себя не выдать. Выдашь, немцы обрушат бешеный огонь, не доплывешь! Перестреляют метко и без жалости, как зайцев в половодье.
Александр Башкин плыл на плоту впереди, напоминая Стеньку Разина на струге, и зорко, пытливо рассматривал в бинокль зловеще-чужой берег. Он был скрыт густым туманом. Как и река. И мало что можно было разглядеть. Пока только грозным и таинственным богатырем-утесом возвышалась скала, а так берег смотрелся пустынным, спящим. Ни одного огонька. Справа темнел лес. И тоже был безмолвен. Но он понимал, все обманчиво, все затаилось. Берег закован в бетон и железо, неистощимо и грозно усыпан дотами и дотами! Услышит враг движение по реке, и все, тишину разорвет пулеметная тоска. Такого не желалось. Но было тревожно, очень тревожно.
Ближе к берегу туман рассеялся, и предательски обнажил караван плотов. В небо, разжигая ночь, поднялись ракеты. Водную гладь иссякла пулеметная очередь, еще настороженная, ищущая цель, прощупывающая. Застрочили еще пулеметы. . Залпом ударили орудия. Вокруг взметнулись огромные свинцово-водяные свечи. Река закипела от разрывов.
Башкин понял, они перестали быть загадкою земною, вошли в лунное свечение, в открытость. И пора начинать гибельную дуэль.
Он повелел:
─ Вперед, только вперед! Грести сильно, с полною отдачею, как гребцы-рабы на галере! Где берег, там спасение! Орудиям открыть огонь, бить метко! Бить и бить, не то все взлетим чайкою над синими волнами реки Нарев!
Взрывы неумолимо и гибельно раскачивали тяжело нагруженные плоты, бунтующие волны заливали плоты, грозили перевернуть, плоты сносило течением, и было просто чудо, как в такую штурмовую, гибельную и гневную круговерть удавалось воинам держаться на плаву.
Но было так, как было! Воины гребли к берегу как рабы-гладиаторы Древнего Рима, упрямо, свирепо среди воя разрывов, злобного розлива огня, леденящего ветра. Да еще метко били по доту с реки-бунта, с плота, какие кружились, раскачивались, как качели-карусели, где выбрать момент выстрела, выбрать равновесие было совсем не просто. И времени на то совершенно не было! Дуэль шла лютая, неумолимо гибельная!
Вскоре снаряд попал в плот, расколосил его. Расколосил легко и просто; как хозяюшка раскалывает тесаком лучины, желая растопить печь. На плоту был танк; он камнем ушел на дно реки, раскидывая вокруг себя всплывающие березовые бревна. Еще один снаряд попал в плот, где стояло орудие. Артиллеристы вместе с орудием стали погружаться в гибельные волны.
Командир сержант Женя Родимцев подал команду:
─ Заряжать бронебойным! Целить туда, где огневые вспышки! По фашистам огонь! Огонь!
И пушка стреляла, стреляла, раскачиваясь на волнах, с тоскою, жертвенно, погружаясь под воду, пока совсем не исчезла в бунтующем огненном круговороте.
Все видели подвиг Жени. В каждом встревожились боль и скорбь, но развешивать траурные флаги, было не ко времени. Ближе к берегу, огонь становился все страшнее. Теперь отбивались от врага два орудия. Расчеты мужественно отбивались, остальные усиленно гребли. Разбило еще два плота, с пехотою. И один с танком. Люди гибли, уходили под воду. Но все умирали по совести, героями, не издавая, ни стона, ни прощального крика, дабы не растревожить в воине панику, не оскорбить чувством гибели.
Вот и желанный берег. Воины живо спрыгивали в воду, и, прячась за каменные причалы, подтягивали к берегу плоты, перетаскивали орудия, бесчисленные ящики с боеприпасами. Расчету Башкина не повезло у самого берегу; снаряд угадал под плот, перевернул его. Вместе с орудием. Но было уже мелко. Орудие вытащили. И в мгновение перенесли к огневому рубежу.
Началось сражение, ожесточенное, затяжное. Здесь уж Александр Башкин был в родной стихии. Он не воевал, а работал, ─ как на крестьянском поле, взрезывая плугом пашню на Левитане, деловито, вдумчиво и требовательно к себе. Он особым звериным чутьем чувствовал поле битвы. Становился одна воля, одно устремление, ровно, как змея перед прыжком на свою жертву! Его нельзя было победить.
И теперь он с талантом полководца следил за полем битвы, как шли в атаку за атакою воины Владимира Листопада на траншеи врага, стремясь огнем из автоматов, штыком и гранатою выбить его из земляных глубин. Неожиданно на горе открылся дот, с небес понеслась огненная лавина. Воины залегли, прижались к земле, кто сумел по спасению лечь за камень.
Башкин вскричал:
─ Очил, заткни глотку доту, что на горе! Живо! ─ немедленно повелел он. ─ Ишь, дьявол, как разыгрался! На погост загонит пехоту!
Наводчик быстро загнал дот в перекрестье прицела:
─ Есть, командир!
─ Бронебойным огонь! Огонь!
Со второго выстрела редут взлетел в небо грудами черного, искореженного металла; с горы неудержимым водопадом посыпались камни.
Башкин похвалил:
─ Так и гаси эту сволочь!
─ Только в радость, командир! ─ весело отозвался артиллерист, вытирая пилоткою пот, размазывая по лицу пороховую копоть.
Доты он поражал один за другим. Очилу Гадабекову, кто наловчился метко стрелять по страшно грохочущим танкам, поразить дот-крепость, что врыт в землю, врублен в скалу, труда не представляло. И бился он, играючи, без суеты и страха! И непременно пел на таджикском языке нежную, светоносную песню, словно не воевал, а ехал на верблюде по жаркой пустыне. И пел непременно о том, как ласковы и дивны глаза девушки, какую любишь! Пел и не слышал смерти, если даже она подступала близко. И разлучница, услышав песню, отступала, ибо не было интереса разлучнице от Мефистофеля кружить хороводы с человеком, кто не боится ее и поет песни! Веселье возникает, если человек дрожит от страха, оскорбляет себя страхом, тут и можно будет попрыгать в радость на горе шабаш с ведьмою в обнимку.
У Мефистофеля свои нравы.
Тем временем, передовые позиции врага были измолочены, повергнут. Остались тяжелые форты-крепости, какие врыты в землю и, какие снарядом не взять. Александр Башкин, прячась за камни, подполз к пехоте:
─ Листопад, почему не штурмуешь форты!
─ Не пускает фриц.
─ То есть, как не пускает?
─ Огнем не пускает! Только поднимемся, секут! Еще раз, два поднимемся, и все ребята лягут в землю, без сновидения!
Он поправил каску:
─ Позвони по связи командиру Ивану Артамонову. Пусть артиллерия пропашет глубину обороны! Так не возьмем форты!
Чего мы с двумя пушками? ─ выразил сомнение сержант.
Башкин возразил:
─ Не получится, Володя! Знаешь, как стреляют дальнобойщики? Один снаряд в немца, другой в русса! И дальше смотри, мы же близнецы-братья! На одном эшафоте бьемся! Даже если умно стрелять, все под снаряды ляжем! Мы затем явились на берег?
Он помолчал:
─ Сколько бойцов осталось?
Листопад отмахнулся:
─ Когда считать? После боя посчитаем.
─ Сколько воинов осталось, спрашиваю? ─ взревел командир десантного отряда.
─ Человек восемнадцать.
─ Получается, по четыре человека на крепость-форт! Ползи к своим, дели форты! Я посылаю ракету, и вперед! На штурм! Это приказ! За неподчинение расстреляю! ─ гневно сверкнул он лазами. ─ Я сам подниму цепи в атаку!
─ Сами разберемся, ─ с обидою отозвался Листопад; он был храбрый воин, кавалер трех орденов Славы, у сердца рубцы от ран. Отдав честь, он ползком к пехоте, дабы сообщить об едином штурме.
Башкин взвил в небо красную ракету. И встал над полем битвы, взмахнул автоматом:
─ За Родину! За Сталина! Вперед! На штурм!
И смело пошел по эшафоту, по полю битвы, среди огня и разрыва снарядов. В мгновение поднялась в атаку пехота. Тут же шел танк, кому повезло не быть утопленником. Артиллеристы катили орудия ближе к позициям врага.
Ночная битва была строго-жертвенная, где думать о жизни было бессмысленно, роскошеством, оскорблением! Важно было победить! Этим жило и этим боролось маленькое отважное воинство Александра Башкина. Бытие каждого на плахе битвы раскачивалось на качелях жизни и смерти! Все стреляло вокруг, вела огонь из автоматов отважная пехота, не переставая, стрелял танк, стреляли орудия прямою наводкою, и все били в одну цель, били по глазницам фортов, дабы поразить огонь пушек. Сами по себе форты, врубленные в скалу, были недосягаемы, и любая атака в лоб, напрямую есть бессмысленность, есть смерть без разума и прощения!
Форты-крепости вели по воинам-руссам не менее сокрушительный огонь, но воины Башкина, увлекаемые командиром на штурм, среди огня и выстрелов, лютого окаянства разрывов, пядь за пядью, сбивая огонь пушек, продвигались вперед и вперед. И пришло время, когда воины приблизились к амбразурам на бросок гранаты. И, прячась за камни, метко бросали гранаты в самые глазницы фортов. Там в удаль возникали костры мщения! Фрицы, ослепленные вспышками гранат, оглушенные, покоренные, покидали горящие гробницы, поднимали руки с белыми платками.
Листопад крикнул:
─ Что делать с пленными, командир?
Башкин был разгорячен боем. В ярости отозвался:
─ Куда их? На развод? Руби! Руби, понял?
IV
Первая битва за плацдарм на западном берегу Нарева была воинами Отечества выиграна с честью. Башкин о первой победе известил по рации командира дивизии Эммануила Казакевича. И стали соборно рыть братскую могилу в скальной земле. Каждого воина-русса, кто пал героем за Отечество, положили с печалями, со слезами, отдали последний воинский долг, произвели троекратный салют из автоматов.
Теперь предстояло самое сложное ─удержать отвоеванную крепость трое суток. Никто не сомневался, что с восходом солнца, гитлеровцы бросят все силы, самолеты и танки, дабы выбить смельчаков-десантников с рубежа, столкнуть в полноводную реку Нарев на корм рыбам.
Александр Башкин в солдатском застолье поел гречневую кашу с мясом, выпил боевые сто граммов и, взяв Володю Листопада и Очила, пошел выбирать позицию. Тщательно изучили местность. Решили пушки и танк-храбрец врыть в землю, под укрытие скалы. С высоты крепости просматривалось все поле сражения. Внизу стрелою Робин Гуда раскинулась шоссейная дорога, какая шла на Варшаву от селения Новогрид, и как раз взбиралась на гору, в их западню. Танки свернуть никуда не смогли! По обочинам ее были озеро, непроходимые, необъездные болота и горы. С ладони дороги танки стрелять метко, удачливо по рубежу никак не могли, мешала крутизна обрыва. Это Башкин выверил, высчитал, как танкист. Все сходилось, как изложил по карте генерал дивизии. Хорошо сработала разведка. Командир остался доволен.
И вдумчиво произнес:
─ Смею заверить, танки дивизии СС «Герман Геринг» вполне могут расстрелять крепость, растоптать гусеницами пушки, смешать с землею и кровью отважную пехоту, если танки в неодолимом штурме поднимутся на крутогорье! Ровно так, как мы поднялись на скалу и в гневе расстреляли форты-крепости фашистов!
Значит, что? Не пустим танки в гору! Так, Очил?
─ Попробуем, командир! Только тьма попрет окаянная! Чего заранее прикидывать? Один дьявол, все поляжем.
Командира уныние задело:
─ Я тебе могилу выбираю?
─ О чем ты, командир? Вместе выбираем!
─ Отставить! ─с грозою произнес Башкин. ─ Будешь слезы распускать, обратно отправлю! Пусть там отдадут под трибунал! И расстреляют как труса! Всякая битва, Очил, есть смерть в смерть, есть слезы матери, печаль Отечества, но теперь не надо думать о смерти, а только о жизни!
Но Очил не мог остановить свое потешество.
И снова возразил:
─ И даже, когда убьют, не думать?
Башкин взбеленился.
─ Отставить пререкания! Не то сам трибунал свершу! И расстреляю! Того хочешь? ─ он в гневе перекинул автомат из руки в руку.
Своенравный Очил, зная характер командира, суровость сказанного слова, смирил себя.
Но отбился без повинности:
─ Ладно, цепляться! Строг, как бараний рог! Заиграет музыка, разгонится хоровод, и мы ударим в бубен! Ужели я сам желаю видеть матерь в траурной вуали?
Ночь распалась. Пришло утро. Прохладные лучи солнца безбрежно наполняли мир золотым светом. Березы в роще, разбуженные солнцем и ветром, радуясь жизни, приосанились, с трепетом раскачивали ветвями с еще необлетевшею листвою. Тишина была непорочная, бестревожная, как дыхание ребенка. Только с реки доносились тоскливо-печальные крики чаек. Командир десантников Александр Башкин, стоя в окопе, вдумчиво всматривался в бинокль в безмолвное пространство, ожидая с минуты на минуту на Варшавском шоссе танки-могильщики, с автоматчиками на броне. Но фашисты с атакою не спешили. Должно быть, в неизвестности и тревожности прикидывали, велико ли воинство на захваченном ночью плацдарме? И какими силами его сокрушить? Первою ударила дальнобойная артиллерия. Били как бы с неохотою, лениво, скорее, для хитрости, для разведки; сколько пушек отзовется? Какова будет сила огня? Но Башкин был не так глуп, он имел талант мыслителя-командира, и не спешил обнажать себя перед умным врагом.
Не дождавшись карнавала с салютами, гитлеровцы вывели из леса три танка; следом шла рота автоматчиков. Шли строго, красиво, как истинные крестоносцы, под черным знаменем со свастикою и ретивым биением в барабаны, шли с гордою осанкою, как не знали печали страха, печали смерти. И воинственно поют гимн нацистов о покорении мира, о том, что они уже господа его; шнапс хорошо взбодрил дух воина, кто ловит в любую грозу падающие с неба молнии.
─ Шествуют, одно любование! Как на параде перед любимым фюрером, ─ не скрыл настроения Очил.
Башкин опустил бинокль.
─ Психическая атака. Устрашают. Скорее, шествуют скорбно-обреченно штрафники, жертвоприношением! Разведать крепость бастиона. Регулярное воинство явится на битву позже.
Он строго повелел:
─ Ион, гони снаряд для танка! Очил, надо живо выбить из упряжи коренника!
Припав к прицелу, ссутулившись, Очил торопливо и с предельным вниманием стал вращать маховик, загоняя танк в западню:
─ Есть, командир! Машина зашла в перекрестье.
─ Огонь! ─ немедленно подал команду Башкин.
Раздался выстрел. Орудие дернулось. Танк-коренник вспыхнул. Другие стали его на скорости обходить, но тоже попали под меткие прицельные выстрелы второго орудия сержанта Степана Белозерцева. Вмиг на шоссе заполыхали три костра. Немцы растерялись, не ожидая скорую гибельную расправу; ища спасения, пытались спрятаться за горящие танки. Но, объятые пламенем, выскакивали на дорогу, на открытость, и в страхе, в панике, кружились хороводом, как попали в омут на реке Нарев. И теперь тонули в омуте, ровно, как далекие предки-крестоносцы на Чудском озере! Тоже с позволения Александра!
Из горящего танка спрыгнул офицер, был он строен, беловолос, сильно расстроен, разгневан. С дикими, оскорбительными криками набросился на свое воинство, и, наконец, вынул из кобуры пистолет. И гордо, разгневанно повел солдат в атаку. Но ушли недалеко. С краю обрыва Листопад косил фрицев из пулемета, как снопы. Умирали автоматчики не так красиво, как шли. Перерезанные пулеметною очередью, они падали на колени, по-волчьи жалобно выли, закрыв лицо ладонями, плакали и, упав на чужую землю, еще ползли, жадно цепляясь за траву и камни, замирали неуклюже, распластанно уткнувшись лицом в придорожную пыль. Барабанщик лежал на барабане, свесившись головою с растрепанными белесыми волосами, судорожно сжимая в руке срезанную пулею барабанную палочку; из груди ручьями текла кровь.
Наступила передышка. Захватчики отступили. Воины бастиона, присев, где удобнее, достав кисеты, стали скручивать самокрутки. Но покурить в сладость не пришлось. Бешено ударила немецкая артиллерия. Теперь по рубежу Башкина били, в лютую, окаянную силу! Земля застонала! Снаряды со злобным свистом рвали камни, возносили ввысь острые осколки, и те осколки осыпали воинов с неба, как на воинов-грешников по воле злобного Мефистофеля!
Жесток и лют был камнепад! Пламя и клубы дыма, грохочущие разрывы заполонили все живое. Но смельчаки оставались живыми. Именно командир Башкин повелел воинам рыть кирками глубокие траншеи. И теперь люди, как ящерицы, исчезли под землею, под скалою! Стали невидимы, недоступны! Артиллерия могли бить, сколько пожелает, ─ без отпущения грехов! Сам он в окопе не прятался, стоял за щитом пушки и вдумчиво рассматривал в бинокль поле битвы, ожидая когда появятся на дороге немецкие танки. Тяжелые гремучие змеи должны выползти в мир непременно! Без танков им плацдарм не отбить, не вернуть! Воина-русса в реке Нарев не выкупать!
Вот он громко передал по связи:
─ Орудия, к бою! Танки с черными крестами!
Очил, выбираясь из берлоги, отряхаясь от пыли, посмотрел на шоссе, стал считать машины:
─ Кажется, десятью командир! Утроили силы, сволочи!
Степан Белозерцев возразил:
─ Какие десять? Полчище!
─ Ничего, осилим, ─ уверенно отозвался Башкин. ─ Четыре танка на орудие! Пока не пущу ракету, огонь не открывать. Врага подпускаем на четыреста метров.
─ Сомнут, командир! ─ выразил опасение сержант Белозерцев; должно быть, не привык в битве с танками круто рисковать. ─ Сила несметная! Не выдержим близкую дуэль.
Больше всего на поле сражения Башкин не любил пустословия, неповиновения! Его обдавало дьявольскою злобою, всего бесило, крутило. Желваки ходили ходуном. В таком зверином напоре злобы он мог даже расстрелять человека. Скорее, не человека, а труса и всякую сволочь! Но страшным усилием воли умел гасить нервы, сдерживать себя.
─ Будет так, Степа, как я сказал, ─ миролюбиво заявил он. ─ Танки прут тяжелые, королевские «тигры». Их расстреливать можно только в бок, где бензобак, или разбивать гусеницы! В лоб им наши бронебойные снаряды, как мармелад к чаю!
Танки подкатывали все ближе. Даже издали монотонность железного гула, лязганье гусениц, откровенно казалось свирепым и страшным. Железные громады шли в строгом, неумолимом натиске, шли бесстрашно, грозно раскачивая могучие жерла орудий, какие в мгновение могли затопить огнем и смертью все живое.
Все воины бастиона следили за движением танков. Стоял у орудия и Башкин:
─ Не торопись, Очил, ─ не командовал, а больше с азартом охотника приговаривал Башкин. ─ Держи в прицеле первого, гордого! Собьем коренника, в хаосе, как ужаленная, закружится вся стая.
Танки стали подниматься в гору; подошли на четыреста метров. Командир десанта взвил в небо красную ракету.
Очил тут же сообщил:
─ Коренник в перекрестье прицела, командир!
Башкин взмахнул флажком:
─ Огонь! Прицел постоянный!
Снаряды отлетали от брони, как шаровая молния. Тяжелые машины, грозно подминая гусеницами землю, уже лавиною взбирались на крутогорье, стреляли по бастиону.
─ Целься в бок, ─ рассвирепел Башкин, бледный от перенапряжения. ─ Не видишь, уже могильщиками прут!
Но и дальше снаряды летели в пропасть.
Башкин не выдержал, оттолкнул Очила:
─ Посторонись, неудачник! ─ и сам припал к прицелу.
Еще гостинец полетел в пропасть. Но вот выстрел сбил гусеницу. Танк дернулся, развернулся, подставил бок. И снаряд попал туда, куда надо. Танк-завоеватель ушел в костер.
─ Вот так лучше, ─ похвалил себя командир. ─ Был танк, стал горящим сфинксом! Все пути к Мефистофелю перекрыл! Вся колона на ладони, без движения! Теперь руби по очереди, пусть вертятся, как блохи на костре.
Королевские «тигры», попав под прицельные, смертельные выстрелы, живо отступили. В небе появился самолет-разведчик «Фокке-Вульф», снизился над редутом Башкина и стал старательно его просматривать. Вскоре появились бомбардировщики. Они шли ряд за рядом, кружась каруселью, низко пикировали, сбрасывая бомбы. Смерть с ожесточением кружилась над землею. Казалось, чернокрестовые самолеты хотели перевернуть ее, уничтожить, развеять по ветру. Огонь безжалостным ураганом гулял от окопа к окопу. Ничего живого не могло остаться на плацдарме.
Сбросив в необычную щедрость бомбы, самолеты гордо, с достоинством взмыли в небо, ушли строгим, боевым порядком на аэродром под Варшавою.
Башкин вызвал по рации сержанта Листопада:
─ Как твои? Все живы?
─ Бог миловал, командир! Живем без траура! Ушли под землю, как ящерицы! И тем спаслись.
─ Как танк? Гусеницу подживили?
─ Бегает, не догонишь! И стреляет метко!
─ Молодцы, с Богом!
Теперь он вызвал по рации командира орудия Степана Белозерцева. Сержант не отозвался. Сердце ушло в тревожность. Командир попросил подносчика снарядов мигом слетать на позицию, узнать, в чем дело. Бессонов, взяв в ладонь провод от телефона, дабы не заблудиться, смело занырнул в пламя огня. Вернулся скоро. Печально доложил:
─ Там воронка, командир! Даже хоронить некого.
Александр Башкин выругался зло, по матери.
─ Наставлял, рыть глубже окоп, загонять орудие под скалу. Нет, гордые мы! Нам ли от фашистов в берлоге таиться, его пуле кланяться? И какие получились расчеты? Сиротою оставили бастион, матерь Человеческую, Отечество! И все человечество, какое желает поднять на копье Грааль безумца Гитлера! Беречь себя надо, беречь! Это не трусость, спрятаться от бомбы и от пули!
Он снял каску:
─Эх, эх, какая боль, какая печаль! Но бились воины героями! Семь танков сбили! Земля тебе пухом, Степан Белозерцев из Рязани! И твоим воинам! Слава вам, герои! Слава!
Воины его расчета тоже сняли каски, в трауре помолчали. И за себя помолчали! Теперь им биться в одиночестве!
Но долго развешивать траурные флаги, было не ко времени. Звала священная война, звало поле битвы! Еще полчище танков-драконов появилось на шоссе, теперь уже с автоматчиками на броне. Немецкие тягачи растаскивали и сбрасывали в болото подбитые машины, желая скорее, скорее расчистить путь стальной громаде. Путь к бастиону! Но получалось долго и медленно.
Подъехала легковая машина, сверкая черным лаком. Дверца открылась, в гневе, торопливо вышел офицер, талия тонкая, осиная и еще плотно сжата ремнем. Эполеты золотые. Видно, в чине, не меньше штурмбанфюрера СС. И храбрец отчаянный. Не пригибаясь, не кланяясь пулям, он подбежал к рабочим, к тягачам. И, вынув пистолет, стал кричать, грозить оружием.
Ветер доносил слова:
─ Самум, самум! О, майн гот! О, Гитлерланд!
Башкин спросил у Василия Бессонова, вчерашнего студента:
─ Чего он?
─ За точность не ручаюсь. Но, похоже, кричит, мы попали в огненное пекло. Одна пушка сдерживает армию! И вы еще копаетесь, как черви в навозе! Живо, живо дать дорогу танкам! Вы погубите Германию!
─ Германию вы уже погубили. Пляска ваша на ее гробу. Угости его, Очил. На посошок, на тот свет.
─ Снаряда жалко, командир!
─ Тогда обожди, может, заберется в танк. Пусть побесится, повеселит себя! Тоже человек был.
Наводчик согласился:
─ Железный гроб ему больше подходит. Ударю по башне, дабы не вылез.
Но вот тягачи расчистили путь. Танки снова грозно, неумолимо двинулись на приступ бастиона. Снова битва завязалась, смерть в смерть! Немцы-крестоносцы отступить не могли. Воины-руссы тоже отступить не могли. На плахе гибели, бились два мира, один мир должен был погибнуть!
У немцев было одно устремление, одолеть кругорье и в ненависть расстрелять бастион и гордое русское воинство! Но одолеть кругорье как раз не получалось! Стоило танку-смельчаку не попасть под выстрелы на шоссе, миновать гибельную западню, и он в лютом, окаянном реве начинал взбираться в гору, то неумолимо обнажал грудь, и орудие Башкина неизменно сбивало его прямою наводкою, и он неизменно сползал обратно в низину! Где уже горели танки-костры, танки-костры! Горел и головной танк с офицером, на башне которого высился штандарт дивизии СС «Герман Геринг».
Но немцев ничего не останавливало. Они наращивали удар за ударом, дрались удало, люто!
Цитадель Башкина была остро отточенным русским штыком, неумолимо нацеленным в самое сердце воинства генерала-фельдмаршала Вильгельма Моделя, которое защищало Варшаву!
Отвести штык ─ остаться жить, не отвести ─ умереть. Почему и надо было смельчаков непременно столкнуть обратно в реку Нарев!
И немцы бились, смерть в смерть! На цитадель шло воинство за воинством, шло обреченно, без счета! Все поле битвы обратилось в огонь и разрывы!
Обе стороны встали друг против друга исполинскими богатырями. На скалистом взгорье две неодолимые силы сходились врукопашную, бились штыком, кинжалом, гранатою. Кровь лилась рекою, впитывалась в землю, ноги вязли в ее жиже, как в дождевой воде. Сердце у воина-русса стучало на прощальном стуке, истекали последние соки жизни; пересыхали жилы. Мучила жажда, во рту ничего, только горечь! Губы вспухли. В глазах билось красное зарево. Раненые воины, падая на землю, запекались в огне. Не было сил отползти от костра, от смерти! Но немцы наступали и наступали, гибельно, свирепо, с отчаянием! Всему было имя ─ безумие. Они тоже забыли о гибели и жили одним: отвоевать цитадель, сбросить храбрецов в полноводную реку Нарев, в смерть! Не может же лучшая армия в мире с танками и самолетов, не выбить с высоты одно-единственное орудие, вкопавшееся в землю, спрятанное за скалу. Но каждый раз, как гитлеровцы поднимались в атаку, воины-руссы, обессиленные от битвы, от ран, снова и снова на ярость отвечали яростью, на смелость смелостью! И не было силы сломить смельчаков!
Плацдарм стал Лобным местом для немца и русса!
Смерть, смерть витала кругом! Земля все больше багровела кровью! В вечность, в бессмертие, в звезды уходили защитники бастиона!
И как уходили?
Временами орудие Башкина не успевало метко сразить танк-крестоносец, что вознес себя на гору, и до выстрела, до гибели орудия оставалось одно мгновение. Сердце Башкина и его воинов сжималось от боли, от горя и слез; было страшно умирать вот так легко и беззащитно. И тут не раз выручали воины сержанта Листопада, они брали связки гранат, живо ползли к пришельцу, и успевали взорвать танк и себя!
Смело, неустрашимо просачивалась на гору немецкая пехота, какую не удалось сразить из пулемета. И какая несла гибель бастиону. Воины Листопада оставляли окопы и гордо шли врукопашную, неся в сердце святую месть. Бились с врагом штыком и гранатою, теснили к краю обрыва и неизменно сбрасывали незваных пришельцев в колючие кустарники, на камни. Сами умирали в муке и радости, что на прощание с землею, гибельно сжали горло врага!
Командир тающего десанта Александр Башкин был там, где завязывалась самая-самая кровавая схватка, где слабели силы героев. И тоже дрался врукопашную, оставив орудие на попечение Очила.
─ Бей без промаха, ребята! Сталин и Россия с нами! Не взять им русского солдата, ─ неизменно подбадривал он защитников редута. И, врываясь в гущу врага, показывал, как его надо бить. Был он строен и гибок, собою не богатырь, но сила жила невероятная. Никто его не мог одолеть там, где шла рукопашная.
В одно время случилось невероятное. Александр Башкин повел воинов врукопашную. В схватку пришлось вступить с полчищем немцев. Бился смело, разил врага штыком налево и направо. И так увлекся битвою, что не заметил, как ушел далеко от воинов-руссов, ушел в схватке далеко от воинов. Когда пришел в себя, увидел, что стоит со сломанным штыком, без гранат, в толпе воинственно горланящих эсэсовцев. От неожиданности они притихли, расступились. И стали с необычным любопытством рассматривать изможденного, окровавленного, еле стоящего русского воина.
Рослый фельдфебель, насмешливо улыбаясь, на ломаном русском языке произнес:
─ Что, рус Иван, попался? Сдавайся, прокатим к роскошным девочкам в Париж! Не то пух, пух!
Гитлеровцы весело рассмеялись. Башкину было не до смеха. В плен, конечно, его не возьмут. Но и голыми кулаками толпу фрицев не одолеть! Они соловьи-разбойники, да, но он не Илья Муромец. Автомат висел за спиною. Его в мгновение не снять, сразу прошьют очередью. Осталось о: принять прощальную битву. Надо только больше взять с собою. Первым он наметил повалить на землю фельдфебеля, остряка-насмешника, и до отпевания сдавить руками его толстую глотку, а там, дальше, как сложится, как Бог повелит.
Эсэсовцы стали сжимать кольцо. Смельчаку грозила неминуемая гибель. Спас его Володя Листопад. Он издали увидел беду, ворвался вихрем в самое окружение и стал с ожесточением выкашивать врага из автомата. Взвыв, они разбежались, затаились в укрытии. Но быстро оценили, что смельчаков-безумцев всего двое. И с каркающим криком бросились в атаку. Листопад и Башкин отбивались от немцев, от гибели, как гладиаторы, встав спина к спине.
Улучив момент, Листопад крикнул:
─ Командир, беги к своему орудию! В укрытие! Живо! Я прикрою.
Башкин возразил:
─ Погибать, так вместе! Куда я тебя брошу?
Биться было сложно! И воины вполне могли бы не остаться на пиру жизни, да подоспели на выручку артиллеристы. И вповал посекли фашистов.
Фашисты разбежались.
На поле-плаху, на поле сражения было страшно смотреть, все было усеяно убитыми. В небе стаями закружилось черное воронье, торопясь испить человеческую кровь.
Башкин горько заметил:
─ Воистину, кто на Русь с мечом придет, тот от меча и погибнет!
V
Ближе к ночи все атаки прекратились. Гитлеровцы отступили, ушли в тишину. С трудом верилось, что в мире, где неотступно витала над каждым смерть, с безумною, мятежною силою все на земле рушилось и содрогалось, могло жить такое чудесное безмолвие.
Снимая ушанку, Очил заметил:
─ К застолью убрались. Выпить шнапса за здравие и упокой. Отведать жареного гуся. Красиво живут, сволочи! Зачем им чужая земля?
─ Пошел бы, спросил, зачем? ─ отозвался Башкин.
─ Я бы пошел. Да расстреляют, сволочи, за излишнее любопытство! И в гробу вернут! Без хора плакальщиц! С кем воевать станешь? Силы героев тают, командир! Пал в схватке подносчик снарядов Феодос Муранов! И он ли один?
Башкин его остановил:
─ Оставь тревожную тоску. Не время развешивать траур! Чем рассуждать, достань запасы. Люди сутки не ели, не пили. Помянем героев, похороним, как надо! Сколько она, передышка, будет? Кто знает?
Отдав приказ, Башкин вытер пот, устало сел, прислонившись лицом к щиту орудия. И долго так сидел. Его била нервная дрожь, какая благодатно снимала немыслимое, гибельное напряжение ума и сердца. И все же он слышал и слышал пиршество радости. Его крепость выстояла. Вздыбленные клубы дыма мягко оседали на землю, далеко, необозримо по шоссе простиралось кладбище танков, какие проступали из тумана затухающими кострами.
Не взяли, гады! И не возьмете, ─ зло подумал он. Но ненависти не было. Жила, била колоколом, тревога: выстоят ли еще сутки? Ушла в вечность, полегла половина гарнизона! Осталось одиннадцать! Только одиннадцать! И надо держаться еще сутки! Запоздает с переправою дивизия Эммануила Казакевича, придется и больше. Какими силами? И подвезут ли снаряды, гранаты? Безусловно, начнется битва, и полягут остальные! Все полягут! Живым никто не останется!
Несомненно, упадет и он с простреленным сердцем в чужедальнем краю! Лучше бы, ближе к вечеру. Посмотреть прощально на облака, плывущие белыми лебедями в Отечество, возможно, покружат, поплавают в синем небе, как в озере, над деревнею Пряхино, его детством и юностью. А то и, проплывая, прольются дождями, его слезами ─ последнею весточкою от сына матери Человеческой, братьям, сестрам. Посмотреть еще на солнце, на восходящие звезды. И умереть. И лучше, конечно, от пули, чем от снаряда. Снаряд рвет в мгновение. Не оставляет никакого прощального чувства. Как не жил. И как не умирал.
Вся Вселенная уходит в один залп.
Вся жизнь.
От пули умирать слаще, еще можно на прощание, пока в тебе гаснет солнце, подумать о доме, о матери, подумать за Русь!
Но еще лучше умереть, зная, что продержались трое суток, и что он выполнил перед Русью дол воина!
Башкин открыл глаза, он услышал, что воскресил в себе усталое, угасающее сердце, вытеснил все печали и тревоги ─ и живо подошел к воинам. Они уже собрали с поля сражения убитую рать. Оставалось похоронить в земном Мавзолее. Рыть братскую могилу сил не было. Положили героев на дно траншеи с краю, где печалью высилась обугленная роща. И засыпали землею.
Постояв в трауре, командир тихо вымолвил:
─ Вечная вам память, воины Руси! Вы погибли с думою не о себе, а с думою о народе, за Отечество, дабы фашистская змея не ползала больше по земле, не заливала ядом Великое Земное Человечество, а мир жил по любви и справедливости!
Он снял с пилотки звезду и бережно положил на могилу.
Очил сказал:
─ Отсалютовать бы.
─ По врагу отсалютуешь. Возмездием! Снаряды надо беречь.
На скромном застолье разместились у снарядного ящика. Башкин разлил в кружки спирт. Взял свою:
─ Помянем, кто пал за Русь. На поле боя. Помянем первыми! Когда еще долетит Черным Лебедем печальница-похоронка до Отчего дома, омрачит тоскою сердце матери. Долго, очень долго будет матерь Человеческая отлечивать себя слезами! И скорбными криками в ночи! Одинаково встревожится болью и любимая! Для Отечества, матери и жены, воин Руси не умирает, неизменно и загадочно, на всю жизнь заходит в память. Не погибшим, живым! Именно так и будут помянуты во все времена при свече, при молитве. И, конечно, половодьем зальют землю человеческие слезы! Им, живущим там, где звезды, нужна память с земли. Они должны знать, что прожили жизнь красиво! Не напрасно! Собственно, так и есть. Они отдали, что могли, отдали самое ценное, жизнь! Во имя свободы! Человека! И Отечества! Выпьем за героев стоя, друзья!
Все встали, выпили сурово и задумчиво. С тревогою в сердце. Им самим, многим, оставалось жить один день. Если повезет, если не будет усиленно и старательно каркать пророчица Кассандра, то еще и ночь. Их ковчег тоже под траурным флагом уверенно вплывал в бухту вечности.
Башкин огляделся.
─ Не вижу Василия Бессонова из Белгорода. Где он, наш отважный подносчик снарядов?
Очил кивнул головою:
─ Спит у ящиков со снарядами.
─ Разбуди, пусть откушает, согреется.
Быстро поднявшись, Очил подошел, тронул за плечо. И растерялся, в тело воина уже вошел холод. Он закрыл Василию глаза.
─ Его уже на разбудишь, командир! Уснул вечным сном.
Башкин не скрыл печали:
─ Еще один громовержец пал! Осталось десять. Невелико воинство, но каждый велико храбр. Выстоим? Удержим крепость?
─ Выстоим, командир! ─ тихо дали клятву воины.
Наступила ночь. Воины-руссы спали. Спали и воины Третьего Рейха, крестоносцы не любили воевать, не отдохнув, не испив шнапса.
Над миром стояла тишина.
Не спал только один человек, Александр Башкин!
Он не спал всю войну!
Не было сна!
Не шел сон!
Это его собственное признание, и признание от Бога! Ибо сильно-сильно были перенапряжены нервы! И не было смирения, отката! И как им быть, во все времена, ─ передовая, передовая! Тысячи и тысячи пуль, неисчислимая тьма фашистских бомб летели в воина, он мог принять смерть в каждое мгновение. Кто воевал, тот знает, сражаться с врагом на передовой одни сутки и выжить, не раствориться живою звездою в Вечности, уже удача и подвиг, Башкин воевал на переднем крае три года, тысячу суток!
Не спал он и в ту окаянную, загадочную ночь, когда совсем неожиданно над бастионом Башкина взметнулись ввысь яркие ракеты с огромными пирамидальными люстрами. Они спускались с неба разожженными кострами, пугали пиршеством света! Невероятное пламя ракет сжигало, испепеляло на земле все живое, плавило вековечный камень! Командир бастиона услышал в себе необычную тревожность; неспроста, неспроста с таким ликованием над землею разгулялась огненная буря; он даже услышал, как врывается в мир женский плач и тревожное, надрывное песнопение хора плакальщиц на могиле умершего! Странно! С чего бы? Откуда слышится грустная, траурная музыка? И почему он видит лик гибели? Воины по приказу командира в мгновение спрятались в укрытие. Сам Башкин, стоя под скалою, рискуя превратиться в горящий факел, стал вдумчиво всматриваться в движение на шоссе. И не напрасно.
По шоссе шли тяжелые танки с устрашающею фашистскою свастикою, шли затаенно, желая застать смельчаков врасплох. Смертью смотрели могучие вытянутые жерла орудия. Правда явилась командиру стонущая, тревожная ─ генералы СС решили ночью, в лютом штурме, взять редут-крепость, пленить защитников!
Гитлеровцы недоумевали, жили гневом и яростью, как так? Одно орудие сдерживает всю армию! Они не понаслышке знали о храбрости русского воина! Но здесь, ни разумом, ни логикою ничего не осмыслить! Горстка храбрецов сдерживает силы, превосходящие в тысячу раз!
Как такое может объяснить военная наука?
Пора, пора сразить бастион!
Командир Александр Башкин лютого страха от ночного штурма не испытал, но удивление пересытило сердце.
Штурм ночью?
Такого фашисты себе не позволяли!
Эх, эх, запела, загудела под гармонь и гусли родимая Русь! Мчитесь, вороные!
Он взвил в небо красную ракету.
Воззвал по рации:
─ К сражению! Истребители танков, разобрать связки гранат! Бежать к обрыву и вжаться в землю! Сержант Листопад залечь за пулемет, отсекать, рассеивать автоматчиков от танков!
Битва пошла лютая, ожесточенная! Очил в мгновение стал ловить танки в перекрестье прицела.
Башкин повелел:
─ Жечь машины только на горе!
─ Не опасно, ─ встревожился артиллерист. ─ Орудие с горы открыто, не успеем сразить смельчака, и пушка, и мы взлетим на воздушном шаре!
─ Ночь, Очил! На шоссе на танк слетает четыре снаряда! На горе бьем наверняка! Надо беречь гостинцы! Понял? Делать так, как я сказал! Нам еще биться и биться. Я спрашиваю, понял?
─ Понял, командир! ─ игриво подтянулся Очил.
Теперь он крикнул Иону:
─ Ты чего стоишь, храбрец? Подносчики пали! Кому носить к пушке снаряды и заряжать? И юлою, юлою крутись!
Сражение нарастало. Все было заполнено свистом пуль и зловещим воем снарядов, земля исчезла в огне и дыме, грохоте разрывов. На этот раз в наступлении немцев не чувствовалось растерянности, шли в атаку смело, без нервности. Самое-самое, что им было надо ─ проскочить по шоссе с километр. Взобраться на гору и раздавить орудие. Но как раз проскочить по шоссе они не могли, были беззащитны. И гибли от меткого выстрела! Теперь же пожар ракет стоял над бастионом, а на шоссе ютилась тьма. И проскочить во тьме, ночью шоссе легко получалось. И танки дивизии СС «Герман Геринг» подошли к горе, и штурмовали ее, неумолимо, злобно-мстительно.
Все было так близко, что смельчаки-танкисты открывали люк, кричали на ломанном русском языке:
─ Возьмем бастион, возьмем! Русс капут!
Тяжело, невероятно тяжело приходилось артиллеристам-истребителям отбиваться от чудищ. Башкин уже не кричал, хрипел, выдавливал из себя:
─ Очил, ведешь коренника?
─ Веду, командир!
─ Пусти на гору. Сколько говорить! Обнажит брюхо, тогда и руби! Видишь, штурмуют высоту королевские «тигры»! Броня неуязвима.
─ Так и живу, командир! Зашел танк в перекрестье!
─ Огонь!
Выстрел. Еще танк ушел в пламя. Теперь на холме горело три танка-крестоносца. Но атаки не прекращались! Следом на штурм бастиона, поднимались все новые танки, они с шоссе, с ходу пытались протиснуться у края горящего танка, сквозь узкие горловины, и вырваться на просторы бастиона, расстрелять орудие, но сами попадали под меткие выстрелы.
Следом шли новые танки-крестоносцы, шли в лютом, мрачном исступлении, шли, как жертвенники, забыв о жизни и смерти, но снова попадали под мельничные жернова.
Наводчик Очил бил по ним, как снайпер.
Если Очил, обессилев от боя, без сознания, сползал с железного кресла на землю, осыпанную гильзами, к прицелу вставал Башкин. Кто был неутомим в битве! И они вместе с Ионом во всю немыслимую силу повелительно разгоняли на поле сражения новые хороводы пожарищ!
Отчаянно бились с танками, не пускали на бастион, и не раз ценою жизни, и воины сержанта Листопада, сам он, лежа за камнем-валуном, выкашивал из пулемета наседавшую пехоту. Битва была немыслимая! Эсэсовцы то и дело поднимались в психическую атаку, шли на пулемет гордо, жертвенно, падали, заливаясь кровью, на землю, в огонь, перерезанною пулеметною очередью, но поднималась новая рать, как чудо, как воскресшие из бессмертия, и снова, гордо, жертвенно шла на приступ цитадели, шла под пули, совершенно не ведала о смерти.
Шла и гибла, шла и гибла!
Был приказ самого генерала-фельдмаршала Вильгельма Моделя, к утру взять упрямую крепость, а защитников ее повесить в лесу на елке, как свечи.
Но взять бастион Башкина и ночью не удалось.
Немцы отступили, отползли в свое логовище залечивать раны. Защитники крепости, где стояли, там и опустились на выжженную землю в изнеможении. Они лежали, не шевелились. Башкин тоже в бессилии опустился на дно неуютного холодного окопа, накрылся лошадиною попоною. Его трясло. Трясло очень сильно. Жар мучительно растекался по телу, бил ознобом, и бил так сильно, словно били пастушьим кнутом. И не просто били, а забивали до гибели пастушьим кнутом! И откуда-то с неба лилась залихватская песня под гармонь: Мы ушли от проклятой погони, перестань моя детка рыдать, нас не выдадут черные кони вороным нас уже не догнать.
Он терял сознание и, наверное, уходил в смерть.
Ион встревожено толкнул его:
─ Командир, ты чего?
Башкин спросил из тьмы:
─ В чем дело? Чего тревожишь?
─ Побледнел ты, глаза закатились, и сердце, похоже, перестает биться!
Он дал ему выпить спирт.
Выпив, Александр Башкин открыл глаза, стал осмысленно смотреть на мир.
Жизнь вернулась.
VI
Пришло утро. Солнце взошло молодое, ласковое. Стояла тишина. И воины в сладость вслушивались в безмолвие. По покою гасли звезды. На шоссе еще догорали танки; их ретиво растаскивали тягачи, слышалась отборная немецкая брань. Вдали гибла в огне березовая роща, иссеченная снарядами. Во все времена несла миру стыдливую, целомудренную красоту, а теперь стояла сиротливая, убогая. И очень печальная. Один ветер бестревожно разгуливал над полем битвы, разносил окрест густые едкие дымы.
Фашисты присмирели, ушли в загадку. Но благословенное безмолвие длилось недолго. К бастиону подкатили танки-крестоносцы под белым флагом! Враг пошел на хитрость, решил растревожить русскую душу. И взять крепость без выстрела.
На танке установили репродукторы и стали миролюбиво просвещать воинов гарнизона: Рус Иван, сдавайся! Чего развоевался? Сталин капут! Обещаем жизнь! Германия чтит героев! Посмотри, какое солнце? Ужели не хочешь жить, пить шнапс, целовать фрейлин, гулять с белокурым мальчиком по лугу, где на все времена кончится твоя боль, твоя смерть! И заводили на патефоне русские песни в исполнении Лидии Руслановой: «Окрасился месяц багрянцем», «Когда будешь большая, отдадут тебя замуж», дабы напомнить о прекрасности жизни, выбить слезу, ослабить к битве солдатское сердце.
Но руссы и сами знали, как прекрасна жизнь, как прекрасна Русь в сиянии месяца, с разливом колосьев на крестьянском поле, с гармошкою на лугу, как нежны поцелуи россиянки, какое синее-пресинее небо стоит над отчим домом! Играй, фашист, играй!
Не печаль тревожишь, а радость!
Сладость свидания с домом и с милою, любимою! Выбил слезу, но приятную. Повтори еще раз про красотку, которая живет в высоком терему! Эх, и удалая песня!
Не познать тебе, фашист, русскую душу.
Не познать!
Очил не выдержал:
─ Не пора ли положить на катафалк дракона?
Башкин возразил:
─ Нельзя, брат! Гости, песельники! И под белым флагом! Ты же не фашист! Поверх танка стрельни.
─ Снаряд жалко, ─ но выстрел сделал.
Королевские танки развернулись без желания, как с обидою, и ушли гордо, властелинами, устрашающе лязгая стальными гусеница.
Командир бастиона тихо уронил:
─ Теперь надо ждать танки и самолеты.
Он был прав.
Вскоре враг повел решительное, злобно-мстительное наступление. Он не мог отступить! Пошли третьи сутки, а бастион все стоял и стоял! Уже было слышно, как на реке Нарев саперы дивизии Эммануила Казакевича наводили понтонные мосты! Переправа тянулась гибельно, как стрела Робин Гуда. Вот-вот Белорусские фронты устремятся по мосту на плацдарм Башкина, где возьмут в кольцо окружения все воинство фельдмаршала Моделя! Возьмут Варшаву! Что скажет фюрер?
Почему и надо было скорее, скорее столкнуть смельчаков обратно в реку Нарев!
Промедление смерти подобно!
И гитлеровские генералы вновь и вновь посылали на редут Башкина, то самолеты, то тяжелые танки, то отборные войска СС. Бомбардировщики шли на позицию раз за разом, грозовыми тучами закрывая небо, наполняя пространство над полем сражения пронзительно-режущим волчьим воем. В пляске огня и смерти падали бомбы. Летчики тщательно бомбили метр за метром, стараясь разгромить орудие и сам редут, втиснутый под уклон скалы. Невероятно, если в такую окаянную, гибельную метель могло остаться еще живое! Должна остаться только выжженная до пепелища земля. Но смельчаки уходили в глубину скалы, вжимались в камень, терпеливо пережидали гибельную опасность. И только на штурм поднимались танки, снова вставали к орудию и разжигали на земле костры из железа. Далеко, необозримо по шоссе простиралось кладбище подбитых машин. Одни горели, другие еще кружились на одной гусенице, третьи необъяснимо печально стояли без башен. Они были снесены снарядом, лежали рядом, как головы, отрубленные гильотиною, и, страшно обгоревшие, все еще своими обреченно неподвижными грозными орудиями наводили ужас на все живое.
Но битва продолжалась. Пока тягачи растаскивали с дороги груды изуродованного металла, на крепость Башкина налетели всесильные «мессершмитты». Они на бреющем полете обрушили из пушек и пулеметов на позицию Огонь гнева, Огонь ненависти, Огонь гибели! И по шоссе пустили танки! Вся эта немецкая соборная сила слилась в одном поражающем ударе. Танки на скорости, минуя, сбивая расстрелянные, должны были вихрем взметнуться на высоту, оседлать ее и сокрушить.
И так бы случилось, не будь командиром крепости Александр Башкин. Он не воевал вслепую, наудачу. Он вел дуэль с танками с умом. Его ум воина был смел и дерзок. И мудр. Он сердцем, седьмым чувством ощущал поле сражения. И из хаоса создавал гармонию, заранее все просчитав. Он угадывал, и строго безошибочно, какой танк первым выстрелит, какой более опасен.
И кричал наводчику:
─ Быстро бери в прицел машину слева, ту, что у бугра. Норовит приостановиться, выстрелить.
Очил понимающе кивал головою, быстро крутил маховик, брал ее в перекрестие прибора и вел:
─ Есть, командир!
─ Огонь!
Все складывалось по закону войны: кто стрелял первым, тот выживал!
Здесь причина его удач в бою. В уме стратега. И еще он был на удивление бесстрашен. Только этим можно объяснить, почему он держал крепость с горсткою храбрецов, вел неравную и смертельную дуэль с танками. Все казалось верхом неестественности: одно орудие сдерживало армию. Но так было. Были панфиловцы, был Сталинград. Был и рубеж Башкина.
И теперь командир редеющего десантного отряда с немыслимою силою отбивал атаки танков, какие стремились тараном разрушить непокорную крепость, загнать в смерть смельчаков. Он был на удивление спокоен, не нервничал. И, стоя за щитом орудия, даже не кланялся пулям. Надоело! И зачем? Шла последняя битва! И, значит, все защитники крепости ─ жертвенники! Жертвенники Руси! И он, безусловно! Всего и надо теперь, отдать жизнь дороже!
В громовом грохоте разрывов бомб и снарядов, голос его уже не был слышен. И он уже не кричал: «Огонь, огонь»! Только взмахивал флажком, показывая Очилу очередного дракона, которого надо поразить. Когда ошалевшие от огня танки-крестоносцы выскакивали на кругорье, и орудию грозила гибельная опасность, сам припадал к прицелу и нервно, метко бил по незваным пришельцам.
Неизмеримо изнурительна была эта прощальная дуэль!
Крепость горела. Горел камень, трескаясь под огнем. Горела земля, изрытая воронками, густо начиненная свинцом.
Но крепость стояла. Руссы-воины вершили подвиг! И не мог, никак не мог фашист сломить силу воина Руси! Но и героев оставалось все меньше. Был иссечен пулями сержант Листопад, были перебиты руки, но он стрелял, вел битву, прижимаясь лицом к раскаленному пулемету, к гашетке, пока не расстрелял всю ленту. Увидев сбитое пулею знамя рубежа, он, зная, что умирает, поднял знамя. И встал, как Знаменосец Жизни и Руси над бастионом, над миром! Получалось так, словно предстал перед Господом для исповеди!
Он крикнул:
ПОДВИГ НА РЕКЕ НАРЕВ
─ Прощайте, друзья! Верю, не напрасно льется наша кровь. За матерей, за Россию! Держитесь!
Он, посмотрел на поле битвы, на поле Славы, иссеченное, простреленное вдоль и поперек, сожженное огнем до пепелища. И туда, где была его Русь, где был его дом, его земля, его матерь, где в разлуке, в надежде, жила его россиянка, прощально поклонился Всея Жизни. И голова его упала, как с плахи.
Но знамя не упало, воткнулось в землю.
И дальше звало к битве за Русь.
VII
Только опять же к ночи, когда зажглись на небе звезды, армия врага прекратила атаки.
Воины крепости выстояли, но радости не было! Все устали. Падал от усталости и Очил.
Держась за щит орудия, с трудом шевеля пересохшими губами, он с гневом спросил:
─ Где наши, а, командир?
─ Терпи! Придут! Не бросят! ─ попытался успокоить его Башкин.
Но Очил был близок к истерике:
─ Придут ли? Ты уверен? Сколько велено держаться? Трое суток! Мы сколько врага отбиваем? Трое суток! Где наши? Бросили, сволочи! Бросили! Где снаряды? Почему не шлют?
Башкин налил в кружку спирт:
─ Тебе надо выпить, брат! Успокоить нервы.
Он выпил, но боль осталась:
─ Пал смертью героя весь десант! Зачем еще жертвы? Надо отходить, командир! Мы долг воина исполнили с честью! Ты так не считаешь?
─ Считаю, ─ не стал возражать Башкин. ─ Ты во всем прав! Твоя боль от Бога! Но если мы уйдем, то зачем все было? Враг только и ждет, дабы мы покинули крепость!
Очил зло сказал:
─ Боишься, расстреляют?
─ Кто расстреляет? За что?
─ За все хорошее! Что отступили! Мы не бежим, мы не бросаем щит и меч на Куликовом поле, а отходим, исполнив задание командования! В чем будет наша вина?
Башкин отозвался непреклонно:
─ Я не могу покинуть крепость, Очил! Фашисты собирают силу! С утра начнется немыслимая битва! Битва за Россию, последняя, прощальная! И будем отбиваться! Понял?
Артиллерист тоже не мог себя успокоить:
─ Дьявол ты! Чем отбиваться? Саперными лопатами и касками? И с кем стоять? Нас осталось пять человек, и все раненые. И ты ранен! Я готов стоять! Готов! Насмерть готов. И так бился. Все так бились, защищая крепость. Но теперь с каким смыслом? Просто умереть, и все? Ненужным жертвоприношением? Зачем? Знаешь, какое воинство за ночь соберет фашист? Нас переколют штыками, разорвут бомбами, проутюжат гусеницами танков! Он утром возьмет высоту! Дальше ее держать бессмысленно! Мы все зальемся кровью! Зачем гибнуть зря? Ты умный человек, почему не хочешь осознать простую истину?
Башкин навел автомат:
─ Еще одно слово, и я тебя застрелю! Мы не имеем права отступать. У нас только одно право ─ умереть с честью! И мы так умрем! Смерть ─ солдатское дело! Смерть и победа!
Воины не спали всю ночь. Они собрали по сусекам все снаряды, все гранаты, и ждали атаки.
Но не всю жизнь у человека черное. Совсем неожиданно на рассвете в облачном небе появились краснозвездные бомбардировщики. Они сбросили на редут Башкина на парашюте ящики с боеприпасами и стали безжалостно, целеустремленно бомбить вражеские позиции во всю глубину Варшавского шоссе.
Башкин толкнул Очила в плечо:
─ Видел? Это чьи? Не наши? Говоришь, забыли? Не забыли! И снаряды подбросили, и позиции врага пропахали, как на вороном коне!
Он поправил кровавую повязку на голове:
─ Тебя по закону военного времени надо бы расстрелять. За панические настроения! Да не хочу остаться сиротою! ─ он обнял боевого друга.
Защитники крепости едва успели затащить снарядные ящики в скальное отверстие, как по редуту Башкина ударила вражеская артиллерии, и грозною, огненною лавою ринулись королевские «тигры» и воинственная пехота.
На четвертые сутки в своем ожесточении битва перешла все мыслимые и немыслимые пределы. Жизнь прекратилась! Все было заполнено свистом пуль и гибельным воем снарядов, земля исчезла в огне. Воины воистину бились Гераклами, все были не раз ранены, не было времени перевязать раны; они кровоточили, заливали глаза кровавым заревом. Но бастион стоял, а орудие Башкина , иссеченное пулями, осколками мин и снарядов, продолжало стрелять, продолжало быть могильщиком танков, на шоссе росло их горестное кладбище.
Но немцы не сдавали! Израненное, изрешеченное, истекающее кровью воинство крестоносцев, шло и шло неодолимою, несметною силою на приступ бастиона. Бились, столкнулись две силы. Бились дико и страшно. Одинаково храбро, с равною ненавистью. Уступать никто не желал.
Не имел права.
Да и загнать в смерть русского воина было не просто! Под бомбами, под градом пуль и снарядов, воины Александра Башкина творили подвиг, которого еще не видел мир.
Но враг на этот раз оказался сильнее, он одолевал. Бастион Башкина заливался кровью. Королевские танки уже бесстрашно проскакивали на шоссе гибельную плаху, поднимались на кругорье. Пришлось орудие выкатить на прямую наводку. И в близком поединке поражать танки. Смерть, настоящая смерть, подступила к защитникам.
Но вот снаряд разорвал пушку. Смельчаки обвязали себя гранатами, и трое, Башкин, Очил, Ион, тесно, прижавшись, друг к другу, пошли на танки, в самую гущу гитлеровцев.
В свою вечность!
И в свое бессмертие!
И тут в небе показались краснозвездные бомбардировщики, они нависли над воинством крестоносцев и, отвесно пикируя, обрушили бомбы. Мир еще страшнее погрузился в водоворот огня и смерти.
─ Наши! Видите? ─ радостно закричал Ион. ─И на реке Нарев наши! Слышите?
Все было правдою. Благословенной правдою. Под градом пуль и снарядов саперы, стоя по пояс в ледяной воде, стуча топорами, заканчивали наводить понтоны, штурмовые мосты. По реке, оттолкнувшись от берега, уже плыли плоты и лодки с воинами, орудиями, танками. Не успев коснуться земли, вступали в суровую битву. И только когда дивизия достигла крепости Башкина и с трубными возгласами: «Ура-а! За Родину! За Сталина!» устремились на врага, старший сержант Башкин потерял сознание. Сдало все: нервы, силы, ум.
Командир дивизии генерал Эммануил Казакевич, в окружении офицеров штаба, шел по бастиону, с несметными воронками, спускался в окопы, спрашивал:
─ Живые есть? Есть живые? Отзовитесь! ─ и трогал за плечо воина. Но он не отзывался, сладко плыл журавлем в небе! ─ И этот погиб. И этот. Все полегли! Неужели никого не осталось? Ищите! ─ попросил он офицеров. ─ Один да должен остаться! Они же стреляли из пушки, когда мы плыли по реке Нарев! м!
Со стороны поверженного орудия раздался голос подполковника:
─ Есть, товарищ генерал! Похоже, нашелся. И, кажется, еще дышит. Неровно! Но сердце стучит еще, стучит!
Генерал быстро подошел к человеку, распластанно лежащему у орудия. Это был Башкин. Командир дивизии осторожно отстегнул пояс с гранатами, слегка коснулся его плеча. Воин простонал во сне, открыл глаза. Увидев генерала, попытался встать. И не смог.
Казакевич обнял его:
─ Спи, сынок! Отдохни в радость! Спасибо! Теперь мы повоюем.
Он подошел к краю крутогорья, долго осматривал страшное танковое кладбище:
─ Сколько намолотили! Герои! Истинно герои!
Генерал снял фуражку и пошел по бастиону, кланяясь каждому воину:
─ Спасибо, сынки! Спасибо! Вечная вам слава!
Глава двадцать вторая
ВСТРЕЧА С МАРШАЛОМ ЖУКОВЫМ
I
После битвы на плацдарме Остроменко ─ Ломжо на западном берегу реки Нарев, Александр Башкин был снова по воле Бога размещен в дивизионном походном санатории. Его организм был истощен предельно, за трое суток боев он похудел на девять килограммов. И был сам по себе, то ли призраком, то ли горестным эхом от выстрела. В чем держалась душа, известно было только ангелам неба, его хранителям! Врачи и сестры милосердия слышали о его битве за рекою Нарев, все раненые офицеры только и говорили о бастионе Башкина, и невольно прониклись особым уважением к воину. Окружили его заботою и вниманием! Даже старались порадовать чем-либо вкусненьким с генеральского застолья. И воин артиллерист все больше чувствовал, как целительно и благословенно наливается силою, здоровьем.
В палату, с оглядкою прикрыв дверь, стремительно вошел командир дивизиона майор Иван Артамонов. Путь ему, бросившись рысью, преградила сестра милосердия.
И строго спросила:
─ В чем дело? Почему без стука? Без халата? Объяснитесь, товарищ офицер!
─ Красавица, не сердись, ─ повинно отозвался Иван Филиппович. ─ Время, как у Золушки, на двенадцатом стуке! Не успел принять омовение, обрядиться в белые одеяния! Но я перед вами исправлюсь. Не верите? Я вам назначаю свидание. Где? На берегу Вислы! Придете?
Не дождавшись ласковости в ее взгляде, вежливо поклонился, прошел к кровати Башкина, выразил восхищение:
─ Ничего пристроился, сержант! Красивые девушки, цветы хризантемы, чистое белье, власть покоя. ─ И без перехода повелел, подавая сержантское одеяние. ─ Надо одеваться, Александр! Срочно вызывает командир дивизии.
─ Вручить орден? ─ соизволил улыбнуться Башкин, ловко укутывая ноги в портянки.
─ Не доложил.
─ Значит, розги!
─ Может, и розги. Велено доставить живым или мертвым.
Подошла сестра, такая же строгая, важная; похоже, все тревожила в себе оскорбленную женскую гордость:
─ Вы его забираете?
─ На время, красавица! В штаб фронта! В Кремль повезут, к Сталину. Как героя.
─ Оставьте скоморошество, товарищ офицер! У вас есть разрешение начальника санатория? Нет? Прямо нашествие варягов! Вы же в санатории, а не в публичном доме, товарищ офицер! Идите за выпискою. Так не отпущу. Обождут ваши генералы!
И недовольно добавила:
─ Торопятся, торопятся, платье снять не успеешь.
Пришлось Артамонову оформлять выписку. Штаб Второго Белорусского фронта располагался в Люблине. В ставку ехали на «виллисе» уже трое, с командиром дивизии Эммануилом Казакевичем. У подъезда роскошного особняка стоял страж, совсем еще мальчик, с рябым лицом, с гордо вздернутым носом. Увидев генерала, он подтянулся, отсалютовал винтовкою.
В штабе фронта все жило по законам войны. В каждом кабинете торопливо-монотонным разливом стучали телеграфные аппараты, без устали звенели телефоны. Строго подтянутые офицеры с золотистыми аксельбантами, устало кричали в трубку:
─ Что вам не ясно, полковник? Вам велено развивать наступление на Варшаву через реку Вислу, с огневого рубежа Бромберг─ Познань. О наступлении доложено Верховному Главнокомандующему, а вы еще топчетесь на околице деревни! Под трибунал хотите? Беспрерывно висит немецкая авиация? И что? Я должен позвонить фельдмаршалу Герману Герингу? Пусть отправит летчиков на карнавал? Того желаете? Я не расслышал! Чего, чего? Требуете зенитную батарею? Хорошо, я позвоню товарищу Сталину. Будет вам и батарея, и березовые веники! Вперед, полковник, вперед!
В комнате дальше тоже просили о милости.
Офицер отбивался, как мог:
─ Какие танки? О чем вы, генерал? Танковые армии Михаила Ефимовича Катукова и Семена Ильича Богданова развивают наступление на укрепленные города-крепости Лодзь и Познань. Они заливаются кровью! Кто вам даст танки? Что? Согласны на стрелковую дивизию? Еще новости! Вы генерал или нищенка на паперти у храма Василия Блаженного? Реку Пилецу вам помогут преодолеть воины Войска Польского под началом генерала Станислава Поплавского. Чего еще хотите? Без танков поляжете на высоте? И что? Ложитесь! И сами ложитесь. Пока не легли, на Варшаву, генерал, на Варшаву!
Приглашенные гости скоро прошли через коридор в сопровождении тучного полковника, страдающего одышкою, и оказались в зале с диковинно высокими готическими окнами, с гардин свисали белоснежные воланы. Александр Башкин невольно посмотрел в окно; открывалась каменная площадь с костелом, поблескивали красными черепичными крышами домашние, уютные хаты, окруженные тополями. Там, где была булыжная мостовая, шли с грохотом колонны танков, катили орудия.
Опомнившись, воин подтянулся. И замер. В зале было множество генералов. Свет вокруг от погон казался золотым. Все столпились у дубового стола, на котором высились телеграф, полевые телефоны. В центре в кресле сидел коренастый человек с массивным подбородком, он был одет в кожаную куртку, и вдумчиво читал бегущую телеграфную ленту. Изредка смотрел на генералов, они в мгновение подтягивались, щегольски приударяя каблуками, с почтением склонялись, ожидая распоряжения. Сам командующий фронтом генерал Георгий Захаров медленно ходил по ковру комнаты, задумчиво поглаживая висок. Ему и доложил полковник:
─ Товарищ генерал-полковник, сержант Башкин по вашему приказанию доставлен!
Коренастый человек живо поднял глаза, отбросил ленту. Ее подобострастно на лету подхватил один из генералов. С шумом отодвинув кресло, он быстро подошел к Башкину и заглянул в самые-самые глаза, вызвав мятеж в душе у солдата. Именно такого крепкого сложения чекист и избивал его смертным боем в Вяземской тюрьме, требуя дать ложные свидетельств, зверски топтал на холодном полу сапогами, стараясь угадать в сердце. И он же отливал его ледяною водою, когда он уже лежал на катафалке, а злобные дьяволы Мефистофеля везли его на погост. Воин взгляда не отвел, смелости ему не занимать. Но потому, как стояли навытяжку генералы, эта птица, видать, самая важная в штабе. Не с Лубянки ли, не сам ли Берия? Уж очень он был зорок и властен, и в сердце, и в теле жила немыслимая сила и воля!
Башкину стало откровенно страшно!
Зачем же вызвали? Да еще в штаб фронта? Надеть наручники и сопроводить под конвоем в Тулу, к чекистам? Как государственного преступника! Особо опасного. И отдать под суд военного трибунала. Неужели разыскали? Обидно! До Берлина осталось два перехода. Неужели ему уготована гибель необыкновенная? Не на поле битвы, а в застенках Берии?
Мысли бились, сшибались, как льдины в половодье. Он не ждал добра от начальства! Так сложилось по жизни! По печальному року! Кого винить? Только себя! На все времена попал в водоворот, на все времена! Не смерти боялся, бесчестия! Они тревожили горькую печаль! Всю жизнь он бежал от чекистов, от эшафота! И все же кони привезли его на плаху! Привезли и вздыбились, усталые, загнанные перед волевым жезлом краснопогонников! Есть ли повесть печальнее на свете?
Одно мгновение длилась угнетающая смута чувств, и тут же оживали светлые мысли. И по милости даровали целомудренную успокоенность! Не такой он преступник, дабы везти из штаба фронта в царской карете под усиленным конвоем в Москву на Лубянку, в застенок Лаврентия Павловича. Не Емельян же Пугачев! Все можно сделать проще. Цивилизованнее. Вызвать в Тулу с офицером и арестовать. Зачем публично сечь? Да еще при вельможном генерале?
Если только потревожить страхом боевые души?
II
Наконец, человек в тужурке строго спросил:
─ Фамилия?
Воин ответил гордо, лакейничать не стал:
─ Башкин. Александр Башкин.
─ Звание?
Артиллерист покосился на погоны, с удивлением подумал: видно же, что не генерал-фельдмаршал Гитлера. Чего спрашивать? Но спрашивает! Зачем? Точно так, строго и сурово, его допрашивали в разведке под Вязьмою. И опять в сердце шевельнулись змеи.
Но отозвался с достоинством:
─ Старший сержант!
─ Должность?
─ Командир орудия!
Строгий человек посмотрел на командующего Белорусским фронтом:
─ Он самый, генерал? Не перепутали?
Генерал-полковник Георгий Захаров подтянулся:
─ Никак нет, товарищ маршал! Он самый, Александр Башкин. Был послан командиром дивизии отвоевать плацдарм за рекою Нарев! Отвоевал и удерживал трое суток. Весь десант пал смертью героя. Вся великая армия фельдмаршала Вильгельма Моделя не могла осилить бастион Башкина. С его плацдарма фронт подошел вплотную к Варшаве.
─ Ясно-с, ─ коренастый человек еще раз с прищуром посмотрел на смутившегося солдата.
Мягче спросил:
─ Откуда будешь?
─ Из деревни Пряхино, Тульская губерния.
─ Знаю. Видел на карте, когда разрабатывал план наступления от Москвы в сорок первом. Стоит на линии Кашира, Ожерелье, Мордвес, Пряхино, Сталиногорск, Тула. Не изменяет память?
─ Именно так, товарищ маршал!
─ Чем занимался до войны?
─ Хлебопашеством. Пахал землю, растил хлеба, дарил людям, как Христос. Затем работал в банке. Отец умер, надо было кормить семью.
─ Пашня не кормила?
─ Кормила, но не так.
Маршал согласился:
─ Верно. Тяжело было. Пришел Гитлер, пожелал пленить Русь святую, надо было строить танки.
Он внимательно посмотрел:
─ Когда воевать начал?
─ С июня, как фашист напал.
─ Вижу по нашивкам, имеешь не одно ранение.
─ Три, товарищ маршал! Те, что поменьше, без счета, весь иссечен! Первую кровь пролил под Смоленском. И дальше фашист не жаловал. Обижаться не могу. Я три года там, где передовая!
─ Где же ордена?
Вопрос прозвучал, как выстрел. В самое сердце. Александр Башкин растерялся, уверенность покинула воина. Какую правду выложить на исповедь? Преследуют чекисты? Накинули лассо, как на вольного мустанга, и волокут, оттаскивают на суд Мефистофеля, на страшную плаху?
Почему?
Был приговорен к смерти, как изменник Отечества!
Каково?
Понравится маршалу такое признание? Печалится он, прольет ли? Не попечалится и не прольет! Такая правда, горькая, стонущая, тревожная, унижает человека, а не возвеличивает! Такая правда хуже, чем смерть! Услышав такую правду, маршал, несомненно, посмотрит на воина с презрением. Или затаит презрение ─ от культуры души. Но родственная, душевная связь оборвется на все времена! Желал увидеть героя, кто по идее даровал победу Второму Белорусскому фронту, спас тысячи воинов, кому выпало пасть, утонуть при наступлении на Варшаву через реку Нарев, и вспомни Днепр, человече, сколько там затонуло при переправе, а река Нарев, много ли меньше?
И вдруг спаситель Отечества оказался ─ изменник Родины, бегунок с Куликова поля! Зловещее было бы открытие, зловещее! Правда, если брать по чести и совести, он чист перед собою и Отечеством! Больше, чем Геракл бился с врагом, с земным злом! И больше, чем Геракл искупил вину кровью! И приговор завис ледяною глыбою над его жизнью только в НКВД!
Но он завис!
Он есть!
И зачем теперь маршалу его непорочность? И станет ли легче воину, тому, кто несет по тоске распятье на Голгофу?
Башкин ощутил себя как на костре Джордано Бруно. Даже виновато переступил с ноги на ногу. Но молчать долго было нельзя.
Он подтянулся:
─ Не ради наград воюю, товарищ маршал! Ради победы и Отечества.
Жуков благосклонно согласился:
─ Верно, солдат, верно. И все же? ─ он с хитринкою посмотрел на генералов. ─Получается, неправду говорят твои командиры? Хреново воюешь!
Вперед неустрашимо вышел генерал Эммануил Казакевич:
─ Разрешите, товарищ маршал?
Он небрежно уронил:
─ Говори.
─ Старший сержант Башкин за проявленный героизм в битве за освобождение Польши командованием 399-й гвардейской стрелковой дивизии представлен к высшей награде Советского Союза ─ ордену Ленина!
─ Наградной лист еще затерялся в дивизии? ─ поерничал Жуков.
─ Никак нет! Передан в политуправление фронта!
Казакевич пристукнул каблуками:
─ Смею еще доложить: сержант Башкин за необыкновенную храбрость на поле сражения не раз представлялся к ордену Красного Знамени, ордену Суворова, ордену Ленина, и даже к званию Героя Советского Союза! Но наградные листы теряются неизвестно где, и в штаб дивизии не возвращаются! Было бы справедливо воздать воину России заслугам.
─ Не возвращаются? Любопытно! ─ живо отозвался Жуков. ─ Говори, солдат, чем Бога прогневил?
─ Не Бога, а чекистов, ─ приблизил истину командующий фронтом Георгий Захаров.
Маршал задорно рассмеялся.
─ Чекистов? Скажите! Эк, куда занесло. Воистину смел! Чем же прогневил? Воровал по-крупному, работая в банке?
─ Совсем не воровал, ─ простецки произнес Башкин. ─ Свое отдам.
─ Что так? Святая душа?
─ Мать была строгая. Ремнем учила, чужое брать нельзя.
─ Значит, в тюрьме не был на гражданке?
─ Уберегся.
─ Где же репьев нацеплял?
─ На фронте. Был арестован военными разведчиками. Били без жалости. Препровожден в Вяземскую тюрьму, где трибунал приговорил к смертной казни.
─ За что приговорил? ─ прицельно спросил Жуков.
─ По правде сказать, ни за что.
Маршал сгустил брови.
─ Что еще за правда?
─ Есть такая, человеческая!
Генералы ожидали грозы, но маршал Жуков задорно рассмеялся.
─ Ловко! ─ он взглянул на окружение. ─ Сметлив солдат! Получается, у Военного трибунала своя правда, у тебя своя. Не сошлись характерами? И тебя, безвинного, приговаривают к расстрелу! Крутишь, солдат! Органы государственной безопасности просто так в тюрьму не сажают! Чем провинился? Яви правду по совести.
─ Из Тулы, из артиллерийского училища, бежал на фронт, не выдержав казарменную муштру. Под Вязьмою, где шли бои, и мне оставалось одно мгновение влиться в битву, забрали чекисты, посчитав, я есть шпион адмирала Канариса. Страшно били, страшно пытали. Разобрались, не виновен! Отправили в Вяземскую тюрьму на суд трибунала! Там посчитали, что я бежал с фронта, а не на фронт! Вынесли приговор.На рассвете должны были расстрелять. Я попрощался со всеми: с матерью, Отечеством, с паучком, который жил на тюремном окне, с лучами солнца.
─ И выжил? ─ пытливо посмотрел Жуков.
─ Не расстреляли.
─ Чудом спасся?
─ Молитвою матери! Она потом сказывала, что видела меня, как я сижу в тюрьме, жду смерти! И молилась. Перед иконою святой Богоматери. Мою мать тоже зовут Мария.
Башкин помолчал:
─ Не знаю, так ли? Но мои соседи по камере смертников были расстреляны, а мне смягчили приговор. В тюрьму приезжал прокурор Вязьмы, спрашивал у заключенного, что и как, я ему поведал, приговорен к смерти безвинно! Он оказался человеком, разобрался, внес протест. Меня направили в штрафную роту.
─ Значит, из штрафников?
─ Так точно, товарищ маршал! ─ подтянулся Башкин, чувствуя облегчение после исповеди по чести.
─ Где воевал?
─ Под Вязьмою и воевал. Танки Гудериана разбили храброе воинство в Смоленске, Вязьме! Те, кто вырвался из окружения, отступали к Москве со слезами и болью. Мы шли трое. Под Медынью увидели, как танки Гудериана переправляются по мосту через реку Угру. И решили принять последнюю битву! Так и так танки бы настигали! Не ложиться же покорно под гусеницы; не с девкою в постель. Как раз увидели огневую позицию, траншею, вырытую подковою, брошенные противотанковые ружья, совсем целехонькие, еще в смазке, в окопе ящики с гранатами! Полный набор гостинцев для фрица! И встали, как защитники себя и Москвы! Дрались отчаянно! Двое суток танки Гудериана сдерживали, не пускали к столице, пока все не полегли!
Маршал Жуков проявил необычную заинтересованность:
─ Погоди, погоди, солдат! Когда это было?
Башкин подумал.
─ Уже не помню. В октябре сорок первого.
─ Ты вспомни, солдат. Вспомни! ─ настойчиво попросил маршал. ─ Назови день.
─ Восьмого октября.
─ Черт возьми! Неужели это вы? Нет, не верю! ─ маршал в волнении встал и долго ходил по кабинету. ─ Я же в то время был в Красновидове, принимал командование Западным фронтом. И вслушивался в битву на Варшавском шоссе!
Говорю генералу Ивану Коневу:
─ Ничего не разберу, Смоленск пал, Вязьма пала, Юхнов пал, воинства, прикрыть путь на Москву, никакого! В таком случае, кто прикрывает дорогу от Юхнова под Медынью?
Конев пожал плечами:
─Затрудняюсь ответить, Георгий Константинович! Местные власти Медынь покинули. Генерал Рокоссовский повелел роте капитана НКВД Ивана Молодцова встать заслоном под Медынью, продержаться сутки! Но они убили политрука, распяли на березе начальника особого отдела. И скрылись.
Я строго произнес:
─ Вы меня удивляете, генерал! Неизвестные русские смельчаки вторые сутки сдерживают армию Гудериана, а мы не знаем ─ кто? Они спасают Москву, Россию, а вы не знаете, кто? Стыдно, генерал! Разузнать и каждого, за бесстрашие русского духа, представить к награде!
Тем временем, под Медынью долгим-предолгим эхом стали гаснуть последние выстрелы битвы.
─ Кажется, бои стихают, ─ грустно вымолвил генерал.
─ Значит, посмертно! И всем Героя!
Дальше я спросил: какие еще остались резервы? Надо помочь героям! И в то же время, смею заметить, я так и не узнал, кто же прикрывал под Медынью дорогу от Юхнова на Малоярославец, на Москву? Какие силы? Полная неизвестность! Я приказал начальнику штаба фронта разыскать командира и доставить ко мне лично! Свою бы Звезду Героя снял и ему вручил. Так он меня выручил. Двое суток держать врага! Как раз хватило времени создать оборонительные рубежи у Москвы! Но на побоище никого не нашли, только горящие танки. Неужели это были вы, сержант Башкин?
─ Не знаю, товарищ маршал, ─ скромно отозвался воин. ─ Возможно, мы, возможно, еще кто? Нас тысячи выходили из окружения.
─Печально, если не вы. Я так желал встретить смельчаков, ─ не скрыл грусти Жуков. ─Сколько, говоришь, вас было?
─ Трое, товарищ маршал!
─ Тогда не вы. Троим разве сдержать танковую армию? Мы направили в июле 41 года парашютно-десантную группу капитана Ивана Старчака, дабы перекрыла Варшавское шоссе, остановила танки Гудериана. Они вели бои на траурном эшафоте семь суток! И все пали героями! 430 человек! Но не дали фашистам победно наступать на Москву! Слышали, сколько? Вас же было трое! Нет, не может того быть!
Сержант Башкин подтянулся:
─ На войне все может быть, товарищ маршал! Вся Россия и вы, скорее, слышали о подвиге артиллериста Николая Сиротинина, кто в Белоруссии у города Кричево 17 июля 41 года один сдерживал танковую армию Гудериана! С одною пушкою повел дуэль-схватку с танками. И один из пушки подбил 16 танков и бронемашин, и фрицев без счета!
Он взволновано помолчал:
─ Я о чем? Я за истину. В бою с танками важно выбрать позицию, предложить им ближнюю битву, тут они беспомощны. Рубеж, повторюсь, был вырыт подковою! Мы взорвали лес, перекрыли дрогу! Танкам пришлось съезжать с шоссе, дабы объехать горе-дорогу, они на скорости как раз и въехали в подкову. Танки оказались на вытянутую руку! Только секи! И мы трое, я, Петро и Савва, били пришельцев из противотанкового ружья, и тут же меняли позицию, откуда бросали связки гранат, бутылки с огнем. Они горели, как свечи в церкви. Мы прятались еще дальше, в глубине траншеи.
Попав в окружение, под огонь, танки-крестоносцы растерялись. Танки зеркальце не имеют, дабы видеть, что сбоку и сзади; и никак не могли понять, откуда такая меткость огня? И где можно спастись от гибели? Стали кружиться вокруг себя, в панике, в злобе сталкивались друг с другом, разбивали гусеницы; и мы им еще несметно печали добавляли; одни костры, костры воспылали на невидимом поле битвы.
Как воины-невидимки, мы бились с танками двое суток! Могли и больше. Но пал героем солдат-богомолец Савва Бахновский, лежал распластано гордою птицею у догорающего танка Петр Котов. Я тоже был похоронен танком в окопе, в могиле. Он во зло наехал на окоп и стал вминать меня гусеницами, сколько оставалось сил; я раньше подбил его из пушки. Очнулся, кругом земля. С трудом, но дышу. Мало-помалу выбрался на волю, как медведь из берлоги.
Танки-крестоносцы ушли, но не в Москву, а вернулись к реке Угре, стали искать лучшую дорогу. Но снова попали под огонь, уже десанта капитана Ивана Старчака. Мы с Петром, он был ранен, похоронили друга, и пошли к линии фронта, дабы встать на защиту Тулы, Москвы. Так было, товарищ маршал!
Жуков с интересом выслушал исповедь воина Руси. Посидев в задумчивости, посмотрел на командующего фронтом:
─ Георгий Федорович, вы все слышали?
Генерал Захаров подтянулся:
─ Так точно, товарищ маршал! И имею дополнение. Из НКВД СССР от майора госбезопасности Константина Петровича Лоренцо пришла секретная радиограмма: «Извещаю, 10 октября генерал армии Георгий Жуков принимал командование Западным фронтом. Он слышал бои под Медынью. И просил разыскать героев, которые прикрывали дорогу от Юхнова на Москву. Двое суток врага держали! Может быть, даже Москву спасли, а то и Россию.
И представить к награде. Телефонограммы разосланы по штабам Западного фронта, особым отделам».
Запрос пришел как раз на сержанта Башкина; он был в лагере НКВД под проверкою. Чекисты просили уточнить: воевал ли под Медынью Александр Башкин? И кто он, воин Руси? Или шпион ли адмирала Канариса? Мы создали комиссию, которая посетила побоище под Медынью. Разыскали дуб, где в гильзу от снаряда была вложена записка воинов, что умираем за Родину и Сталина. И были фамилии. Но гильза была сплющена, и достать посмертное послание удалось с трудом. Имена собирали по буквам, там проглядывается фамилия Башкина, но окончание сожжено. Он ли, не он, комиссия взять такую смелость на себя не решилась.
Жуков повелел:
─ Изучить и доложить!
─ Слушаюсь, товарищ маршал!
Отпустив генерала, Георгий Константинович остановился перед храбрецом. И глубоко-глубоко посмотрел в его глаза. Какую правду желал увидеть там? Скорбную? Радостную? Свою? Воина Руси? О чем думал? О величии жизни? О величии смерти? О таинстве солдатской судьбы? Взгляд ничего не открывал, таил сокровенное. Но глаза смотрели по покою, ласково. И, казалось, солнечным свечением наполняли пространство комнаты. Воин Башкин, несомненно, услышал солнечное свечение, сердце его оттеплялось, повелительно отступали, рассеивались страх и горечь, какие изначально мучили его, страшили неизвестностью земного пути, едва он увидел грозного, властного человека. Ничего не свершилось, как в ужасе думалось, когда шел на плаху. Никто не бьет, не пытает, не собирается везти в клетке-карете, закованного в цепи, как Емельяна Пугачева, в первопрестольную, на Лубянку. Напротив, все генералы смотрят с особым почтением. Никому нет дела до его сложной, загадочной судьбы, что был вино и безвинно приговорен за прегрешения перед Отечеством к смертной казни , мог обреченно стоять у расстрельной стены и мысленно держать на ладони солнце, прощаясь с вековою правдою жизни. И с пробитым сердцем в скорби, распластано упасть на окровавленную землю любимой Руси. Не слышится печаль и о том, что был штрафником и все числится, числится в роковом реестре НКВД как изменник Отечества, его печальником, его изгоем.
И сам маршал готов обнять, поцеловать. За ратные подвиги на поле боя. Но все не решится. Мешают стыдливость и гордость. Но обнять стремится, нельзя не видеть живущие в сердце добрые порывы, как бы они усиленно не скрывались.
Пока шло человеческое общение. Всепрощение его грехов.
Как не ликовать солдату?
Жуков поласкал бороду:
─ Говоришь, в бою танк закопал в могилу?
─ Так точно, товарищ маршал!
─ И выжил?
─ Выжил, товарищ маршал!
─ Чудом? По молитве матери?
─ Предстану перед Богом, спрошу! ─ осмелев, воин отозвался весело, с озорством. ─ Я и в танке горел, как на костре, освобождая Украину. Выжил! И в Волге тонул, как Ермак в Иртыше, защищая Сталинград. Выжил! Врукопашную дрался с тьмою фрицев, как руссы на поле Куликовом. Снова выжил! Не взять им русского солдата. Живуч он! И бессмертен! Я не о себе. И о себе. Я, смею сказать, и после Медыни воевал честно. Не раз полил кровью святую Русскую землю! И густо полил! И считаю, давно собственною кровью смыл бесчестие приговора! Я чист перед совестью и Отечеством! И никак не осмыслю, за что, за что чекисты так долго держат на плахе оскорбления? Гоняют по кругу печали, как животное? Занесли нож гильотины, руби, если виновен! Не виновен, сними с распятья! Сколько можно держать на Голгофе от имени Пилата?
III
Увидев слезы солдата, Георгий Жуков сурово призадумался, и тихо-тихо ушел в скорбные воспоминания. Осенью 1937 года он сам едва не был расстрелян как враг Отечества в мрачном застенке НКВД на Лубянке. И выжил чудом, по смелости выжил. В ту пору он был командиром корпуса кавалерии, куда входила знаменитая Донская казачья бригада. Его предали близкие друзья, комиссар корпуса Илларион Юнг и начальник политотдела дивизии Вадим Тихомиров, они написали в КГБ клеветническое письмо, будто он имел связь с Михаилом Тухачевским, Ионом Уборевичем, какие замышляли убить товарища Сталина. И были разоблачены как враги народа!
Георгий Жуков был невыносимо сильно оскорблен ложью и в горько-гордом, бунтующем гневе подал телеграмму в Кремль на имя Сталина, где просил призвать мерзавцев к ответу за клевету! Иосиф Виссарионович миловал воина! Поверил в его правду, в святое сердце. Не то бы, жестоко били и мучили командира-кавалериста на Лубянке, как жестоко били и пытали чекисты под Вязьмою Александра Башкина. И так бы замученного, окровавленного, занесли в камеру смертников! И бросили на холодный пол. Дальше путь один ─ пуля в затылок, раскаленная жаровня в крематории на Донском кладбище, вылет из трубы черным дымом.
Прошли годы, кавалерист, что был обречен на страшную смерть на Лубянке, стал маршалом, великим полководцем, с золотым разливом орденов на груди; и он не мог, не понимать боль солдата, сердце солдата. Было с солдатом единение душ, ибо получалась одна трагическая судьба, одна правда, одна боль. Оставалось помочь солдату.
Он посмотрел на командующего фронтом:
─ Генерал, доставьте мне наградной лист на старшего сержанта Башкина.
Сказано было тихо, но воин Руси услышал. Сердце его вздрогнуло, застучало в тревоге и боли. Зачем доставить? Разорвать и выбросить? Не перестарался ли он, обнажая правду о приговоре в тюрьме и о том, как его избивали чекисты? Выстраданная исповедь хороша перед матерью или священником, но не перед маршалом. Зачем ему солдатские печали? Палачи с Лубянки страшнее, чем сама война. Сила злая, леденящая, неодолимая. Кому захочется скрещивать мечи? И во имя кого? Воина-жертвенника? Сегодня он присутствует, а завтра на поле сражения станет на мгновение чудесным светом и исчезнет отдельным миром в глубине неба и звезд.
И все же обидно. Обидно! Еще один орден Ленина положат на плаху! Вот бесье племя.
Прочитав наградной лист, Жуков положил его на стол, старательно расправил углы.
Спросил у солдата:
─ В родные края желал бы поехать?
Тут уж сердце у Башкина не вздрогнуло, а заплакало. Зарыдало! Есть ли солдат, кто всю жизнь воюет на Куликовом поле, с копьем инока Пересвета, где смерть и смерть, и где она может сразить воина в любое мгновение, не желал бы на десять суток поехать на родину, в свою деревню? Побродить по лесам и долам, постоять у реки, посмотреть на крестьянское поле с колосьями ржи, полюбоваться любимою, дождавшись, когда россиянка на заре-зорюшке последует к колодцу в летнем платьице, неся на белом девичьем плече резное коромысло с полными ведрами воды. Пообщаться с родными. Есть ли в мире еще благословеннее время?
Но куда ехать? В деревню, к матери, которая отреклась от сына? Зачем? Слышать ее плач и проклятия? Будить тоску, злые мысли? Забравшись на сеновал, оставшись в одиночестве, слушать, как даже ветер стонет и плачет человеческими слезами? Нет, не мила маленькая родина! Не мила без любви матери.
─ Мне уже предлагали отпуск, ─ отозвался воин.
─ Кто, любопытно?
─ Командир дивизии генерал Казакевич!
─ И что?
─ Отказался. Надо обождать.
Жуков в удивлении поднял брови. И поочередно посмотрел на каждого генерала, те, кого касался взгляд, вставали навытяжку, прищелкивали каблуками. Такое от солдата слышать не приходилось.
─ Объясни почему, смельчак?
─ Война кончается, товарищ маршал! Русское воинство с боями, смертями, со слезами вдов, неумолимо движется на Берлин, а я буду на завалинке, в родном краю, чаи гонять!
─ Можно и девок погонять, ─ пошутил маршал.
─ Изловлю Гитлера в Берлине, вернусь, погоняю! ─ подтянулся воин Руси! ─ Но пока от поездки отказываюсь. Буду воевать.
Георгий Константинович обнял солдата, обнял крепко, от души. И трижды поцеловал.
─ Что ж, пусть будет по-твоему, солдат! Не смею прекословить.
Он посмотрел на командира дивизии Эммануила Казакевича:
─ Генерал, я вас прошу, напишите в наградном листе на имя сержанта Александра Башкина: за доблестное овладение плацдарма на берегу реки Нарев, что позволило Белорусскому фронту начать успешное наступление на Польшу, присвоить ему звание Героя Советского Союза.
Когда наградной лист доставили из штаба, маршал Жуков поставил свою подпись.
Подошел к воину:
─ Поздравляю со званием Героя Советского Союза!
Воин Руси Александр Башкин ничего не ответил. Даже не мог вымолвить: «Служу Советскому Союзу!» Из сердца вырвались слезы, и он не скрывал слезы боли и радости, какие долго-предолго жили в душе, жили по молитве, по целомудрию, и в таинстве.
Воин, несомненно, имел право, пусть на мгновение, да пожить в радости за долгие века, какие выпали ему Земною Плахою.
Глава двадцать третья
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА ЗА КЕНИГСБЕРГ
I
На земном календаре стоял день-леденец, 13 января 1945 года!
Русское воинство шло на Берлин!
В гордом порыве наступления не было воина кто бы ни желал примчать на колеснице Цезаря в столицу Третьего Рейха. И водрузить Красное Знамя над рейхстагом! Желал расписаться на рейхстаге и Александр Башкин, теперь уже Герой Советского Союза. Но Второму Белорусскому фронту уже под началом маршала Константина Рокоссовского выпало по воле Иосифа Сталина разгромить превеликое немецкое воинство в Восточной Пруссии, овладеть ее столицею Кенигсбергом. И если получится по времени добраться до Одера, ─ влиться в воинство маршала Жукова и штурмовать фашистское логово.
Дивизии генерала Эммануила Казакевича выпала честь вести наступление на город-крепость Млаву. У ее стен собралась сила неодолимая! С утра дальняя артиллерия, расчищая путь танкам и пехоте, повела огонь на разрушение во всю глубину обороны врага в тысячу орудий. Била залпами, неумолчно и бесчисленно! В стане гитлеровцев бушевала смерть: рушились вековечные крепости, многоярусные доты, заваливались, осыпались могилами блиндажи и окопы. Гибли батареи пушек. Земля окуталась густым дымом и огнем, стонала и вздрагивала под громовыми раскатами.
Воины дивизии ждали сигнала к атаке.
Командир орудия Александр Башкин тоже ждал сигнала к штурму. Его расчет пополнился Владимиром Лапец и Николаем Якименко; это были молодые, еще не обстрелянные артиллеристы-истребители. Наводчиком остался Очил. В битве за бастион Башкина, когда руссы пошли в прощальную рукопашную, он был сражен танковым снарядом, засыпан землею. И был, собственно, уже в могиле, на своем погосте; по печали сказать, где бился, там и пригодился! Похоронная команда откопала воина, дабы перенести в братскую гробницу и похоронить честь по чести, под салютные залпы однополчан, но Очил был жив, еле-еле, но сердце билось.
Он лечился в госпитале под Казанью; жизнь ему вернули, но он потерял слух, не мог говорить. За время лечения ничего не изменилось; утраченный слух не вернулся, язык не повиновался.
Врачебная комиссия вынесла вердикт:
─ Комиссовать! В тыл!
Очил со слезами умолял Врачебную знать от милосердия отправить на фронт. Но судьи были непреклонны! Воину был выписан билет на родину в Душанбе, посажен в поезд, но через две станции, сбежал из поезда. И предстал пред очи Башкина. Командир орудия беглеца не принял, не зачислил в команду, побоялся; опять будешь не апостолом, а грешником перед чекистами, непременно осудят за вольность, а там и парная, и березовые веники.
И по совести сказал ему:
─ Ты храбро воевал, брат! Храбро! Ты сделал все для Отечества! Я люблю тебя! Горжусь тобою. Но как я стану воевать с глухонемым? Было такое? Пусть златогривые кони Руси везут тебя в Таджикию, Очил-хан! После победы встретимся. Выпьем чарку. Помянем битвы. Ты выстрадал право на тихую, гордую и разумную жизнь! Без тебя добьем врага в логове.
Зеленые глаза Очила понесли гне, он написал на пачке сигарет: «Александр, зачем так? Откуда в тебе, добром и справедливом человеке, такая безжалостность? Я воин, а погонщик верблюдов по пустыне! Не возьмешь к себе, застрелюсь!»
Спустя время, то же самое сложилось и с заряжающим Ионом; по развертке его направили на батарею капитана Игоря Васнецова, в воинство Третьего Белорусского фронта генерала Ивана Черняховскогоо. Но там не прижился. И без разрешения, самозвано перебежал на батарею к Башкину.
Сказ его был краток:
─ Привык я к вам, командир! Бились вместе и умирали вместе за рекою Нарев, чего теперь делиться? Скажу, и там, воины-храбрецы, но чужие! Не легли на сердце!
Александр Башкин радости не испытал, только печаль, одни бегунки! Как быть? Отказать боевым друзьям он не мог, но все же решил посоветоваться с командиром дивизиона Иваном Артамоновым.
Майор возражать не стал:
─ Смотри, командир, тебе воевать. Но я считаю, не подведут! Оба за сражение на Наревском плацдарме награждены орденами Красного Знамени. Возникнут сложности с побегом молдаванина, договорюсь с капитаном Васнецовым! Свои ребята! Какая разница, где воевать? С Очилом проще, зачтем добровольцем! Но тебе будет сложнее! Сам смотри.
Чего было смотреть? Воины от храбрости! Всю Белоруссию прошли с боями, сердце к сердцу! Не раз смерти в глаза смотрели! Но как его вольницу и человечность оценят вездесущие чекисты? Командир дивизиона вроде бы смирил тревожность, но чекисты это чекисты! Узнают, еще больше омрачат его жизнь! Далеко не похвалят! Далеко! Только осудят. И не безмолвно. Непременно скажут, и не просто, а в гневе: сам не чтишь воинские законы, живешь, как стихия, где ни проедешь на вороном коне, дубы клонятся! И опять же собираешь в свое осиное гнездо штрафников и беглецов! Или не ведаешь, что нарушаешь воинские законы? Ты кто генерал, решаешь, где воевать артиллеристу? И с Очилом! Как в плен его возьмут? Весь мир засмеет, кого берем в армию! Пора и по уставу жить!
До слез и боли в сердце не хотелось ссориться с чекистами! Что может быть неразумнее? Как не суди, а чекисты из Тулы все еще держат его на распятье, на Голгофе!
Он стал Героем Советского Союза! Да, это милость от Бога! Да, сердце во все времена будет плакать от радости! Но разве из Тулы за его побег пришло помилование?
Не пришло!
Сняли обвинение, его греховность? Не сняли!
Еще и кандалы могут быть!
И клетка Емельяна Пугачева!
И Соловки!
Куда не глянешь, одни сложности! Но как быть? Очил и Ион ─люди! Его боевые друзья! Как отказать? По совести будет? По правде воина Руси? Не на пир к князю просятся, на битву с врагом! Да и сроднились крепко! На крови братство замешено! Что ж, воюйте, ребята! Семь бед, один ответ.
Как еще может поступить сердце воина Руси?
Но вот дальняя артиллерия внезапно прекратила огонь, огонь от гибели, от обреченности! На заснеженное пространство, неистово напитанное столбами огня и черного дыма, легло лютое, сумасшедшее безмолвие. В небо взвились красные ракеты.
Генерал Казакевич подал команду по рации:
─ Вперед, орлы! Вперед на штурм Млавы! Сокрушим крепость, доберемся до речки Шешуне и ступим на землю Германии! Вы первые собьете пудовые замки, распахнете крепостные ворота на Берлин, добудете ключ к победе! За Родину! За Сталина! Вперед к ее величеству Победе!
Первыми в атаку грозною лавиною двинулись танки, следом, увязая в снегу, бежала пехота с трубными криками о Родине, о Сталине, на ходу стреляя из автоматов. Свои полки повели отважные командиры майоры Федор Саенко и Даниил Карпенко, полковник Леонид Токарев. Ближе к немецким траншеям тянули противотанковые орудия, минометы. Земля гнулась под тяжестью воинства и пушек.
Штурм дивизии напоминала смерч. Все воины несли в сердце одно желание:
─ Мы возьмем тебя, Млава!
Миновав под огнем противника бесконечное снежное пространство, танки и пехота устремились в заранее расчищенные коридоры минного поля к передовым окопам врага. По воинству ударила тяжелая артиллерия, застрочили сотни пулеметов. Снаряды ложились метко! Словно дикие и страшные молнии стали выплясывать танец смерти на броне танков с красными звездами! Воспылали земными кострами первые танки, еще, еще. Машины попятились. Пехота залегла. Над полем битвы Командир полка Федор Саньков, приподнявшись на колено, по молитве кричал:
Не лежать, братва! Все погибнем! Вперед! На штурм!
Нашелся смельчак, поднялся в рост, грозно взмахнул автоматом, грозно крикнул:
─ Пошли, народ! За Родину! За Сталина! ─ но не сделал и шага, как был перерезан пулеметною очередью, упал на снег, заливаясь кровью.
Остальные подняться не рискнули. Тогда над бранным полем сечи поднялся майор Саньков и, держа высоко пистолет, яростно пошел на позиции врага. Странное дело, но пули его долго не трогали, со свистом проносились мимо. Словно он был дьявол и заворожен от гибели. Но вот зажигательная пуля попала в шинель. Шинель загорелась! Он стал идущим пламенем, костром Джордано Бруно! Пламя стало сжигать тело, воин-офицер остановился, сбросил шинель, обнажив на груди ордена Славы и грозно, повелительно пошел дальше.
Ратью чародеев стали подниматься еще воины. И вскоре, в беге, не переставая стрелять, достигли траншеи, зловеще, как растревоженные звери, спрыгнули на немцев. Завязалась рукопашная. Два воинства, две силы столкнулись в схватке. Немцы дрались люто, гордо и смело, но вблизи, кулак на кулак, были слабее русского воина! И с необычным воем на все поле битвы, с ругательствами отступили. Полк Санькова, преследуя врага, ринулся во вторые траншеи, исчезнув в дыму и огне. Их поддерживала огнем артиллерия дивизиона Ивана Артамонова; било по врагу и орудие старшего сержанта Башкина. Наводчик Очил с невероятным мастерством поражал огнем доты, минометные батареи, опрокидывал пулеметные гнезда, рассеивал и истреблял пехоту.
Александр Башкин радовался каждому удачному выстрелу. Но ликование оставлял при себе. Только после боя наливал ему в кружку больше спирта, для снятия нервного напряжения. Но Очил понимал, что к чему, понимал, им довольны. Он живет не с ликом печальника! И благодарно смотрел на командира блестящими зелеными глазами. Теперь они жили более миролюбиво, чем раньше. Башкин в бою научился смирять жесткость характера, стыдился изливаться проклятьями при неудаче, обижать Очила. Как стыдятся обижать юродивого, и без того несущего по жизни крест печали и скорби своего несовершенства, затаенного одиночества. Он не был равным среди равных. Но хотел им быть! И особая человечность командира орудия была только во благо, приносила красоту душе, давала сильнее отдачу. Там, где нет враждебности, где существует радость братства, и воевать легче. Такую правду нес в сердце Башкин, такую правду и выстраивал с людьми, почему его и любили, почему и выживал. Один! На все поле сражения. Получается, любили не только люди, но и боги Зевса!
Если таинство жизни существует, то только в любви. В любви к людям. К жизни. Презренно-зловещая смерть боится того, кто велико храбр, кто велико любит. Себя. Женщину. Отечество.
Командовать же, как оказалось, можно и без нервности, без оскорбительного крика. Если наступали танки, то Очил уже знал, куда стрелять, он тоже научился по святцам мудрости понимать поле сражения, научился в мгновение разгадывать желание командира. В наступлении на Млаву орудие Башкина снова билось умно и отважно. Это его орудие прицельно уничтожило три дота и с десяток пулеметных гнезд, какие положили на снег полк Федора Саенко, не давало ему подняться для штурма. И разили кинжальным огнем, выкашивая воинов косою смерти. Почему и сам командир полка Федор Саенко шел живым через поле сражения, увлекая за собою воинов-руссов, воинов-храбрецов.
Наше воинство вплотную подошли к Млаве, преодолев с боями все бесконечные траншеи, истребив на пути все, что мешало движению к победе. На всем заснеженном пространстве лежали черные трупы, словно в безмолвии застыли слетевшие на пир побоища черные коршуны, но, так и не испив крови, стали сами жертвами и, поняв бессмысленность бытия, в страдании покинули бренный мир, ушли в вечность. Страшным было это безмогильное кладбище. Вповалку, где, повиснув на колючую проволоку, застыли на Земле по имени Печаль, и немцы, и русские. И плач матери Человеческой, Плач Одиночества, плач с молитвенною скорбью теперь взметнется до неба, до богов Зевса, и там, где сторона чужедальняя, и там, где земля Русская!
Александр Башкин знал, смерть на войне не знает остановки. И вся эта смерть уходит в беспредел одного сердца, в одни слезы, материнские. Только она постигает ее тьму, ее бесследность. Ее бессмысленность. Ее тайну. Ее боль. Ее мучительность, ее жуткость.
И невольно вспомнилась родная деревня, матерь Человеческая, какая не зала, что такое посидеть без дела; то стоит у печи, разжигает огонь, готовит вкусное кушанье к застолью, то косит траву для коровы, то идет на речку поласкать белье, то вершит в колхозе сенные стога. Чем теперь жива, бесконечная любовь моя, Мария Михайловна? Скорбишь ли о сыне? Живу ли я в твоем сердце? Или вся ушла в пиршество скорби, думая, в каком лесу, в каком логове хоронится ее сын, воин Руси, кому надо бы защищать Отечество? Желаю тебе написать письмо, и боюсь, ─ снова не поверишь, что я воин Руси! Отечества? Как это больно и оскорбительно, слышать себя серым волком в лесу! Было ли еще в жизни, дабы мать так обозналась в сыне? Так обидела сына? Ты же носила у сердца, слышала мое сердце, два сердца, твое и мое, от рождения и дальше по жизни бились по любви и совести! Ты верила! И знаю, любила! Все дети равны матери, все дети, но я больше слышал твою любовь, чем все остальные! Так я чувствовал, такое жило во мне благословенное ощущение!
И вдруг ты даруешь мне корону серого волка в лесу!
Что я босомыга, печальник себе и печальник Отечеству!
Ведь ты пророчица, ты по молитве к Богу могла бы узнать о судьбе сына! Почему не пожелала? Почему излилась безверием, усомниться в красоте души сына, в его правде, в его чести и совести?
Что есть мучительнее для сердца сына?
Что есть мучительнее для сердца матери?
И мне теперь страшно, если убьют! Если убьют, как я увижу твои глаза, какие понесут правду о сыне? Как увижу твои глаза, какие зальются пиршеством радости, что я был воин Руси, а не босомыга, не печальник Отечества?
Александр Башкин стоял у орудия, всматривался в поле сражения, вслушивался в его затишье и думал, думал о доме, о матери.
Подошел Ион, поинтересовался:
─ Чего не спишь, командир? О чем думаешь?
─ Все о том, Ион. Все о том, о жизни, о любви, о смерти! Кто мы в этом мире? И зачем? Для праздника? Или для плахи? ─ в раздумье отозвался командир.
II
Ночь сошла быстро. Жестокое единоборство возобновилось.
С рассветом из Млавы появились в небе бомбардировщики с черными крестами и нанесли устрашающие бомбовые удары на позиции, где находились руссы-воины, ожидая сигнала к штурму. Самолеты кружились каруселью, стремительно и низко пикировали, бесконечно бросали бомбы, ненасытно разжигая на земле огромные полыхающие костры. Люди горели заживо, испытывая боль, безмерные страдания! И некому было облегчить человеческое горе. Те, кто выпрыгивал из горящего окопа, не знали, куда бежать ─ вперед, на штурм Млавы, или назад, под пулеметы чекистов. Замешкавшись на мгновение, падали, окровавленные, на снег, пронзенные жгучими осколками бомб. Избиение воинства шло ужасное, беспредельное.
Над полем сражения стоял стон. Воины в гневе и растерянности кричали в метель, в небо:
─ Где же наши «ястребки»? Где танки?
─ Бросили на погибель, сволочи!
И как раз, когда «мессершмитты», опускаясь до земли, еще расстреливали из пулеметов и пушек пехоту, доверху заваливая траншеи русскими воинами, многоголосьем раздались страшные панические крики:
─ Танки, танки! Они уничтожат нашу дивизию!
И в самом деле, из ворот крепости Млавы повелительно и бесстрашно вышли танки-крестоносцы и неумолимо, самою смертью понеслись к окопам. Все пространство огласилось тяжелым ревом моторов. Следом бежали, расстегнув длинные, -зеленые шинели, автоматчики. Они стремительно приближались к русскому истерзанному редуту.
Командир дивизии генерал Казакевич с наблюдательного пункта кричал зло и требовательно по рации:
─ Полковник Токарев, почему не ведешь битву с танками? Они же вот-вот заскребут гусеницами пехоте! Почему не отзываешься?
К разбитой рации подполз окровавленный связист Еременко, включил станцию, доложил:
─ Товарищ генерал, штаб полка разгромлен. Прямое попадание бомбы. Полковник Токарев убит.
─ Черт! ─ выругался Казакевич. И побежал по траншее в окопы, где находился командир полка Федор Саньков.
И еще на подходе обрушился с гневом:
─ В чем дело, майор? Почему не атакуете танки? Почему молчат истребители танков?
─ Отзовутся, товарищ генерал.
─ Когда отзовутся?
─ Как придет время!
─ Какое время? Вы на острие атаки, черт возьми!
─ Чего вы так кричите, товарищ генерал? ─ заступилась военврач Катерина. ─ Командир полка ранен, ─ она нежно поправила на его голове окровавленную повязку.
─ Ранен, везите его в тыл! Пока в окопе, должен воевать. Я убедительно разъяснил, красавица?
─ Убедительно, товарищ генерал, ─ повинно произнесла врач.
Офицер Саньков решил заступиться за женщину:
─ Я бы тоже желал услышать авторитетное разъяснение, генерал? Где танки, какие обещаны для штурма? Где «ястребки»? Скажите, кто бросил стрелковую дивизию в бездну? Кто пожелал выслужиться? Получить орден, звание? Мыслимо ли одною пехотою брать крепость? Русского народа много! Губи! Так? Посмотрите, все поле сражения завалено солдатами, снега не видно. Только кровь, кровь и кровь. Только бы отчитаться, взяли Млаву, а какою ценою, важно ли? ─ его глаза наполнились слезами, из раны потекла кровь.
Военврач промокнула ватою кровь и слезы, прижала его голову к себе:
─ Не надо так волноваться, Федор Сергеевич. Потеряете сознание.
Генерала Эммануила Казакевича тяжело угнетала ответственность за судьбу дивизии. Испытывая невольную горячность, понимая, что не прав, он все же произнес без извинения, властно:
─ Ускорьте бой с танками! Что скажет командующий Рокоссовский? Вы об этом думаете?
─ Я в гробу видел его настроение, ─ неожиданно резко отозвался командир полка. Танки я остановлю? Но с кем идти на штурм Млавы?
─ Воистину, генерал! С кем идти на штурм Млавы? ─ вернула себе равновесие врач от милосердия.
Майор Саньков поцеловал ее руку, подошел к стереотрубе. Тяжелые немецкие танки все так же катили надменно, напролом по вольному заснеженному полю, уже подступая к пехотным траншеям, усеивая все вокруг огненными вспышками снарядных разрывов, пулеметными трассами; струи пуль остро и дерзновенно взбадривали фейерверками снег. Он еще раз внимательно посмотрел, взял ракетницу, взметнул в небо две красные ракеты. В танки полетели гранаты. Ударило противотанковое орудие, укрытое за каменным колодцем. От неожиданности грозные, надменные машины растерялись, замешкались. Вскоре от лавины отделились четыре танка и на скорости, стреляя на ходу, устремились на редут с желанием вогнать в землю, уничтожить, и грозную пушку и смельчаков.
Орудие у разрушенного колодца повело смертельную дуэль с четырьмя танками. Все, кто был на поле сражения, с тревожным любопытством наблюдали за невиданным поединком, не зная, чем помочь. Но вот воскресил себя пламенем танк-крестоносец, как споткнулся о каменную преграду. Вскоре вошли на распятье еще два танка!
Опустив бинокль, генерал Казакевич с удивлением поинтересовался:
─ Кто же их так безжалостно поливает?
Майор Саньков посмотрел в стереотрубу:
─ Сержант Башкин. Кто еще так воюет? Умница! Не выставил напоказ орудие, а спрятал за камни, где гора! И один теперь отбивается от танков. Остальные орудия разбиты!
Бесконечная броневая лавина, тем временем, продолжала неумолимое движение. Едва она втянулась в пространство между окопами, выставила, обнажила бока, как истребители танков стали заливать их обреченно-гибельным огнем из противотанкового ружья, забрасывать гранатами и зажигательными бутылками. Танки оказались в замкнутом капкане, запаниковали и, не выдержав губительного огня, быстро-быстро поползли обратно в крепость. Немецкие автоматчики, оставшись без прикрытия, не меньше закружились в гибельном, ревущем и стонущем водовороте. Но залегли на снег у стен Млавы. Командир полка майор Саньков, с трудом преодолевая боль и головокружение, поднялся на изрытый снарядами бруствер, вскинул в руке пистолет, крикнул воинам, что притаились в окопе в ожидании штурма:
─ Есть у вас друзья, убитые на поле сражения за Млаву?
─ Есть, есть, ─ понеслось хором.
─ Имен павшего товарища знаете, помните?
─ Знаем! Помним!
─ Поднимемся на святую месть! Месть не знает отдыха! Возмездию не ведомо прощение! Вперед! За Родину! За Сталина!
Полк пошел в атаку. Вместе со всеми пошел на штурм и командир дивизии генерал Казакевич, подобрав автомат у солдата, убитого разрывною пулею. Поднялись остальные полки, поредевшие, густо омытые кровью, но сохранившие в себе гордость, мужество и бесстрашие. Битва получилась суровою! Израненные, истекающие кровью полки, все же сумели подступить к непокорной Млаве. В первом ряду шел и Башкин со своим боевым расчетом, с орудием, которое тяжело тянул трактор.
Но дальше дивизия продвинуться не смогла. Тяжелая артиллерия из сотен орудий открыла огонь-гибель, преградила путь наступающему воинству. Пришлось опять залечь. И окопаться. Как раз поднялась пурга, она прикрыла воинов непроглядною снежною мглою. Жгучая метель бушевала до вечера. И исчезла в мгновение. Как ее не было. Только высокие сугробы выразительно напоминали о мятежном разгуле. Штаб дивизии не уставал добиваться по ВЧ у командующего фронтом Рокоссовского подкрепления. И ближе к вечеру в небе появились долгожданные истребители и бомбардировщики. Они обрушили на крепость безжалостные бомбовые удары. Неумолимая смерть закружила над дьявольским воинством! Млава погрузилась в огонь, прикрыла себя черным дымом. Штурм был приостановлен! Но внезапно воспылали бесчисленные прожектора, какие светлыми, огненными потоками прорезали, разрушили густую тьму в городе.
─ Пошли, ребята! ─ деловито, без злобы произнес генерал. И дивизия Казакевича бросилась на приступ города, и в ошеломительном, дико-свирепом натиске таранила последнюю линию обороны врага.
Дивизия достигла окраины города. Но снова залегла! Путь воинам преградили современные танки «фердинанды», глубоко, по башню, врытые в землю. На отвесную скалу были врублены доты и дзоты. Они и залили гибельным огнем штурмующее воинство! Но в атаке лежать нельзя! Смерть подберет до последнего! И над воинами огненною каруселью уже завыла, засвистела, закрутилась гибель! И опять проявил бесстрашие майор Саньков, он встал, как инок Пересвет над заснеженным полем битвы, над смертью, поправил сползающую окровавленную повязку, трубным голосом позвал:
─ На Млаву, вперед! На Млаву!
Но воины подняться не успели, майор упал, обливаясь кровью; злобные пули всего изрешетили храбреца. В мгновение подбежала военврач Катерина, запричитала, разрывая ему гимнастерку, прислоняясь к груди, со слезами прослушивая стуки сердца. Оно не билось. Молодая женщина, стоя на коленях, поцеловала ему руки, скрестила на груди, закрыла глаза, прижалась поцелуем к губам. И зарыдала, не пряча горя:
─ Зачем ты так, Федор? Я знала, я знала, что ты погибнешь! И именно у Млавы. Зачем ты не жалел себя? Зачем? Как же теперь я? Сирота теперь, сирота на всю жизнь.
Близко стоящие воины сняли в трауре шапки. Снял ее и Башкин.
В это время на обледенелом шоссе появились краснозвездные танки. И с ходу, с марша, выстроившись в боевой порядок, пошли на штурм города-крепости; они были посланы генералом Рокоссовским выручить дивизию, распростертую на снегу, какая гибла, заливалась кровью.
За танками пошли на штурм воины-гордецы!
Пошли лютым мщением за командира!
Бои за Млаву длились четверо суток. 19 января воинство Второго Белорусского фронта водрузило над ратушею Красное Знамя. Командиру полка майору Федору Санькову, погибшему под Млавою, будет посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Его похоронили в братской могиле. Под троекратные салютные залпы. Александр Башкин тоже воздал ему честь, выстрелив из орудия в сторону настороженно притихшего Кенигсберга.
III
Храброе воинство Второго Белорусского фронта пошло дальше в глубь Пруссии. Вместе с народом шагал туда, к Кенигсбергу и Александр Башкина со своими гордецами-артиллеристами. Он шел по земле, по которой уже шли его предки-руссы двести лет назад, в Семилетнюю войну, опять же на столицу надменной Пруссии ─ на Кенигсберг. И именно в январе 1758 года. Не только он, все воины ощущали в себе великую, неизбывную силу, родственную связь с далекими руссами, кто доблестно выстоял во все битвы и кто давно исчез из мира, но на все времена остался в памяти русского человечества! Остался воинами чести и славы Руси свято!. Они чувствовали их присутствие, биение их сердец в чужедальном краю, их гордую и грозную поступь по городам и весям, по высоким горным хребтам, узнавали окопы и места долгих стоянок, и часто казалось им, что во тьме ночи еще горят и дымят костры русских бивуаков. Слышали их задушевные разговоры о любимых женщинах, о жизни и вечности. И было над ними то же самое серое прусское небо, что и над русичами, жившими в глубине времени.
Вековое время соединилось.
Стало одним пространством.
Через века они снова шли воинами, защитниками Отечества. Шли судьями по земле исконного врага. Восточная Пруссия тысячи лет жила разбоем и грабительскими походами на святую Русь. Ее воины-крестоносцы свирепо и безжалостно жгли и разоряли города, величественные соборы и храмы с золотыми куполами и вознесенным над миром христианским крестом, с иконами и фресками Рублева, те самые, которые по красоте и мудрости творения превзошли легендарные библейские храмы царя Соломона, названные творением Бога. Великие мастеровые жили в нашем отечестве.
Самозваные воинственные крестоносцы жгли на Руси княжеские терема, их усыпальницы, дома простолюдинов, русские книги и святыни-памятники, вознесенные в честь побед над половцами и скифами, над ордами Чингисхана и Батыя. Они уничтожали нашу культуру и государственность, убивали душу русского народа. Убивали пахаря на пашне, что шел на
крестьянском поле за плугом, уводили в полон красивых женщин и продавали как рабынь! Не было еще на земле более коварного племени, кто бы так по-разбойничьи, с безжалостным коварством уничтожала гордость, честь и благородство русского славянского народа.
Зло должно быть наказуемо.
Не будь так, жизнь бы остановилась. И разрушилась. Без любви и доброты она бессмысленна. И без расплаты тоже. Отмщение не знает времени. Это оттуда, с хором плакальщиц, пришла на Русь печальная песня:
Не кружитесь, чайки, не кружитесь
По-над волнами Балтийского моря.
И под солнцем, и под кручиною
Вам не вычерпать русского горя
От прусского разбоя.
Воины-руссы, златокудрые славянки,
Не водите хороводы на лугу, на берегу,
А глядите на море,
На русское горе.
И знайте, печали внемля:
То не волна моет берег,
То слезы Руси бьются о сырую землю.
Песня от жизни, от сердца, от горя. И эту песню слышали русские солдаты, идущие через века по Восточной Пруссии. И спрашивали у командиров:
─ Далеко ли еще до Кенигсберга?
До Кенигсберга было еще далеко. Но уже слышалось волнение моря ─ свирепое и холодное. Ветер доносил печальные крики белых чаек. Они шли, и воинам открывалась страна глухая, неприглядная, безрадостная, с топкими болотами и густыми лесами! Где, как в Кощеевом царстве, стояла тревожно-пугающая тьма, куда не проникали ни утренние зарницы, ни лучи солнца. Был необычным туман, он покрывал сплошь всю землю и, казалось, никогда не истаивал, не исчезал из мира. Белесая мгла лежала в бесконечности. И неподвижности. Словно с неба спустилось огромное белое облако, а подняться в свою обитель не достало сил. Так и распростерлось на земле, жертвенно и обреченно, в тоске и покорной кротости. Туман был горек, ел глаза. Зима стояла капризная, как сто девиц: то валил хлопьями мокрый снег, то сыпал призрачный дождь с крутыми порывами ледяного ветра, то совсем неожиданно мороз повелительно сковывал льдом землю.
Миловать себя по земле, какая была в неприютная, обледенелая, где стояла беспросветная седая мгла, было невероятно тяжело. От колюче-снежного непрерывного метельного ветра до бесчувствия дубели лица! Выбитые ветром слезы замерзали и не скатывались со щек, промокшие, замерзшие шинели превратились в непослушные панцири, звенели, как железо, ботинки, став каменными, скорбно скользили по тропе, люди падали в ущелье. И только рука товарища спасала от гибели.
Все напоминало переход воинства Александра Суворова через Альпы!
Но еще тяжелее было идти артиллеристам. Лошади с трудом тянули орудие. Они скользили по земле, скованной морозом, обессилев, падали, как в небытие, и даже безжалостные удары кнута не могли поднять их, безвинных страдалиц, над обледенелостью. Орудие приходилось тащить на себе, чаще через перевалы, утопая в мокром снегу, падая на скользкой тропе, разбиваясь в кровь. Всеми овладевала немыслимая усталость. Сердце бешено стучало на последнем исходе, рвалось из груди.
Даже четырехжильный Башкин, кто привык к военным походам и невзгодам, не выдерживал и, остановившись на привале, греясь у зажженного костра, растирал грудь и плечи, натруженные бурлацкими лямками, стонущие от боли и крови, слал проклятья прусской земле и прусскому небу за бездонность мук, какие они несли русскому солдату.
Воинство остановились на бивуак у реки Дайме. За рекою была выстроена неприступная крепость Тапинау-Дайме, какую и надо было взять в штурме, то была первая линии обороны Кенигсберга, то был прусский Карфаген!
Командир орудия сержант Башкин ушел вместе с разведчиками Александра Анурьева в тыл врага, дабы самому изучить и засечь огневые точки на рубеже. Такая в его сердце жила ответственность, от природы. От характера. Почему и почитали в дивизии его орудие как снайперское.
И теперь он внимательно рассматривал в бинокль крепость на реке Дайме, какую предстояло в атаке покорить. Взору открывались скалистые головокружительные обрывы, скрытые туманом. Все заснеженное пространство выглядело унылым, скучным и бестревожно пустынным. На крестьянском поле, где стаял снег, зеленела рожь. Близко темнел лес. Серое небо низко провисало над прусскою крепостью. Вокруг безлюдье, безмолвие, никакого живого движения.
Он был рыцарем войны, служил ей с чистою совестью, честно и праведно, и с романтическим благородством, и с мудрою суровою сдержанностью.
Он был рыцарем войны, служил ей с чистою совестью, честно и праведно, и с романтическим благородством, и с мудрою суровою сдержанностью.
─ То ли мы смотрим? ─ усомнился Башкин. ─ Ни дотов, ни окопов. Неприютная земля, и все.
─ То, Саша, ─ скоро отозвался командир взвода разведчиков Анурьев, тоже пытливо рассматривая в бинокль извилистую реку, мирно спящую подо льдом, сам бастион, что был неколебимо врублен в крутые скалы. Пока пруссаки ушли в землю, в камень, и затаились. Много кровушки прольется, на тысячи лет река Дайма окрасится русскою кровью. Дорого будет стоить распахнуть железные ворота на Кенигсберг.
Он помолчал, как в трауре:
─ Поползем ближе. Да смотри на мину не напорись. Оба взлетим печальным салютом!
Вблизи они четко увидели тяжелые доты вдоль обрывистого берега, у самого льда. Башкин насчитал шестьдесят три дота! Такого оборона еще не знала! Все закованы в железо, в бетон и в скалы.
─ Брестская крепость, только не наша, немецкая, ─ вынес суждение разведчик Анурьев. ─ Если не сильнее! Гарнизон Дайме может биться год, вызывать огонь на себя! Военная инженерная мысль у немцев хорошо работает! Много кровушки руссов прольется, много, ─ опять помрачнел старшина.
Сражение на Дайме разразилось на рассвете, когда взошло солнце.
На поле битвы ползли, клубились седые туманы.
По всем дивизиям и полкам летела молния маршала Рокоссовского, командующего фронтом:
─ Открыть огонь по врагу на весь режим! Снарядов не жалеть!
Дальняя артиллерия вскинула гибельную, сокрушительную лавину огня. Командиры батареи и орудия, наводчики и заряжающие работали в поте лица. Сдерживал себя, скорее, один Башкин. Берег снаряды! Он получил полное представление о крепости, и теперь по сердцу понимал, насколько стрельба бессмысленна! Защитники ее по покою спустятся в уютные подземные казематы, будут пить шнапс и рассказывать веселые притчи о любви и о женщине с вольницы, пока артиллерия источает губительные лавы огня на доты в скале.
В небо взвились красные ракеты. Воинство, одетое в белые маскхалаты, мысленно помолившись, мятежно устремились на штурм крепости! Закипела кровавая схватка. Надо было преодолеть открытое ледяное пространство протяженностью в километр, дабы достичь бастиона. Путь был сквозь огонь. По всем законам войны считалось безумием такое наступление: река лежала в долине, каждый воин виден отчетливо, как ночью при свете прожектора. Враг разместился на скале, плотно укрыт бронею, и был совершенно недосягаем для поражения. Он мог свободно расстреливать все, что двигалось по льду: атакующие цепи пехоты, орудия, танки. Вону укрыться было негде. Вокруг раскинулось только ледяное пространство. Снаряд пробивал лед, потоками проступала вода. Куда прыгать? В прорубь? Или плыть по льду, по течению в бесконечное царство любви и вечности?
Плыть, не зная спасения!
Не зная, воскресения!
─ Орудие на лед! ─ подал Башкин команду; вдохновение боем озаряло его лицо.
Артиллеристы, истребители танков, шли на штурм крепости вместе с пехотою, расчищая им путь к западному берегу. Они непрерывно вели огонь по дотам, стремясь попасть снарядом в открытые бойницы, чтобы ослепить врага, заткнуть, залить свинцом и огнем кричащие стальные глотки пушек и пулеметов. В страшном и губительном огне гибли один за другим искрошенные, изорванные, исковерканные передовые редуты. Тяжелая каменная пыль кружилась, как тьма-тьмущая разъяренных коршунов над могильною землею. Смерчем бушевал огонь. Смертоносные языки пламени плясали-пировали по всему берегу. Туман и тот перестал быть седым, стал красным в пламени огромного земного костра. Казалось, крепость должна исчезнуть в огненную метель, сползти с берега и провалиться, как Атлантида, сквозь обожженные, растопленные льды в бездонность реки. Но крепость стояла в гордом бесстрашии. И билась. И несла смерть. Она напоминала чудо-злодея Змея Горыныча: отрубишь одну голову, возникает две. Обрушится один дот, внове оживали еще и еще.
Вражеские снаряды ложились метко. От их разрывов исступленно кололся лед. Он до неба взметывал огромные вывороченные глыбы, и они, без жалости и милосердия, в диком, надменном разгуле неслись на воина-русса, со стоном сшибали, убивали. Прорубленные черные омуты тоже затягивали в свои пучины, в смерть героя. Но они, иссеченные брызгами льда и пуль, обожженные огнем от снарядов, до безумия, оглушенные собственными выстрелами, шли и шли на приступ крепости; где бежали, сжав губы, где ползли, карабкались по глыбам льда, оставляя кровавые следы. И свои жизни.
Расчет Башкина тоже шел сквозь огонь и смерть. Воины бесстрашно катили-тащили пушку по огненному льду, продвигаясь все ближе и ближе к бастиону. Она нередко проваливалась в пучину, ее подхватывали за тросы, вытягивали из течения. И так несли дальше, минуя все проруби, черные пропасти, куда соскользнуть с расколотого льда ничего не стоило. Снаряды густо рвались вокруг пушки, с воем, тучами осыпая артиллеристов осколками железа и льда. Струи пуль обжигающе проносились над головами. Каждая мина и пуля пели похоронную песнь.
Дивизия Казакевича шла на штурм крепости набегом, приступ тараном, львиными прыжками: один батальон обирался в прыжке, атаковал, остальные прикрывали, вели без устали огонь из пулеметов и автоматов. Затем стремительно поднимался на штурм еще батальон и тоже продвигался ближе к дотам под прикрытием безжалостного, губительного огня.
Орудие сержанта Башкина тоже открывало бешеную стрельбу по дотам, помогая воинам пробиться к вражескому берегу. И било по бастиону более успешно, ибо стреляло не ради прикрытия, а уничтожало доты! И там, где стреляло его орудие, батальоны быстрее продвигались к крепости.
Сам он был неутомим в круговерти боя и кричал, кричал без устали:
─ Ион, заряжать бронебойными! Очил, видишь дот, что распоясался, как разбойник Кудеяр, танцует и танцует пляску смерти! По доту огонь! Огонь! ─ лицо его было суровым, все в крови от летящих осколков льда. Он не защищался, не прикрывался ладонями, было бессмысленно и суетно, он весь жил там, где неприступная крепость, где рвались его снаряды, и просчитывал, поражен дот, не поражен! И очень радовался, если поражен!
IV
Бесчеловечная битва шла уже сутки. Весь лед был красным от крови. Но крепость стояла нерушимо. Враг не собирался сдаваться, бился люто и бесстрашно. Река Дайме скрылась, не была видно. Она стояла в пожаре, пороховые дымы зависали тяжелыми серо-пепельными тучами. Во всю необъятность льда рвались бризантные снаряды, еще добавляя расхристанные, кочующие клубы черного зловещего дыма. Грозная, свинцовая река вся изрыта черно-глубинными, могильными прорубями. В мгле вечера, в красном от огня и крови тумане, в черном дыме люди жили как в замкнутом пространстве. Не видели друг друга, не видели пучин. Орудия и кони неумолимо сползали в скользкие до безумия проруби, гибли. Гибли и воины, оступившись, соскользнув с ледяной глыбы; темная от крови вода стремительно втягивала их под толщу льда, уносила течением.
Бесконечно дули лютые, ледяные ветры, люди падали от его неумолимого натиска, долго лежали на льду, распластавшись, не имя силы подняться. Их холодила вода, выступающая из снарядных пробоин, достигающая колен. Воины превращались в ледяные статуи. Ноги становились каменными, без боли, без страдания нельзя было сделать и шага. Оружие выпадало из замерзших рук. От ветра, тумана и дыма выступали слезы. И ко всему, все необъятное, гигантское поле битвы кипело от пуль и разрывов снарядов. Без устали колыхался и рушился лед. Обреченно и ненасытно гибли командные пункты батальонов и полков, до последнего офицера.
Штурмующие полки заливались кровью.
Река заливалась огнем.
Но не было силы остановить воина-русса! Они выплывали из проруби, из воды, что загустела от крови, и русские офицеры, как во времена Бородино, снова и снова поднимали воинов в атаку, гордо, по-отечески наставляли:
─ Вперед, орлы! Вперед!
И сами шли впереди! Такое гордую рать победить было нельзя. Воины-руссы дошли до западного берега, отвоевали его. Но доты еще оставались у немцев. Не все были уничтожены! Командир дивизии генерал Казакевич, припадая на раненую ногу, быстро перебрался по льду поближе к воинству. Оценив ситуацию, дал команду:
─ Уничтожить доты, какие остались!
Как раз легла ночь. Необыкновенно, до смерти уставшие, изможденные бойцы и командиры с новым бесстрашием, раскинувшись цепью, пошли на приступ бастиона. Генерал пошел вместе с воинами, крепко сжимая в руке автомат, смело, вразлет, шагая навстречу летящим пулям и снарядам. Артиллеристы повели губительный огонь по дотам. Опять поле битвы оказалось сущим адом! В этом безумии, в колоссальном грохоте орудий, в сжигающем пламени огня, в черном дыме одинаково мужественно сражался и боевой расчет Александра Башкина.
Едва штурм повели ночью, с невероятною, сокрушительною силою забили немецкие пушки, тяжелые и легкие пулеметы.
Амбразуры засветились, как огромные свечи на иконостасе земли.
─ Открылись, сволочи! ─ в радости произнес Александр Башкин. ─ Вышли из таинства. По свечкам, Очил! Бронебойными! Прицел постоянный!
Орудие открыло огонь прямою наводкою. Наводчик Очил бил метко, в самые бойницы, заливая свинцом и огнем те доты, которые как раз штурмовали воины. Они уже подступали к высокому скалистому скату, когда Башкин услышал далеко в тумане цепенящее, нарастающе-тревожное движение танков. Он насторожился, напрягся: похоже, шли «тигры» и «пантеры». Шли на выручку бастиону, с одним повелительным желанием, отбросить наступающую дивизию обратно на лед, под стволы своих дотов и разбить ее, уничтожить.
─ Танки, командир! ─ раздался тревожный голос заряжающего Иона. ─ Слышишь?
─ Слышу, ─ отозвался Башкин. ─ Я все слышу, и как ветер воет в стволе каждого танка-крестоносца, и как твое сердце бьется.
─ Правда? – удивился Ион.– И как?
─ В страхе. Только теперь я прикидываю, велик ли мы зверинец растревожили?
Теперь грозную поступь танков услышало и наступающее воинство. Офицеры бессильно-уставшими, хриплыми голосами закричали:
─ Истребители танков, приготовиться к бою!
─ Гранатометчики, изготовиться к бою!
«Тигры» и «пантеры», все больше продвигались к бастиону, оглушая страшным лязгом гусениц. Машины не были видны, были скрыты в лесу и густом тумане. Башкина мучило, велико ли танковое воинство? И как движется? На пехоту? На орудия? Он вошел в непроглядную тьму и не сразу разглядел танк, что выползал из тумана. Воин только ощутил, как в слепом пространстве блудливо заюлили лучи фар. Сначала подумалось, что показалось, от нелепости, от озорства мысли. Но в мгновение осмыслил: свет от танка. Он быстро оглянулся. И замер. Как перед могилою. И своим могильщиком. Предсмертные страхи до слез и боли засуетились в сердце. «Тигр» медленно наводил жерло орудия на его пушку. Было понятно, еще миг и от прямого попадания снаряда они все исчезнут в вечном звездном мире. Ждать было нечего, ни о чем не думая, молча, жертвенно он бросился на танк, один, с противотанковою гранатою. Разум жил сам по себе, он стонал от страха и муки: успею не успею в лютом беге, добегу не добегу, кто первым выстрелит? В чью пользу будет дуэль.
Башкин успел. Не упал в могилу.
Смертельный поединок выиграл человек. Танк не ждал дерзости, такого взвихренного бега. От брошенной гранаты он загорелся, стал исходить серо-оранжевым дымом. Но орудие еще жило, с трудом, но разворачивалось, целилось в пушку.
Очил быстро ударил снарядом в бок башни, взвихрив на броне шаровую молнию. От могучего и меткого удара венценосная башня слетела на землю. Огонь на броне заплясал еще сильнее, радостнее.
Вернувшись, Башкин долго стоял у пушки, потирая виски. Его трясло.
─ Чего, командир? ─улыбнулся Ион. ─ Малость озяб, так морозит?
Башкин на шутку не отозвался, все еще приходил в чувство.
─ Гостеприимно угостил ты его из княжеского кубка хмельным медом! И похмелиться не дал, ─ продолжал балагурить Ион, сам мучаясь от пережитого страха. ─ Эк, горит! Колдовское зрелище.
Показались еще танки, невероятно близко, до броска гранаты. Шла лавина. Тьма.
─ Расчет к орудию! Заряжать бронебойными! Прицел на головные танк! ─ быстро вернулся в родную стихию Александр Башкин.
Очил, оторвавшись от прицельного прибора, кивнул головою:
─ Есть, командир!
─ Огонь! Еще огонь!
Надо было обождать, не торопиться с выстрелами, невольно подумал Башкин. Обождать приказа командира дивизиона по рации. Так было бы разумнее! Тогда по танкам ударила бы могучими залпами вся батарея. Сложился бы поединок на равенство!. Но он всегда неисправимо, неукротимо угадывал в самое пекло, шел на риск. Теперь вся лавина немецких машин обрушит огонь на его пушку, для наказания.
Но о чем жалеть? О чем печалиться? Он так, по своим святцам, жил всю войну, прошел через все сражения. Он не привык выживать за счет товарища. Только за счет себя, отваги, своего мастерства. Всегда его пушка виделась на острие атаки! Так было. Так есть. Так будет. Ибо жив он характером, гордым и рискованным. И глубоко человечным. Его не изменить.
Танки и в самом деле пошли грозно и повелительно на огневую позицию Башкина, выныривая, как чудища, из тумана. Били из орудия, строчили пулеметы, заливая все пространство ослепительными струями огня. Командир орудия не испытывал страха, был деловито и вдумчиво спокоен, ему было не привыкать к битве с танками. Он опасался одного, не промахнулся бы Очил. В таком сражении наугад бить нельзя. Ошибаться тоже. Плачем отзовется ветер.
Он бился, как мог. Сдерживал танки. Вскоре ударила по врагу и вся батарея дивизии. Танки запылали кострами. Но немцы не считались с потерями. Наступали широким фронтом. Танки, как не знали гибели, шли и шли тараном на наше воинство, все жестче, беспощаднее оттесняя храбрецов-воинов от крепости, своих редутов к скальному берегу, к реке Дайме, которая безбрежно вышла из берегов под тяжестью войск и орудий. Омуты воды стояли в низинах, над прогнувшимся льдом. Ледяная купель достигала до пояса. Стрелять из пушек становилось уже невозможно, они опрокидывались, тонули. Тонули и люди. Орудие Башкина тоже оказалось в воде, в свирепо бушующей стихии. Он тревожно закричал во тьме саперам:
─ Други! Надувные лодки, понтоны имеете?
─ С красоткою по Дайме решил покататься? Не рано любовь заиграла? ─ весело отозвались саперы. ─ Имеем, имеем, браток! Чего хотел?
─ Подгони сюда! Выручи! В огне не сгорели, а в ледяную купель, в ее окаянную бездонность вот-вот затянет!
Саперная команда, еле сдерживая стихию, саму горе– переправу, успокоила:
─ Не затянет, лед не пустит! ─ но плот покрепче подогнала.
Башкин с боевым расчетом с невероятным трудом взгромоздили орудие на гуляющую поверхность, и, раскачиваясь на волне, продолжили поединок с танками.
Смело бились воины-руссы. Но в гибельном поединке силы все больше таяли, полки, штурмующие крепость Дайме, истекали кровью. Поредевшая, иссеченная пулями и снарядами дивизия Казакевича уже не смогла атаковать вражеские редуты; ее заливали огнем доты и танки-крестоносцы. Храбрость не помогла. Тревожная, повелительная правда смерти легла на воинство Второго Белорусского фронта. И тогда по рации донеслась печальная команда маршала Константина Рокоссовского:
─ Приказываю отступить на исходные позиции!
С сердцем, где жили горе и скорбь, воинство вернулось на свою позицию. Орудие Башкина вернулось последним. Как и должно быть! Первые в бою от века возвращаются с боя последним. Такова закономерность, идущая от естества. Им же, самым бесстрашным, чаще выпадает судьба жертвенника. Это они остаются в заслоне, спасая невольно отступающие полки, сдерживая врага. Спасают, жертвуя собою.
Храброе воинство Белорусского фронта еще четырнадцать суток с гордым упрямством инока Пересвета штурмовали прусскую крепость по имени Дайме. И все же взяли ее! Свершилось невозможное. Пала крепость, которую все века не могли покорить лучшие армии мира. Воины Руси взметнули на разрушенном бастионе победное Красное знамя.
Стрелковая дивизия генерала Эммануила Казакевича за героические подвиги, за отвагу и мужество, проявленные при штурме крепости и взятии ее, получила личную благодарность от Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина.
Командир орудия старший сержант Башкин был награжден орденом Отечественной войны II степени. Этот орден вручался офицерам.
V
Путь на Кенигсберг был открыт. Перед походом генерал Эммануил Казакевич выстроил дивизию. Неторопливо прошелся вдоль строя, пристально всматриваясь в усталые, но светлые лики солдат, гордо произнес:
─ Воины! Мы с вами идем от Сталинграда, воевали под Орлом и Курском, освобождали Украину, Польшу, теперь идем освободителями по земле Восточной Пруссии.
Много полегло сынов Отечества на поле сражения. Курганы, курганы, курганы ─ как раны земли! Как раны России! Остался один переход, и Кенигсберг! Что дальше? Радость возвращения в родные края, на пашню, к плугу; святые слезы матери, поцелуи россиянки! Свобода и бессмертие! Даешь прусскую цитадель Кенигсберг!
В согласии стукнуло превеликое сердце дивизии:
─ Даешь, товарищ генерал! Даешь!
От реки Дайме в глубину Пруссии воинство наступали теперь стремительно. На пути им открылся Земландский полуостров, крепость Гранц. Вся военная сила с танками, самолетами, пушками ушла под землю, под леса! Подземная цитадель скрывала воинов гарнизона. Для пуль и снарядов они были неуязвимы. Бомбардировщики тоже не смогли разрушить укрепление бомбами. Гарнизон мог сражаться сотни лет. И не знать, что такое смерть.
Воины России взяли штурмом крепость Гранц за четверо суток.
Прочищая на привале жерло орудия от порохового налета железною щеткою, Башкин откровенно радовался:
─ Слаб прусак! Разбойник, а слаб. Целые артиллерийские дивизионы берем в плен, с орудиями и запасами снарядов.
Заряжающий Ион Куку не согласился:
─ Не он ослаб, командир, а мы стали сильнее. Офицеры научились воевать! И танков, пушек стало больше. И все же идем к победе, оставляя на поле сражения тьму печальников и посланцев в вечность! Жертвенно воюем, больше кровью, чем разумом! Чем же гордиться?
Башкин не стал возражать. Что теперь? Сами живы, и то хорошо! Дал бы Бог и дальше выжить, не разогнаться, не закружиться в бесконечном вихре над огненною землею, безвозвратно уносясь в небо, в вечное таинство. Конечно, он преувеличивал! Враг дрался отчаянно! И был еще силен! Гибли не только бесчисленно солдаты, гибли и генералы. При штурме крепости Гранц пал смертью героя командующий Третьим Белорусским фронтом генерал Иван Черняховский. Осиротевшее воинство принял маршал Александр Василевский.
Победа давалась тяжело. Много, до боли много осталось русского люда в кровавом сражении на горящем льду реки Дайме, а сколько ушло в вечность у крепости Гранц ─ за всю жизнь не смирить боль, не отмолить скорбь. Просто хотел приободрить ребят, говоря о силе пруссаков. Да и себя добром повеличать! Раньше не думалось о смерти. В бою не слышишь строгую печальницу-самозванку. В битве весь отдаешься сражению. Одни помыслы: осилить врага. В атаке, на бегу и умирать легко. Попала в сердце пуля, споткнулся, как о камень, упал. И закружился в вихре. Исчез! Ушел ли в небо, в луч солнца, в летящую птицу! Как писал поэт, и знать не будешь, когда ты умер, вчера иль тысячу лет назад? И знать не будешь, жил ли на земле? Был ли под солнцем? Стоял ли у березки? Целовал ли любимую? И умер ли? Все исчезает! И ты, и земля, и звездная Вселенная!
Не с того ли теперь так неумолимо, так повелительно думается о смерти? Еще только в себе, затаенно! Без страдания и скорби! Но страх, затеряться в бездонности мира, в бездонности времени, уже загадочно всколыхнется, напомнит о себе, помучает земною печалью.
Смерть отбирала все: костры у реки, ночное, где пасутся серебристо-лунные кони с бубенцами,
любимую Капитолину, какую пронес в сердце через все битвы,
солнце без кровавого нимба,
плуг на пашне,
речку в Пряхине,
поцелуи матери Человеческой, как прощала его земные прегрешения,
кладбище отца и бабушки Арины,
печальные кличи журавля в небе,
гармонь на лугу, веселые хороводы молодиц-красавиц,
любимую Русь от бессмертия.
И все, все возвращала жизнь!
И победа.
Второй Белорусский фронт продолжал двигаться на столицу Восточной Пруссии Кенигсберг. Храброе воинство генерала Эммануила Казакевича шло впереди колонны, и ни на миг не выходило из боя. Все движение было сплошною атакою. Не выходил из битвы и боевой расчет Александра Башкина, сокрушая на пути бастион за бастионом. Щит его пушки было не узнать, он весь изъеден, выщерблен пулями и снарядами. Прописана вся палитра битв.
Воинство подошло к крепости Грауденц ─ Ратцебур. И в мгновение пошло на ее штурм. Пехоте Петра Заремба было велено взять вокзал. Атаковать его было сложно. На станции стояли поезда. Стрельба велась из каждого вагона. Ближе к вокзалу, у площади, пехота залегла. И гибла в огненной метели. Старшина Заремба в гневе закричал:
─ Пушкари! Где вы? Снимите оба дота! Гибнем! Не дает подняться зверье огнедышащее!
Тут же на выручку пришел расчет Александра Башкина. Быстро к площади подкатили орудие, командир повелел заряжать бронебойными; Очил навел прицел, выпустил четыре снаряда. Того достало, дабы сокрушить огневые Развороченные доты охватил пожар. Немцы искать гибели не стали, вышли с белым флагом; хотя Заремба и просил не церемониться с нечистью. Но Башкин пленную рать расстреливать не стал, не смог. Несомненно, несомненно, он жил превеликим гневом и ненавистью к фашистам, какие пришли грозными завоевателями, пришли зверьем на его милую и благородную Русь, но сам по себе он не был палачом! Он и в юности, когда ходил на кулачные бои, где билась деревня на деревню, не трогал вставшего на колени. Он мститель, но от справедливости! Убить беззащитного, пусть и врага ─ велика ли радость? И не замучает ли совесть?
Увидев Зарембу, что выходил устало с вокзала, держа на плече автомат, крикнул:
─ Старшина, иди, забери трофеи! Тяжело слышать, как молят о пощаде!
Старшина Заремба велик, как Илья Муромец, усы одно загляденье, закручены в кольцо, глаза синее, чем небо в мае. Лик мужчины. Он завел чужеземное воинство за вокзал и расстрелял.
─ Они мою мать и сестер в огонь бросили живьем! Закрыли в конюшне и подожгли ее, ─ строго пояснил он.
Башкин не стал его осуждать. Кровь за кровь! Все справедливо. Но жалость осталась. Человеческая жалость. Строгая, повелительная. Жалость, какая живет таинством в душе каждого русса со времен Древней Руси! Добряки мы как народ, добрее не надо! Во благо ли? Не во зло ли? Не станет ли доброта убийцею и могильщиком Руси как государства?
Взяв крепость Грауденц ─ Ратцебур, воинство, не останавливаясь, пошло еще дальше. Столица Восточной Пруссии уже давала о себе знать. Уже слышно было, как вели огонь тяжелые крепостные орудия кенигсбергских фортов, как тревожно и тоскливо гудели паровозы, били склянки на корабле, как с ровным гулом плескалось о берег море. Идти было тяжело. Пруссаки на всем крестном пути выстроили бастионы, бастионы. Совсем неожиданно, стреляли из леса, с крыши церкви, с чердачного окна избы. Ничего не стоило попасть под кинжальные пулеметные очереди, сгинуть в огненную метель. Каждый камень становился врагом! Каждая лесная тропа ─ тропою смерти! Кроме всего, одуряюще вязли ноги в снежную разжиженность, ботинки становились пудовыми, тонули колеса орудия, захлебывались гусеницы танков. Только проклятье срывалось с солдатских губ.
Но надо было идти на Кенигсберг.
И они шли.
Война ─ тяжелая работа.
Когда вышли из долины, поднялись выше тумана, Александр Башкин невольно содрогнулся, тоска и тяжесть пути сами собою отступили. Он увидел луга и поля, скрытые первозданным снегом. Еще не тронутые разрывами снарядов, не обожженные огнем. Они застыли в тишине, в целомудрии, радуя мир вековечною красотою и таинством! Стояли задумчиво, без скорби и печали. В гордом смирении. И ничего не несли в себе от разлома жизни: ни боли, ни скорби, ни зловещего страха смерти. И даже манили любопытством. Одаряли теплом, приятным, деревенским. Земля была такая, как в его Пряхине, как на Руси!
Так потянуло на пашню, к плугу!
Башкин от неожиданности вздрогнул. Совсем рядом раздался грозный и тревожный крик уже знакомого командира взвода пехоты старшины Зарембы:
─ Братушки, стою на немце! Слышу голоса! Они здесь, под землею!
Кругом был лес. И он в мгновение перестал быть величавым и уютным. Там, в глубине земли, слышно было, как работали заводы, время от времени гудели паровозы, развозили по арсеналам снаряды и пушки. Доносились размеренные, несуетливые лязги гусениц танков. Это работала тайная Германия.
Старшина Заремба не выдержал:
─ Надо навестить веселую компанию. Вдруг и шнапсом угостят? Как, сержант, еще раз огоньком не сподобишь? ─ выразительно посмотрел на Башкина. ─ Или не учен в катакомбе воевать?
─ Штурмуем! ─ решительно произнес командир орудия.
Подозвав пехотинцев, Заремба произнес:
─ Штурмуем завод под землею. Спускаться по узкому колодцу бесшумно, невидимками, но быстрее молнии. В движении быть дерзким! Гранату ─ вперед! За гранатою ─ следом.
Пехотинцы так и спустились, и в львином прыжке бросились в темные галереи подземелья. Им открылись бесконечно удлиненные цеха военного завода, где шумно работали станки. Рабы-невольники, и руссы, и поляки, обтачивая снаряды, похоже, давно отвыкли от дневного света, глаза запали, лица позеленели. И еле стояли.
─ Печальников не трогать, беречь! ─ повелел Заремба.– Выбивать, истреблять пруссаков. Ты, братушка, ─ он положил руку на плечо артиллериста,– кати орудие по пролету и строчи картечью. Вразумил?
Под землею завязались бои. Александр Башкин быстро проник в таинство схватки. Его орудие поразительно метко вело огонь на истребление. Свистящие снаряды зловеще скрежетали по каменному полу, по рельсам и разрывались в гуще немцев.
Схватка была леденяще жестокою. И длилась долго. Два богатыря, две силы бились на плахе до гибели! Израненные, окровавленные воины, сшибая врага в рукопашную, кричали из цехов, какие исходили огнем и дымом:
─ Товарищ старшина, фриц сдается! Брать живьем?
─ Кончать! ─ коротко отзывался Заремба.
Так она и шла, дивизия генерала Эммануила Казакевича, и по земле и под землею, с непрерывными боями по крестному пути, бросив вызов смерти, пока не оказалась у стен Кенигсберга. Всюду, на всем пути, карою возмездия оставались кровавые побоища с разрушенными крепостями, дотами, сожженными и разбитыми танками, самолетами, самоходными орудиями. Земля, где была жизнь, обезлюдела. Стала кладбищем без крестов и могил. Где не слышны были материнские слезы, ее всепрощающие молитвы, которые приближают к Богу. Где не было таинства смерти.
Все ушло в камень и неизвестность.
И сам человек.
Осталась только скорбь.
VI
Обессиленное, обескровленное воинство расположилось на отдых.
Предстояла последняя битва!
Стоял апрель.
Солнце светило ласково и певуче. Леса наполнялись соком жизни. В радость пели птицы. Притулившись к пушке, Александр Башкин снова стал тревожить думы о жизни и вечности! Снова по печали думалось, как тяжело умирать в такое время, когда вся земля в пиршестве воскресения, тем более ложиться в чужую землю, и оставаться на века в гробнице, в скорбном одиночестве от России, без памяти сына, без памяти русского человечества! Сюда, в чужедальние края, даже его матерь не сможет приехать, возложить цветы, погрустить у холмика. После чего зажечь свечу, помолиться за успокоенность души, великодушно простив все его земные прегрешения! Но, скорее всего, исчезнув из мира, он исчезнет из ее сердца. Возможно, с тоскою. Возможно, без тоски. Он так и не написал ей молитвенного, прощального письма. Вернее, написал, и даже несколько, но отсылать не стал. Почему? Не объяснить даже себе. Печаль сошла. Гордость тоже. И давно бы надо, давно воссоединить родственную связь, оборванную горькою обидою. Нельзя же вечно нести ее в себе по жизни. И сколько ее осталось, жизни? Ее уже перестаешь чувствовать! Ты уже весь там, в штурме за Кенигсберг.
Как случится непоправимое? Самое страшное? С чем же уходить? С мучительным прошлым? Без ее любви, без ее прощения? Без ее благословения? И куда? В беспамятье? Словно и не было ничего при его жизни: ни матери, ни России? Ни его самого? Ни звезд, ни солнца? Ни любви к россиянке? И кто знает, где сердцу изыскать спасительное прибежище?
Предсмертное письмо он хранит, то, которое написал перед уходом на битву за плацдарм на западном берегу польской реки Нарев. Там он все объяснил, свое молчание, свою боль, свои слезы. И, конечно, покаялся, что принес страдание. По правде покаялся, как каются на исповеди перед Христом самые отчаянные грешники и святые. Но, опять же, мучает тоска, получит ли Мария Михайловна его кающееся послание? Получит ли, когда он будет плыть-кружить отдельным миром в синеве бесконечного неба, плыть в никуда? Совсем в никуда, где уже не нужны ни слезы, ни мольбы о пощаде, ни всепрощение.
Почему может не получить? Ударит снаряд, и все. Обратится в огненный столб. До самого неба. Вместе с письмом, которое хранит в кармане гимнастерки.
Измучив себя думами о смерти, о матери, Башкин прилег у орудия, прямо на снегу, подстелив шинель, и положил удобно голову в каске на лафет. Стояла ночь. Там, где высился Кенигсберг, неисчислимо поднимались в небо ракеты, неистощимо разрушая густую зловещую чернь, нависшую над городом тевтонов, озаряя далеко окрест чуждую жизнь, какая притихла в таинстве и страхе, багровым и рассыпчатым светом. Изредка из фортов гулко ухали гаубицы. Скорее, от тревожности, от безмолвия, печального одиночества.
Его артиллеристы спали мирно и уютно в вырытом обсушенном окопе, прижавшись, друг к другу, с головою накрывшись шинелями. Очил лежал вразброс, слегка по-бабьи постанывал, зажав в кулаке недокуренную обмусоленную цигарку. Близость смерти никого не мучила. Почему же она так мучила Башкина? Откуда возникла такая обостренная любовь к земному? Никогда еще думы о жизни и вечности, об отчем доме и матери так не тревожили сердце. Он с июля сорок первого жил на острие атак, в любое мгновение мог быть убитым, попав под снаряд, под пулю, гусеницы танка, стать искрою пламени, взметнувшимся дымом, липким, растерзанно-кровавым комом земли. И никогда, никогда так не пугала загадка смерти! До боли, до слез, до звериного крика в себе хотелось выжить и выжить в последнюю битву, не истаять гаснущим эхом в звездном пространстве. Выжить и вернуться живым на маленькую родину, в Пряхины. Тогда бы только и восстановился мир любви, пришло бы подлинное замирение с матерью.
И с самим собою.
И с жизнью.
Все люди одиноки, как звезды! И звезды одиноки, как люди! Это, кажется, что в братском великорусском кургане они лежат вместе. Разве смерть может воссоединить? Погасшие миры не воссоединяются! Все, все уносятся в звездную бесконечность, неся свою правду и свое таинство.
Все одиноки!
Все.
Но только не так, как он!
Мало от кого отрекалась мать. Мало! Почему окаянная тоска и разместилась в сердце властелином. Почему так невообразимо и мучает печаль одиночества. Почему так и тяжело уходить из одиночества, из страдания в могильную тишину.
Башкин попытался уснуть, но сон не шел. И не шел всю войну.
Не пришлось ему испить всласть напиток богов, где светит только ласковое солнце в саду Эдем, играет гармонь, да водят хороводы россиянки, где нет мира человеческого, злющего! Как ни крути, а испить надо бы! Александр как воин, был изнурен необыкновенно. Во всем теле, как только расслабишься, оживала каменная усталость, стонали мускулы, болели промозоленные ладони, глаза, изъеденные пороховым дымом, обожженные огнем, уставшие от постоянного напряжения, слезились, слепили могильною тьмою. Тяжело дышалось. Часто кружилась голова, словно дьяволы Мефистофеля, повелительно, в забаву, скидывали его на бешено разогнанную карусель. И так крутили, что упасть в вечность, ничего не стоило! Сам по себе он понимал, надо поспать, и душа станет жить по покою, воскресит в себе чистоту помыслов, живительную силу. Но сон не шел.
Боги Руси избрали его и для подвига, и для жертвы!
VII
Битва за Кенигсберг началась шестого апреля. Покорить его было тяжело. Город-крепость окружали несколько поясов обороны. Наибольшую опасность представляли форты, врубленные в остроконечные скалы, уходящие глубоко под землю. Все двадцать четыре форта имели свои гарнизоны, артиллерийские бастионы. Они возвышались с правого берега реки Прегель, могли простреливать плотным огнем все поле битвы. Форты имели свое название, как ─ «Шарлотта», «Король Фридрих-Вильгельм».
Маршалы Константин Рокоссовский и Александр Василевский приняли решение:
─ Взять Кенигсберг звездным штурмом!
Воинство должно наступать одновременно со всех сторон. И встретиться в центре столицы у резиденции гаулейтера Отто Ляша, кто был генералом немецкого вермахта, комендантом города и крепости.
Суровые воины, надвинув каски, молча стояли у своего орудия и пулемета, кто невольно прижимал к груди противотанковое ружье, винтовку с отточенным штыком. Все ждали сигнала к атаке, жили сражением, желанием победы.
О гибели никто не думал.
Война для каждого обернулась каторжным трудом, не больше; а уж кому суждено вернуться живым с поля битвы, в свою деревню, в свою Россию, водить под разудалую гармонь хороводы на лугу с красавицами-россиянками, отплясывать в радость залихватскую «барыню», любить, иметь семью, ходить за плугом, ─ рассудит Бог.
И, скорее, уже рассудил!
Кому жить, а кому узнать таинство гибели?
И все же, и все же волнение жило. И печаль жила, неуловимая, затаенная! И билось в тревоге сердце, в тревоге и надежде! Каждому воину было тяжело умирать на краю битвы, каждому хотелось остаться живым, увидеть матерь, увидеть любимую, увидеть Русь, увидеть пиршество любви и жизни!
Зачем еще они пришли на землю?
В десять утра безмолвие разорвала дальняя артиллерия. Орудия били особые, осадные! В стоне и боли содрогнулась земля. Потоки огня обрушились на форты. Оглушительные разрывы снарядов в каждом форту напоминали живые, во всю землю, крики оленя, израненного, умирающего, скорбно взывающего о милосердии и пощаде, о человеческой милости.
Но война не знает милосердия!
Над Кенигсбергом появились тяжелые бомбардировщики. Они закрыли собою небо. Воздушные корабли с яростью обрушили тьму-тьмущую бомб на форты, на артиллерийские батареи и пехотные траншеи. Внизу ощутимо качалась, раскалывалась земля! Бомбовые разрывы слились в единые раскаты небесного устрашающего грома! Всюду разлился огонь. Кенигсберг словно погрузился в огненную гробницу. Казалось, в пламени и скорби погибло все живое! Но самолеты, заходя каруселью в пике, все наносили и наносили удар за ударом.
И вот над воинством могуче полетело:
─ За Родину! За Сталина! На штурм Кенигсберга!
И воины бросились в атаку на гордую прусскую столицу. Был неудержим и величествен штурм! Дым застилал глаза. Повелительно гуляющее по земле пламя обжигало обветренные лица солдат, полы шинели. Полуразрушенные форты и доты вели из пушек и пулеметов огонь на уничтожение. Разрывные, трассирующие пули уносили жизни. Но остановить воина-русса уже было нельзя.
Гвардия генерала Эммануила Казакевича вышла на острие атаки. Им выпало одолеть полноводную реку Прегель! Воины-руссы перебирались, как могли, бежали по шаткому понтонному мосту, плыли на лодке, на плоту, кто на бревне, кто вплавь. Кровавым и скорбным было это движение по плахе!
Вражеская артиллерия прямою наводкою, в упор расстреливала плывущего воина. Вода от разрывов кипела, как в большом котле! Спасения не было! Было истинное побоище; во все пространство реки снаряды разбивали, раскалывали лодки, плоты, где перевозили пушки. Люди тонули вместе с орудием, окрашивая кровью скорбную воду, и долго еще над братскою могилою катился эхом крик боли и прощания с жизнью. Убитым было легче. Они умирали в мгновение, так и не познав цепкую свирепость омута.
Раненые страдали! Они неумолимо боролись за жизнь, отчаянно гребли к берегу, желая выбраться из цепкого омута, тянули окровавленные руки к плывущему воину, но кто кого мог спасти, если вся Вселенная падала в омут, в лютость гибели! И гибель-странница уносила еще те Живые Души вниз по течению, все дальше и дальше, где люди, еще живые, кто еще нес в себе боль и радость, грозы и радуги, солнце и землю, неумолимо тонули! Исчезали! Исчезали со слезами! И только алые волны еще бились там, где плакал человек, где исчезал, где переставал быть самим собою.
Те же, кому еще выпало жить, кружась в кипящем омуте разрывов, гребли и гребли к берегу! Воины Александра Башкина с не меньшим трудом преодолевали на плоту крутое течение реки, огневую ливневую щедрость снарядов и пуль. И сам он еще вел неутомимую дуэль с врагом, стрелял и стрелял из орудия, разрушая доты, бастионы. Он был и за наводчика, и за командира, остальные усиленно гребли саперными лопатами, желая скорее прикоснуться берега. С реки били еще противотанковые орудия, били метко, беспрерывно. Набережная Прегель вся погрузилась в огненную метель.
Но вот плот Башкина стукнулся о набережную, он нащупал стальное кольцо, подтянул плот и повел вдоль по течению к гранитным ступеням, где можно было высадиться. Тем же временем быстро и прицельно швартовались остальные плоты с орудиями, надувные лодки, бревна с пехотою. И, взбежав под пулями на высоту каменного берега, батальоны без промедления вступили в ожесточенную битву с неисчислимыми силами врага. Стремительность атаки была невероятною. Враг отступил. Воинство ворвались в кварталы Кенигсберга ─ на улицы аристократического Амалиенау. И пошли дальше, к центру столицы Пруссии, к цитадели гаулейтера Отто фон Ляша, с его полководцами и министрами правительства. На всем пути, на каждом перекрестке путь преграждали доты и баррикады. Башкин жил атакою, и чувствовал себя великолепно! Жил, как в родной стихии. От жары скинул шинель, оставил ее на набережную, и теперь воевал с прусским воинством в гимнастерке, со звездою Героя на груди.
Он настолько разгорячился, что пожелал взять в плен самого генерала немецкого вермахта Отто Ляша, любимца Гитлера, но брать штурмом Рейхстаг Кенигсберг ему не довелось. Вызрела критическая ситуация! Воины Третьего Белорусского фронта не могли взять форт «Король Фридрих ─ Вильгельм». Наступление было гибельно, обреченно остановлено, в окружение могли попасть две армии! Маршал Александр Василевский посчитал, развязать «гордиев узел» лучше всего сможет гвардейская дивизия генерала Эммануила Казакевича. Ее воинству и было приказано немедленно уничтожить крепость.
VIII
Форт по имени короля, был самым главным, самым воинственно мощным. У его бойниц стояло тысячи солдат. Форт имел двадцать четыре орудия высокого калибра, бесчисленные пулеметные доты, прикрытые непробиваемым бетоном, какие могли отразить любую атаку. Впереди дотов простирались бесконечные траншеи с засевшею пехотою! Непреступную крепость окружали рвы, наполненные водою, устрашающе высилась колючая проволока, стояли крестовины-надолбы, гибелью простирались минные поля.
Но гвардия есть гвардия, она почиталась рыцарем войны, воевала с чистою совестью, гордо и праведно, несла в себе романтическое благородство, суровость и мудрость боя, ─ и при первом штурме королевского форта гвардия Казакевича забросала гранатами передовые вражеские траншеи. Повелись врукопашную, обратили врага в бегство. И теперь, преследуя его, поднимались цепью, перебежками по каменным ступеням на крутые, отвесные высоты с бесконечною грядою дотов и бастионов. Навстречу им неостановимо неслись красные огни смерти.
На высоте, на площадке штурмовые роты залегли. Ворваться в форт не удалось. На каменном выступе, прикрывая форт, грозно и устрашающе высился бастион с тремя дотами; он был накрепко замурованы в панцирь брони. Дальнобойные пушки не разбили его силу. И теперь он злобно заливал сжатое пространство пулеметными очередями. Гвардия заливалась кровью.
На острие атаки оказался взвод старшины Петра Зарембы.
Он, приподнявшись на локте, крепко ругаясь, жестоко кричал:
─ Братушки-солдатушки, не лежать! Лежать, смерти ждать! Все встали! На амбразуру! ─ и первым, прячась за колонны, броневые щиты, устремился в атаку. Следом, плечо о плечо, презрев смерть, поднялись его воины. Но далеко не прошли, пулеметные очереди, как косою, злобно, неумолимо, скашивали храбрецов. Заремба, изогнувшись лозою, бросил в прыжке противотанковую гранату, целясь в бойницу дота, но она, ударившись о броню, только красиво, салютом рассыпалась багрово-синим пламенем и сгорела пляшущими во тьме искрами, так и не достигнув таинства разрушения.
─ Дьявол непробиваемый! ─ зло выругался командир взвода. И неожиданно вздрогнул, зажал лицо руками и со стоном опустился на каменную ступень. Пуля угодила в голову. Быстро перевязав рану, отпив глоток спирта из фляжки, он, сдерживая боль, крикнул вниз с крутизны, где у подножья форта шла своя неистовая битва, свистело и бушевало пламя, стелились густые пороховые дымы:
─ Пушкари близко есть? Помогите огоньком! Гибнем.
Навстречу вышел из густого половодья дыма Александр Башкин, прикрывая глаза обожженною ладонью:
─ Кто звал на выручку? Живые есть? ─ крикнул он в огненную метель, сквозь которую ничего не видел, кроме ребят, какие лежали близко, лежали в крови, лежали, распятые на каменном полу.
─ Браток, опять ты! ─ и обрадовался, и удивился Заремба, отмахав ему рукою. ─ Загаси красавца-идола! Встал поперек и не пускает в покои короля Вильгельма! Самую знать положил.
С трудом занесли на высоту пушку. Башкин изучающее посмотрел на дот. Четко отдал приказ:
─ Заряжать бронебойными!
Противотанковая пушка грозно и могуче дернулась, из длинного жерла с ревом и пламенем вырвался снаряд. И разорвался прямо в сердце бастиона. Взлетели к небу камни, разбитые железобетонные плиты.
Доты замолчали.
Командир орудия довольно потер ладони:
─ Горит красавец свечою на ветру!
Поправив на лбу окровавленную повязку, Заремба повел взвод на штурм. Но воины и на шаг не приблизились к форту, как с новою, губительною силою ударили пулеметы; солдатская кровь снова полилась рекою, звонко, могильно стекая со ступеньки на ступеньку.
Башкин зло выругался:
─ Скажите, каков Змей Горыныч!
Орудие в хаосе огня и дыма, летящих пуль подкатили поближе к бастиону, поставили на прямую наводку. Очил открыл огонь. Снаряды ложились метко, но редут стоял непоколебимо. Едва пехота поднималась в атаку, ее безжалостно секли пулеметные очереди. В горячке боя, в гневе Башкин оттолкнул наводчика и сам припал к наглазнику прицела, соизмеряя расстояние.
─ Снаряд! Живо! ─ крикнул он Иону.
Бронебойные снаряды отпеванием понеслись огневыми потоками к доту один за другим. Он занялся огнем, исчез в пороховом дыму, слышно было, как мятежно ломалось, рассыпалось броневое укрытие, становясь безжизненными развалинами, которые громоздились друг на друга, как черные гробы. Обнаженное, разорванное железо на ветру стонало живым человеческим стоном. Вокруг свирепствовала гибельная метель, а бастион стоял и стоял, как был заговорен пророчицею Кассандрою!
Башкина трясло и крутило от нервного возбуждения, по лицу струился пот. В мире уже ничего не существовало, кроме редута, трехглавого дракона! Он силился его покорить. И не мог. Впервые воин Руси проигрывал дуэль. ничего не понимал, почему он стоит, не рушится под танковыми снарядами.
Из пламени, прикрывая лицо рукою, вышел старшина Заремба, тихо и грустно спросил:
─ Что, браток, не получается?
─ Не поддается, сволочь! – виновато отозвался Башкин. Руки у командира дрожали. В сердце поселилась горечь. Ему было стыдно перед пехотою. Он как бы обрекал ее на смерть. Так и так воинам Зарембы придется брать штурмом редут! И наверняка все полягут у надменно-непокорного огнедышащего чудища. И сам старшина. Он уже ранен четыре раза. Дот им не обогнуть. Жертвенниками войны полягут, бессмысленно, безвинно. Затем еще и еще. Как быть?
Башкин уже понимал, штурмом бастион не взять. Подумав, он разобрался, в чем дело? В бастион замурован танк «Фердинанд». Из пушки в лоб его не взять! Только сбоку.
Он подтянул подсумок с противотанковыми гранатами, спросил у Иона:
─ Сколько голов у Змея Горыныча, что дышит огнем?
─ Три, командир!
─ Одна твоя, одна Очила, третья моя!
Он вручил каждому гранаты:
─ Ты, Очил, взрываешь дот слева, ты, Ион, справа! Вы пробиваете танку бока, а я бью в лоб, под самое орудие. В бастион загнан танк «Фердинанд», мы должны его взорвать.
─ Наше ли это дело, командир? Ухлопают дуриком, и никто не узнает, где могилка моя, ─ заупрямился Очил; как ни странно, он стал слышать и говорить, правда, сильно заикаясь. Казалось бы, должно наоборот! Орудийные выстрелы, снарядные разрывы тугим звоном забивают уши. И Очилу самое время, принять еще большее безмолвие. Но свершилась загадка, от грохота выстрелов уши прочистились, контузия сошла. Только изредка там густели колокольные звоны, да судорожно дергалась правая щека.
─ На войне все наше! ─ жестко произнес Башкин, плотнее застегивая на ремешок каску. По характеру, по зову человечности, по воинскому братству, он не мог бросить в беде пехоту! Не мог обречь ее на бессмысленную смерть! Не ему, так Зарембе брать амбразуру штурмом! Никто не выживет! Кто будет виновен? Не он? Позволит так совесть? Не позволит! Всю жизнь будут сниться ребята, погибшие по его вине.
Вина ─ не от вины!
Вина ─ от сердца и совести!
Троица нырнула в дым, гуляющее пламя. И по-пластунски, смело и бесшумно, как увертливые ящерицы, прячась за колонны, за разбросанные камни и развалины, стали подбираться к доту. Томительно потянулось время. Вся гвардия, все жертвенники, тревожили себя раздумьем, печалились, возьмут бастион? Не возьмут?
И вот со страшною силою прогремело три взрыва. Там, где стоял бастион, стоял, как мучительная, гибельная правда, закрутился смерч огня! Редут пал.
Но сам форт еще бился и не думал сдаваться. Дивизия Эммануила Казакевича подступила к водному рву, укрылась в траншее, но дальше продвинуться не смогла, били дерзко, били гибельно орудия форта, открыли гибельную стрельбу корабли, стоявшие на рейде Балтийского моря. Маршал Александр Василевский повелел вызвать бомбардировщиков. Неисчислимые лавины бомб обрушились на цитадель, на корабли. Раскаты взрывов страшно и дико рушили мир, наполняя его безумием и смертью, разрывая броню и бетон, громоподобно, в огненном хаосе, по окровавленной земле раскатывая камни и разнося железо разрушенных катакомб, заглушая крики и стоны гибнущей человеческий души. Но форт, что был опущен в гробницу смерти, залит кровью и огнем, исчезал из мира без молитвы и покаяния, держался с достоинством. Гарнизон его с непостижимым бесстрашием вел и вел огонь из развороченных, обнаженных дотов, отражая все атаки воинов, заваливая убитыми подступы к крепости.
Сокрушить его оборону не получалось. Русская сила никак не могла одолеть гордые и бесстрашные бастионы Пруссии. Пехота отступала и отступала, не скрывая ненависти и гнева, скорби и слез.
Когда вал огня поутих, старшина Заремба в рывке скинул с плеч шинель, изорванную осколками.
─ Эх, была, не была! ─ тихо произнес он. ─ Не взял дот, возьму форт! Где наша не пропадала! Семи смертям не бывать, а одну не миновать! Подвыручи на прощание, браток! ─ обратился к Башкину.
─ Чего задумал? ─ с тревогою посмотрел командир орудия.
─ Пробраться в саму крепость и опустить мост через ров с водою! Только так гибнущее воинство генерала Казакевича сможет покорить крепость «Король Фридрих ─ Вильгельм». В лоб ее не взять, все полягут! Ров с реку, колючая проволока и минные поля, и все надо преодолеть под огнем пушек, какие расстреливают тебя в упор, есть безумие и бессмыслица.
Башкин отозвался сурово:
─ Смело, но доплывешь ли? Думаю, зря погибнешь! Обожди! В штабе армии, полагаю, генералы думают, как осилить твердыню?
Командир взвода слегка потер раненую грудь, на лице отразилась боль.
Поглубже вздохнув, с печалью вымолвил:
─ Оставь, дружба! О чем они думают? Кому он нужен, народ? Как не посмотришь, одни бездарные сражения, бездарные сражения! Сколько положено напрасно люда в ненасытные высоченные курганы! Сосчитать ли? Веками женщинам России не отмолить у икон скорбь и муку! И теперь, скорее, пьют шампанское и обнимают за талию сестер милосердия, пока наступило затишье! Отгуляют, пустят в небо красную ракету ─ на штурм! И пошли милые, вороные, под пулеметные очереди! И все сгорят, как падающие звезды! Такая се ля ви, браток! Пока не завалят ров убитыми до самого верха, форт не возьмут!
Осмыслил? Мне солдатушек жалко! Сердце такое. Так как,
прикроешь?
Башкин тихо произнес:
─ Смотри, Петро, тебе жить. Я прикрою. Какие печали.
─ Ты тоже не торопись. Осмысли! ─ остановил его горячность Заремба. ─ Тебе тоже жить! Все корабли с Балтики и сам форт нашлют на тебя проклятья! Выстоишь, пока управлюсь?
─ Не привыкать, ─ заверил командир орудия.
─ Что ж, сошлись по любви, по любви и разбежимся!
Командир взвода тихо присвистнул:
─ Сюда, орлы! Змея Горыныча с с тремя головами сбили, надо дальше идти.
─ И далеко? ─ спросил сонным голосом солдат.
─ Далеко, милок. На небо! ─ старшина Заремба повернулся к Башкину. ─ Хорошо с тобою повоевали. Жаль, что мало. Велико храбр ты. И живешь по добру к людям. Прощай! ─ он обнял его и поцеловал.
Затем, обвязавшись тросом, помолившись, старшина взял подсумок с гранатами, автомат, попросил опустить его по крутому каменному обрыву рва. Так же поступил и взвод.
Оказавшись в ледяной воде, Заремба выждал, когда на его крестном пути погаснет ярко горевшая ракета, и медленно, бесшумно поплыл на тот берег, прячась за темнеющие плавающие трупы, изредка оглядываясь на ребят, не отстают ли, не унесло ли кого в вечность свинцовое водное пространство.
Немцы опомнились, когда в высокие железные двери бункера ударили тяжелые разрывные пули, снося ее, как пушинку. И в бункере оказались воины с красными звездами! Охрана моста обратилась в статуи! Сон ли? Явь ли? Пришельцы ли с неба, с красной звезды? Завязалась битва! Воины дрались отчаянно. Отступать было некуда, бились грудь в грудь, и кинжалом, и саперною лопатою, и прикладом автомата. Им предстояло сдержать пруссаков, пока Заремба не поднимется на этажи, где находились рычаги спуска моста! Стреляя вокруг себя, он бежал, делая прыжки-загадки, падая и поднимаясь, дабы выжить, не попасть под пули, и смело пробивал себе путь гранатами и автоматными очередями. Услышав выстрелы в сердце цитадели, в полную силу взревели тревожные ревуны, и к бункеру на выручку ринулись неиссякаемою толпою воины, увлекаемые офицерами. Бежали по галерее, по открытому пространству; но Александр Башкин уже нацелил сюда орудие и теперь метко разил шрапнелью, бегущую и орущую орду прусского воинства.
И вскоре случилось то, чего никто не ожидал! Через ров с глухим грохотом лег подъемный мост. Старшина Заремба вышел к мосту, сорвал с головы окровавленную повязку и стал размахивать им, как красным флагом.
─ Пошли, ребятушки! Пошли!
Генерал Эммануил Казакевич все понял; в мгновение взревели моторы и по опущенному мосту в стремительном натиске понеслись в смертельные ураган пуль и снарядов краснозвездные танки, с трубными криками «ура» поднялась неистовым смерчем пехота, артиллеристы покатили орудия.
─ На штурм! На штурм! Сломим злобного врага! ─ неслось отовсюду.
Заремба не уходил, стоял гордо и величественно у поверженного моста. И словно император всея Руси принимал на поле сражения военный парад, и все махал, махал рукою, пока пулеметная очередь не сразила его, и он не упал. В небо. В бесконечное пространство.
Битва шла всю ночь.
К утру форт «Король Фридрих – Вильгельм» пал.
Но сам Кенигсберг еще сражался. Сдав южные форты, немцы все же не теряли надежду отстоять Восточную Пруссию. И только когда жертвенно пали северные форты, когда по улицам города-крепости без боязни, как на параде, открыто покатили краснозвездные танки, стало ясно, ─ дух прусского воинства иссяк! Дальше сражаться было бессмысленно! Гаулейтер Отто фон Ляш приказал поднять белый флаг.
Ближе к вечеру 9 апреля у поверженного бастиона «Шарлотта», у крыльца роскошного особняка, заросшего плющом, с гранитными львами на фасаде, остановился легковой автомобиль, поблескивая черным лаком. На радиаторе бился на ветру красный флажок. Из машины властно вышли три офицера при полном параде, с золотистою россыпью орденов на груди и, не посмотрев на часового, величественно прошли в саму цитадель. Узнав, в чем дело, троицу предельно вежливо сопроводили в бункер, где находился Отто фон Ляш, и где полковник Иван Васютин учтиво произнес:
─ Господин генерал, мы привезли ультиматум о покорении советским воинством Восточной Пруссии и ее столицы Кенигсберга от командующего Третьим Белорусским фронтом маршала Александра Василевского! Готовы ли вы его подписать?
Гаулейтер Отто фон Ляш нервно и задумчиво постучал пальцами по столу, исподлобья взглянул на портрет Адольфа Гитлера, кто за сдачу крепости Кенигсберга непременно проклянет его, подумав, тихо отозвался.
─ Да, господа! Я готов!
Он прочитал документ за подписью маршала Василевского; еще погрустил в задумчивости, и нервно, отрывисто подписал акт о капитуляции, о своем отречении как наместника Восточной Пруссии! Подписал гусиным пером, возможно, тем, которым подписал акт о безоговорочной капитуляции 22-го января 1758 сам фельдмаршал Иоганн фон Левальд.
В то время шла Семилетняя война Россия ─ Германия; воины-руссы под началом генерала Виллима Фермора отважно сражались за Восточную Пруссию с воинством фельдмаршала Иоганна фон Левальда. И, в конце концов, одержали победу над пруссаками, лютыми врагами России, и именно 22-го января 1758 года, воины-руссы вошли в Кенигсберг под триумфальные звоны колоколов церквей.
Императрица Елизавета Петровна подписала манифест о присоединении Восточной Пруссии к России. Народ Пруссии с довольством присягнул короне Руси.
Говорят, ее Величество История не повторяется!
Повторилась!
Руссы-воины есть пророки и творцы ее на все бессмертие!
Полковник собственноручно и уважительно промокнул пресс-папье подпись Отто фон Ляша, аккуратно и горделиво поставил свою. Затем достал из портфеля кремлевскую русскую водку, банки с черною икрою. По-немецки спросил:
─ Не изволит ли господин генерал выпить с русскими офицерами за победу? Так сказать, по обычаю Руси?
Предложено было из вежливости, без унижения и надменности, от полной русской души. Выпьешь, не выпьешь, была бы оказана честь.
К удивлению победителей, генерал Ляш не отказался. Он мрачно посмотрел на своих офицеров, какие почтительно стояли на расстоянии. Посмотрел с печалью. И великим стыдом. Сердце его стонало и плакало. От унижения, от жалости к себе, что не застрелился, пожелал увидеть свою фрау и дочь. Кому еще излить беспредельную печаль одиночества, мучительную горечь падения и поражения? Был воином, стал невольником! Тяжело, тяжело опускаться с неба на землю. Был рядом с Богом, оказался там, где преисподняя! Зачем было надо идти с мечом на Русь? Похоронить ее? Без колокольного звона? Как себя? Но разве на Руси нет человеческих слез? Там тоже есть матери, какие печалятся за сына!
Генерал еще раз посмотрел на окружение. Его офицеры тоже утратили величие, стояли угрюмые, молчаливые, объятые страхом. И было отчего. Пытались завоевать мир, а положили в гробницу Германию.
Он взял рюмку с водкою, тихо произнес:
─ К стыду своему, мне выпала в истории горькая, незавидная доля присутствовать на погосте, куда вознесли воины-руссы великую Пруссию! И быть ее могильщиком! Я нахожусь в трауре, по немецким законам рюмки в печали не величают! Поэтому извините, что не могу чокнуться с победителями!
Русские офицеры в обиду не вошли, ритуалы есть ритуалы! Вольному воля! Генерал выпил залпом. Так уж устроено в мире, от века одни пьют с горя, другие с радости. Посидев в печали, генерал попросил налить еще рюмку. Выпив, решительно достал пистолет и выстрелил себе в висок. Но умереть не получилось. Полковник молниеносно выбил пистолет, пуля прошла мимо, глухо ударилась в каменную стену.
─ Не стоит, ваше графское величество, огорчать праздник Руси! Мы пришли с миром и добром! ─ откровенно укорил его полковник Васютин.
И вызвал автоматчиков. Они в строгом молчании увели под конвоем пленником, генерала вермахта Отто фон Ляша, его окружение.
Над Кенигсбергом победно взметнулось Красное знамя.
Восточная Пруссия пала.
Приказом Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина 399 гвардейская стрелковая ордена Суворова дивизия генерала Эммануила Казакевича за проявленное мужество при разгроме врага в Восточной Пруссии удостоена награды ─ ордена Боевого Красного Знамени. Сам генерал получил звание Героя Советского Союза.
Командир орудия гвардии старшина Александр Башкин за проявленную храбрость при разгроме воинства в Пруссии награжден орденом Красной Звезды.
Победа далась нелегко. При штурме Кенигсберга, крепости Третьего рейха, пало смертью героя, зарыты в братские земные Мавзолеи 3700 воинов Руси!
Вечная вам слава и память, герои!
То не волна моет берег,
То слезы Руси бьются о сыру землю.
IX
Александр Башкин снова выжил. Даже не был ранен! Просто невероятно! Тысяча пуль летела в его сердце, и все пролетели мимо! Какая сила спасала? Загадка! И не отзовется, почему выжил, даже пророчица Кассандра!
Бог берег ─ как воина необычной храбрости? Его ангелы-хранители, полюбившие его непоклонную волю, его отвагу, его справедливость? Его человечность? Его необычную любовь к жизни и Руси? Просто чудо! Десятки плотов плывут через реку Прегнель, все разбиты, люди тонут, а его плот с орудием держится на плаву! Один держится! И первым величает ладонью набережную! И плыл по реке, как все, под немыслимою густотою пуль!
Скорее, от храбрости, от силы воли, от непоклонного характера, сложилось вокруг воина сильное магнитное поле, какое отталкивает гибельно летящие пули, огибают его щит-невидимку!
Отсюда его загадочная неуязвимость! Отсюда его победы!
От зова храбрости!
И то даровано земными и небесными богами!
Но брать штурмом Берлин Герою, к его печали, не довелось. Очень умные и очень коварно-хитрые политики Уинстон Черчилль и Франклин Рузвельт, пренебрегая договоренностью в Ялте, повелели своему воинству первыми войти в Берлин, то есть, предали, как Каины, Иосифа Сталина! И командующие фельдмаршал английского воинства Бернард Монтгомери, американского воинства генерал Дуйт Эйзенхауэр ускорили движение. И уже звенели мечами у столицы Третьего рейха.
Иосифа Сталина глубоко оскорбило варварство заговорщиков! Получалась и человеческая, и историческая несправедливость! Россия за четыре года на крестном пути к гитлеровскому Берлину положила на гибельную, жертвенную плаху, на лютое поле сражения миллионы своих сынов, а вся сладость победы, ее гордая правда, ее бессмертие должны бесстыдно достаться вероломным самозванцам!
Иосиф Виссарионович выслал Каинам-заговорщикам напоминание-укор: на совещании в Ялте мы решили, в Берлин победителями должны войти советские воины, и так должно быть, и так будет! Ибо так будет по совести и справедливости. Вместе с тем, отдал приказ маршалу Георгию Жукову ускорить взятие Берлина!
Честь России, русского воинства для Сталина, были превыше всего!
Получается, Берлин уже жил в штурме, и помощь Третьего Белорусского фронта не потребовалась. В результате Александру Башкину выпала другая доля, не менее победоносная и ответственная ─ добивать воинство СС, которое выскользнуло из петли поверженного Кенигсберга и ушло с танками к Финскому заливу, на побережье Фриш Нерунг, где и развернулись прощальные бои за Отечество.
Битва выпала сложная.
И далеко не равная ─ по жизни и по смерти!
Фашистам нечего было терять. Они чувствовали гибель, свою обреченность. Не ждали милости и всепрощения за свои злодеяния в России. Спасения тоже. И откуда его ждать? От Бога? Они и перед Господом несут вину за земные прегрешения! Смерть для каждого стала былью, скорбною правдою! Битва за мировое господство проиграна. Гитлер переоценил себя. Не мир завоевал, а Германию разрушил. И человеческие жизни! Что оставалось? Только принять смерть, как благородному рыцарю! С мечом и щитом. На поле битвы. Так повернулась жизнь! И никуда не спрятаться! И враг отбивался злобно, с обреченным бесстрашием! И, надо сказать, без печали, смиренно и гордо, всходил на свои скорбные эшафоты!
Воину Башкину было что терять. Он был Победителем! За ним стояло Отечество. И жизнь. Страшнее страшного умирать в такое время, когда с отчаянием и мужеством прошел на земле все девять кругов ада, когда до Победы оставались считанные дни, когда вот-вот увидит матерь Человеческую,
любимую россиянку-принцессу Капитолину,
грозу и радуги над Пряхиным,
летящего журавля в синем небе,
березки на берегу реки Мордвес,
ромашки и васильки на лугу, где пас коней в ночном!
Ценность жизни волновала до слез!
Надоело жить в пожарище! Идти сквозь пламя. И чувствовать, как устала, надорвалась душа, обуглилась ко всему человеческому, земному; а она надломилась. По совести. И правде. По-сумасшедшему. Не в прежнюю радость и красоту крестьянское поле с хлебным колосом, сенные стога на вольнице луга, летящие журавли. И даже любовь к женщине утратила колдовскую прелесть.
Холодность в душе!
Полная отсоединенность от красоты мира!
Только беспредельность пожаров в бесконечном вселенском пространстве души, орудийные молнии, громы! Воскресит ли себя душа? Отсоединится ли от страшного мира, в котором он жил? Или мир этот он будет нести, как гроб, всю жизнь? Слишком уж велика в душе сила пережитого страдания!
Неужели в душе останется только зловещая пустота? Нет, не должно! Все вернется: и радость, и любовь, и вера в добрую жизнь, растревожится нежность к крестьянскому полю с гуляющею рожью, желание идти за плугом, смотреть в благости, с таинством, на плывущие облака, на лес у горизонта. Несомненно, должна восстановиться со всем земным оборванная родственная связь.
Жизнь еще порадует своею правдою.
И красотою!
И он еще встанет на колени перед березкою у отчего дома. Как верующие перед иконою. И долго будет объясняться в любви, целуя ее и плача.
Он воскресит свою душу.
Ему никак нельзя умирать! Он еще и в долгу у матери. И здесь надо воссоединить родственные души! Как уходить в звезды, в неведомые загадочные выси без молитвы матери, ее благословения, ее прощения?
Но ведь можешь слиться со звездою!
Можешь!
Почему же не послал весточку, не порадовал родное существо в тот день, когда вручали орден Ленина и Золотую Звезду Героя? Не исчезла боль? Никак не мог исцелить себя от веры матери; поверила не сыну, а чекистам? Ее отречения? Надо было обороть себя! Ведь послал бы не письмо-страдание, а письмо-радость. Смотришь, и восстановилась бы оборванная родственная связь!
При жизни!
Пока еще на земле!
Ужели лучше через похоронку, через прощальное письмо?
Нет, нельзя было умирать!
Но бился он с врагом храбро и отважно, как бился в любое время, не жалея себя! И надо сказать, на прощальные битвы сила в сердце возникала неодолимая, сила Геракла, и в каждую схватку, в каждую дуэль, эсэсовское воинство терпело поражение, оставляя на плахе земли, на плахе боли, на плахе битвы бесчисленные рати, какие уже не убирали, не хоронили, оставляли коршунам. Храброе воинство фюрера все больше редело. Начались самострелы.
X
Май радовал белоснежьем.
Было утро. Ночью прошла гроза. Над морем Балтики гуляли сильные ветры, разгоняли мятежность волн и с диким размахом отсылали конницею на скалы. Весь мир, и люди, и море, жил бушевал в окаянстве шторма!
Очил сидел у пушки, блаженно курил и в удовольствие смотрел на волнение моря:
─ Красота, командир! Мы не знаем моря! И только теперь я понимаю, насколько его отсутствие печально!
Александр Башкин отозвался по любви:
─ Закончим воевать, жду в гости! Златогривые кони Руси будут возить к морю по первому желанию!
Совсем неожиданно вся Германия, от края до края, разразилась салютами! Стреляли из пушек, автоматов, пистолетов.
Командир долго и настороженно смотрел в сторону маяка, где на скальном острове, где укрепились фашисты. Подумал, жертвенники с перепоя открыли огонь. Но там молчали! Странно! Откуда несутся, крепчают громовые раскаты орудия, бесконечные выстрелы? Послышалось?
Он по покою повелел:
─ Орудия к бою!
Расчет Башкина в мгновение занял места у пушки. Очил дотронулся до плеча командира.
─ Смотри, командир! Человек бежит. Не сразить?
─ Обожди.
Вскоре все увидели, как по песчаному берегу моря бежал в радости полковник в расстегнутом кителе и короткими очередями стрелял в небо из автомата:
─ Победа, старшина! ─ ликующе крикнул он, подбежав к передовым окопам, где высилось орудие Башкина. ─ Победа! Фашист сдался! Генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель подписал отречение!
Полковник не договорил. С бастиона фашистом раздалась автоматная очередь. Он, ничего не осмысливая, с удивлением посмотрел в ту сторону, откуда вознеслись огненные трассирующие пули, безвинно взмахнул руками и упал, зажимая сердце, заливаясь кровью; Башкин не успел его прикрыть.
И в ярости, в злобе крикнул:
─ По фашистским гадам огонь! Огонь!
─ Какая бессмыслица, а, командир? ─ кричал Очил, стараясь из пушки разрушить бастион врага на маяке, угадать в бойницу. ─ Говорю, какая печаль умирать в день Победы!
─ Оставь философию Сократу, ты пушкарь, и руби фашиста, кто еще несет веру в фюрера! ─ строго оборвал его Башкин.
Воины храброго расчета, во мщение, весь день били и расстреливали фашистов, сталкивая в гибельные волны Балтийского моря. Такими вот горькими и скорбными салютами, старшина Александр Башкин отпраздновал 9 мая 1945 года, первый день Победы.
После Победы дивизии Эммануила Казакевича были присланы в помощь самолеты и танки. Бомбардировщики разбили все бастионы врага на берегу Балтийского моря; израненное, окровавленное воинство СС отступило, но еще держалось. Срубать головы злобному Змею Горынычу пришлось еще месяц после победы.
Так что для воина Руси Александра Башкина битва за Отечество удлинилась еще на тридцать суток!
И настолько же удлинилась смерть!
Но он вернулся!
5 ноября 1945 года утром к Ряжскому вокзалу в Туле прибыл эшелон с победителями из Германии. Героев встречало народное ликование, на всем пути женщины бросали цветы, все старались обнять воина, поцеловать в губы! Как одно благословение, духовики играли марш «Прощание славянки». С таким маршем Отечество провожало на правую битву воинов Руси, с таким маршем и встречало! Музыка до слез тревожила сердце! Но были и слезы боли, слезы скорби!
Каждого воина после застолья в ресторане, развезли по деревням на машине, на подводе.
Башкин шагал в Мордвес пешком. Было одно заглядение смотреть на воина Руси ─ совсем еще юноша, 22 года и Герой Советского Союза!
Экскурс в современность
ГДЕ ТЕПЕРЬ ВЫ,
КОНИ ЮНОСТИ?
Возвращение в родное гнездовье
I
Как мило и прекрасно после долгой разлуки возвращаться по луговой, знакомой тропе в отчий дом! Он еще не виден, скрыт туманом и рослыми ракитами на берегу реки Мордвес, но в груди уже сладостно нарастает дивная, еще неведомая тревожность, обостренное ожидание встречи и чуда. С поля дует житняк. Крутит снежок. На землю легла легкая изморозь. Трава, скованная утренним морозцем, лежит покорно в ледяном прозрачном саркофаге, еще зеленая, переполненная солнцем. Вдоль тропы еще виднеются васильки, ромашки, иван-да-марья. Стоят уже не в первозданности, но все еще нежны, миротворны, с неотмолимою любовью к жизни.
В поле убрана рожь, но еще поют перепела. Вьются стрижи. Однако в предзимье, куда ни посмотришь, уже властвуют жизнелюбивые воробьи и красивые синицы. Берегом реки, поеживаясь от ветра, торопливо шествует женщина с вальком и деревянным корытом, доверху наполненным стираным бельем. Останавливается! Смотрит на Башкина, не ее ли воин? Воин не ее; похоронка, получается, не лжет! Счастливчику машет ладонью. И шествует дальше к реке, несомненно, унося в себе боль и печаль.
Вот и бревенчатый мостик через реку Мордвес.
Вот и дом! Из трубы ветлами поднимается дым и в мгновение разметывается на ветру и слетает белыми голубями в небо. Похоже, мать топит печь и не знает, даже не догадывается, что вернулся сын!
Неужели вернулся? По правде? Милая моя родина! По его лицу текут слезы.
Александр присел на крыльцо, стряхнув шинелью снег. Воин боялся идти в избу. Смерть на фронте не так страшила, как встреча с матерью! Легче было в Вяземской тюрьме отправиться с остальными печальниками на расстрел! Как встретит сына?
Перемолчит ли свою боль? И его боль? Скорбь отречения еще не исчезла, живет в сердце! Тяжело слышать при живой матери свою сиротливость как сына, одиночество в мире! Он бы мог не вернуться в отчие края! Как тогда? Так бы и жил вечно в ее раздумье, в ее тоске и слезе изменником Родины? Что есть
больнее, оскорбительнее? Забывается ли такое?
Не забывается! И не забылось! И все же надо было пересилить свою обиду, смирить гордость! Свою мятежность! Нельзя злобиться на родную матерь Человеческую!
Он ее плоть,
ее сердце,
ее печаль,
ее радость!
Пора, пора разрушить непримиримые миры ─ мир матери и мир сына! И вместе с тем, разрушить две обиды, две боли, два страдания. И ту ложь, как размерила, разъединила миры! Получилось две правды. На одну истину! Чья истина была сильнее, справедливее? Его, конечно. Но он сын! Сын! И должен простить ее, первым повиниться и покориться.
Он не палач матери.
Не судия ее.
Набравшись сил, Александр вошел в избу и тихо сказал:
─ Здравствуй, мама! Это я. Шурка! Как видишь, вернулся!
Мария Михайловна доставала ухватом из печи чугунок с кипящею картошкою, услышала, как загремело ведро, степенно выпрямилась, вытерла ладони о фартук. Увидела сына, но величать его возвращение не спешила. Невыносимо медленно заправила волосы под платок, и стала повелительно-строго рассматривать желанного гостя, ничем не выражая радости, материнского чувства.
Время остановилось.
В горнице стало тихо, как в церкви перед молитвою. Александр не знал, как себя вести. И не мог разобраться, рада не рада! Тяжело было ему видеть суровые, печальные, осудительные глаза матери. И он в скорбном безмолвии переминался с ноги на ногу, словно жгли ему босые ноги раскаленные уголья.
В избу с улицы вбежала разрумяненная сестренка Аннушка в черном пальто и белой пуховой шапочке. И мигом бросилась на шею брату.
─ Шурка? Вернулся? ─ в радости воскликнула она. ─ Мама, смотри, вся грудь в орденах! И золотая Звезда Героя!
Мария Михайловна не отозвалась, даже растерялась, не зная, как поступить: то ли бежать навстречу сыну, то ли еще выдерживать гордость.
Александр подошел к матери, обнял ее, прижал к себе. И долго стоял так, желанно ощущая ее плоть, ее сокровенность, невольную легкую дрожь и материнскую сладостную радость.
Отсоединившись, нежно произнес:
─ Вернулся, мама! Твоими молитвами, твоими печалями, прошел через бури и лихолетья. Всего хватил! Но Русь святую отстоял! Теперь все, дома!
Он снял шинель и в радости прошелся по домотканому ковру, погрелся у печи, посмотрел в окно на заснеженные берега реки Мордвес, на темные воды, все бегущие в загадочную даль, на дом Капитолины; так ему хотелось увидеть юную красавицу на крыльце терема или у колодца, с коромыслом и ведрами. Но по ту сторону деревни стояла загадочная тишина; никто не спешил гнать вороные, везти в карете к его терему сказочную царь-девицу.
Матерь мало-помалу оживила, растревожила радость за возвращение любимого сына; в мгновение накрыла стол. И даже успела переодеться в нарядное платье с белым узорным воротником.
К праздничному ужину явились Иван и Алеша, Мария Михайловна сама разлила в рюмки водку, смахнула невольную слезу, тепло произнесла:
─ Три сына воевали, и все вернулись. Любо вас видеть. С возвращением, Шура! Ну, быть добру, ─ она быстро выпила водку, закусила моченым яблоком. И, с трудом продохнув, тихо спросила: ─ Чего же ты не писал, своеволец?
Александр ответил уклончиво:
─ Воевал, мать! Воевал.
─ И что же, Гитлера-то встретил?
─ Разминулись, мама, пути-дороги, ─ с огорчением отозвался Александр. ─ Не пришлось идти на Берлин. Но огниво донес! Не я, друзья-однополчане, им передал! Получилось один к одному, как пророки ведали! Сгорел он на костре, фюрер Третьего рейха! И огниво то принесли воины-руссы!
─ Ну и быть добру, ─ порадовалась матерь. ─ Получились и моли сны в руку. Помнишь, в госпитале ведала?
─ Я, мама, все помню.
─ Не все, сын. Не все! Не спеши себя хвалить! Иван тоже воевал, бил фашиста. Но мать не забывал. Алеша у самого маршала Жукова И Алексей у самого Жукова конюшим был. За лошадьми смотрел. Тоже письмами не обижал. Ты чего? Зазнался? Обиделся?
Сын хитрить не стал:
─ Было дело, родная. Нес обиду.
─ Теперь? ─ Мария Михайловна посмотрела строго и смиренно.
Не дождавшись ответа, примирительно произнесла:
─ Ты обиду не таи. Не я во всем повинна. Я всю войну сердцем к тебе рвалась. И печалилась, и скорбела. И надеждою жила. И снова тоскою. Но верила в доброе. И указ Верховного Совета СССР о присвоении тебе звания Героя читали. И всею деревнею радовались. В бессмертие ты деревеньку нашу Пряхино вознес. И себя. Все деревенские так оценили. ─ Матерь вдумчиво помолчала. ─ Так как, нечестивец? С обидою приехал? С прощением?
─ С прощением, мать! Имею ли я право сердиться на родственную плоть? Ты же мне жизнь дала! Что было, то было. Забудем, ─ Александр поцеловал ее в щеку.
─ Я не зря этот разговор завела, сын! Нехристи с малиновыми погонами замучили. Опять приходили. Все ищут тебя, ─ как бы извиняясь, произнесла Мария Михайловна.
─ Ты разве не показывала им газету с указом?
─ Смотрели. Сказали, это не тот Башкин, которого мы разыскиваем.
Александр не выдержал, рассмеялся:
─ Выходит, я это не я! Но другой Башкин! Ловко! Сами себя запрягли в карету лжи. И не знают, как распрячься.
Мать его урезонила:
─ Смешного мало. Они тебе до самого края жизни покоя не дадут!
Иван осудительно заметил:
─ Ты, мать, совсем из ума выживаешь. Сын вернулся! Ты все с печалями! Верно, Саша сказал, запрягли Ложь в сани, а зачем, ─ не знают сами! Разберутся, отпустят грехи! О чем тревожиться?
─ Замолчь, басурман! ─ повелительно потребовала Мария Михайловна. ─ Много ты смыслишь. Они не попы в церкви, грехов не отпускают! Заарестут, и погонят под конвоем по матушке Рассее на Соловки! Кто будет разбираться, виновен, не виновен! И как он не виновен, если обвинение в Туле не снято? Ищут беглеца! Герой, не Герой, а наказание нести должен! Вот и печалюсь.
За столом возникло тягостное молчание.
Иван разлил водку:
─ Не заберут! Твой сын учиться уезжает в военное училище. В Москву. Генералом станет. Кто его тронет? Угадал, брат?
Воин оживился:
─ Будем считать, угадал! Перед отправкою в края родные, вызывает сам генерал Эммануил Казакевич и говорит: «Бился ты с врагом героически! Как командир, показал смелость, талант полководца! Твое орудие было первым снайпером в дивизии! В силу чего командование направляет тебя на учебу в Военную академию, в столицу».
─ В академию? ─ удивился Алеша.
─ Чего мелочиться? ─ весело отозвался Башкин. ─ Для каждого высокая честь, быть генералом Красной Армии!
─ Согласился? ─ проявила нетерпение Аннушка.
─ Нет, сестренка. Отказался! Я сказал Эммануилу Казакевичу: я человек от плуга! Враг напал на мою Русь, я взял оружие и защитил ее! Теперь надо отстраивать разрушенную Русь! Генерал не согласился: на то есть строители, ты командовал орудием! Уже офицер! И тут я взбунтовался: я не командовал, товарищ генерал! Я их вел за собою! Первым принимал на грудь огонь и железо. Огонь я гасил своим сердцем, железо крошил своими руками. Умом и храбростью разбивал камень немецких твердынь. Люди видели это! И шли за мною. Вот и все мое командование.
Он подошел, крепко обнял, трижды поцеловал по русскому обычаю:
─ Что ж, вольному воля! Вижу крепь твою, ее не пересилить. Ее полки фашистов не смогли пересилить! Еще раз целую тебя, как сына!
На том и расстались. Но вижу, огорчил человека. И по милости произнес на прощание:
─ Не надо огорчаться, товарищ генерал. Я у матери спрошу. Отпустит, поеду учиться в военную академию!
Иван улыбнулся:
─ Присмирела, мать? Тебе решать, кем быть Александру, пахарем или воином?
Мать махнула рукою.
─ Голову задуришь с вами. Красавицу-то навестишь? Невестою стала, право, право, одно любование.
Башкин покраснел:
─ И плугом попашем, мама, и за сохою спляшем! Зря она мне шелковые платки вышивала? Помнишь, в госпиталь привозила? Через все бои ее имя у сердца несу.
─ Отец ее, Михаил Осипович Доронин, осиротил семью. Не вернулся с фронта. Погиб на Курской дуге. Смертью героя. Так в похоронке было сказано.
Александр помолчал в трауре:
─ Помянуть бы надо Михаила Осиповича. Прекрасной души был человек. На всю округу славился как сапожных дел мастер. Люди его любили, уважали. Председателем колхоза «Труд» выбрали. Жалко его! И гармониста Леньку Рогалина жалко. Земля им пухом!
Выпили за героев по трауру. Мария Михайловна, захмелев, то ли в радость, то ли в грусть вывела:
Окрасился месяц багрянцем,
И волны бушуют у скал.
Поедем, красотка, кататься!
Давно я тебя поджидал.
Русскую песню в радость подхватили сыновья.
ЖИТИЕ ГЕРОЯ ОТ САЛЮТА ПОБЕДЫ
Все танцуют и танцуют березки на берегу реки Мордвес
II
Александр Башкин на отдыхе не загостился. Едва отгуляли ноябрьские праздники, стал собираться в Мордвес.
Мать поинтересовалась:
─ Далеко сборы?
─ Партии надо представиться. С делом решить.
─ Ты сын пахаря! Твоя доля, ходить за плугом!
─ Мы теперь люди государевы, мама! Что предложат, тому и поклонимся в пояс!
В поле было хмуро. Вился, кружился снег, дул холодные ветры. Идти было трудно, тропа промерзла, сильно скользила и несла больше печали, чем радости. И все же, несмотря на угрюмость осени, на душе у сына-властелина Русского Простора было повелительно хорошо. Он полною грудью вдыхал предзимнюю свежесть. И откровенно радовался перемене жизни. Все еще не верилось, что можно идти по земле и не слышать свиста пули, воя бомб и снарядов, гусеничного грохота танков, не надо лежать на дне снежного окопа, сжимать автомат до боли в ладони, с неумолимою тревожностью гадать: убьют на это раз в атаке? Не убьют? И когда сразит пуля? Едва поднимешься из окопа? Или в беге по гибельному полю битвы? Лучше в беге, и насовсем! Неужели кончились страхи? И отпылали, отпечалили костры Джордано Бруно на земле Руси, и не надо больше входить в атаке мучеником-жертвенником в лютое пожарище? И земле Руси не надо больше нести на себе пожарище, слышать, как горят колосья в поле, рушатся избы, города и веси!
Ужели, ужели такая благословенная тишина будет стоять всю жизнь?
В Мордвесе было теплее, снежные, ледяные ветры остались кружиться, извиваться белоснежными змеями за избами, в чистом поле. У здания райкома партии толпились люди, у коновязи смиренно стояли лошади под седлами и запряженные в сани. В коридоре со скрипучими половицами Александр Башкин неожиданно встретил знакомца из комсомола Николая Моисеева, кто дал ему путевку в Тульский коммунистический полк.
Он в радости воскликнул:
─ Ты ли, Шура? Говоришь, вернулся? И Героем! Слушай, здорово! Ты к кому шел?
─ На партучет встать.
─ Успеешь! Заглянем к первому, на смотрины! Правит Михаил Сергеевич Чивилев. Прекрасный мужик.
Постучали в кабинет.
─ Разрешите, Михаил Сергеевич? Я вам Героя привел и комсомольского вожака!
Первый секретарь Мордвесского райкома КПСС был одет в командирскую гимнастерку без погон, галифе, в хромовые сапоги, осаженные гармошкою. Сам плотного телосложения, среднего роста, волосы русые. Лицо строго-задумчивое, но глаза добрые, приветливые. Он сидел за дубовым столом, просматривал колхозные сводки по сбору урожая.
Михаил Сергеевич проявил особое уважение к гостю. Общались необычно долго. И даже устроили пир. Секретарь попросил секретаршу никого не впускать и выставил на застолье, в честь Героя, коньяк.
Выпив, деловито поинтересовался:
─ Не обжился еще в родном краю?
Воин отвечал скромно:
─ Не обжился! Живу, словно в саду Эдем! Все не верится, что вернулся из грохота орудия, танков, в благословенное безмолвие! Шел по тропинке в Мордвес, и виделось поле, как таинственное святилище, где юрко, не боясь ничего, бегают по жнивью суслики, полевые мыши, собирая неубранное зерно. Все обычно! И необычно! Как наглядеться? Живешь в деревне, в безмолвии, где можно попечалиться и порадоваться, и не ждать пули! Как пообвыкнуть? Все радостно, мило! Даже свет лампадки в углу горницы под иконою святой Богоматери! И даже то, как молится мать! Признаться, он и раньше таким был, милым, красивым, таинственным! Только я его не замечал! Так остро, так обнажено, с такою любовью! Человеку надо пронести Свою Душу через тысячи смертей, дабы выверить, как прекрасна жизнь!
─ Вижу, соскучился по гражданке, Герой! ─ поддерживал его настроение первый секретарь. ─ Но сколько конь на воле не гуляет, а узду и кнут узнает!
Он посмеялся, еще разлил коньяк:
─ Что, Александр, позвать тебя в комсомол? По наградам ─ твой престол! На всю Россию будешь один, комсомольский вожак и Герой Советского Союза!
Башкин принял отречение:
─ Мне бы живое дело, пахать землю, растить колос, а быть чиновником, скорее, не моя Библия.
Первому не понравилось отречение воина:
─ Благословен солдат России! Готов петь ему песнь, как буревестнику о вечности и бессмертии! Но впервые слышу, как воин думает о секретаре райкома! Мы, выходит, бюрократы? Вижу, молод ты еще, Александр! Оркестр души только-только настраивает скрипки, не зная, какую станет играть музыку? Я предлагаю тебе самое живое дело. Будешь, как император всея Руси, управлять государством молодости! И в тоже время, будешь пахарем! Молодые души ─ есть твоя пашня! Расти колос! Пусть вызревают под твоим началом, под твоим плугом, люди зрелые, какие любят Русскую землю, как ты! Пусть вызревают воины-гладиаторы римского Колизея, как ты! Пусть осмысливают жизнь, как ты, только через труд и с плугом на пашне, во имя русского Отечества!
Он помолчал:
─ Осмыслил, что такое вождь молодежи?
Башкин кивнул:
─ Убедили, Михаил Сергеевич!
─ Ну и прекрасно! ─ отозвался секретарь райкома. ─ Россиянку, какую влюбил в себя?
─ Не успел. Но сам влюбился.
─ Получается, и свадьба близко, и семья! Жду приглашения на гармонь и самогон!
Он улыбнулся:
─ Но зови, не как свадебного генерала. Я и станцую, и спою! Не доводилось еще гулять на свадьбе Героя! Сговорились?
─ Сговорились! Быть добру.
Любовь и смерть, ─ единственные таинства,
какие не избежать человеку.
III
Именно в деревне Пряхино, где Александр рос, набирал силу, как Антей от земли, от хлебного колоса, дабы победить чудище и остаться в бессмертии былинным ратником России, юноша и высмотрел кареглазую принцессу с древнегреческим именем Капитолина. Никто не знает, откуда начинается любовь? Но то, что ее благословенно-целомудренный свет повелительно зажигается там, где Вселенная, где горят сказочно-загадочные звезды, возразить никто не смеет. И кто смеет возразить, если огненность света наполняет Человека Земли немыслимою колдовскою силою, равное богам Зевса, где открывается таинство земли и неба, таинство хлебного колоса, таинство шмеля, гудящего над цветком мать-и-мачеха; твое земное таинство, зачем ты? Огненность света дарит преображение чувств, необычную ласковость и нежность, гордую радость и милосердие, и отчаянно, неумолимо тревожит в тебе всю красоту мира.
Александр полюбил именно так, по святцам Земного Неразгаданного Таинства. И по красоте услышал в себе преображение чувств, ─ коснулся цветка, испытал ласковость, коснулся хлебного колоса, испытал радость! И сама любимая россиянка стала для юноши всем: звездою в небе, лучом солнца, упавшим на закате на лик березы, гусем-лебедем, что летит в синем небе над привольными пряхинскими полями, тающим снегом на ладони, белою кувшинкою в реке.
Когда он видел ее, мир становился необычным! Но признаться в любви не смог. Даже когда уходил на фронт! И как можно было, сказать красавице-россиянке самое прекрасное, что существует на земле, самое бессмертное ─ «Я тебя люблю!», если девочке было только тринадцать лет. На Руси такое не вершилось, Русь это красота и целомудрие; яблочко должно вызреть.
Александр пронес чувство любви к девочке через все битвы! и во все времена, лежа в сыром окопе, поднимаясь в атаку, думал о Капитолине. И знал, что умрет на поле сражения с ее именем! С именем матери! С именем России! И не раз, растревожив себе ласковость и нежность, видел, как вернется в деревню, пригласит любимую в покои терема, и оба, присев на диван, слегка, прислоняясь, друг к другу, будут читать стихи любимого поэта Сергея Есенина. И говорить, говорить о жизни, красоте ее, о том, как прекрасна земля и как хорошо, что они пришли в мир, видят звездное небо, землю с хлебным колосом, людей, радуги, слышат грозы, дыхание ветра.
Но когда он былинным героем вернулся с поля битвы в пряхинский замок, то стеснялся даже смотреть в глаза красавицы. Да и жизнь была такая, что больше вызывала печаль и слезы, чем любовь и радость. Деревня жила голодно! Женщины пахали землю, сами запрягаясь в плуг и борону, и со слезами, с болью волокли их по бесконечной пашне. Из лукошка россыпью бросали зерно, пока не падали на поле, как загнанные лошади. Не до танцев было. Да и с кем кадриль отплясывать? Молодцы были на фронте. Возвращались калеками, тоскою земною.
Но мало-помалу деревня оживала в веселье, гармоникою и песнями. Впервые русская гармонь заиграла на масленицу, а летом начались вечерние гуляния в роще на берегу реки Мордвес. Пляски были, что и до войны, ─ кадриль, «ноченька», «тустеп» «барыня». Александр не знал девушек, кто теперь слаженно пел, танцевал под гармонь, водил хороводы. За время его отсутствия подросли юные красавицы и рассыпались цветами в березовой рощице. Каждая была ─ загляденье! Но те дивы мало трогали, волновали воина. Он в таинстве, во все глаза смотрел на свою принцессу. Она воистину была на деревне самая-самая писаная русская красавица; статная, крутая грудь, до пояса величаво спадает густая русая коса, лицо красивое, большие карие глаза. Воин и пленник любви Александр, все же рискнул пригласить Капитолину на танец. Танцуя, он слышал, как она пахла чудным крестьянским полем, хлебом и землею, свежим медовым сеном, ягодами и цветами. И звала, звала, как колдунья, и вдаль ночи, и на плаху.
Вскоре он осмелел, и в лунную ночь, пригласил россиянку погулять в луга. И признался в любви; поцеловал ее. Поцеловал впервые девушку! Получилось скромно и застенчиво. Но в самые губы. И все, дальше началось неизвестное, еще неведомое. Весь мир закружился в вальсе. И на сердце нахлынула такая радость, такая нежность, что он растерялся. Его будто пронзили музыкою и светом, наполнили звуками земной симфонии.
Он понял, любовь ─ чудо!
И жизнь ─ чудо!
На яблочный Спас, когда деревня жила весельем, а душа величием, Александр на гулянье, когда играла гармонь, увел красавицу к реке и там, сидя на бревне, поведал свое таинство, таинство любви, с какою радостью видел ее в окно, когда девочка шла с ведрами к колодцу! И как по молитве шептал благодарение богам, что ты есть на земле, что живешь! И там, где с мечом поднялся за Русь, вошел в смерть, в костры Джордано Бруно, тоже жил с ее именем! И в атаку шел с ее именем! И выжил, ибо любил! И попросил стать его женою! Россиянка стыдливо погладила косу.
Свадьбу сыграли через год, ждали совершеннолетия Капитолины; Александр назначил свадьбу на 17 ноября, на тот день, когда вышел указ Верховного Совета СССР о присвоении ему звания Героя Советского Союза. Время было голодное, но стол с божьей помощью собрали, несли скромные дары деревенские. Все же первая свадьба после войны! И кто в раздолье мчит по Руси на тройке с бубенцами? Сам Герой! Как скупиться? Последнее не пожалеешь. Спирта и водки тоже хватало, постаралось верховное начальство.
На свадьбе гуляла вся деревня! В переднем углу, под божницею, чинно сидели жених и невеста, Александр переодеваться в черный свадебный костюм не стал, его, признаться, и не было, сидел, в чем пришел с битвы, в гимнастерке со звездою Героя на груди.
Невеста была в строгом белом платье и напоминала лилию в разливе озера; глаза наполнены солнечным свечением, и сама она вся, как была соткана из ласковости и радости.
Свадьба была скромная, простая, как и велено на Руси; почтил ее присутствием и первый секретарь Михаил Чивилев. За милым и дивно-трогательным застольем пили не торопясь, со вкусом, без суеты, с покоем и радостью в душе, закусывали. Кричали горько, желали явить в мир сына, как Александр, а когда пиршество веселья подкатывало к сердцу, ─ зачинали песню за песнею. Запевала обычно сама невеста, первая плясунья и первая певунья на деревне, запевала русские песни, так любимые ее избранником. И свадьба соборно пела про ямщика, который служил на почте, о том, как выплывали на простор челны Стеньки Разина, бежал бродяга с Сахалина, про очаровательные глазки. И нежно-нежно о девушке, какая трогательно провожала на позицию бойца. И желала вернуться с битвы.
Александр в лености не отсиживался, он слышал в себе прекрасность чувств, несказанную красоту жизни, половодье любви и нежности и не мог тоже не петь удалые русские старинные песни; голос у Героя великокняжеский, где есть ласковость и красивость и удивительная мятежно-бунтарская сила! Но песнопение его не кричащее, душевное, возьмет на взлет и как колокола забьют-загудят на всю Русь нежною звонницею! И может без грома, в один голос, так, как поет и тоскует скрипка, скрипка Паганини. Сложись у Башкина другая судьба, он мог бы выступать в опере в Большом театре. И больше бы пел русские песни, неся в души людские красоту жизни, красоту любви, где бы с радостью, слышалась тоскующая задушевность.
Он не раз признавался:
─ Как хорошо, что на земле, на пиру дарения, мне досталась Русь! Нигде нет столько света, красоты жизни, целомудрия! Я рад, и горд, что явился в мир в России!
Когда заканчивались песни, свадьба соборно выходила на пляску! Нигде так не пляшут, как на Руси! Мятеж пляски разливается во всю Русь, во всю землю! И теперь плясали под гармонь и балалайку тоже с особым весельем и задором! Бедовые бабы и девицы-молодицы, отчаянно, забубенно отплясывали барыню и русского, огненно взмахивали красными косынками, кружились-вертелись юлою и так, что шаткие половицы стонали и плакали под тяжестью сапог и туфелек. Плясам и секретарь Михаил Сергеевич, как обещал. Гармонист и плясуньи отдыха не знали. Кончался керосин, гасли лампы, разжигали, как в старину, в железном светце березовые лучины и снова пели и плясали в одно дыхание, в одно движение. Вывели за руки в буйность пляски жениха и невесту, не сиди на скамье, как сироты. И невеста, притопнув каблучками, тут же вывела частушку:
Коса моя русая,
Лента голубая,
Сама чернобровая ─
Цена дорогая!
Пели-плясали и поднимали кубки в родительскую радость и матери молодоженов, Мария Михайловна и Евдокия Ивановна.
Свадьба отпела и отплясала, и Златогривые Кони Времени понеслись вскачь по земле Руси! Страшно подумать! И печально подумать, минули годы и годы, и мы уже в 21 веке! Время неумолимо, оно ускоренно движется в звезды и безмолвие вместе с человеком. Как он ни пытается выбраться из половодья, уносящего его в вечность. Тьма неминуема; а речка Мордвес, где на крутом берегу пела и веселилась свадьба, будет вечно слать в просторы синие волны. И березки будут дивно и мило, неумирающе стоять и стоять на земле в обилии солнечного света!
Все остается!
И все останется!
Даже Время, вечный земной убийца! Но только не человек, властелин мира, и кому быть со временем властелином бесконечного Звездного Пространства!
Семья сложилась. Любовь протянулась на вечность в мудрости и благости. Александр Иванович и Капитолина Михайловна отметили Золотую Свадьбу! И все еще живут по законам любви. Как соединились воедино, в одну думу, в одно сердце, так и живут до креста! Ссоры, раздоры были. Но не такие серьезные, не убивающие душу. Жена Героя все еще смотрится русскою красавицею. Но, естественно, уже не тою первозданностью, не свадебною! Но изысканная женственность сохранилась: та же иконная красота лица, чистые, живые глаза, сияющие, словно озера на солнце, ласковая, крестьянская простота общения, нежное сердце.
Вскоре, по воле любви и творца, на благословенном ложе, влюбленные явили миру сына Вячеслава. Человек явился в мир необычайно красивым, как Лель, добрым и справедливым. Правдолюбец до безрассудства! Несет в себе характер отца, упрямец до мятежа, не поклонен Злу ─ до взмаха меча воином Руси! Одарен талантом музыканта, он немыслимо красиво играет на гармошке. Слушать его гармонь можно всю жизнь, как скрипку Паганини! Музыка неземная, пиршество звуков от Бога! Его зовут как гармониста на все свадьбы в Мордвесе. Трудится инженером.
Вторым пришествием явился сын Михаил. Это человек от мягкости, очень мечтателен. Живет любопытством к миру, с любопытством смотрит и в твои глаза, словно желает спросить: человек, скажи, зачем я живу? Зачем мне подарена жизнь? Хочет отыскать гармонию на земле! Редко в ком еще можно заметить такое несказанное желание понять мир, в котором живет! И живет одно мгновение! Служил офицером. Ушел из жизни раньше времени; не с того ли так тревожила его сердце мысль, зачем он? Зачем жизнь? Как знал, палач-Время не даст ему осмыслить себя, как Сократ, как Иисус Христос. Идти по Руси на кладбище за катафалком, вместе с Александром Ивановичем было тяжело. Он плакал, и на могиле тоже плакал. Стояла тишина, горькая, траурная! Но было слышно, как во всю Русь играли скрипки, разливался хор плакальщиц и горвестниц, касался неба, где боги, казалось, тоже были огорчены, что человек ушел из жизни и не узнал, зачем он был на земле?
В семье Александра Башкина выросли две милые, прекрасные дочери ─ Надежда и пушкинская Татьяна, если сравнивать характеры. Обе несказанные трудолюбицы!
Мудрецы говорили, хочешь остаться на земле, яви миру сына или дочь. И продолжишь себя в бессмертии, не упадешь одиноким дубом на землю, обнажив в скорби родовые корни, под злыми дующими ветрами, не рухнешь с проклятьями в пустоту, в неизвестность.
Терем великого князя-воина Руси Александра и княжны Капитолины, переполнен внуками! Оба несут в себе великую пахарскую династию, какая зародилась еще во времена Рюрика, несут ее культуру, ее целомудрие, почему так благословенно и расселились в тереме мир, любовь и добро.
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ-ВОИНА ПРИНИМАЕТ В КРЕМЛЕ ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ
Или нужна ли Россия русским, и русские нужны ли России?
I
На Руси 9 мая 1996 года!
Я люблю праздники, особенно 9 мая. Трогательно и бесконечно изумительно быть в это время земным странником и беспечно прогуливаться по краснофлажным улицам и площадям, встречать разливы гармоник, вглядываться в счастливые лики земного люда, читать в глазах воинов, убеленных сединою, суровую правду о войне. Они идут гордо, степенно, со скрытым величием, с песенным звоном орденов на груди. Хорошо и дивно послушать в парке, как победоносно играет оркестр военную музыку и неизменно марш «Прощание славянки», марш от гордости, от величия.
Я стою на перроне вокзала в Веневе и жду Александра Ивановича из Москвы, из Кремля, где он был на встрече с Президентом России. И вот он приезжает на Новомосковском поезде, сходит по лестнице; красив, высок, статен. Золотая Звезда Героя на груди сияет, как солнце, и сам по себе величает красоту жизни. Но люди, идущие по перрону, ничего необычного не замечают, преувеличенно деловито спешат, толкаются в суете, напирают на Героя. И в половодье суеты и обычности возникает неизвестная еще и неприятная тоска-грусть за пленительно-прекрасную Русь, где люди давно перестали видеть и чувствовать в жизни чудеса, звезды в небе.
Башкин меня увидел, но виду не подал. Рукою не отмахал. Выдержка, такт ─ из летописи его характера. Как шел, так и шел, одиноко, былинно, среди толпы, суеты, в половодье убегающего времени. Встретившись, мы обнялись, поцеловались.
Затем вышли по привокзальную улицу Венева. Шли молча. Остановились у памятника воинам, кто пал смертью героя за освобождение города, у Вечного огня. Воин Александр ушел в себя, в строгость. Я близко вижу его строгое лицо, боевые ордена, его руки, какие сжимаются в кулак. Он, воин России, стоит, как изваяние, и только ветер задумчиво перебирает его редкие седые волосы. Он молчит. В нем идет тяжелая работа души. О чем? Я еще не знаю. Возможно, о пире в Кремле, возможно, о битве за Русь, где миллионы россиян легли в бесконечные великорусские курганы, а он вернулся, и даже Героем, с честью исполнив долг гражданина и воина, а они не вернулись. Почему? Кто ответит? Бог? Россия? Матерь человеческая? На всю Вселенную криком кричи ─ никто!
Его ли вина? Но больно, больно!
И если все так, если его мысли вознеслись черными лебедями над полями битв, над пожарищами, если мучительно зашла в тревожную память горькая и откровенно скорбная правда о смерти друзей на поле сражения, а сам он плачет, то, как нарушить его молчание, его печаль; слишком свята для воина эта траурная тишина, боль и смысл которой он слышит и потрясенно понимает только один на земле. И только один, сам в себе, и должен слышать раздольно-сладостные колокольные благовесты, какие гордо и трогательно плывут в синеве неба над полями битв и могил, неся благую весть о победе Добра над Злом, его победе! Я это понимаю, и понимаю то, что даже робким окликом кощунственно разорвать его мысли, рассоединить его память с далеким огненным временем.
И я в смирении молчу. И тоже смотрю на огонь. На вечный огонь павшим солдатам России. И вижу то время. Вижу, как ровными рядами, четко маршируя, идут солдаты России по Красной площади, укутанные снегом, словно саваном, идут сквозь липкие, мокрые снега, ледяные ветра, туго сжимая винтовки! Идут туда, где бои, унося в себе любовь к женщине, пленительную кротость поцелуя невесты, надежды на жизнь, еще детские пухлые губы шепчут про себя, не на всю площадь, не Иосифу Сталину на мавзолее, а себе, только себе: «Вернуться живым, вернуться!»
Никто не хотел умирать. Но они не вернутся! Никто не вернется!
Бои под Москвою шли без возвращения!
С вознесением в небо!
Вернутся, конечно, но не живыми!
Огнями салютов!
Памятью!
Они еще не знают. Я знаю. Они живут в том времени. Я в этом. Я могу побыть с воином мыслями, сердцем. Они не могут! Они исчезли с земли, ушли в земные Мавзолеи, в Вечный огонь, в обелиски, кто с красною звездою, кто с христианским крестом!
Но они могут ожить на земле, могут вернуться в мир, ─ через мою память! И только через мою память!
Через человеческую память!
Будет жива память, будет жить в бессмертии воин Руси!
Но теперь я стою с героем, ─ и вижу жестокие битвы, слышу гул канонады, гром орудийных залпов, слышу предсмертные зовы комиссара, упавшего соколом на израненную землю, но кто сумел на прощальном излете поднять на битву отважную русскую рать. И сколько раз поднимались они, гордые и бесстрашные, на врага, а с ними и Александр Башкин, дабы защитить распятую, оскорблено-поверженную Русь!
И только ли Русь?
Воины-руссы не жалели себя, не щадили! С верою в русское Отечество и правду людскую бросали себя под танки, с верою в добро и справедливость, в любовь земную сгорали заживо на фашистском костре и пели в себе марш «Прощание славянки». С верою в бессмертие Руси, падали в атаке, перерезанные пулеметною очередью, на родную землю, обняв ее и целуя, целуя на прощальное мгновение. Живые гордо и упрямо шли дальше по дорогам гибели и скорби, все туда, на Берлин.
Но война не только битвы и победа!
Война ─ это боль. Это горечь утрат. Это вдова, скорбно и одиноко плачущая среди русского поля, одетая во все черное, поседевшая за одну ночь.
Война ─ это мать, безжизненно, обреченно, с глухими рыданиями сползающая по косяку двери с похоронкою в руке, прощальною весточкою от сына.
Я не знал, что такое война. Не видел, как плачет ребенок, упав на окровавленную, растерзанную грудь убитой матери, как в разбойничьем разгуле, с воем убивающих бомб, рвут черные «мессершмитты» синее небо на траурные ленты, как пронзительно и исступленно горят кострами города, плачут цветы, прощально изгибаясь в жарком подступающем пламени. Я родился позже. Но война черным обжигающим эхом вошла и в мое сердце, и это эхо огненным вихрем, с болью ворочается всю жизнь. По Библии моей родословной по отцу и по матери пало на поле битвы Великой Отечественной одиннадцать человек.
И это все богатыри-руссы!
И это все, горящее солнце!
И это все живые, бесконечные Вселенные!
II
─ О чем думаешь? ─ поинтересовался Александр Башкин, отходя от Вечного огня, кончив печалиться.
─ О том, что вы были за люди? И сам творец, из чего вас выковывал?
─ Из любви, ─ серьезно отозвался воин. ─ Из любви к России и людям!
Я помолчал в раздумье:
─ Еще хочу разобраться и не могу, всю жизнь не могу, почему так быстро и гибельно остывает память к героям России? Если бы вы не встали с мечами, не одолели фашистского завоевателя, мы бы все были рабами! Я знаю! Я прочитал тьму книг о Гитлере, о его желании завоевать пространство на Востоке! Россия стояла на краю могилы! Страшно подумать, ─ я раб, кто чистит немецкие сапоги! Я раб, кто идет сгорбленно за плугом по родной земле, а следом идет господин и сыпет, сыпет на мои плечи, едва прикрытые лохмотьями, каленые удары бича! Я раб, который никогда не будет знать детства, любви матери, меня будут являть миру как скот! Во мне уничтожили бы великое чувство любви к России, то, что я человек! Почему-то нет ощущения, что это обостренно и до могилы понимают все живущие. То, что сделали вы, воины Руси! Разумом, отдаленно, возможно, кто и задумывается. Чувством, сердцем ─ полная пропасть. И мне печально!
Был праздник, вокруг играла музыка, и мы тоже решили помянуть воина русского Отечества! И было бы грешно не выпить солдатскую чарку за того, кто отвоевал для славян-руссов чистое созвездие жизни и вручил ее как дар по любви и красоте душевной от мудрого и благородного сердца! Вручил как вечную непреходящую ценность! Но сам не дожил, взлетел с поля сражения журавликом в поднебесье.
Мы купили в магазине водки, пристроились на скамье в городском парке Венева, подальше от люда, злой молвы. Но прежде выпили за Героя и за встречу.
Башкин спросил:
─ Тебе, Олеко, надо для газеты? Про Кремль? ─ так он меня называл.
Я отозвался серьезно:
─ Для истории, Александр Иванович! Полагаю, люди, кто будет жить в далеком времени, не без любопытства прочитают твое знаменитое путешествие в Кремль в гости к первому Президенту.
Он задумчиво посмотрел, как на ближнем здании бьются на ветру красные флаги:
─ Знаешь, сколько вернулось Героев на Тульскую землю, когда закончилась Великая Отечественная битва?
─ Двести шестнадцать!
─ В мае на прием к Президенту в Кремль поехало шесть Героев Советского Союза! 8 мая посетили Поклонную гору в Москве. Мемориал впечатляет; достойно увековечивает народный подвиг. Были в центральном зале с высоченным куполом, что уходит в синее небо и в загадочную вселенную. стены мраморные, где живописно, с особым мастерством и любовью, выгравированы великие битвы Великой Отечественной, высечены золотыми буквами имена Героев Советского Союза.
─ И твое имя имеется?
─ Как ему не быть?
─ Значит, ты уже в бессмертии, на тысячи и тысячи лет? ─ я произнес с любовью.
Но Александр Башкин снова не принял объяснение в любви. Он при каждом мгновении оставался великим ─ не величием, а скромностью.
─ В Большом театре смотрели оперу «Укрощение строптивой. Посетили Красную площадь, возложили цветы к памятнику маршалу Георгию Жукову, на могилу Неизвестного солдата. 9 мая, после военного парада, Героев собрали в банкетном зале Кремля, на пиршество, где были уже хлебосольно накрыты столы с богатым разнообразием вин и закусок. В застолье первый Президент России, предложил выпить за Победу и за победителя! Извинился, что не может долго общаться с несомненно великими воинами Руси, спешил в Волгоград, где свершилась беда.
На выходе его остановили седовласые воины, долго общались.
─ Ты тоже имел честь?
─ Пытался выстроить диалог.
─ И что? Как он при близком общении?
─ Мужик, как мужик, красив, скромен, человечен. Такое ощущение, за людей последнюю рубаху снимет.
─ С себя? Или с народа? ─ без улыбки спросил я.
Башкин отозвался мрачно:
─ С себя, Олеко!
Мы помолчали.
─ Считаешь, он правитель от разума?
На чело Героя легла черная туча:
─ Надо бы еще выпить по пять капель. Выпьем, и больше не будем про Ельцина. Хорошо?
─ Почему? ─ проявил я наивность.
Воин Руси произнес неожиданно, где слышалась горькая, потревоженная боль:
─ Иуда он, а не русский президент! Иуда без покаяния. Без прощения русского народа. Казалось, честно и преданно служил идее Октября! Взошел на вершину власти. Партия поверила ему; а он предал ее! И братьев по идее предал! Подло, гибельно! Ушел в демократы! Я не против реформ; и демократия не есть смертный грех! Жизнь крепка движением. Но он и демократов предал! Миллионы русского люда поверили в обновление жизни в России! И что в результате получилось? Какую Россию он выстроил для своего царствования? Россию воров! Россию господ! Россию рабов! Смотри, десять либералов своровали все богатство России! Народ со времен великого князя Владимира Мономаха, Красное Солнышко, со времен Ивана Грозного собирал богатство России, века и века собирал, а его взяли пришельцы без Отечества и по лжи, как прелютые разбойники, обворовали! Мыслимо? Все богатство, веками накопленною Русью, ушло задаром к чужакам без Отечества! И что награбленному народу осталось ─ бедность, слезы и страдание.
Я попытался возразить:
─ Разве он ограбил народ?
─ Он дал его ограбить, совершенно беззащитного! ─ настоял на своем воин Башкин. ─ Дал бы царь-государь, тот же Иван Грозный, Русь обворовать? Как там думали за народ, я не знаю, но жил народ, при пашне, при хлебном колосе, при хороводе! По чести крутилась жизнь! Теперь, что? Видишь царя-государя, кто посохом стучит по терему вора? Думает за Русь? Все зобы пришельцы забили русским золотом! И все мало! Все, дай!
Над Русью мечутся черные молнии, Олеко! Мне стыдно просыпаться утром. Больно! Стыдно и больно видеть эти толстенные, отъевшиеся рожи власти, только гнев и гнев тревожат воры-хитрецы черномырдины, чубайсы, абрамовичи, все остальные, кто воровски разбогател на народном горе! Мне больно видеть, как эти владыки жизни с довольством едут по улицам моей Руси, по-барски развалясь, в роскошном Мерседесе, а в это время по Русской земле голодными идут в школу мои дети! И мои старики, тоже нищие, ограбленные, тянутся скорбною журавлиною вереницею к помойным ящикам изыскать пропитание! Рабочие не получают зарплату! Русские женщины кончают жизнь самоубийством, ибо нечем кормить дитя! Спасибо еще, что дитя с собою в петлю не забирают, а ведь станут забирать, как еще жизнь развернется! Нормально все это? И что за дикая волчья стая примчалась на Русь, какая все это Зло и вершит! И где он, царь-государь? Куда смотрит? В рюмку смотрит! Чудеса! Не чувствуешь слез?
Каков лик Руси по жизни, ты знаешь! В самом имени ее слышится гордое таинство любви, красивая смиренная непорочность, верность и стыдливость от Бога. По таким святцам и жили русские мадонны! Каждую россиянку Виктор Васнецов рисовал, как царевну! По величию, по целомудрию, по красоте чувств, они и были царевны! И все несли в себе лик Богоматери, иконописную красоты!
Теперь, что? Распад всего и вся, какого еще не знала святая Русь! На ночных улицах России, как моя земная боль, как надруганная правда жизни, оскорбленною, мучительною россыпью ─ проститутки, проститутки, проститутки! Не больно мне? Не просит сердце слез? Недавно ехал на электричке из Новомосковска, мимо проходит пьяная девочка лет тринадцати, озорно, чувственно курит. Страдая, я посмотрел на расхристанную мученицу! И что она? Смутилась? Застеснялась? Издала лебединые клики любви и верности? Повинно и молитвенно поклонилась старику за сострадание? Подняла юбку, игриво спросила: «Что, дед, хочешь? Пятерку найдешь? Приходи в тамбур!»
Я перестал всему удивляться, Олеко! Вернее, устал! Дети не видят мяса, колбасы, масла! И идут на панель. За это я воевал? Мою матерь Человеческую постиг траур в сорок семь лет, умер муж, кого любила! Разобраться, молодая еще, как святая тоска! Сватались. Не пошла! Не изменила супругу. И после смерти! Ради детей жила. На том и стоит Русь! Скажи, эти Золушки, зачем приходят на землю? Для чего созданы природою? Не знаешь? Для красоты жизни, Олеко, для любви! Для семьи и ребенка, чуда земного! Но уходят в черную бездну! Кто пресыщенно оскорбил их любовь? Надругался над еще невинными душами? Не власть? Опять моя правда?
Он помолчал, как в трауре:
─ Теперь смотри дальше. Негодяи-пришельцы разграбили все богатства моего Отечества! Оказалось, мало! Мало ─ оказалось! Бесстыдная камарилья Виктора Черномырдина грабит уже моего внука! Берут огромные деньги в кредит у Международного валютного банка на нужды нищего люда, а они исчезают. Народу не достаются! Куда исчезают? Ясно, куда! В ненасытное пузо власти! Страшно сказать, разворовывают миллиарды долларов! И пируют-жируют, сволочи, на народном страдании! Проституток купают в шампанском, а счета за сволочные разгулы пришельцев с чужой земли станут оплачивать мои дети и внуки! То есть, Русь! Каково? Не безмерная мука? Строят из хрусталя терема, лунные парки, дома свидания, туалеты строят из русского золота! Покупают самолеты, яхты, а мои и дети в школе падают в голодные обмороки! Да еще в будущем будут оплачивать векселя владык! Каково? Пир во время чумы! Опять моя правда?
Помолчав, Башкин попросил:
─ Налей еще пять капель, страдает душа. Не принимает она такую глумливую Русь! И сволочность такую не принимает! Убей, не принимает!
Я тихо произнес печальную истину:
─ Каждый народ достоин своего правительства!
Подумав, Александр Башкин сказал:
─ Его нет, Олеко, русского народа. Вот какая печаль! Был, и исчез. Распалась духовная и душевная связь русских. Живем по отдельности, как чуждые миры во Вселенной. Или, проще, как льдинки в проруби. Стукаемся, соприкасаемся, а всем холодно. Каждый за себя! Не за Россию. Не за Россию, понимаешь? Как собраться в народ? Где и как найти соборную, объединяющую силу? Этим я болен, Олеко! Ты думаешь, я обыватель, и просто-препросто говорю за людскую боль, за русское страдание, нет, Олеко, воин России! Воин! Был им! И остаюсь!
Враг пришел на Русь, Олеко! И не просто пришел, а пришел уничтожить Русь! И страшнее, с кем я бился! Не зря я слышу в себе, как тянется рука к мечу! Мы уже на краю гибели, на краю пропасти! Такая моя правда, даже не правда, а такое предчувствие, такое пророчество!
Он встал, прогулялся по аллее, остановился у березы и долго, скорбно, смотрел в пространство.
Чего он увидел там, вдали? Я желал угадать, но не мог! Свою юность? Как пасутся голубые кони в ночном? Костры на берегу реки Мордвес? Или от боли за распад жизни на Руси, за распад, где гибель Отечества неизбежна, услышал в себе мятежность, увидел Куликово поле и русскую рать со щитом, мечом и копьем?
Но, скорее, увидел бесконечные пожары и битвы в Великую Отечественную; в мае, на праздник победы, если сильно болит душа, чаще видится, то суровое время! Несомненно, увидел Польшу, реку Нарев, плацдарм, где стояла непобежденная крепость Башкина. Время давно разметало ветром тот священный рубеж. И давно влились в небо, растворились в солнечном свете черные дымы пожарищ. И заросли бурьяном могильные глубокие воронки от бомб, которые рвали землю и защитников бастиона. Возможно, и окопов нет, запаханы плугом. Все теперь ушло. Но вот куда? Куда ушли те руссы, те герои? В наше Время? В нашу Память? Или все ушло в неизвестность? В безмолвие? И быль та тоже поросла бурьяном?
И кружат ли птицы в поднебесье над могильными курганами в Европе, которую он освобождал? Стенают ли тоскливыми голосами над смиренно и покорно лежащими в земле русскими воинами, поют ли величавую песню о жизни?
То Герою очень и очень важно знать!
Никто не хотел умирать. И те воины на реке Нарев тоже.
Но все ушли в Победу! В каждого, кто живет в 21 веке!
Мы, как?
Мы, живущие?
Мы ушли памятью в того воина, кто ушел в Победу?
Дико и страшно, если в душе безмолвие, запустение, безразличие!
Дико и страшно, но так и свершилось на Руси; чужеземцы во власти не чтят воина Руси, не чтят Победу!
Не чтят Сталина!
И на поле битвы Русскому воинству за храбрость, за любовь к Отечеству, совсем-совсем не бросают венки славы, венки боли и траура.
Чужая Русь, чужая!
III
Воин Александр Башкин вернулся на скамью. Было видно, душа его поостыла, но мятеж еще жил.
Пригубив водки, тихо уронил:
─ Знал бы, что сложится такая жизнь, не защищал бы ее с мечом и щитом!
─ Ты защищал Россию.
Воин согласился. Мы выпили еще. На этот раз помянули солдат России, кому не суждено было вернуться с поля сражения! Возблагодарили памятью, кого знали! И они ожили! Через нашу колдовскую память, загадочные мысли! И они стали жить Зажженными Звездами в современном мире! Пусть им снова суждено вернуться во Вселенную, пронестись в небе в прощальном росчерке гаснущею звездою, а там снова вернуться в свои Вечные Мавзолеи. Но воины с автоматом на груди воскресили себя на земле, повидали нас, а мы каждого. Через память.
Башкин задумчиво еще раз посмотрел на флаги, красно горящие на углу здания. Растревоженная боль не оттаивала.
─ Я воевал за Россию, да, ─ отозвался Башкин, ─ но не такую. На ратном побоище мы делились последним сухарем, последним патроном. И светлостью душ.
Общаясь в Кремле со своими одногодками, с воинами, я дивно и повелительно испытывал воскресение души, очищение ее от скорби и бесприютности, ее чудесное обновление. Во мне мятежно будились целительные силы, желание жить, видеть солнце, березки, раздольное поле с хлебно-кипучим колосом, опять тревожилось желание любить себя, каждого, кого встречаешь на улице, и даже звала к себе женщина.
Но едва возвращаюсь в жизнь, словно попадаю в другое временное измерение, враждебное мне и бессмысленное. И не хочется жить. Устал я, Олеко, устал видеть Россию, за которую бился, в диком, безысходном вихре, слезы женщин, боль ребенка! Посмотри, без революции, одна чужеземная нация присвоили себе все в России: газеты, телевидение, банки, нефть, газ! И даже суды!
Не отсюда ли бедность русского народа?
Придумали такую Конституцию, что русские совершенно отстранены от власти! От своего богатства! Правят одни Чужеземные Олигархи-Иудеи! И эти богатства перекачивают в свои карманы! Где правда? Где справедливость? Могу я все это принять, Олеко?
Он послушал, как шумит листва на березе:
─ Был бы народ, разве было бы так? Где вы, Минины и Пожарские, вот о чем хочется кричать!
Я молчал по сочувствию, не отзывался. Воины, кто прошел Великую Отечественную ─ особая каста! Они патриоты России, ее жертвенники! Им больнее всего видеть распад жизни! Герой из бессмертия бился за Россию, спасал ее от ворога! И Москву тоже!
Но нашествие на Русь опять свершилось! И пришел враг страшнее страшного! Пришел без меча, но разрушил Русь святую до седла! Хитростью взял, ложью!
И снова, снова Отечество сбилось с пути, попав в сильную метель, и его, как саваном, заметает снегом. Разве так хотел Александр Башкин? В то суровое время Русь тоже должна была исчезнуть! Но она выжила! Воин Башкин отстоял ее с мечом на ратном побоище; разметал соловьев-разбойников! Как Илья Муромец! Казалось, она теперь могла и дальше наполнять себя красотою и праздником и идти по земле в венце из ромашек и незабудок, победоносно и светоносно, под колокольный благовест, от храма к храму, от мудрости к мудрости, от богатства к богатству, а она оказалась на панели оскорбительного разврата, оскорбительного нищенства! Воин Башкин так не хочет! И больше спрашивает себя, чем меня: почему так ослабела Русь? Почему никто не взращивает русскую силу для битвы за свое достоинство, за свое Отечество?
И воин, живя в мятеже, в изумлении, неся в себе невыносимую боль и горечь, кричит душою, спрашивает во всю Вселенную: нужна ли Россия русским?
И русские нужны ли России?
Воин остро чувствует связь с Отечеством. Он вековечная плоть ее, ее воинство, ее правда, ее печаль и радость. И ни разу еще не забыл, что именно от предков, от древних славян-руссов он получил в наследство ─ русское крестьянское поле, заснеженные луга с бесконечными пространствами, лунные ночи, березовые рощи, чарующие танцы на берегу реки, сладостно-пахучие метели, таинство любви, красивую, податливую женщину, земные сокровища, всю Россию.
Богаты были его деды! И все завещали ему. С чистым сердцем, навеки. Грозы и ливни, идущий снег, радуги в небе, цветы и травы, умытые росою, пахнущие к вечеру особою свежестью, непостижимою свежестью его родины, завещали всю полноту мира, его красоту и благоденствие.
И именно это он защищал.
И защитил!
Ему нет причин стыдиться за свою Русь. Бесконечные смерти, которые он миновал, которые чувствовал близко, ощущал на самом острие исчезновения из жизни, постигая правду гибели, ее горестную скорбность, оказались ему дороже красот мира! Эти смерти, их близость, их подступающая могильно-гробовая тьма свершили целительное преображение в его сердце, он стал еще сильнее, ревнивее любить и жизнь, и свою землю, и Русь; любить до горьких и сладостных слез, до мучительной радости!
Может ли он отдать все это пришельцам с чужой земли?
Но себя чувствовать на Руси чужеземцем!
Он никогда не примирится с Русью Ельцина!
Воин сильно-пресильно ощущает себя гражданином русского Отечества! И то от естества, от сердца. Жизнь ему досталась ─ одно страдание! Он пережил на войне, в плену страшную трагедию духа. Но остался человеком! Стал воином России! Стал героем из былины, как Геракл!
Александр Башкин то измерение, когда в одном человеке живет сила и величие русского народа!
Александр Башкин то измерение, когда в одном человеке
живет великая Русь!
НА РОДИНЕ ГЕРОЯ
I
Неизмеримо, неисцелимо устав от битв, от страдания, от скорби, быстро и стыдливо-незаметно сошел с земли двадцатый век.
человеческая обреченность,
и,конце концов, Россия оказалась на краю гибели. Но боги Руси не дали чужеземцам поднять Русь на мечи!
раскинув бесчисленные костры Джордано Бруно по земле Руси
Унося пиршество боли,
Ушел в историю.
В человеческую печаль и память.
Мы на родине Героя ─ в деревне Пряхине!
Деревня как деревня. Стоит на взгорке, у реки. Вокруг простираются поля с зеленым половодьем зреющей пшеницы, травостойные луга с медовыми запахами клевера, березовые рощи, густые леса. Избы под тесом стоят в две улицы, разделенные рекою-голубицею. Над всем густится вечная, древняя, загадочная тишина. Не слышно даже лая собак. Стоишь на взгорке, всматриваешься в деревню с избами, жердяными изгородями и огородами, с полынною околицею, и будится в душе ощущение ее сиротливости, заброшенности, безрадостного одиночества. Во всем видишь земное, человеческое отречение.
Дом Башкина ничем особым не разнится. Высится на берегу реки, на самом перекрестье дорог. Крыша тесовая, островерхая, сама изба ─ загляденье, лес по стенам обтесан тщательно, бревнышко к бревнышку, видно, что ставили ее мастеровые и с любовью. И для красоты жизни, и для уюта. Изба просторная, разведена на комнаты, с высоким потолком, светлая. В горнице раскидистая печь, прикрытая прокопченною заслонкою, полка для посуды. В углу ее божница с иконою святой Богоматери. В потолке крюк для лубяной зыбки. В жилище просторно. Пахнет топленым молоком, свежеиспеченным хлебом. В доме давно не живут, но колдовские, деревенские запахи все еще не выветрились, целительно и требовательно излечивают грусть-тоску, чувство одиночества, неумолимую сиротливость на земле.
Из окошек видны речка, яблоневый сад, он густо зарос малинником, крапивою, дикою коноплею; деревенская улица и пыльная заезженная дорога, какая уходит в небо. Под горою течет речка, где певуче плещутся гуси. Здесь и жили его дед Василий Трофимович, бабушка Арина, его отец Иван, мать, братья и сестры. И сам Герой.
Александр Башкин на все взирает смиренно, без волнения, но с особою задумчивостью. Мне же все драгоценно. И лубочная картина с лебедями на стене, и скрипучие половицы, не раз
истоптанные, пошарканные, и малинник в саду, и по-человечески одинокая, печальная яблоня с гордою завязью плодов, и осиротевшее, неочищенное лошадиное стойло, и тропки у дома к реке и к ветлам. Здесь бегало его детство, куда оно ушло, куда скрылось? В чье сердце переместилось?
В мальчике жила первобытно-языческая любовь ко всему живому. Он мог увидеть таинство в облаке, в тени цветка, в соломинке, гонимою ветром, в птице, какая стремится ввысь. Забирался на ветлы, но гнезда не разорял. Спас от гибели вороненка, что выпал по баловству, по любопытству из зеленого жилища. Учился хорошо, тяжелодумством не страдал. С семи лет пахал на Бубенчике землю, ходил с кнутом через плечо пасти коровье стадо, водил коней в ночное. И не раз стоял отроком у реки, думая о жизни, о далеком предке, о Руси.
О, юность! Как хорошо и дивно пробежаться по крутым тропам твоим! Возьми в полон, в сладкое рабство, напои любовью те дни, и счастливые и скорбные.
─ Ну что, Олеко, увидел мое детство? ─ тихо спросил Башкин и невольно смахнул слезу.
─ Увидел и благословенно, по Христу, прочувствовал!
─ И крестьянские поля видел?
─ Видел и пашни, украшение и величие земли!
─ Я собирался стать пахарем, но стал воином! Я не думал, что вернусь живым с поля битвы. Вернувшись, не думал, что проживу больше, чем пять лет! Я вернулся с пожарищем в сердце! И ждал, когда лютые, сумасшедшие костры отгорят, распадутся на уголья и пепел! И можно будет пусть мгновение пожить на Руси по покою. Тогда и умирать было бы сладко! Но лютые костры Джордано Бруно все горят и горят во мне, а пиршество боли, пиршество слез за жизнь, за Отечество совершенно не исчезают. И, как видишь, живу, ибо боги Руси, похоже, не желают, дабы я взлетел одиноким журавлем в небо, в свою вечность!
Я проявил наивность:
─ Почему не желают?
─ Считают, мало помучился на земле. Не выбрал свое.
Я не согласился:
─ Ты прошел все девять кругов ада по Данте! Куда еще больше? Всем, кто жил и ушел, Мефистофель дарует только один круг ада! Только один!
Воин подумал:
─ Было такое, было! Но я не о том! И не будем о том! Во мне живут более светлые чувства! Я знал, я верил, если погибну, не доживу до Победы, то непременно, непременно явлюсь на Русь ─ хлебным колосом, березкою или ромашкою, дабы посмотреть, что стало с Отечеством! Но я вернулся живым, Олеко! Понимаешь? Вернулся не облаком, не грозою, не снегом, идущим над родною деревнею, над пашнями, а человеком! Странно! Во мне такое ощущение, ─ будто я, не есть я! Будто живу и не живу! Живу случайным и одиноким ветром за стогом сена и не разберу, каким образом все вижу наяву!
Опуститься мыслями в колдовское таинство его души, услышать в себе то, что слышит он, воин России, кому выпала завидная и праведная доля встать с мечом за русское Отечество и вернуться живым с поля сражения, мне было не совсем под силу. Я понимал Александра Башкина, как Христос Человечество, как Сократ загадочное бытие, я проник в его психологию, в его характер, в его печаль и радость, ─ но чувствовать смерть сына может только матерь Человеческая! Я могу только сострадать!
Все живут и умирают в одиночку!
Конечно, Александр Башкин мог бы тысячи и тысячи раз погибнуть в Великую Отечественную. Куда бы ушла его жизнь? В какие таинства вечности, глубины Вселенной? Ведь это страшно несправедливо умирать молодым, когда можешь быть на земле еще долго-долго и даже дожить до восьмидесяти лет! Сколько же не дожило воинов Руси! Ушли с земли в загадку! Совсем молодыми! Могли бы жить и жить! Куда делось то Земное Время, какое им было отпущено?
В какое таинство?
Или боги неба, заранее знали, сколько им жить?
Куда не повернись, всюду растревожишь в себе одну загадку, загадку!
II
Время шло, и мы решили на прощание навестить на околице Мордвеса кладбище, где покоилась его матерь Человеческая, Мария Михайловна.
Я попрощался с домом Александра Башкина, поклонился ему. Сам дом опустел, он полный сирота! Все, кто жил в нем, умерли, сошли на погост, в свои могилы, вечные жилища. Человеческая жизнь в его святилище детства прекратилась. Сам воин Герой живет в Мордвесе. Окна, правда, досками крест-накрест не забиты, но дверь на замке. Так и возвышается он на крутом берегу реки заблудшим и одиноким странником, что остановился погрустить-погоревать у реки, под синим небом!
Хочется верить, со временем на доме вывесят мемориал: «Здесь родился и жил Герой Советского Союза Александр Иванович Башкин, гордость земли Русской».
Мы спустились с косогора, перешли по бревенчатому мосту через реку Мордвес, в свое время полноводную, а теперь обмелевшую, заиленную. И оказались по другую сторону деревни. Башкин задумчиво остановился около красивого, уютного дома. Похоже, тоже одинокого! Вокруг жизнь остановилась, замерла, как в последний день Помпеи. Разваленный амбар, брошенное колесо от телеги, разбросанные кирпичи от печки, и все приютилось в густом бурьяне, в котором ласково и беззаботно пела себе в радость неунывающая овсянка.
─ Дом жены Капитолины, ─ тихо пояснил Башкин. ─ Его я часто видел перед атакою. И в землянке. Во сне. И, конечно, с принцессою в тереме.
Я невольно залюбовался им. Он ожил в таинстве, ─ как святилище любви! Как завязь земного целомудрия! Как девичья верность! И как загадка чувств! Я огляделся. Вдали тянулись поля с хлебным зеленым разливом. По небу тихо плыли облака. У дома-терема шла дорога на Мордвес. Вековые глубокие колеи ее густо заросли травою. Под вязами, в прохладной тени, высился деревянный колодец, с высоким журавлем и бадьею на цепи. Далее ниспадал скат к реке. Сюда его россиянка-принцесса ходила за водою, полоскать белье, безвинно, неосмысленно поднимая платье, обнажая белые девичьи красивые ноги. Он видел ее. Из избы своего окна. И влюбился. На всю жизнь. Я заглянул в глаза Героя, там горело пиршество дивного света.
Несомненно, несомненно, воин выстрадал свою любовь. Он через всю юность нес в себе чистое, молодецкое, чтя целомудрие жизни, ее дивность и красоту, верность женщине и Отечеству.
Соединились Две Девственности!
Почему любовь и обрела сказание вечное, бессмертное.
ПРИЗНАНИЕ ДЕВОЧКИ КАПИТОЛИНЫ теперь жены Героя
Я не раз видела Александра Башкина на вечерке у реки Мордвес, где играл гармонь и шли удалые пляски, он смотрелся смиренно, дивно. И мне нравился. Но за любовь я совсем не думала. Я дружила с его сестрою Аннушкою, и мы вместе провожали его в армию, а платок ему я уже вышивала сама, отдельно. Как воину! Со временем, невольно, возникло чувство, но чувство душевное, родственное.
В войну я училась в школе и работала на почте. Я первою узнала страшную правду о гибели моего отца Михаила Осиповича, получив похоронку. Он пал смертью героя в битве под Курском в 1943 году. Я шла по деревне и плакала, плакала, никого не стесняясь! В то время горе не скрывали! Я смотрела на небо, тянула руки, слезно просила: «Звезды, милые, возьмите меня к себе, я не хочу больше жить на земле!» Потом мы плакали вместе с мамою, ее зовут Евдокия Ивановна; плакали, обнявшись, бесконечно растревоженные одною тоскою, одним горем. Как это страшно потерять любимого человека! Мама не верила, что ее любимый погиб. И все ждала его, ждала, как Ярославна князя Игоря, присеву окна, до боли в сердце, всматриваясь вдаль.
Но он не вернулся!
На Руси шла битва!
Любимые остаются в земном Мавзолее!
Смерть отца преследовала болью постоянно, я мучила себя жалостью. Часто плакала. Как это тяжело всю жизнь носить в сердце траур!
Едва Александр Иванович вернулся с фронта, и я увидела его, во мне все встрепенулось. Я разбудилась, как спящая царевна! Мир траура отступил! Он стал для меня не только любимым человеком, он стал моим спасением от тоски и горя, моею целительною памятью об отце. Что осталось от Михаила Осиповича? Только портрет в горнице. Он смотрит, чуть прищурившись, с ласкою и добротою на мир.
И на меня.
Он смотрит, а его нет!
Он еще не знает, что его больше нет на земле. И смотрит. А я знаю, что он погиб. И он все же смотрит. Страшно все это. Можно сойти с ума. Неужели он был на земле? Если был, то где он? Убит? Кто же убийца?
Александр Иванович воплотил в себе быль моего отца. Мы стали одним сердцем, одним дыханием.
Такую исповедь я выслушал лично от Капиталины Михайловны, И нашел, Любовь Герою досталась на земле воистину благодарением за его скорбные земные скитания и за его битву за Русь, великую, православную.
ПОСЛЕДНЕЕ ПРОЩАНИЕ С МАТЕРЬЮ
Мы на кладбище. Жаркий летний день угасал, заливая таинственную землю лучами закатного солнца. Кладбище истинно русское, ровные ходы от ограды к ограде отсутствуют, полная скученность могил, хаотичность. Но в хаотичности чувствуешь необычную прелесть, невыразимую уютность; такая обратная связь может приятно возникнуть только в русском сердце.
На вечном прибежище возникает скорбная сиротливость, странная тревожность, душевная неуютность. Над травою и цветами, над могилами, вьются белые бабочки, сытно кружит над цветком иван-да-марья шмель. Ветер тихо и грустно раскачивает у изножья траурных холмов синие колокольчики. Едва перекликаются кузнечики, словно осмысливают, что величают себя на погосте, и надо блюсти траур. Совсем неожиданно выпорхнула из кустов неизвестная птица, как из глубин земли, ошалело вознеслась ввысь и белым привидением полетела меж деревьев в сторону деревни. От ее вознесения, небесного полета на сердце еще сильнее разбудилась скорбная тоска, неуютность, горестная тревожность.
Всматриваясь в вечную обитель, в могилы с саркофагами, где смиренно и покорно лежат земляне, отжив свое земное время на земле, невольно думаешь: зачем же вы были, милые, зачем? Пробежала жизнь с печалями и радостями и ушла в покои, в тишину, вечную уединенность. И уже никогда-никогда не вернетесь на землю. Жизнь будет еще катить миллионы и миллионы лет с карнавалами и хороводами, бессмысленным весельем и серьезным взиранием на мир, с любовью и разлуками, с поцелуями и ненавистью, с яблоневыми садами, лунными ночами, с грозами и идущим снегом, с вином и летящими тройками, а вам лежать и лежать. И даже краешком глаза во веки вечные, пока крутится земля во Вселенной, не увидите больше луча солнца, не подержите в руке ветку черемухи.
Ласковую, отзывчивую руку любимой.
Никогда. Никогда!
Странно и страшно.
Как же остро чувствуешь на кладбище истину: «Все проходит!».
Мы долго стоим под березами, у могилы матери Героя. Лицо Башкина каменно непроницаемое, губы плотно сжаты. Он углублен в себя. О чем думает? Сказать затруднительно. Скорее всего, за свою земную сиротливость. Он похоронил и братьев, и сестер, и сына Михаила, осталась одна Аннушка в Ярославле.
Но больше всего он скорбит о матери. Для каждого матерь Человеческая ─ святое существо! Но любовь Башкина к Марии Михайловне, которую он пронес через всю жизнь, необъяснимо велика. Сильна и велика! Это от правды. И еще раз от правды. Я еще не видел такую любовь к матери. И не могу себе объяснить, откуда она взялась, где и в чем ее завязь? И почему? Почему с такою силою возникла?
То была любовь-загадка!
Я пытался ее разгадать. И считал, такая любовь может возникнуть, ибо он ─ сын земли, сын крестьянки, исступленно чувствует природу, ее красоту, ее ликующее величие, ее целомудрие и дивную первозданность, отсюда чистота и светлость его души! Отсюда и непостижимо долгая, необъяснимо нежная любовь к матери! Возможно, постоянно неся крест на Голгофу, ожидая распятья, постоянно находясь на битве между жизнью и смертью, он сумел постичь для себя загадку жизни и загадку смерти, таинство разлуки с землею, и сумел, как никто оценить по достоинству дивность жизни, своего прихода в мир? Но, где исток его прихода? В ком и в чем? В матери!
Как ее можно не любить?
Воин Руси очень велик душою, мыслями! Но сам в себе. Без колокольного звона.
Но со временем мне открылась ─ истинная, превеликая разгадка-правда его любви к матери? Александр Башкин мог совсем не родиться! Совсем-совсем не явиться в мир и пролететь таинственным привидением мимо земли, раствориться синим светом там, где величает себя звездная Вселенная! Дело в том, что мать, чувствуя в себе его плоть, вынашивая его, сильно, гибельно заболела. И деревенские знахарки ей сказали: рожать тебе нельзя, Михайловна, можешь умереть.
Когда пришел срок, пришел и выбор чести! Матерь слабо улыбнулась, произнесла: «Буду рожать. Какая печаль, что я умру. Зато дам жизнь человеку!» Роды были трудные, затяжные. Мария Михайловна приняла немыслимые муки, но сына Александра миру явила. Властная и гордая, необычно сильная духом, женщина неожиданно выжила и сама, только опять же долго болела, но однорукая бабушка Арина выходила ее.
Мать и сын вместе знали эту земную быль! Почему она и отдавала ему большую любовь своего сердца; сильнее каждого любила, значит, и сильнее страдала, видя и осуждая его непутевость, необузданную стихийность. И даже в горе, не совладав с чувством, отреклась от сына. Но в себе, сердце своем, его носила всю жизнь. И, скорее всего, живет с Александром и там, где успокоение и бессмертие.
Мария Михайловна явила миру одиннадцать детей. Без любви к родственной плоти, к человеку такой подвиг невозможен. В то время жизнь была тяжелая, голодная; на земле свирепствовал хаос. Не было никакого уюта и лада в душе человека. Никто не знал, куда несется тройка-Русь? Но матерь Человеческая праздновала и праздновала новые жизни! Не все дожили до зрелости, полюбовались жизнью, через сердце пропустили любовь к женщине и правду земли! Есть, кто еще детьми сошли в маленькие, скорбные саркофаги.
Как говорится, кому как выпало!
Кому как осветила мир семилучевая звезда!
Сама святая Мария покинула мир в возрасте 86 лет, живя в Москве у дочери. Александр Иванович, когда пришла на его имя горькая телеграмма о смерти, настоял, дабы ее похоронили на погосте, где похоронены Башкины, на окраине Мордвеса. И сам поехал в Москву за матерью, привез ее домик, в нимбе траура, на автобусе. И прощание устроил, как надо, по чести, как велено на Руси.
Могилка ее ухожена. Сын приходит к холмику скорби часто, не ждет поминального родительского дня, приходит по зову души. Возможно, по ее зову! Они неразлучны! На все времена соединились сердцем! И живут вместе, пусть сын еще на земле, а матерь в вечности. Сын Александр, как в жизни, как рядом, слышит голос матери. И видит ее, какою она была, когда вернулся с фронта. Там, на войне, он перестал понимать гибель, чувствовать ее роковую неизбежность, ее властность. И только со смертью матери он понял, она существует! И он с матерью часто и близко разговаривает, разрушая, силою воли, силою любви, все расстояния, Время, земное и небесное, само бессмертие.
Матерь Человеческая не умерла для сына!
Губы его и теперь скорбно шепчут: мама, мама! Взглянула бы, мир вокруг таинственен, величав и бессмертен, а тебя нет, ты исчезла. Исчезло то, без чего жизнь ─ уже не полная жизнь.
Облака живут вечно.
Трава живет вечно!
Но человек умирает. Зачем?
Я смотрю на Башкина, он плачет. Я наливаю стакан самогонки, подношу:
─ Помянем святую Марию!
Он потер грудь, там, где сердце:
─ Больно, больно! Тоскующий крик зверя рвется из груди. И совсем замучили слезы. Прощай, моя радость, моя боль. Земля тебе пухом!
Он выпивает.
Я выпиваю тоже. И тоже, как он, разбрызгиваю брызги над могилою. Мне как раз вспоминается траурное стихотворение поэта-фронтовика Михаила Львова о матери:
Это страшно. Ты в землю ушла навсегда,
Ни дожди, ни рассветы тебя не касаются больше.
Далеко загорается в небе звезда,
Далеко до могилы твоей. Сознавать это больно.
Навсегда, навсегда, на века, на века
Безвозвратно в планету уходят любимые люди.
Снова ночь на глаза мои тьму навела.
И закрыла весь мир, и в душе одиночество будит.
Александр Иванович знает его. И, не пряча, не стесняясь, слез, читает тоже:
И ничем я тебе не сумею помочь.
Если даже я в землю уйду за тобой добровольно.
Только тьма над землей. Только ночь. Только ночь.
Только вечная ночь! Сознавать это жутко и больно.
Помолчав в трауре, я спросил:
─ Скажи, боишься умереть?
─ Боюсь. Мне страшно умирать, зная, что у России разрушено бессмертие. Хочу увидеть светлость! Я, Олеко, воевал за Россию. И пахал за Россию! Выходит, все зря? И жил зря? Без смысла? Зачем же я был на земле? В своем времени? Для чего? Птица в небе ─ смысл! Зверь в лесу ─ смысл! Я на земле, где смысл? В чем он будет? Что я без Отечества? Я ее правда, ее боль, ее печаль, ее радость. И ее воин! Теперь, оказывается, никто. Жил! И не жил! Сиротливо мне на земле, да. Но и в бессмертии будет еще сиротливее. Осмысливаешь мою печаль?
Мне оставалось вселить веру:
─ Поднимемся, Александр Иванович. Мы есть руссы с бессмертным именем! В тебе живет великий смысл ─ты спас Россию! Как Александр Невский,
Дмитрий Донской,
Минин и Пожарский,
как Александр Башкин и русское воинство! Спасли в самом страшном, двадцатом веке!
Что делать? Так руссу выпало! История Руси есть история страдания и битв. Все века живем в тревоге, ратном напряжении. То в падении, то в воскресении! Духовные силы не истощились. Они есть, они неисчерпаемы. И пока затаились в глубине человеческого сердца, ждут крепости, мудрости и зова к топору, к справедливости! Ты прав, русского народа в крепости, в соборности не существует! Русские люди живу отдельно, сами в себе, чуждыми звездными мирами! И не мудрено! Слишком много легло в братские могильные курганы! Гражданская битва, голод, Великая Отечественная! В сложности легло в Мавзолеи пятьдесят миллионов! Если взять семью русса, где пять чад, пять Солнц не предел, то получается, за век мы потеряли целую Русь! И погибали в битве, в бунте лучшие, лучшие!
Сколько надо восполняться?
Жила бы Русь, а народ воскреснет! И в душе народа мечутся печали Стеньки Разина, копится и зреет сила! Я сам слышал, как в народе говорили: Попили кровушки на Руси пришельцы-Иуды, и еще попьют!
Да, народ терпит насилие завоевателя, но он слышит себя, слышит жизнь, ее боль, ее глумление над душою Русскою! Он не отдаст пришельцу свою правду, свою справедливость, чем жили вы, чем жили руссы при великом князе Владимире Красное Солнышко, при Минине и Пожарском!
Русь жива!
И будет жить!
И будет жить, ибо вы спас ее!
Ты и русское воинство!
Спасли, как герои из былины!
Какой еще нужен тебе смысл? Ты есть святая история Руси, ее воин, ее правда, ее бессмертие. Вы неотсоединимы! Как мать и сын, ибо у вас одно сердце! Так что, оставь свои печали!
Время шло к ночи, на кладбище быть стало просто страшно, за каждым кустом появились загадочные свечения, и я по трауру произнес:
─ Остается выпить на посошок!
Воин Руст взял стакан и лукаво спросил:
─ За Минина и Пожарского?
Я отозвался в лад:
─ Несомненно, за Минина и Пожарского! И за русское соборное Воскресение!
Едва мы вышли из ворот кладбища, как мимо по лугу бешеною пленительною рысью пронесся табун лошадей, земля гнулась и гудела от громового топота. Его гнали мальчики, важно восседая на вороном коне, хлестко прищелкивая кнутами, по-разбойничьи подсвистывая, гнали в ночное за реку Мордвес. Как раз сгустились сумерки, ярче засверкали небесные звезды, и получалось, что по Руси неслись-мчались голубые кони.
Александр Башкин невольно остановился, залюбовался.
Не его ли кони?
Не из ли юности?
Он и сам не меньше, чем его ратники, осознавал, не его это дело, не артиллерийское. Больше того, он совершал военное преступление. Нельзя в бою летчику оставлять самолет, танкисту танк, моряку корабль и по своей воле, по стихийному желанию идти с пехотою в атаку. Нельзя оставлять орудие, рисковать боевым расчетом! Узнай о его прегрешении новый командир батареи капитан Иван Федорович Помоталкин, мог бы и расстрелять сгоряча. И расстрелял бы, окажись рядом. Но и пехоту он не мог бросить. Не мог обречь ее на бессмысленную смерть. Не ему, так Зарембе брать амбразуру штурмом. Никто не выживет. Он, получается, станет их убийцею. Позволит так совесть? Не позволит. Изменишь ей, проявишь силу, будет потом мучить всю жизнь. И всю жизнь будут сниться ребята, погибшие по его вине.
Есть на Руси песня, написанная еще в добрые незабвенные времена: «Два берега». Александр Иванович несказанно любит ее. По его мнению, она несет в себе великую печаль, великую радость и бессмертное чувство любви. Больше всего нравятся вот эти лунно-снежные строки: Мы с тобой два берега у одной реки.
Два берега для Башкина не поэтический, не песенный символ, а как раз самая-самая правда жизни. Два берега ─ это он и его милая, симпатичная супруга Капитолина Михайловна.
VI
И напоминал по силе с копьем Пересвета
Но время брало свое. Все больше слабело сердце, не подчинялось тело, наломанное в битвах, выстуженное в окопах и ледяных реках, избитое, извороченное шомполами в плену. Двигаться приходилось с усилием, каждое движение отзывалось немыслимой болью. Сильно страдали раненые ноги, расхаживать их становилось все труднее. Не помогало уже и нерастраченное мужество. Никто не знал, что он сильно болен, ходил по краю могилы. И однажды сердце не выдержало, остановилось. Прямо из райкома партии его отвезли на «скорой помощи» в больницу. Откачали, вернули к жизни. Он долго и тяжело болел. Врачи ВТЭКА признают его инвалидом второй группы. В пятьдесят три года!
!!!За расхристанность, за то, что идешь против военного закона. Кто он, этот беглец? Не шпион ли генерала СС Вальтера Шелленберга? Воевал! И что? И в то время мог быть шпионом генерала СС Шелленберга! Все печальники рвутся до дому, на вольное, сладкое житие, где не стреляют, не убивают, а он рвется в армию! Хорошо, если с чувством героя, а если с чувством шпиона Третьего Рейха?
Александр Башкин смирил свои мрачные раздумья, какие пронеслись проклятьем в мгновение ока; как не суди, а чекисты из Тулы все еще держат его на распятье, на Голгофе!
Что, стал Героем Советского Союза, и пришло помилование?
Еще и кандалы могут быть!
И клетка Емельяна Пугачева!
И Соловки!
Но мог ли Александр Башкин смириться с жалкою долею старца? Он ничуть не изменился, каким был на фронте, таким и остался. Непокорным перед бедами, не покоренным ими. Он вступает в битву за себя со своими недугами. И побеждает. Трудится в разное время освобожденным секретарем партийной организации колхоза «Коммунар», инструктором Мордвесского райкома КПСС, заместителем директора совхоза «Веневский»; неоднократно избирается членом Мордвесского райкома КПСС, депутатом Мордвесского районного Совета депутатов трудящихся.
Поражает невообразимая живучесть Героя Советского Союза. Он не раз признавался, что больше пяти лет после фронта не проживет. Здравствует уже 80 лет! Он перенес несколько инфарктов, но живет полноценною жизнью. Ни на мгновение не .ощущая ни старости, ни ослабевшего сердца, ни боли ран. Он чувствует жизнь как праздник. И все еще воспринимает первозданность голубого неба, танцующие березы на берегу реки Мордвес, запах клевера и скошенного хлеба и в душевной человеческой радости саму Русь.
Благодарность Героя
Выражаю глубокую благодарность за оказание государственно-финансовой поддержки для издания документально-эпического романа «Прощание славянки»:
Тульской областной администрации в лице губернатора СТАРОДУБЦЕВА Василия Александровича, ХАРИТОНОВУ Сергею Алексеевичу, главному федеральному инспектору по Тульской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в центральном федеральном округе.
Пока жива память о воинах Великой Отечественной – России быть. И год от года, век от века прибавляться в красоте, культуре, мудрости и богатстве.
Александр БАШКИН,
Герой Советского Союза.




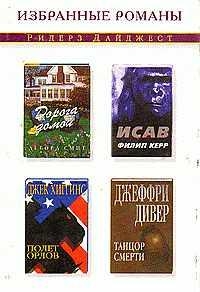
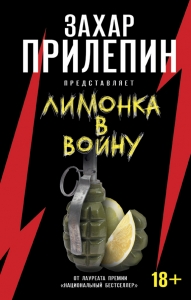




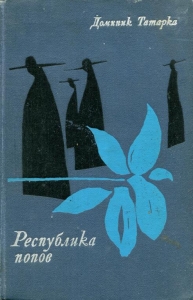
Комментарии к книге «Прощание славянки. Книга 2», Олег Павлович Свешников
Всего 0 комментариев