Виктор Васильевич Смирнов Игорь Яковлевич Болгарин Обратной дороги нет Повесть
День первый ЧЕЛОВЕК ИЗ БОЛОТА
Он бежал и бежал, хватая руками стволы низкорослых деревьев, кустарник, падая, давясь кашлем и снова вставая, бежал всё дальше и дальше в глубь спасительного леса.
Ноги и руки безостановочно работали, лёгкие со свистом и хрипом вбирали воздух, а голова его была заполнена одним лишь видением, одной картиной, которая повторялась назойливо, безостановочно, как музыкальная фраза в испорченной грампластинке.
Он видел длинные серые бараки и бетонные шестиугольные плиты на плацу, видел шеренгу мокрых, съёжившихся под дождём людей в гимнастёрках, фланельках и ватниках, видел насторожённые злые глаза овчарок, сидевших у ног солдат-проводников, и фигуру высокого офицера в длинной шинели, который шёл вдоль шеренги, вглядываясь в лица.
И слышал слова: «Erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter!.. Fünfter, vortreten!.. Fünfter, vortreten!.. Fünfter!.. Fünfter!..»[1]
И в длинной шеренге людей каждый пятый, склонив голову и не глядя на товарищей, делал шаг вперёд.
1
Было тихо, как бывает в Полесье только в конце октября, когда серое тяжёлое небо никнет к земле, когда смолкают оставшиеся хозяйничать в лесу сойки и синицы и слышен лишь комариный капельный звон, который, едва привыкнет ухо, воспринимается как самая глубокая тишина.
Лес словно бы вымер. Но внимательный глаз, осматривающий чахлый березнячок, который спускался к болоту и переходил в осиновое редколесье, различил бы на пригорке небольшой песчаный бруствер, над которым торчал, как палка, дырчатый кожух немецкого пулемёта: чёрный дульный зрачок высматривал что-то в низине. За бруствером виднелись трое разношерстно одетых, промокших людей, прижавшихся друг к другу, словно птенцы в гнезде.
Человек, сидевший у самого пулемёта, был старшим в группе, и это чувствовалось сразу по тому хотя бы, как он хмурил густые, сцепившиеся у переносицы брови или, оглядывая товарищей, тяжело и властно поворачивал голову, сидевшую в плечах, обтянутых облезшей кожаной курткой, плотно, как ядро в крепостной стене. Лицо у него было скуластое, простое, но с той значительностью, которая приобретается определённым начальственным опытом.
По правую руку пулемётчика сидел узкоглазый старик, с бородкой, тощей, как стёртый веник. В брезентовом дождевике с капюшоном, неторопливый, даже задумчивый, он походил на сторожа или пасечника, а это, как известно, большие философы и миролюбцы; вот только винтовка с оптическим прицелом, лежавшая рядом со стариком, разрушала идиллическую цельность образа.
Третьим был подросток, щуплый представитель того многочисленного партизанского поколения, которое разом, минуя юность, шагнуло из детства в трудный взрослый мир и, не научившись ещё задумываться ни о прошлом, ни о будущем, не тяготясь семейными заботами, воевало отчаянно, без оглядки.
— Скоро сменяться-то? — спросил подросток у старшого. — В ушах хлюпает!
Пулемётчик невозмутимо рассматривал в бинокль болотце.
— Каши горячей я бы съел… — продолжал подросток.
Старик достал из-под дождевика ржаную краюху:
— Пожуй!
— А ну тихо! — приказал старшой.
Он углядел на той стороне болота, на пригорочке, двух фашистских солдат в егерских куртках с изображением эдельвейсов на рукавах. Их кепи то и дело обращались друг к другу: немцы болтали. А правее…
— Погляди, Андреев. — Пулемётчик протянул старику бинокль: — Вот, под ольхой…
— Два егерька фрицевых, — сказал зоркоглазый Андреев, отстраняя бинокль. — Мы их сторожим, а они нас.
— А теперь правее, где осинничек…
И старшой вновь поднёс к глазам бинокль. Неподалёку от егерей, где зыбкое болото, поросшее острым резаком, уходило под обманчиво плотный мшистый ковёр с буграми кочек, зашевелилась высокая трава. Всё застыло под тихим дождём, но трава шевелилась.
— Не иначе опять тропу щупают, — прошептал Андреев.
К болоту выполз человек.
Он был в рваном ватнике и таких же рваных штанах-галифе, босой, с обритой головой на тонкой шее. Человек приподнялся, заметил неподалёку егерей и приник к земле.
Распластавшись на мшанике, который хоть и подавался под тяжестью тела, но всё же удерживал его, человек осторожно пополз в сторону партизан.
— Точно, ищет, — сказал пулемётчик и успокоенно вздохнул. — Третий за неделю… Скоро заверещит.
Андреев не ответил. Он подался вперёд, выставив бородку, и пристально наблюдал за болотом.
— Во! — сказал оживившийся подросток, заметив, что рука ползущего проткнула тонкий мшаный настил и ушла в болото.
Но человек, испуганно выдернув руку, продолжал ползти по мшанику. Он утопал в податливом, зыбучем полотне, как в перине. Изредка, когда фонтанчики тёмной воды пробивались на поверхность, он замирал, а затем снова полз.
— Настырный фашист, — заметил подросток.
— Это не фашисты тропу ищут, Назар! — солидно пояснил пулемётчик. — Это они полицаев посылают. Им чего остаётся, полицаям-предателям?
— Германцы себя жалеют, точно, — отозвался Андреев. — Экономисты, бухгалтера! Это у нас дебет с кредитом не сходится… Верно, Гонта?
— Разговорчики брось, дедок! — Пулемётчик указал глазами на подростка.
— Дай-ка я ему врежу из снайперской, — предложил Андрееву подросток по имени Назар. — Не пожалей, дед! — И шмыгнул носом.
— Стрелять не велено, пока Ванченко не вернётся, — буркнул Гонта. — Стихни.
Человек дополз до края мшаника, где начиналась открытая вода, и поднял голову. Лицо его, заросшее щетиной, покрытое грязью, было узко и темно, как старинный иконный лик. Только глаза светились в глубоких впадинах.
Он посмотрел в сторону егерей и, зачерпнув тёмной гнилой воды, поднёс пригоршню ко рту, напился.
— Сдаётся, не полицай это… и не фашист, — сказал Андреев и ещё дальше выдвинул над бруствером свою тощую бородку. — Те кормленые. Те давно провалились бы в болото.
Человек осторожно сполз с мшаника в воду. Тёмная вода охватила его по грудь.
Он сделал первый шаг и тут же глубоко ушёл в жижу. Рванувшись в сторону, он продвинулся немного, с трудом преодолевая сопротивление вязкого болота.
— Щупает, — сказал Гонта. — Далась им эта тропа!
Человек оступился. Болото тут же схватило его за плечи.
Он выбросил руки, стараясь зацепиться за кочку, плававшую неподалёку, но та податливо ушла вниз.
Он раскрыл рот в беззвучном крике, откинул голову, стараясь податься назад.
— Не шумит! — взволнованно сказал Андреев, высунувшись из окопчика. — Те двое вон как кричали! Своих звали.
— Погоди, и этот позовёт, — возразил Гонта. — Ещё не приспичило.
Тот, кого они считали разведчиком тропы, барахтался, увязал в трясине, всего в ста метрах от егерей-дозорных. Он молчал. Болото уже накрыло его плечи липкой, слизистой ладонью.
Выбившись из сил, он на какое-то мгновение прекратил борьбу, застыл. Голова его торчала из болота, как некий диковинный плод. Трясина уже коснулась подбородка. Она как будто вспухала. Она поднималась, как подопревшее тесто.
— Может, он немцев боится? — спросил старик и наполовину вылез из окопчика. — Вытащить бы его, а?
— Рано… — остановил его Гонта. — Ещё, может, закричит…
Шёл дождь. Человек молчал. Неподалёку от него беззаботно покачивались кепочки егерей.
Болото подползло к губам, но человек не сопротивлялся, он глядел перед собой в ту сторону, где, скрытые кустами, невидимые для него, сидели партизаны.
Он умирал молча.
— Давай! — сказал Гонта. — Может, и вправду наш. В случае чего я прикрою. — И он взялся за рукоять пулемёта.
Андреев и Назар юркнули в траву и через мгновение были уже в болоте.
Человек не видел их: он дышал, высоко запрокинув голову, стараясь хоть на несколько секунд отсрочить смерть. Андреев, отодвигая руками кочки и траву, шёл к тонущему упорно, как к собственной судьбе. Да этот человек и был судьбой и Андреева, и Гонты, и многих других их товарищей…
2
— Я из концлагеря под Деснянском. Месяц назад гитлеровцы привезли туда две тысячи военнопленных. Они строят аэродром для авиации дальнего действия… С подземными ангарами и полной маскировкой… Собираются бомбить оттуда Москву…
Человек, которого Андреев и Назар вытащили из болота, говорил тихо, скрипучим, словно отсыревшим, голосом и то и дело откашливался. Худ он был до такой степени, что казался муляжом, созданным для демонстрации костной арматуры. Но стоял прямо и независимо.
В землянке было сумрачно. Свет осеннего дня проникал через небольшое, овальных очертаний автомобильное стекло, вставленное под бревенчатый накат. Командир отряда и заместитель сидели в полумраке у дощатого, грубо сколоченного стола.
— Откуда вы узнали, что в лесу партизаны? — спросил заместитель.
— Слухом земля полнится.
— Именно в этом лесу?
У заместителя, стриженного ёжиком, были круглые бессонные птичьи глаза. Подтянутая, прямая фигура выдавала кадрового военного. Командир же, крупный, развалистый, с привычкой закладывать мясистую ладонь за портупею, служившую единственным знаком воинского отличия, явно был человеком штатским, человеком беседы, а не рапорта, быть может, в недавнем прошлом райкомовским работником или учителем.
И перед этими двумя, как перед судьями, стоял третий, покрытый свежей болотной грязью.
— Я знаю эти леса, — сказал человек из болота. — До войны служил здесь.
— Где здесь?
— Я бывший начальник Деснянского гарнизона Топорков.
Командир и заместитель переглянулись.
— Майор Топорков пал смертью храбрых при героической защите Деснянска, — звонко, с торжеством в голосе сказал заместитель. — Посмертно награждён орденом боевого Красного Знамени.
— Не знал, — безучастно ответил человек из болота. — Но я майор Топорков. А вы майор Стебнев. В марте сорок первого вы приезжали к нам из штаба округа читать лекцию о преимуществе отечественного стрелкового оружия над немецким.
Заместитель пристально всмотрелся в человека, стоявшего перед ним, и наконец поднялся.
— Минутку! — И вышел из землянки.
— Сядь, Топорков, а то от сквозняка упадёшь, — сказал командир, едва за заместителем закрылась дверь. — Не серчай. Стебнев у меня человек дошлый. По контрразведке работает… Вот поешь!
С усилием повернув своё могучее шестипудовое тело, он достал из дощатого ящичка в углу землянки ржаную полбуханку, несколько печёных картофелин и зелёную бутылку, заткнутую кукурузным початком. Выставил всю эту снедь на стол и налил сизый самогон в кружку.
— Выпей, майор, и закуси.
Человек выпил, взял картофелину и стал медленно, безучастно жевать, как будто исполнял тяжёлую, ненужную, но обязательную работу.
Командир смотрел, как по-старчески, кругообразно движутся его челюсти. Неизвестно, почему он поверил этому человеку. Может быть, полагался на чутьё. Может быть, он уже знал таких людей — выжженных войной, не побоявшихся взять на себя за эти полтора года столько, что иному и века не хватит.
— Ешь, — повторил он басовито и добавил потише, как будто стесняясь своего сочного голоса: — Теперь и о себе думать надо. Слава богу, живой!
Пришлый направил на командира свой сверлящий взгляд.
— За мой побег в бараке каждого пятого должны расстрелять, — сказал он. — Всего двадцать человек. Ребята знали и согласились. Так что я чужой жизнью живу. За всех… За двадцать!
Командир, вздохнув, отвернулся к окну.
— Да! Насмотрелись мы смертей… Я вот в мирное время оперу «Мадам Баттерфляй» любил, — сказал он негромко. — переживал… за её страдания. А теперь думаю: чем меня после войны расшевелишь?
Человек из болота отодвинул кружку. От еды и от выпитого его впалые щёки пошли алыми пятнами.
— Оружия нам! — хрипло сказал он. — Мы в плену, но мы в том не повинны. Оружия нам! Подпольный комитет готовит восстание. Мы весь этот аэродром уничтожим, командир! Оружия нам!
Долгие часы лесных скитаний он нёс эту мысль об оружии и теперь, казалось, боялся её потерять, боялся поддаться покою и теплу.
Командир продолжал смотреть в окно.
А там, в центре партизанского лагеря, возле коновязи, щуплый партизан в длинной складчатой шинели с отвисшим хлястиком стриг машинкой товарища, усадив его на алюминиевый ящик из-под немецких мин.
«Клиент», здоровенный парень с маленькой, словно бы лишённой затылка, головой и с красными ладонями-клешнями, морщился и ругал парикмахера:
— Чёрт, ну и скребёшь, как корова языком…
— Дождик, — бойко оправдывался тот. — Мокрый волос, он как спираль Бруно, жёсткий и вьющий… И машинка дореволюционная… «Коржет»… Сами обещали трофейную «американку». Мне бы фирмы «Брессайн»!
— Трофейную! Он тебя так пулями обстрижёт… Ой! Баранов тебе стричь, Беркович! — дёрнулся парень.
— А я что делаю, Степан? — спросил парикмахер.
И не успел парень вникнуть в смысл этих слов — только лоб нахмурил, соображая, — как за спиной Берковича вырос строгий, туго затянутый в талии заместитель командира отряда Стебнев.
— Беркович, к командиру!
3
Заросший щетиной, тощий — кости под кожей, словно расчалки, — человек повернулся к Берковичу. Профессиональным взглядом парикмахер отметил пучки коротких белых волос, которые проросли на плохо обритой голове.
Позади парикмахера встал Стебнев.
— Беркович, ты в Деснянске майора Топоркова знал? — спросил командир.
— Так точно… Стригся лично у меня. Фигура! Пользовался одеколоном «Северное сияние».
И парикмахер снова встретился взглядом со странным, оборванным и грязным человеком. Какие пустые, выцветшие, нездешние были у него глаза!
Парикмахер смолк. Он ощущал подтекст всей этой сцены, но не мог его понять. Его восприятие жизни было бесхитростным и ясным, как стрижка «под ноль».
— С этим человеком знаком?
Беркович пожал плечами.
— Можешь идти!
Парикмахер медленно поднялся по ступенькам. И обернулся.
Человек сидел за столом, склонив голову, беспомощно открыв змейку шейных позвонков. Парикмахер подошёл к нему и остановился, словно бы изучая острый, резко очерченный затылок и созвездие тёмных родинок на шее.
— Товарищ майор! — позвал он неуверенно, но затем уже громко и обрадованно повторил: — Товарищ майор!
Человек поднял голову, но не обернулся.
— Да что же вы не сказали? — спросил парикмахер. — Да я бы по родинкам всегда узнал… Ой, война! Ай, война! Сказано ведь: «Слухом услышите — и не уразумеете, и глазами смотреть будете — и не увидите…» Ведь вы ж тёмный волос имели, товарищ майор. Вы ж солидный были брюнет…
— Оружия нам, — проскрипел Топорков, не глядя на парикмахера. — Оружия нам!..
— Можете идти, Беркович, — коротко бросил Стебнев.
— У вас есть оружие? Лишнее оружие?.. Ребята готовы, ждут. Охрану мы сомнём, но у них поблизости воинская часть. Без оружия нас перестреляет взвод автоматчиков… Ни один самолёт не вылетит с этого аэродрома!.. Ни один, никогда! — бессвязно говорил майор Топорков, и щёки его рдели, как уголья. — Надо только доставить оружие и взрывчатку к карьеру, где мы добываем гальку. Охрана там несильная. Если ударит группа из пяти-шести партизан…
— Оружие у нас есть, сидим на подготовленной базе, — сказал командир без особого энтузиазма и развернул карту. Среди зелени болот и лесов крохотной тёмной точкой значился на ней Деснянск. — А как доставить?
— Обоз, — сказал Топорков.
Командир и заместитель переглянулись.
— Нет, сейчас это невозможно.
— В лагере не могут ждать!
— Ты не кричи, майор… У всех нервы… Двинул бы к лагерю всем отрядом, да блокирован. Хорошо ещё, что болота их держат… А небольшой обоз… Можно было бы попробовать… Но… Нет, не могу!
— Это окончательно?
Командир и заместитель молчали.
— Это всё?
— Давай так, майор, — сказал командир и оттянул портупею своей крепкой ладонью. — Давай подождём группу Ванченко. Это мой начальник разведки. Вот он вернётся, и я тебе скажу… Ну?
Топорков не отвечал. Он сидел недвижно, как укор, как живой памятник тем, кто отправил его искать путь к свободе.
4
Вечерело. Под навесом, где на самодельных, из жердей, койках лежали и сидели раненые, горел костёр.
Молоденькая медсестра, склонившись над одной из коек, шептала:
— Ты потерпи… потерпи, Самусь. Вот кончится дождь, и пришлют за тобой самолёт. А там госпиталь, там тебя вылечат…
Отблески огня скользили по меловому лицу раненого.
— Светло там и чисто, — продолжала медсестра. — И все в белом ходят, и всю ночь у нянечки огонёк горит, и не спит она. Если что нужно — только руку к звонку протяни… И музыка звучит в наушниках…
У печи с большим котлом присел погреться старик Андреев. Отставил неразлучную снайперскую винтовочку, втянул ноздрями воздух, спросил у кубастенькой поварихи:
— Это с чем же кандер будет, со шкварками?
— Какие шкварки! — отвечала повариха. — Подвозу не стало. С комбижиром!
— С комбижиру какой кандер!..
Топорков сидел, закутавшись в шинель, немой и молчаливый, как индийский вождь. Он наблюдал за жизнью партизанского лагеря, этой неведомой ему ранее родной и в то же время бесконечно далёкой жизнью.
Партизанский лагерь — это слобода на колёсах, где киевлянин чувствует себя так же вольно, как на Куреневке, а одессит — в Лузановке. В лагере есть всё, что необходимо военному человеку в прочной казарменной жизни: кухня, то есть печь под навесом, сложенная из кирпичей, доставленных сюда с пепелища, столовая — два ряда лавок из жердей, медсанбат в землянке, где врач, в мирное время специализировавшийся на приватной гомеопатии, может сделать прямое переливание крови или удалить инородное тело из мягких частей, конюшня — загородка с крышей из полуобгоревшего брезента… и, конечно, баня, настоящая баня с паром и тем особого назначения котлом, что в просторечии именуется вошебойкой.
И весь этот обжитый, укрытый хвойной бронёй городок готов был в считанные часы опустеть и вновь возникнуть где-нибудь за сотню километров.
Выбритый, с иссиня-чёрными впалыми щеками, застывший под мелким дождём, Топорков сидел у землянки, ждал.
Он был чужд лагерю, и лагерь был чужд ему.
Топорков видел и слышал всё, что происходило у партизан: он так же, как и они, ждал Ванченко, и в то же время он видел и слышал картины и звуки иного лагеря, того лагеря, где от столба к столбу тянется колючая проволока, где скалят зубы овчарки, хорошо выдрессированные собаки, умеющие отличать заключённого по запаху, где дистрофия накладывает на лица людей свою жестокую печать…
И как рефрен, назойливый, бредовый рефрен, звучали в его ушах слова: «Erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter!.. Fünfter!.. Erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter!.. Fünfter!.. Fünfter!.. Fünfter!..»
И в длинной шеренге людей каждый пятый делал шаг вперёд…
Каждый пятый!..
…Топорков ещё находился во власти изнурительного побега, явь была для него неотделима от галлюцинаций, и реальная жизнь чудилась продолжением какого-то жуткого, нескончаемого сна.
Он медленно прошёл через лагерь. Толкнул дверь командирской землянки. На столе чадила плошка — классическая военная плошка из сплющенной гильзы. Свету она давала ровно столько, чтобы окружающие могли считать, что они сидят не в темноте.
— А-а, ты!.. — Командир взглянул на часы. — Спать бы ложился.
— Почему отправка оружия зависит от возвращения Ванченко? — спросил Топорков.
Багроволицый командир пальцами снял с плошки нагар.
— Жена твоя, майор, жива. По рации сообщили с Большой земли. В Москве она.
Лицо Топоркова ничего не отразило, только дрогнул кадык. Майор с хрипом вобрал воздух:
— Видите, вы меня достаточно проверили. Так в чём дело с оружием для ребят? Можете, наконец, сказать мне об этом?
— Могу, — согласился командир. — Утечка информации у меня, майор. Понимаешь? Третью группу посылаю на задание. Две завалились… Немцы все выходы из болота… и явки… одну за другой перекрывают. Кого-то к нам забросили в отряд. Кого-то мы прошляпили, майор! Недаром «Абвергруппа-26» объявилась в этих местах… Враг среди нас, майор! А кто?..
— Значит, если Ванченко не вернётся…
— …То никакого оружия послать не могу. Попадёт к немцам. И людей погублю. Вот так!
День второй ОБОЗ ВЫХОДИТ
1
Рассвет был осенний — зябкий, осторожный. Чуть проступила зубчатая кромка лесов.
Испуганно, как пробудившийся от чужой речи часовой, крикнула сойка. Короткой пулемётной очередью простучал по стволу дятел.
Топорков, одетый в длинную офицерскую шинель со споротыми петличками, сидел у догоравшего костра. Неподалёку, на бревне, примостился человек в каске. Он сосредоточенно укладывал в ящичек жёлтые бруски тола. Лицо его, горбоносое, удлинённое, словно бы состояло из одних вертикалей; оно казалось особенно узким под округлой каской, которая при общем наряде подрывника — длиннополом пальто, клетчатом шарфе и ботинках — выглядела чужеродным и несколько комичным дополнением.
— Слышишь, Бертолет, — окликнул подрывника рослый конюх (это его стриг недавно партизанский парикмахер). — Ты не позычишь мне пару тола грамм по сто?
— Это зачем же? — подняв голову, с интеллигентной мягкостью спросил тот, кого звали Бертолетом.
— Хочу, понимаешь, коней поприучать до шуму, — объяснил ездовой. — А то мне привели необстрелянных… — Широкое лицо конюха расплылось в улыбке при упоминании о лошадях. — Прошлым разом он как вдарит, а они от страху давай чомбура рвать. Так я их усех батовкой захомутал… Ледве устояли!
И тут конюх заметил за деревом молоденькую медсестру. Она стояла, прислонившись к дереву. Лицо её, усталое и напряжённое, разгладилось. Она поправила пилотку и провела ладонью по коротко стриженным волосам, как будто только здесь, в этом уголке лагеря, могла ощутить своё девичество и молодость.
Рослый партизан подмигнул Бертолету. На его простодушном лице появилась хитрая усмешка. Он очень хотел казаться проницательным, этот парень из отрядного обоза.
— Галка-то, глянь, снова смотрит, — прошептал он. — На тебя смотрит!..
Медсестра, поняв, что её заметили, шагнула к Бертолету, поставила перед ним бикс — хромированную коробку для бинтов.
— Запаять сможете? — спросила она.
Бертолет осмотрел коробку:
— Попробую.
Галина ещё немного постояла рядом с подрывником и не спеша направилась к своему «медсанбату». Походка её была лёгкой, скользящей. И Бертолет и конюх посмотрели вслед сестре, вот только майор остался безучастным и продолжал глядеть прямо в притухающие уголья.
— Я часто замечаю, стоит и смотрит. На тебя!.. Контуженая она…
И конюх Степан дружелюбно толкнул подрывника в бок:
— А ты это… не теряйся.
— Степан! — сказал Бертолет. — Я сейчас детонатор буду вставлять, так ты уйди.
Но Степан не унимался:
— Красивая она, Галка… Вот только контуженая…
И вдруг улыбка сошла с его лица, он осёкся и уставился в одну точку.
Бертолет, заметив беспокойство во взгляде Степана, тоже посмотрел в ту сторону. И медсестра Галина, и часовой у командирской землянки, и даже безучастный до того Топорков — все, повинуясь общей тревоге, напряжённо смотрели в одну сторону.
По мокрой траве, по рыхлому песку шли четверо партизан, неся за углы плащ-палатку, в которой, тяжело провисая телом, лежал пятый. Позади, хромая, держа на отлёте перевязанную руку, как большую, неожиданно обнаружившуюся ценность, плёлся шестой. Лица партизан блестели от дождя и пота, дыхание было прерывистым.
Партизаны поворачивали вслед им голову, но никто не поднялся, не пошёл им навстречу, чтобы помочь нести бесконечно тяжёлую ношу. Это было только их право, их привилегия…
У землянки, где был «медсанбат», они остановились. Опустили на землю плащ-палатку. Медсестра Галина склонилась над лежавшим. Партизаны сняли шапки. Один из вернувшихся, веснушчатый, с дерзкими светлыми, словно бы хмельными, глазами, кивнул в сторону парня с перевязанной рукой:
— Займись, Галка… Шину бы ему… — И перевёл взгляд на другого своего товарища. — Ты как, Миронов?
Миронов приставил к уху ладонь. В этом тридцатилетнем партизане чувствовалась профессиональная солдатская выправка. Рваная, измазанная болотной грязью шинель сидела на нём ладно, подчёркивая выпуклую, крепкую грудь. И карабин он держал не с партизанской небрежностью, а по-уставному, прикладом к ноге.
— К докторам пойдёшь?
— Никак нет!.. — в свою очередь закричал Миронов. — Ничего!
Веснушчатый разведчик кивнул и, хмурясь, направился к командирской землянке. Но командир отряда, покачивая полным телом, сам шёл навстречу.
— Ванченко убит, товарищ командир, — тихо доложил веснушчатый. — …Возле горелого танка засаду устроили. Живьём хотели взять… Войчук ранен, Миронов контужен.
— Что с явками, Лёвушкин? — спросил командир.
— Явки завалились… Предательство это! — выдохнул Лёвушкин. — Предательство!
Топорков, привстав, слушал. На лице его явственно отпечаталась гримаса боли.
2
— Ну вот видишь, майор, — сказал командир стоявшему в землянке Топоркову. — Не тебе рассказывать, что это значит — враг в отряде.
Топорков слушал. Он ещё плотнее натянул на себя шинель, как будто озябнув от слов командира, но в движениях его появилась уверенность и в глазах пригас пронзительный блеск.
Командир и заместитель с участливой почтительностью смотрели на майора.
— Хорошо. Дайте мне автомат. Гранат, сколько унесу. И проведите через болото.
— Это глупость, — хмуро сказал Стебнев и прищурил птичьи глаза.
— Возможно. Но я уйду.
И, поправив шинель, клонясь вперёд тощим длинным туловищем, майор вышел из землянки.
— Может быть, и уйдёшь, — пробормотал командир. — Завтра!
Заместитель встревоженно посмотрел на него.
Пришёл вечер, и вспыхнули партизанские костры, отбрасывая мельтешливые тени. Топорков по-прежнему сидел неподалёку от коновязи, и глаза его, глубоко ушедшие под лобные дуги, не отражали мятущегося пламени.
Никто не обращал на Топоркова внимания, в партизанском отряде привыкли к появлению с «той стороны», от немцев, молчаливых, странных людей и к внезапному их исчезновению. Излишнее любопытство здесь было бы неуместным.
Уютно и мирно пофыркивали лошади, хрустели сеном, звенели сбруей. У ближнего костра, хлопая ладошкой о ладошку, приплясывал неунывающий старичок Андреев, мрачный темнобровый Гонта подбрасывал в костёр сучья. Медсестра Галина скользила лёгкой тенью поодаль, бросая взгляды в ту сторону, где примостился подрывник со странным именем Бертолет.
Топорков видел их и слышал негромкие голоса, и хруст сена, и металлическое позвякивание, и треск.
Он жили. Окружённые врагом, загнанные в леса, встречаясь каждодневно с лишениями и смертью, они всё-таки жили… Они приплясывали у костров, смеялись во весь голос…
А там, в двухстах километрах, под Деснянском… Топорков зажмурил глаза, и в ушах тут же раздался металлический, сухой голос: «Erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter!.. Fünfter!.. Fünfter!.. Fünfter!..»
Этот голос впился в него и тряс, колыхал иссушенное, лёгкое тело.
— Товарищ гражданин! — заорал в самое ухо часовой, продолжая трясти Топоркова за плечо. — Никак не докличешься!.. Вас до командира просют!
— Слушай, майор! — подняв массивную голову, сказал командир. — Обоз с оружием мы вышлем! Есть тут одна идея…
3
Ритмично стучали в полумраке два молотка. Под навесом, где на стенах висели немецкие шмайссеры и карабины и аккуратными штабелями высились цинковые коробки с патронами, Топорков и заместитель командира Стебнев заколачивали большие ящики.
— Ты всё-таки будь осторожен, майор, — вгоняя гвоздь за гвоздём, говорил Стебнев. — Связь у него налажена неплохо. Рации, конечно, никакой не может быть, но доносит быстро…
— «Почта»? — спросил Топорков.
— Вероятнее всего. И где-то совсем близко… Так что об обозе они, наверно, узнают уже завтра или послезавтра… — Стебнев подхватил ящик, вынес его из склада под деревья, где стояли четыре пароконные телеги. Дно телег было выстлано сеном.
Стебнев поставил ящик на телегу, аккуратно уложил его.
— Думаю, предатель напросится вместе с обозом, — тихо сказал Стебнев, и круглые его глаза хитро прищурились. — Уж к больно лакомый кусок, этот обоз. В заслугу причислится.
— Вот как?
Под навес, пригнувшись, вошёл командир.
— Ну что ж! Всё идёт как надо! Добровольцы нашлись, майор! Парни знают, что идут на большой риск. Сказано им — везти оружие в Кочетовский отряд, соседям, за речку Сночь. Сказано, что ты оттуда. Что по званию майор… — Командир посмотрел на большие мозеровские часы с треснутым стеклом, ремешок которых впился в его мясистую руку. — Кстати, вот что… — Он снял часы и протянул их Топоркову: — Прими. Пригодятся.
— Спасибо.
— Заместителем твоим пойдёт Гонта. Толковый мужик.
— Он знает?
— Нет.
Командир вздохнул, отчего выпуклая шарообразная его грудь мощно натянула портупею.
— Пойдём, представлю тебя ребятам, майор. И смотри в оба!..
День третий ЗАПИСКА В «ПОЧТОВОМ ЯЩИКЕ»
1
В тумане меж деревьев двигалась какая-то группа. Неясные, зыбкие тени словно бы проецировались на белый экран. Чуть слышно поскрипывали колёса, и сочно, свежо чавкали, увязая в мокрую землю, копыта и сапоги: чвак, чвак, чвак…
Впереди шёл веснушчатый разведчик Лёвушкин, шёл, насторожённо прислушиваясь, указывая обозу путь по каким-то лишь ему одному известным приметам.
У первой телеги — груз укрыт под слоем сена, но видно по колёсам, что тяжёл, — шёл Гонта. Из-под сена, как указательный палец, выглядывал ствол трофейного МГ. Если бы не этот пулемёт, картина была бы мирной, почти идиллической: мужички в извозе…
Следом — вторая повозка, с Мироновым. Этот шёл мелкими шажками, бодро, и пуговицы на его шинели сияли, и подворотничок был подшит чистый, будто собрался сверхсрочник в субботнюю увольнительную.
У третьей повозки — Бертолет с парикмахером Берковичем. Эти шли задумчивые, ссутулившись, один за другим, будто несли, как бревно, одну общую тяжкую ношу.
Четвёртая телега — Степана — запряжена трофейными битюгами. За телегой, поводьями к задку, — две заводные лошадки.
Поотстав метров на пятьдесят от обоза, шёл арьергард — Андреев и Топорков. У Андреева за спиной — винтовка прикладом кверху. Брезентовый капюшон приоткрыт, и выставлено к туману, как радар, хрящеватое стариковское ухо.
Скрип-скрип, чвак-чвак…
Топорков поправил за спиной автомат, осмотрел серые спины, серые крупы лошадей. Вот и тронулись, вот и вышел обоз. Четыре телеги. Семеро партизан. В сущности говоря, семеро незнакомых ему людей. И один из них, возможно, враг…
У опушки, где туман распадался на клочья, выросли две фигуры — словно бы раздвоились тёмные стволы осин. Помахали руками, указывая путь. Обоз прошёл мимо и растаял в тумане.
Двое дозорных партизан посмотрели вслед, закурили. Тот, что был постарше, озабоченно покачал головой.
— Думаешь, не дойти? — спросил молодой.
Старший ничего не ответил, только смотрел в туман. И лицо у него было такое, как будто проводил товарищей в последний путь.
2
В частое постукивание колёсных ободьев о корни, приглушённые удары копыт о песок вливались, обтекая молчаливого и одинокого майора, тихие партизанские разговоры.
— Завидую, что ты учёный! — говорил Степан, поотстав от своих битюгов и обратив к Бертолету широкое, кирпичного цвета лицо. — Сильно завидую… Вот ты, например, чего окончил?
— Вообще-то в университете учился, — серьёзно ответил Бертолет. — Окончил филологический… а потом потянуло на физико-математический.
— Ух ты! — сказал Степан. — А вот, скажем, дроби знаешь?
— Знаю.
— И эту… физику?
— Немного.
Бертолет замялся. Он, как и все люди, увлечённые сложной внутренней работой, отличался в обращении особой, несколько наивной прямотой, и это, очевидно, нравилось простаку ездовому, с которым обычно разговаривали насмешливо. Степан вглядывался в тонконосое, удлинённое лицо собеседника с той внимательностью и увлечённостью, с какой мальчишка смотрит в калейдоскоп, стараясь догадаться, как это из простых и понятных элементов возникает непостижимая сложность.
— А чего ты каску носишь? — спросил он. — Это ж два кило железа. Я б лучше обоймов насовал по карманам.
— Как тебе сказать? — Бертолет улыбнулся. — Вот был такой Дон-Кихот, он медный таз носил, а я — каску… По правде говоря, я больше всего боюсь ранения в голову.
— А чего?
— Мозг! — Бертолет постучал по каске. — Здесь всё, в этом сером веществе. Все наши знания, чувства, память. Весь мир. Это самое важное и беззащитное, что есть в человеке.
— Скажи! — Степан покачал головой, затем, сняв шапку, провёл ладонью по волосам, словно бы нащупывая что-то, ранее ему неизвестное. — А шо? Надо будет завести каску!..
— Тебе-то зачем? — раздался голос Лёвушкина. — Чего тебе опасаться? У тебя самое ценное не здесь, ты ж наездник!
В своих мягких брезентовых сапогах разведчик Лёвушкин неслышно возник рядом, взял в мешке на возу сухарь, сунул за щеку.
— А по-моему, — сказал он Бертолету, — кто боится пули, тот не боец. Так вот, француз! — И растворился в соснячке, будто не появлялся.
— Ну, скаженный! — восхитился Степан.
Топорков позавидовал молодости и энергии разведчика. Каждый шаг давался майору с трудом. А хуже всего — это чувство одиночества среди людей, близких тебе по духу, но отдалённых раздельно прожитой жизнью.
Он шёл, смотрел, слушал, и длинные худые ноги его отшагивали ритмично, как косой землемерный аршин.
Гонта, подойдя к бывалому солдату Миронову, советовался, глядя исподлобья:
— Сколько сдюжим по песку, старшина?
— Да километров с тридцать пять. Мы в окружении, правда, по пятьдесят давали, так то бегучи… Колёса бы вечером надо подмазать. Я баночку трофейного тавота прихватил.
— Добре.
— И ещё: надо бы «феньки» с возов на руки раздать. Если наткнёмся на немца, сразу удар — и отход. Они гранатного удара не любят, теряются.
— Добре.
Умелый, ладный был партизан Миронов, бывший старшина-сверхсрочник; Топорков позавидовал его хозяйственной предусмотрительности, которая позволила старшине близко сойтись с полесскими партизанами.
3
Далеко за полдень телеги сгрудились возле старой, с засохшими когтистыми ветвями вербы. Тонко звенел неподалёку родник, и лошади, склонившись к воде и всхрапывая раздутыми ноздрями, пили, пили…
Привалившись к телеге, Топорков наблюдал за партизанами.
Конюх Степан хлопал лошадей по холкам, разглаживал спутавшиеся гривы. Бертолет, усевшись на причудливой коряге, силился стянуть с ноги сапог. Лёвушкин рассказывал Миронову довоенный анекдот о враче и старушке. Они сидели под самой ветлой, а над их головами зияло чернотой дупло.
— Товарищ майор! — встревоженно сказал Беркович, выбираясь из кустов. — Здесь кто-то был… недавно!
Топорков шагнул навстречу Берковичу, увидел разбросанные по земле рыжие бинты.
— Это мы… — пояснил Лёвушкин. — Здесь Ванченко умер.
Протрещали кусты, и последняя телега скрылась в лесу, распрямились ветви. Топорков остался на поляне под старой ветлой один. Он долго всматривался в деревья, кусты. Снова бросил взгляд на обгоревшее дерево с дуплом, на корягу, на тяжёлый, вросший в землю валун…
Кусты раздвинулись, и к ветле вышел Гонта.
— Ты чего, майор? — спросил он.
— Я сейчас… Догоню!
Гонта недоуменно посмотрел на Топоркова, двинул тёмными бровями и исчез в лесу. Но, отойдя недалеко, замедлил шаг, остановился и, обернувшись к поляне, стал вслушиваться.
А Топорков тем временем подошёл к ветле, нащупал узкой длиннопалой кистью тёмный провал дупла. Извлёк оттуда горсть старых, слежавшихся листьев. Неторопливо разжал пальцы, рассыпая листву. Глаза его прыгали с одного предмета на другой, словно он что-то искал.
Ногой отвалил корягу и долго смотрел на расползавшихся в разные стороны жучков. Подойдя к камню, Топорков внимательно со всех сторон осмотрел его, но и здесь ничего не нашёл. Майор тяжело вздохнул, ссутулился, бросив вниз ладони, будто прикреплённые к тонким запястьям. Сейчас было особенно заметно, как он устал и как тяжело его истончавшим в лагере мышцам нести груз крепких ещё и жёстких костей.
Длинная повытертая шинель висела на майоре, как на распялке. Он пожал плечами и отправился догонять обоз. Когда майор спешил, то клонился узким торсом, словно бы падая и едва поспевая подставлять под рвущееся вперёд тело тонкие ноги.
Гонта внезапно вышел из кустов:
— Ты что там потерял, майор?
— Ничего… Осень… Тихо…
Удивлённо — и недоверчиво блеснули прищуренные запорожские глаза Гонты под густыми бровями. Но это был мгновенный блеск.
— Ясно, — сказал Гонта.
4
Крутились, поскрипывая, колёса. А рядом с колёсами отшагивали, с подскоком, большие и грубые яловые сапоги Бертолета. Каждое движение доставляло подрывнику немало страданий — это было видно по его лицу, по прыгающей походке.
— Скажите, а почему вас зовут Бертолетом?
Подрывник удивлённо посмотрел из-под каски на майора. Он не ожидал, что этот молчаливый, мрачный человек может проявить интерес к его особе.
— Кличка. Из-за первой нашей мины. Не было взрывчатки, а мне удалось достать бертолетову соль… А может, из-за французской фамилии.
— Вот как! Вы француз?
Бертолет улыбнулся:
— Француз… Если Пушкин — абиссинец, а Лермонтов — шотландец. Предки, говорят, гугеноты были — переселились когда-то, лет двести назад, в Россию. Потому моя фамилия Виллó.
— И давно вы в отряде?
— Не очень… Мне здесь нравится, — неожиданно улыбнулся подрывник.
— А портянки вы так и не научились накручивать, Виллó, — сказал Топорков.
Лес был осиновый — низкорослый и редкий. Солнце пробило облачную муть и плавало в небе, как яичный желток.
Обоз то и дело пересекал уютные поляны, поросшие высокой, не по-осеннему сочной зеленью. Казалось, люди и лошади плывут по зелёным озёрам.
Теперь в арьергарде, рядом с Андреевым и Топорковым, упруго шагал Миронов.
— Трава-то, трава! — восхищённо говорил старик. — Эх, косу б намантачил и подобрал бы всю, как есть… Последняя!
— Ну даёшь! — рассмеялся Миронов.
— Ты солдат, тебе не понять… Солдат на всём готовом.
— Это да, — согласился Миронов. — Мне-то служба всегда нравилась. Порядок в ней!
— А в партизаны как попал? — спросил майор.
— Куда было из окружения? Не под Гитлера же!
Лёвушкин, пригибаясь, пробежал через луг, усыпанный клочьями наползающего откуда-то с болот вечернего тумана. Нырнул в низкорослый ольховник. Там сквозь редкую ржавую листву просматривалось странное громоздкое сооружение, лишённое привычных глазу форм, неопределённого цвета.
— Это танк, — сказал Гонта Топоркову. — Здесь наши, когда выходят из болота, всегда днюют.
Лёвушкин взобрался на танк и оттуда помахал рукой: мол, всё в порядке. Обоз тронулся к ольховнику.
— Надо бы дальше двигаться, — сказал Гонта майору. — Потемну спокойнее. Ночь — это и есть партизанский день.
— Будем отдыхать, — ответил майор.
— Я к тому говорю, что здесь немцы могут засаду устроить, — повторил Гонта настойчиво. — Ванченко-то здесь ранило…
— Вот и обеспечьте охранение!
Голос у майора был негромкий, ровный, без каких-либо командирских интонаций, однако такому голосу невозможно было не подчиниться.
Гонта пожал обтянутыми кожаной курткой покатыми мощными плечами, брови его, сросшиеся и всегда нахмуренные, сцепились ещё плотнее.
5
Телеги расположились неподалёку от подбитого танка.
Когда-то это был скоростной БТ-7, красивая, лёгкая машина, из тех, что москвичи привыкли видеть на довоенных парадах.
В один из летних дней сорок первого года отчаянно выбежал этот танк навстречу иной военной эпохе — эпохе двухвершковой лобовой брони и кумулятивных снарядов. Сильным взрывом сорвало башенку и бросило на корму. Сквозь оплавленную дыру в переднем скосе была видна выгоревшая внутренность танка. Одна из гусениц лежала на земле, и сквозь траки тянулись к небу стебли мятлика и белоуса.
Топорков, холодный, сдержанный Топорков, повёл себя странно: прижался к шершавой броне и погладил её ладонью. Танк давно выстыл, он утерял под дождями и ветром сложный, живой запах машины, но Топорков, стоя рядом, раздул ноздри и вдохнул воздух.
Обернувшись, майор встретился глазами с подрывником в каске и устыдился своего порыва, нахмурился.
— С ними я в Испании воевал, — сказал он.
Не каждый мог понять то, что переживал он, Топорков. Но Миронов, старшина-сверхсрочник, служака с белым подворотничком, понял. Он подошёл к танку, сказал:
— Молодость это и моя тоже, товарищ майор. Жалко!.. — И добавил потише: — Мы здесь только двое кадровых. Так что полагайтесь, я дисциплину соображаю.
Наступила ночь. Лёвушкин, лёжа на плащ-палатке и покусывая травинку, спрашивал у Берковича с ленивой, немного кокетливой самоуверенностью человека, который и вблизи врага способен сохранять спокойствие и думать о постороннем.
— Скажи, парикмахер, у тебя карандашика, случайно, нет?
— Нет. А зачем тебе? Почта не работает.
— Стишки сочинил. Про любовь. Хочу записать. Как ты думаешь, ничего? «Пусть сердце живей бьётся, пусть в жилах льётся кровь, живи, пока живётся, да здравствует любовь!»
— Вроде где-то слышал. Сам сочинил?
— А ничего стишки?
— Не знаю, — ответил Беркович. — Как ты думаешь, мог я стихами интересоваться, имея на руках пять душ детей? — И добавил: — Для Галки стихи?
— Ну уж! — насупился разведчик. — Слушай, а ты чего с нами напросился?
— Мы же в Кочетовский отряд, так это мимо Чернокоровичей, — сказал парикмахер. — А в Чернокоровичах дом тёщи. Может, она знает, что стало с Маней и детьми.
Лёвушкин присвистнул:
— Думаешь, прогуляемся и вернёмся?
— Нет, — покачал головой Беркович. — Не думаю. Но надоело стричь ваши головы…
А Топорков сидел у маленького, осторожного костерка и рассматривал протёртую на сгибах немецкую карту. Странно было видеть на ней транскрибированные на чужой язык, длинные, как воинские эшелоны, названия: «Kotschetoffka», «Tshiernokoroffitsci»… Изучив карту, Топорков достал из планшетки карандаш, блокнотик и вывел на листке несколько слов.
6
Андреев был в охранении; в своём дождевичке он стоял под деревом, как охотник в засаде, ничем не выдавая себя.
Хрустнула ветка, затрещала сойка — будто кто-то принялся ломать сосенку, — и Андреев насторожился, приподнял винтовку. Заметил фигуру, молодо и легко идущую через лес. Седые щётки бровей у Андреева поползли вверх.
На опушку вышла медсестра Галина. В распахнутом ватнике, с плотно набитой противогазной сумкой через плечо она проскочила мимо Андреева, направляясь к танку.
Старик покачал головой.
Майор оторвался от блокнота. Над ним стояла медсестра Галина. Блики пламени скользили по её лицу.
Майор встал, одёрнул шинель. Бертолет, который тщетно пытался справиться с портянками, испуганно и радостно смотрел на медсестру.
— Я решила пойти с вами, — выпалила Галина заученно. — Отпросилась. Без медицинской помощи вам не обойтись. И на разведку мне легче!
— Это совершенно невозможно, — сухо сказал Топорков.
Он стоял тонкий и прямой, как гвоздь, вбитый в пригорок.
Непонятный он был Галине человек, замкнутый внутри на какой-то хитрый замочек, — не то что остальные партизаны.
Галина в растерянности перевела взгляд на товарищей. Бертолет склонил голову, скрылся за стальным ободом каски. Лёвушкин, ухмыляясь, принялся постругивать финским ножом палочку, а Степан — тот достал гигантских размеров парашютного шёлка тряпицу и высморкался, отчего получился звук совершенно неожиданный — как если бы вдруг просолировал тромбон. Миронов застыл в ожидании.
— Товарищ Топорков! — дрогнула Галина. — Я вам обузой не буду! — И перевела взгляд на стёртые ноги Бертолета, как-то безжизненно лежавшие на траве.
Нет ничего более жалостного, чем вид человека в каске и при оружии, открывшего пергаментную слабость ног. Разувшись, солдат как бы лишается ореола военной неуязвимости и переводит себя в слабое сословие штатских.
— Это решительно невозможно, — повторил Топорков.
Глаза у Галины вспыхнули, и светлое её, не отягощённое морщинками личико исказила гримаса. О, это была партизанская девица, из незнакомого майору племени.
— Эх, товарищ майор, — сказала Галина. — Не хотите подвергать меня риску? А откуда вы знаете, что нам можно и что нельзя? За аусвайсами к немецким офицерам можно ходить, да? И на явки?.. Я в отряд девчонкой пришла: здесь теперь вся моя жизнь, и молодость, и старость, всё… Буду с вами! Уцелеем — хорошо, а нет — вы не ответчик. А своё дело я буду здесь делать, помогать вам буду. — От волнения она начала заикаться: и давний бомбовый удар, нанёсший контузию хрупкому, стройному телу, долетел вдруг до Топоркова — пахнуло гарью и болью.
Слиняло ироническое выражение на лице Лёвушкина, он во все глаза смотрел на медсестру. Замер и Бертолет.
Топорков пожевал сухими губами и ушёл во мрак, к Гонте, который пристроился на сене поодаль от танка.
Пулемётчик набивал ленту патронами, которые он, как семечки, доставал из необъятных карманов кожаной куртки. Действовал он ловко, на ощупь.
— Скажите, Гонта, вас удивило бы, если бы в группе оказалась медсестра? — спросил майор.
— Галка? Что, пришла? Тю, контуженая! Из-за взрывника этого.
И Гонта неодобрительно покачал своей крепкой темноволосой головой.
Когда Топорков вернулся, медсестра, склонившись над Бертолетом, перевязывала ему ногу. Рядом стояла раскрытая сумка противогаза и склянка с риванолом.
Галина встревоженно смотрела на Топоркова.
Две несмелые морщинки тронули узкие губы майора у самых их уголков. Он словно бы заново осваивал нехитрую мимику улыбки.
— Что вы так смотрите? — спросил майор. — Живых мумий не видели?.. Какое вам выдать оружие? Автомат?
7
Низкорослые партизанские лошадки с бочкообразными боками протащили первую телегу мимо танка.
Было ещё сумрачно. Полосы тумана плавали между чёрными кустами, небо обозначилось синевой. Проскрежетали ржавыми голосами злодейки-сойки.
— Пойдёте с первой телегой, — сказал Топорков Гонте.
— А вы?
— Буду в прикрытии, сзади.
Вновь недоверчиво сверкнули прищуренные глаза Гонты.
— Противника надо ждать спереду. — И Гонта, не дожидаясь ответа, ушёл.
Топорков проводил взглядом обоз. Весело махнули хвостами две заводные лошадки, привязанные к последней телеге, и Топорков остался один.
Он не спеша прошёлся вокруг танка, цепко осматривая землю и кустарник, как будто снова что-то искал. Длинный, на длинных ногах, со склонённой головой, он был похож на идущего за плугом грача.
Ничего не найдя на земле, майор приступил к танку.
Он оглядел его беглым и точным глазом военного человека, отмечая малейшие неровности и углубления: визирные щели, края оплавленной дыры в лобовой части, заглянул и под крылья, и под ленивцы.
Затем взгляд его упал на гусеницу, лежавшую рядом с танком.
Гусеница как гусеница — гигантская ржавая браслетка, обречённая истлевать в земле. Но майору бросились в глаза красные точки жучков-«солдатиков» на последнем траке. То ли они выползли погреться на вялом утреннем солнышке, то ли были кем-то потревожены.
Майор поднял трак. И не увидел отшлифованной тяжестью глянцевой поверхности, как. это бывает, когда поднимаешь лежач-камень: земля здесь была взрыта.
Смахнув верхний слой земли, Топорков увидел совсем новенькую стреляную гильзу от противотанкового ружья. Оглянувшись по сторонам, он бережно, как эксгуматор, боящийся чумной заразы, взял гильзу в руки и вытряхнул оттуда свёрнутый в трубочку лист бумаги. Прочитал несколько коротких неровных строчек: «Оч. важно! Обоз идёт в Кочетов, п. о. 4 тел. 47 ящ. с ор. боепр., 8 бойцов (1 жён.). Команд, майор из Кочет, п. о. Через Камышов перепр. у 14 корд. Фёдор».
Майор скатал листок в трубочку и вложил в гильзу, всё это присыпал землёй и укрыл тяжёлым траком. Затем он тщательно вытер руки, оправил шинель, огляделся ещё раз и отправился догонять далеко ушедший вперёд обоз.
Топорков спешил. Он клонился прямым торсом, он всё падал и не мог упасть: вовремя подставляли себя худые, длинные ноги и отмеряли метр за метром. Было в этом его движении что-то бесстрастное, размеренное, как у машины, и только хриплое, с канареечным подсвистом дыхание говорило о том, что не всё ладится у майора с многочисленными шатунами и шестерёнками, работающими внутри.
День четвёртый «ВСЁ ИДЁТ ХОРОШО»
1
На пригорке Гонта поднял руку, и обоз остановился. Гонта наконец заметил Топоркова, и в глазах его, упрятанных под трехнакатные брови, погас тревожный блеск.
Обоз остановился. Топорков прошёл вперёд.
Гонта поднял цейсовский восьмикратный бинокль. На лугу, уже очистившемся от клочьев тумана, светлела петлявая просёлочная дорога. По ней ползли два грузовика с солдатами. Отсюда, с пригорка, даже усиленные цейсовской оптикой, они казались не больше коробков.
Гонта, который, как и каждый партизан, был воспитан ближним боем, смотрел на эти грузовики спокойно.
— Вот, майор, — он протянул бинокль Топоркову, — видать, снова егеря. «Эдельвейсы». Понаперли их сюда с Кавказа на переформирование. Теперь на нашем брате будут тренироваться.
— Егеря хорошо действуют в лесах, — бесстрастно сказал майор, рассматривая грузовики.
— Радости — полный воз, — сказал Гонта. — Нам здесь дорогу надо переходить.
— Значит, будем переходить.
Гонта в упор посмотрел на Топоркова:
— Ночью-то перешли бы без риска… Ну ладно!
2
За лугом вновь начался сосняк, и партизаны было повеселели, но тут сойки протрещали тревогу.
Андреев, откинув капюшон, обнажил жилистую шею, задрал кверху бородёнку, наставил круглое ухо. Послышалось тарахтение, будто мальчишка вёл палкой по штакетнику. Это был чуждый лесу механический звук.
Лёвушкин свистнул. И лошадёнки под окрики партизан рванули в сторону от дороги, в соснячок.
Галина с автоматом в руке, напрягая крепкие икры, пробежала к старым окопам, уже поросшим по брустверу молочаем. Сползла, ссыпая песок. И тут же кто-то рядом приглушённо чихнул и произнёс звонким, радостным шепотком:
— На здоровьичко вам! — И ответил самому себе: — Спасибочко! — После чего Лёвушкин сильной рукой пригнул Галину к земле, спрятал её за бруствер.
— «Энсэушки»! — шепнул Лёвушкин. Он сидел у бруствера, в частоколе воткнутых в песок сосновых веточек и смотрел на обширную, поросшую вереском поляну, куда вливалась лесная дорога.
Тарахтение нарастало.
— Четырёхтактные, — сказал Лёвушкин почтительно и сплюнул. — У них на каждой машине ручняк.
За поляной, на взгорке, серыми мышиными клубками прошмыгнули шесть мотоциклов с солдатами. Тарахтение метнулось за ними хвостом и стало стихать.
Лёвушкин следил за мотоциклами и в то же время видел рядом лицо Галины, полуоткрытые её губы и ощущал щекой и ухом шелестящее дыхание.
Он не снял руку с плеча медсестры, а, напротив, сжал пальцы и повернулся к ней. В захмелевших, дерзких его глазах отразился в перевёрнутом облике дурманный осенний мирок — сухой окоп, мягкий пружинистый вереск с фиолетовой пеной цветов и густой полог хвои.
— Будешь приставать — застрелю, — сказала Галина, глядя в глаза Лёвушкину и яростно отвергая отражённые его зрачками соблазны.
— Дурёха, — прошептал Лёвушкин чужим, добрым голосом. — Ну чего увязалась за ним? Ты девка простая, ты моего поля ягода. Я человек весёлый, надёжный, я тебя защищу хоть от фрицев, а хоть от своих… И если войну переживём — не брошу, вот ей-богу! А с ним-то как? Он человек умственного полёта. Он-то и сейчас сторонится тебя. А ты тянешься… Дальше-то как будет?
Галина перевела дыхание. Метко упали последние слова Лёвушкина, прямо на живой нерв. Но Галя была девочка крепкая, из донбасского посёлка, из семьи с двенадцатью ртами и пьющим отцом.
— Ладно, — сказала она. — Верно ты говоришь. Ты вон какой ловкий, сообразительный. Всё умеешь… А он нет. Он внутри себя живёт, его обидеть просто. Я ему нужна. Вон ноги стёр… — И она всхлипнула, сразив себя этим последним аргументом.
— Ты о себе подумай! — бросил Лёвушкин.
— А я думаю. Я, может, впервые полюбила. Может, это всё доброе, что мне отведено.
И она полезла из окопа.
— Тю, контуженая, — тусклым голосом бросил вслед Лёвушкин.
Соснячок оживал. Раздавались голоса. Телеги неторопливо покатились к дороге.
Лёвушкин мягко шёл по лесу. Даже опавшие листья не шуршали у него под ногами. Лицо у разведчика было полынным, а глаза злые.
Его нагнал Миронов. Присвистнул, подзывая разведчика.
— Чего тебе, старина? — спросил Лёвушкин.
— Слушай, ты к Галине не приставай, ладно?
— Тебе что? Подглядывать приставлен?
— Не приставлен… А ты отряд не порушай. Галка — она для нас особая дивчина. Её беречь надо.
— Особая! — ухмыльнулся разведчик. — За Бертолетом вон как прибежала!
— Это уж её выбор, — спокойно сказал Миронов.
— Больно ты справедливый, солдатик, — сказал Лёвушкин. — Дать бы тебе по уху, да злость надо на немца беречь.
Топорков слышал этот разговор и усмехнулся одними глазами. Всё в группе шло как нужно, вмешательства не требовалось, это был отрегулированный, самоналаживающийся организм. Лишь мрачный Гонта беспокоил майора.
3
Внизу поблёскивала речушка, вся в тугих, масляных разводьях струй. Вода была такой холодно-прозрачной, что при взгляде на неё ломило зубы. И плыли по ней седые узкие листья тальника. За рекой широко расстилались сизо-зелёные заросли ивняка. Картина была мирная, лёгкая, акварельная.
Подошёл, хлопая полами длинной шинели, Топорков. Развернул потрёпанную трофейную карту.
— Надо бы идти берегом до четырнадцатого кордона. — Гонта ткнул пальцем в карту. — Там мосточек есть. Хлипкий, но телеги выдержит.
— Ясно, — сказал майор. — Однако переправляться будем здесь. Вброд.
— Дно топкое, — терпеливо, но уже с нотками плохо сдерживаемого раздражения пояснил Гонта. — Если застукают на переправе — хана. Мотоциклетки шныряют, видел?
— Видел.
Гонта повернулся к Миронову и Лёвушкину, ища поддержки. Но разведчик пожал плечами, не желая ввязываться в спор начальства, а бывший старшина-сверхсрочник пробормотал:
— Конечно, с точки зрения военной лучше у четырнадцатого кордона… Но товарищу майору виднее.
— Виднее! — буркнул Гонта.
Топорков уложил карту в планшетку.
— Ну всё. Гонта, возьмите пулемёт и выберите позицию над рекой.
— Так, — крякнул тот, пряча глаза под брови.
И не спеша, вразвалочку, как волжский крючник, пошёл к телегам. Взвалил на широкую спину свой МГ, окликнул Берковича и Лёвушкина и зашагал к кустарнику.
Гонта установил пулемёт над излучиной реки дулом к дороге. Беркович помог заправить ленту.
— Это правда, что ты до войны знал майора? — спросил Гонта.
— Так точно! Стригся лично у меня…
— Ну и что за мужик?
— Толковый, культурный командир. Стригся под ёжик. Одеколон предпочитал «Северное сияние»…
Гонта с сожалением посмотрел на парикмахера:
— Так, так… «Северное сияние»… Подробная характеристика. И вдруг он насторожился, замер. Издалека сюда докатился весёлый треск.
Степан подогнал первую подводу к воде. Но лошади попятились, вскидывая головы и бешено кося глазами.
— Н-но, Маруська, Фердинанд, но! — ревел Степан.
Но лошади не шли.
— Щас, товарищ майор, щас! — засуетился Степан. — Боятся, черти, холодной воды… и топко… Я своих бомбовозов погоню. Они кони трофейные, дисциплину понимают. Пускай первыми…
По кирпично-красному лицу ездового вместе с потом струилось вдохновение.
Трофейные короткохвостые битюги мрачно и обречённо потащили в воду тяжёлую телегу.
Далёкое тарахтение мотоциклов донеслось и до стоящих на берегу Топоркова и Миронова.
— Ну, Зойка, Герман!.. Ну!.. — подбадривал коней Степан.
Колёса по ступицы вошли в воду и остановились, завязли.
— Ну, ещё чуть-чуть!.. Ну, ещё малость!..
Кони хрипели, буграми вздулись под кожей мускулы — тяжёлая телега не двигалась с места.
Топорков ступил в воду, но его опередил Миронов. Утопая в вязком иле, падая и захлёбываясь, он подхватил лошадей под уздцы и потянул вперёд.
— А ну взяли!.. Ну быстрей!..
И вот уже будто дюжина бондарей зачастила молотками по пустым бочкам. Загремел весь лес.
Серой пылью обдало лица Гонты и Берковича. Краска со щёк ушла, а глаза запали, стали щёлочками.
Шесть мотоциклистов один за другим промчались по дороге в грохоте и гари. В колясках, прыгающих по бугоркам, сидели пулемётчики. А водители, в глубоких тевтонских касках, из-под которых виднелись стёкла очков да клинья подбородков, в перчатках с раструбами, держались за прямые палки рулей так осатанело, как будто те готовы были вырваться и умчаться в лес отдельно от колёс и седоков.
От дороги до края обрыва было метров пятнадцать. И эта узкая, поросшая рыжим папоротником полоска земли укрывала за собой партизанскую переправу.
Мотоциклисты унеслись, а на поляне осталось сизое облачко выхлопной гари.
Гонта вытер лицо рукавом куртки, и кожаный рукав глянцевито заблестел, словно от выпавшей росы.
Лёвушкин же, который сидел в густых рыжих космах папоротника неподалёку от дороги, закурил. После этого стал деловито раскладывать по карманам лимонки, гревшиеся на песочке, как черепашьи яйца.
Когда все перебрались на другой берег, Гонта догнал майора, сипло, задыхаясь, сказал:
— Если б немцы нас застукали, последняя пуля в пулемёте была б твоя.
— Ну что ж… Спасибо на откровенном слове, — ответил Топорков.
4
Обоз стоял в приречном лесу среди ивняка, который ещё не сбросил листву и укрывал партизан надёжно и плотно. Туман сочился сквозь ветви. Партизаны кутались кто во что горазд. На ветвях висели гимнастёрки, брюки, кителя. Галина, накрывшись грубой рогожкой, лежала на телеге.
Лошади безучастно жевали, опустив морды в подвешенные к сбруе торбы.
Андреев — бородёнка на сторону — спросил у окоченевшего Топоркова:
— Вечер к туману пошёл, товарищ командир. Разрешите?
Майор кивнул.
— Огонь — это всё для человека, — бормотал Андреев, выдувая огонёк с помощью своей увесистой «катюши». Искры, как злые мухи, носились у его бородки. — Сытому да обогретому и воевать легче.
Лёгкое пламя затрепетало в окопчике — и тотчас же все потянулись к костру.
— Ловко ты, дед, — похвалил Андреева Миронов.
— Дело-то знакомое. Я ведь свою жизнь в лесничестве отработал, объездчиком — где ночь застала, там и дом… — Андреев оглядел всех ласковыми, слезящимися от дыма глазами. — Вот… И ревматизм не будет меня мучить. Уж больно невоенная болезнь! Стыдно даже за свой организм…
— Организм! — заметил маленький сутулый Беркович, колесом согнувшийся под своей трофейной офицерской шинелью. — Да я бы свой дом променял на ваш организм, такой у вас организм!
— А что у тебя за дом? — спросил Андреев.
— Э, где он теперь, мой дом? — грустно отозвался Беркович.
В самом деле, где его, Берковича, дом? И где дом долговязого человека по фамилии Виллó, где дом майора Топоркова, бойкого Лёвушкина?
Всходил месяц. Он выкатился по светлому ещё небу над рекой, над округлыми ивовыми кущами, над похолодевшей, окутанной туманом землёй. И тотчас заблестела и словно бы остановилась, накрывшись фольгой, река. И была эта картина тихой, мягкой и до глухой, до сердечной боли русской.
На склоне пригорка, зелёного от озими, лежали двое дозорных — Лёвушкин и Бертолет, каска которого чуть поблёскивала под лунным светом. Вдалеке, на вершине пригорка, чёрными квадратами изб темнело село. Кое-где горел свет в оконцах, и доносилась музыка. Кто-то выводил на немецком языке:
«Die Mühlsteine tanzen…»[2]
— Радиолу запустили, — прошептал Лёвушкин. — Наша ведь радиола. Там клуб был до войны… Да, испоганили землю. Мы в холоде, как жабы за камнем. А они свою музыку пускают!
— Это не их музыка, — сказал Бертолет. — Это Шуберт. Это ничья музыка.
Они лежали, тесно прижавшись, согревая друг друга.
— Культурный ты очень, добренький, — сказал Лёвушкин. — Встречал я одного такого. В Чернигове. «Пойдём, — говорю ему, — с нами». А он говорит: «Я неспособный к войне, в человеке, — говорит, — врага не вижу». — «Как так, — говорю, — не видишь? — Да как врежу ему промеж глаз: — Вот тебе враг известный, выбирай хоть бы меня, а не сиди на месте чирием!..» Так вот и ты: музыка тебе ничья!
— За что ты меня не любишь, Лёвушкин? — спросил Бертолет.
Взлетела над селом ракета, и они прижались к земле. Забегали, замельтешили по озими резкие тени. Баритон, певший о вертящихся жерновах, примолк, словно испуганный ярким светом.
Под навесом из густого ивняка, где сбились телеги и лошади, из-под земли выбивался язычок огня. Над огнём — чугунок литров на пять, над чугунком — раскрасневшийся Миронов с ложкой.
К костру из ивняка вышел Гонта. Он зябко передёрнул плечами, направился к Топоркову:
— Немцы ракеты пущают. Не нравится мне всё это. Самое время проскочить до Калинкиной пущи.
— Люди должны отдохнуть, — отрезал Топорков.
— Ну-ну… Как знаешь… — Гонта хрустнул крепкими костями, в упор оглядел майора — тяжело оглядел, как будто катком придавил.
Майор, не обращая на Гонту никакого внимания, смотрел на огонь внимательно и насторожённо, как филин.
— Слушай, Бертолет, а чего это сюда столько фашистов нагнали? — осенило Лёвушкина. — Стреляют, охранение выставили… Может, это они наш обоз ищут?
— Как это — ищут? — не понял Бертолет. — Откуда они узнали?
— Известно откуда! Они ведь не дураки. Вон наши хлопцы в последнее время сколько раз на засады нарывались. Сыпал кто-то… А вдруг он теперь среди нас?..
Бертолет встревоженно посмотрел на Лёвушкина:
— Этого не может быть.
— Всяко может быть. Не узнаешь ведь, что там. — Лёвушкин постучал согнутым пальцем по каске Бертолета. — А кабы узнал, так очкуром бы задушил.
Туман, укутавший реку, карабкался уже по песчаным склонам, просачивался сквозь редкие деревья и охватывал с флангов деревню.
5
Партизаны спали — кто на земле, поближе к огню, подстелив ивовые ветви, кто на телегах, и лошади придремали, свесив головы, когда вопросительно и жалобно прокричала желна: «Пи-у, пи-у…»
Андреев ответил ей таким же писком, и вскоре две тени проскользнули в кустах: одна небольшая, гибкая, как бы смазанная маслом в сочленениях для упругости, вторая — угловатая, припадающая на одну ногу, с неестественно огромной головой. Тени приблизились к огню и превратились в Лёвушкина и Бертолета.
— Немцев в Ольховке человек пятьдесят, — доложил Лёвушкин майору. — Шебуршатся. Может, сняться нам да рвануть, пока туман? А?..
— Кони притомились, — ответил майор. — Утром снимемся.
Гонта, лежавший неподалёку, приподнял голову и, услышав ответ майора, усмехнулся. Было в этой усмешке нечто зловещее.
…И ещё один человек проснулся в ту минуту, когда разведчики вернулись к лагерю: медсестра Галина. Она откинула край рогожки и сонно улыбнулась Бертолету.
Днём, в ватнике, плотно подпоясанная солдатским ремнём, с автоматом, была медсестра Галина боевой товарищ, партизанская подруга, знающая, как зондировать рану при помощи прокалённого в огне шомпола, как устанавливать мину-противопехотку и определять направление авиабомбы, сброшенной с «юнкерса».
Но сейчас, согревшись под своей рогожкой, с припухлым, порозовевшим лицом, она была растерянна, уютна и добра, как все женщины, пробуждающиеся в минуту возвращения мужчины, которого ждали.
И исчез на какое-то мгновение ивовый лес с повозками, мужским храпом и стуком копыт, с бессонным взглядом Топоркова, исчезла деревня Ольховка, где меломан в мышиного цвета форме слушал Шуберта, исчезли «эдельвейсы»… и остались только двое — сонная женщина и мужчина, вернувшийся домой.
И Бертолет, почувствовав тайный, свободный от дневных запретов смысл улыбки, ответил улыбкой, какой-то застенчивой, быстренькой, суетливой, и принялся срочно укладываться на валежник у костра.
Галина всё смотрела на него, словно ожидая прикосновения или слова. Проходя мимо, быстроглазый Лёвушкин надёрнул на лицо медсестры край покрывала и грубо сказал:
— Спи! Чего глазелки вылупила? Не намаялась за день?.. И видел всё это бесстрастный, как летописец, майор Топорков.
Достал он блокнот и при свете догорающего костерка сделал очередную запись: «22 октября. Прошли 32 км. Переправились. Немцы ищут обоз. Пока всё идёт хорошо. Даже слишком хорошо».
В сторонке тихо переговаривались Гонта, Лёвушкин и Миронов.
— Добром это не кончится, — говорил Гонта. — Зря чужого назначили, зря.
— И я думаю, — согласился Лёвушкин. — Меры надо принять. Вот только Миронов у нас любит начальство лизать.
— Моё дело солдатское, — отвечал старшина, нисколько не обидевшись. — А только майор — это майор. Ты сначала дослужись! Да он имеет полное право тебя в пекло послать и золу обратно не востребовать!
— Дурак! — сказал Гонта.
День пятый ГОНТА ПОКАЗЫВАЕТ ХАРАКТЕР
1
К рассвету туман исчез, подгоняемый холодом, а подбитые утренником листья посыпались с ив. Партизаны спали, накрытые этими листьями, как камуфляжной сетью, и даже спины лошадей отливали серебристо-зелёным.
Большие, с треснувшим стеклом часы на свесившейся с телеги руке Топоркова показывали пять. И едва минутная стрелка коснулась своего ежечасного зенита, как Топорков вздрогнул и соскочил со своего походного ложа. Разбудил ездового:
— Степан! Осмотри каждую повозку. Каждую гайку подвяжи тряпицей, чтоб не грюкнуло. Рядом с немцами пойдём.
Тихо-тихо вращались обмотанные тряпицами колёса, отсчитывая секунды походной жизни. Дорога шла через редкий орешник, за которым открывался полевой простор.
— Похоже, мимо Чернокоровичей и пойдём, — говорил Беркович Андрееву и Гонте. — Найду я там кого из своих?
— Там видно будет, — отвечал Гонта.
— Найдёшь! — успокоил Берковича Андреев. — А не найдёшь, так люди скажут. Человек не иголка!
— И я так думаю, — охотно согласился с Андреевым Беркович. — Может, Лейбу встречу. Он-то скажет! Вы не знали старого Лейбу, это такой человек! У него имелся слепой конь, и он с этим конём ходил по колхозам, собирал щетину для заготсырья. Так жил… Такой человек: молчит, молчит, потом вдруг остановит мужика и выложит ему всё! Ну, всё: как мужика зовут, и сколько детей, и чем болели…
— Гадал, что ли? — спросил Андреев.
— Нет, просто так. Знал как-то! Или спрашивает: «Мужик, щетина есть?» Тот говорит: «Нет щетины!» А Лейба говорит: «Ты посмотри на припечке, где крейда у тебя стоит, там в банке с-под монпасье имеется щетина с прошлогоднего кабанчика, которого ты осенью резал». Мужик смотрит: да, коробка с-под монпасье и там щетина. Положил да забыл… Такой был человек Лейба. Говорят, ещё при царе ему предложили ехать ко двору, но он отказался: такой был человек! Моему тестю он сказал ещё до первой войны: «Ты, Яков, пойдёшь на войну, но не бойся — на четвёртый год вернёшься домой, и все твои будут живы и даже более того!» И тесть всё гадал: почему «более того», а когда вернулся через три года из австрийского плена, то узнал, что у него почему-то дочка родилась. И слава богу, потому что вышла мне хорошая жена. Уже если встречу Лейбу, так он скажет!
— Поповские сказки! — сказал Гонта. — А Лейба твой шарлатан. А если б был такой, так уж я знал бы, о чём спросить.
— Что бы ты спросил? — поинтересовался Андреев.
— Знаю, — ответил Гонта. — Уж я спросил бы!
Топорков размашисто шагал рядом с прихрамывающим Бертолетом, похожим в своей каске и длинном пальто на осенний гриб опёнок.
— Вы женаты, Виллó? — спросил Топорков.
— Я? — Бертолет растерялся. — Собственно… нет… Была невеста, собственно. Но… фамилия у меня, знаете, неудачная. В тридцать седьмом я уехал учительствовать в деревню, да как-то всё расстроилось. — Он обеспокоенно посмотрел на майора, а затем выпалил скороговоркой: — Если вас интересует моя биография, я могу подробно.
— Ну зачем же так! — со своей обычной сухостью парировал это предложение майор. — Просто хочу выяснить, почему вы так суровы. Вон там, у второй повозки, медсестра одна управляется, — продолжал Топорков. — Пойдите и помогите ей. И вообще, позаботьтесь. Вы же мужчина, подрывник, чёрт вас возьми!
Странная, несмелая улыбка скользнула по лицу Топоркова.
Бертолет, сорвавшись с места, бросился догонять вторую повозку. И вот уже огромные разбитые сапоги Бертолета зашагали рядом с хромовыми трофейными сапожками Галины.
А далеко впереди обоза шёл Лёвушкин.
Шаг у Лёвушкина вольный и бесшумный — кошачий шаг. Глаза быстрые, зоркие, глядящие так широко, что, кажется, с затылка — и то подмечают. Ну просто как у стрекозы — фантастические глаза. Слух чуткий, подхватывающий шелест падающего сухого листа и шум дальнего ручья в колдобине.
И автомат под рукой, а в нём семьдесят жёлтеньких, жужжащих смертей для врага — целый рой, готовый к вылету. Да четыре тяжёлые лимонки в карманах — чёртовы рифлёные яйца, звон и гром. Да нож отличной золингеновской стали, боевой трофей от эсэсовца, не просто эсэсовца, а того, что был в голубой шинели на шёлковой подкладке. Да парабеллум за пазухой — тоже приятная сердцу игрушка…
Хорошо, бесшумно шёл Лёвушкин — мышцы тугие, жадные к действию, даже, кажется, прислушайся — скрипят от собственной крепости, как портупея у новоиспечённого лейтенанта. А что медсестра Галина — так это забыть! Забыть, в бабушкин комод положить на самое дно! А сверху, как у бабушки, шаль с нафталином, гипсовый бюст Менделеева, ошибочно принимаемый за изображение Саваофа, шубейку лисьего меха, шёлковый платок с розочками — и на ключ, баста!
Слушал, смотрел по сторонам Лёвушкин, но находил ещё время и наклониться, подобрать в шелухе листвы орех — и на литые зубы, как в тиски…
Только успел Лёвушкин орешек подобрать и за щеку его положить, как раздался треск — не от разлетевшейся скорлупы, а от сухой ветки под чьей-то ногой.
Лёвушкин тут же распластался на земле.
Со стороны опушки, где кончался орешник, доносились голоса. Лёвушкин разобрал только, что говорят по-немецки.
Осторожно выглянув из-за куста, он увидел двух человек, в коротких, мышиного цвета шинелях и пилотках. Они устало шли по поляне и глядели под ноги. Зоркий глаз Лёвушкина подметил, что они шли вдоль стелющегося по земле провода. У одного, молодого, за спиной, помимо карабина, висела катушка с проводом — та самая, вечное проклятье всех связистов; у пожилого за поясом с одной стороны была заткнута граната-«колотушка» с длинной деревянной ручкой, а с другой — блестящая телефонная трубка; аппарат же он нёс в руках.
Лёвушкин взглянул вдаль и увидел на склоне одного из холмов хуторок из трёх чахлых изб, а неподалёку — грузовик с широким тупым носом и муравьиное скопище солдат вокруг.
Глаза у разведчика посветлели от ненависти, и хмельная поволока слетела с них, как пенка с молока. Он криво, недобро усмехнулся, словно кот на синичий звон, и, вихляя узкими бёдрами, пополз следом за гитлеровцами…
2
Когда Лёвушкин вернулся к обозу, то за его плечами висел вместе с автоматом ППШ немецкий карабин, а за поясом с одной стороны была заткнута граната-«колотушка» с длинной деревянной ручкой, а с другой — телефонная трубка, соединённая с аппаратом, который Лёвушкин нёс в руке.
Горделиво прошёл он мимо Галины и Бертолета прямо к Топоркову.
— Товарищ майор, в хуторе немцы. На «даймлере» прикатили.
— А это что? — спросил Топорков, указывая взглядом на трофеи.
— А-а… это? — с невинным видом переспросил Лёвушкин. — Это так… Связисты линию проверяли. Прямо на меня нарвались, чёрт! Деваться было некуда.
Глаза у Лёвушкина заголубели — честнейшие, наивнейшие, цвета вешней водички.
Топорков пожевал сухими губами.
— Линию они проверяли? Значит, связь проложена?
— Так точно, проложена. На Ольховку, должно быть.
— Виллó! — крикнул Топорков. — Вы немецкий знаете!.. Пойдёте с Лёвушкиным, подключитесь и послушаете. Затем оборвёте линию и место обрыва заминируете.
Бертолет бросился к телеге и достал из-под сена чёрную коробочку.
Прижав телефонную трубку к уху, подрывник слушал чужую разноголосицу.
— Ну что? — нетерпеливо спросил стоявший рядом Лёвушкин.
Бертолет прикрыл трубку рукой:
— Ничего интересного… Новый год собираются в Кисловодске встречать.
— А почему в Кисловодске?
— Спросить? — сказал Бертолет.
Лёвушкин замолчал.
Время от времени, вслушиваясь в немецкую речь, Бертолет бросал тоскливый взгляд на убитого связиста, который лежал неподалёку. Ветер шевелил светлую прядь, прикрывавшую глаза немецкого солдата.
— А теперь? — снова спросил Лёвушкин.
— Да всё то же… болтовня… Стой!
Лицо Бертолета, и без того длинное, стало вытягиваться по мере того, как он слушал.
— Что?.. Что они?
Однако подрывник, сохраняя застывшее, восковое выражение лица, ещё крепче прижал к уху трубку. Наконец он отсоединил аппарат.
— Ну что?..
— Ты был прав, — сказал Бертолет. — Они знают.
— Что знают?
— Всё. Про обоз всё знают.
3
— Я слышал всё это сам, — встревоженно говорил Бертолет Топоркову. — Какой-то лейтенант отдал распоряжение жандармскому вахмистру из Ольховки выступить на помощь егерям и совместно уничтожить обоз…
— А подробнее?
С деревьев падали мокрые листья. Топорков сидел на стволе поваленного дерева и смотрел себе под ноги. Лицо его оставалось спокойным и бесстрастным.
Они были одни здесь — обоз стоял на опушке. Ждал.
— Подробнее?.. Лейтенант сказал: обоз с оружием пробивается в Кочетовский партизанский отряд. Четыре телеги, сорок семь ящиков с оружием и патронами. Сопровождают обоз, сказал, восемь бойцов, в том числе одна женщина. Прошли Ольховку, двигаются на северо-запад… Ещё сказал, что ведёт обоз бывший красный командир, майор… — Бертолет помолчал и затем добавил: — Одного не пойму, почему он сказал, что нас восемь. Ведь нас девять!
— Один человек сам себя не посчитал, — сказал майор. — Понимаете?
Бертолет загнал прямые, светлые брови под самую каску.
— Значит… вы думаете… Нет, нет, — пробормотал он, ужасаясь тому, что нетвёрдая догадка Лёвушкина становится реальностью. — Это ещё надо проверить… Хорошенько всё проверить и упаси бог сказать кому-нибудь.
— Почему?
— Искать его надо… проверять. Но пока никому не говорить. Эта мысль и так уже витает в воздухе… Быть беде!
— Боитесь?
— Подозрительности боюсь. Каждый начнёт на другого коситься, всё разладится. Как в бой идти, если самим себе не верить? Нет ничего страшней всеобщей подозрительности. Я это знаю!
— И я знаю, — сказал Топорков.
— Значит, так, — начал майор, и партизаны сразу подтянулись, услышав его спокойный голос. — Противник выследил нас и даже примерно установил состав. Вероятно, предстоят бои. Попытаемся их избежать. Для этого предлагаю уйти обратно к реке и под прикрытием тумана двинуться к Гайворонским лесам… Других мнений нет?
— Никак нет, — поспешил ответить за всех Миронов.
— У вас, Гонта? — спросил Топорков, и взгляды их сошлись, как штык к штыку в фехтовальной позиции, и, кажется, даже лёгкий звон прошёл от этого жёсткого соприкосновения.
Гонта ничего не ответил, пошёл к телеге.
— Ты чему радуешься, отставной старшина? — спросил Гонта, вышагивая рядом с Мироновым.
— А чего? — сказал Миронов, помахивая кнутом. — Главное — приказ чёткий, задача разъяснена.
— Эх, голова… — буркнул Гонта. — Если б майор двинулся ночью, как я советовал, мы бы сейчас далеко были!
— Майор — фигура, — пояснил Миронов авторитетно. — Он начальником гарнизона был. Шутка ли! В уставе сказано: «Имеем право привлекать к ответственности военнослужащих, не проходящих службу в частях данного гарнизона, а также проводить дознания!..» Во!
— Если бы вы видели, — вмешался в разговор Беркович, — это был до войны такой красивый брюнет, такой упитанный…
— Это когда ты на него «Северным сиянием» прыскал? — спросил Гонта, щуря свой жёсткий и хитрый глаз.
— Совершенно верно. Теперь он, конечно, другой человек, усталый. А смотрите — ведёт! И без выстрелов, без потерь…
— Всё будет, — буркнул Гонта. — Если так идти, всё будет. Мы как направляемся к кочетовцам? Через Гайворонские леса. Это места сухие, чистые. Не наши, не партизанские места. А немец болота боится!
С опушки орешника, за километр, донёсся глухой удар, будто гигантским вальком кто-то ударил по земле. Лошади нервно застригли ушами.
— Ну вот! Начинается, — кивнул Гонта.
— Это мина, — спокойно объяснил Миронов.
— Какая ещё мина?
— Бертолет заложил. Майор распорядился.
— Чёрт… Нам бы тихо идти… подальше оторваться!
— Брось, Гонта. Не нам с тобой обсуждать.
— Ты, сверхсрочничек! — оборвал Миронова Гонта. — Может, я не до тонкостей разбираюсь в военном деле… но в людях — разбираюсь. — И в голосе его прозвучала уже неприкрытая угроза.
4
Обоз шёл в глухом приречном тумане. Неслышно шёл. Только звякнет время от времени металл, или хрустнет под колесом сухая валежина, или хлестнёт кого-нибудь по лицу пружинистая ветка.
Сырость была густая, вязкая, как кисель. Туман стоял впереди стеной. Но по мере того как подходил обоз, из этой стены выступали какие-то фантастические тёмные узоры, какие-то когтистые лапы и сгорбленные фигуры. И с каждым шагом эти лапы и фигуры приобретали всё более реальные очертания и становились узловатыми дубами или кустами ивняка.
Туман темнел: приближались сумерки.
Иногда над долиной реки пролетал огненный пунктир трассера. «Тра-та-та-та!» — строчила машина, укладывая высоко над головой партизан непрочную огненную строчку.
Или где-то совсем близко взлетала ракета: словно бы кто, озоруя, высоко подбрасывал в воздух тлеющий окурок. Но затем вдруг окурок весело хлопал, вспыхивал и с шипением начинал сеять вокруг голубоватый мертвенный свет.
— Пуляют в божий свет, — говорил Андреев. — Сами боятся и нас пугают… Один знающий человек рассказывал — каждый автоматный выстрел двадцать копеек стоит. Нажал — и пожалуйста, три целковых. — Он скосил глаз на Лёвушкина. — Вот Лёвушкин свободно мог бы миллионером стать, любит нажимать!..
— Молодцом, батя, — похвалил Андреева Лёвушкин, — не унываете!
— Чего унывать? Унывать некогда. Не все слёзки ещё у нас с немцем сосчитаны!
Топорков шёл сзади, немного поотстав от последней телеги. Шёл шатаясь, и тонкие прямые ноги, подставляемые под наклонённое, падающее вперёд туловище, служили ему ненадёжной опорой.
Гонта встал на его пути.
— Опять одиночества ищешь? — с вызовом спросил он. — Ты погоди, майор. Поговорить с тобой хочу. Пришёл час.
— О чём?
— Известно о чём! — Гонта вдруг перешёл на шёпот. — Шлёпнуть бы тебя — и дело с концом…
— В чём ты меня обвиняешь?
— В том, что умышленно вывел обоз на немцев, что всех нас, как пацанов, в угол загнал… Не знаю только, от дурости или ещё по какой причине… Что в Гайворонские леса на погибель нас ведёшь… А немцы откуда всё про нас разнюхали, а?
— Глупости говоришь, Гонта.
— Нет, майор. Я за тобой давно наблюдаю. Затеваешь ты что-то, хитришь…
— Точнее? — сказал Топорков.
— А точнее — сдавай оружие! Меня послали заместителем, майор. Вот и пришла пора заместить.
Топорков сжался, как для прыжка. Со злостью смотрел он на бронзоволицего, крепкого Гонту. Но постепенно накал его зрачков потух, пальцы разжались.
Он отвернулся и в задумчивости принялся рассматривать носки своих сапог.
— Не хитри, майор, — сказал Гонта. — Сдавай оружие. Плохо тебе будет, майор. Меня с места не сдвинешь. Застрелю!
…На бетонном плацу, среди серых низких бараков, стояла шеренга людей, отмеченных печатью дистрофии. И лающий голос офицера вырывал из этой шеренги каждого пятого: «Fünfter!.. Fünfter!..[1] Fünfter!.. Fünfter!..»
— Да, тебя не сдвинешь, — тускло сказал майор. — Ну хорошо… согласен.
Он передал Гонте автомат и парабеллум:
— Смотри, доведи обоз до кочетовцев…
— Это уж не твоя забота, майор. Доставим. И тебя до особого отдела доставим. А погибнем, так знай, майор, — твоя смерть чуть впереди моей идёт!..
Гонта закинул автомат Топоркова себе за спину, парабеллум сунул в карман куртки.
— Лишь об одном я тебя попрошу… — Топорков сказал это с натугой, как бы повернув внутри себя скрежещущие мельничные жернова, и слова вышли из-под этих жерновов сдавленными, плоскими, лишёнными выражения. — Делай хотя бы вид, что ничего не произошло, иначе отряд начнёт распадаться… Если исчезнет дисциплина, немцы возьмут нас голыми руками.
Он не стал ждать ответа, пошёл к обозу. Теперь его лицо казалось бесстрастным. Он словно вслушивался в отдалённые голоса. Гонта проводил его удивлённым взглядом.
День шестой БОЙ В ЧЕРНОКОРОВИЧАХ
1
Прихрамывая, Бертолет шагал рядом с Галиной. Тревожно прислушиваясь к отдалённым выстрелам, он клонил к Галине голову, прикрытую округлым металлическим шлемом.
— Жалею, что вы пошли с нами, — говорил он. — Видите, как всё складывается. Ищут нас немцы.
— Ничего, — ответила Галина. Она подняла на Бертолета глаза, сказала, продолжая думать о чём-то своём: — Знаете… Вот у меня жизнь не очень хорошая была. Отец пил… Мы, детвора, — как мыши… Парень за мной стал ухаживать, ничего парень, электротехник, да из-за отца отстал. Нет, не так уж много хорошего было. А всё — наше… Понимаете? Вот они пришли, чужие, а я им ничего не хочу отдать — ни хорошего, ни плохого. Ничего им не понять, и ничего у меня к ним, кроме ненависти, нету…
Впереди послышался какой-то шум. Бертолет вытянул длинную, худую шею. Из темноты выступил Лёвушкин, махнул рукой;
— Если на Берлин, то направо! Сворачивайте! Приказ!
Галина схватилась за вожжи, телега свернула. Колёса запрыгали по колдобинам и корням у самого края заполненного клубящимся туманом бочага.
— Почему свернули? — спросил у Гонты Топорков.
— Я приказал. Иди, майор, помогай лошадям пока…
— Не горячись, Гонта. Думай о военной стороне дела.
— А ты не путай меня! — огрызнулся пулемётчик. — Что ты путаешь? Не разберусь: или тебя шлёпнуть как злостного предателя, или довести до партизанского нашего трибунала… Не путай меня, майор!
Топорков закашлялся, сказал, протирая слезящиеся, воспалённые глаза:
— В Калинкиной пуще болота!
— И дело! Растворимся, проскочим. Болота партизану — верный друг. В болотах наша сила!..
— Против нас идут егеря. Они умеют воевать в лесах.
— А ты разве не в Гайворонские леса нас вёл?
— Там нас до поры до времени мог спасать манёвр.
В тёмных, сощуренных глазах Гонты светилась неповоротливая, но верная, без обману, крестьянская смекалка. Он докурил цигарку с партизанской виртуозностью, без остатка — только две махорочные крошки осели на жёлтом пальце. Дунул на обожжённую кожу, покосился в сторону майора:
— Эх, майор! До поры до времени! А потом как?.. Чего задумал, а? Нет, не путай меня! Идём в Калинкину пущу, точка! — И Гонта тяжёлой рысцой помчался к обозу.
— Кучнее держись!.. Подтянись! — раздался его басовитый голос.
— Что-то я по старости лет не пойму, кто нас нынче ведёт, — ворчал Андреев, хитро и молодо глядя из-под капюшона на Гонту.
— Видать, майор ему приказал командовать, — ответил шагавший рядом Миронов. — Наше дело — подчиняться. Если во всё встревать, нос прищемят.
— Во-во, — согласился Андреев. — Знал я одного такого из-под Хабаровска. Ему конь копытом нос отбил. Так он этот, как его… гу… гуттаперчевый носил… Сколько он их растерял по пьяному делу! Этих носов-то…
— Ишь ты, — восхитился Миронов. — Это ж денег не напасёшься!
— А он зарабатывал. Без носа был, зато с умом… А вот те, которые ни во что не встревают, у тех мозги гуттаперчевые становятся, это хуже.
— Ядовитый ты, дедок, — сказал Миронов.
2
С рассветом Гонта разрешил партизанам отдохнуть, и они заснули в тех позах, которые способно придать человеку лишь крайнее утомление, когда даже обитый железом ящик кажется тёплым настилом русской печи.
Отдельно, в можжевельниковом кустарнике, уложив шинель на пружинистые, плотные ветви, спал Лёвушкин. Гонта тронул его за плечо. Разведчик тотчас же вскочил, словно подброшенный кустарником, как катапультой. Он тряхнул головой, и сон слетел с него вместе с хвоей и листьями, запутавшимися в волосах.
— Пойдёшь в Чернокоровичи. Возьми парикмахера: он здешних знает… Если там всё в порядке, махнёшь с околицы пилоткой. Нам к Калинкиной пуще поле пересекать. На виду у деревни! Так что сам понимаешь.
— Ясно! — Лёвушкин сунул за пояс трофейную «колотушку» и отправился к Берковичу: — Пошли к родичам, парикмахер!
Тот одёрнул серую шинель, оглянулся на одинокую тощую фигуру Топоркова:
— Прямо взяли и пошли! Сначала доложусь.
— Не надо, — усмехнулся Лёвушкин. — Гонта распорядился.
— Тем более!
И Беркович побежал к Топоркову, остановился напротив и даже попытался изобразить классическую строевую стойку.
— Товарищ майор, разрешите отбыть в разведку! — Он косил взгляд на стоявшего неподалёку Гонту, догадываясь о сложностях, возникших в отношениях этих двух людей.
Лёгкая, пролётная улыбка коснулась лица Топоркова, чуть дрогнули края глаз и уголки бледногубого рта.
— Идите, Беркович, — мягко сказал майор.
И парикмахер, круто повернувшись, затрусил за Лёвушкиным. Вот уже его маленькая сгорбленная фигурка исчезла в кустарнике.
Клочья тумана расползались по холму, как овечье стадо. Лес кончился, впереди лежала тёмно-серая, перепаханная когда-то, но уже заросшая сорняком земля. За холмом, на берегу реки, темнело несколько десятков изб, а ещё дальше, километрах в трёх или четырёх, начинался новый лес, казавшийся отсюда, с опушки, густым и заманчивым. Но обозу, чтобы дойти до него, требовалось пересечь открытый участок.
— Вон то и есть Калинкина пуща? — спросил разведчик. Беркович кивнул и, вытянув шею, продолжал вглядываться в крайние дома. Он словно чего-то ждал.
— Молчат, — сказал вдруг он растерянно. — Как ты думаешь, Лёвушкин, почему они молчат?
— Кто?
— Петухи… Раньше, бывало, за версту слышно… Знаменитые были петухи. Хор Пятницкого так не пел!
— Сейчас многие не поют, кто раньше пел, — философски заметил разведчик.
— Может, спят ещё?
— Ничего, — Лёвушкин сунул за пояс трофейную «колотушку», — разбудим!..
3
Диковинна и загадочна связь великих и малых явлений в мире войны: вот Беркович, сутулый штатский человек, страдающий гастритом, парикмахер, руки которого изнежены от многолетней возни с бриолином и паровыми компрессами, и, пожалуйста, — на Берковиче немецкая офицерская шинель с плеча белокурого обер-лейтенанта из Пруссии, а в руках не машинка для стрижки, а совсем иного рода механизм: тяжёлый тупорылый пистолет-пулемёт системы товарища Шпагина, скорострельностью тысяча выстрелов в минуту.
Перед Берковичем — деревня, где живёт его собственная тёща, тётя Ханна, которая бы прямо руками всплеснула от радости, завидев знакомые оттопыренные уши зятя, круглые, как диски ППШ, но Беркович вынужден прятаться в кустарнике, совсем неподалёку от дома тёщи, а потом, словно шелудивый бездомный пёс, ползти к дому тёщи на животе…
На самой окраине Чернокоровичей они отдышались, а затем Лёвушкин подбежал к крайнему дому и, извиваясь бесхребетным телом, нырнул в дыру в заборе, за ним полез и парикмахер.
Сквозь окно с выбитыми стёклами они заглянули в избу. Изба была пуста. На них пахнуло плесенным духом.
Лёвушкин просунул голову в приоткрытую дверь хлева. Пустые коровьи ясли… пустые насесты… ни одного живого существа… И улица была пустынна, как в дурном, страшном сне.
Полные тревоги, встав почему-то на цыпочки, они перебежали к следующему дому.
— Эй, тётя Ханна! — крикнул Беркович. — Отзовитесь!.. Он вошёл в большую, наполненную сквозняками, дующими из пустых окон, комнату. Увидел обломки грубой, домашнего изготовления мебели, подобрал бутылочку с надетой на горлышко соской… По комнате летал пух, играл в догонялки. Беркович вышел из избы и опустился на крыльцо.
— Значит, это правда? Значит, они никого не оставляют? Даже в сёлах? А-а-а… — пробормотал он, обхватив голову руками. — Ведь жили же здесь люди, тесно жили, один к одному, как у человека зубы, и никто друг другу не мешал! И немецкие колонисты — да, Лёвушкин, и немцы, и русские, и украинцы, и белорусы, и поляки, и никому не было тесно, всем была работа… А какие ярмарки были здесь, Лёвушкин, какие ярмарки! Каждый привозил чем гордился, что умел делать: и ты мог выпить немецкого густого пива, и купить глечик или макитру у украинского гончара для коржей или белорусской картошки на семена — какая была картошка! Или купить хорошие цинковые ночвы у старого еврея, чтоб купать своего младенца; ты не купал младенца, Лёвушкин, ты не знаешь — это же такая радость!
— Ты посиди, — сказал Лёвушкин и дотронулся рукой до шинели Берковича. — Ты отдохни.
И он пошёл по пустой улице, мимо безглазых домов. На околице остановился и замахал пилоткой.
Сверху ему было хорошо видно, как из лесу вышел Гонта, а следом потянулись телеги.
— Не торопитесь! — командовал Гонта. — Колёса не побейте на пахоте!..
И телеги замедлили свой ход, поползли тихо, как утки, переваливаясь из стороны в сторону…
Лёвушкин проводил взглядом обоз.
Всходило солнце. Великолепная красная краюха легла на полузаваленный плетень возле дома старого Лейбы, профессионального собирателя щетины и прорицателя-общественника.
И тут произошло явление невероятное, удивительное.
Закричал петух. Облезлый, малорослый, со свалившимся набок гребнем, покрытый пылью каких-то неведомых закоулков, одичавший, сверкая свирепым глазом, он вскочил на плетень и заорал.
Он ликовал, он испытывал непонятное петушиное вдохновение и орал так, словно взялся подтвердить славу голосистых чернокоровичских петухов, дабы не исчезла она из памяти человеческой.
Лёвушкин в изумлении открыл полнозубый рот:
— Гляди-ка, уцелел!.. Разве что на суп хлопцам?.. Стукнуть, а? — И Лёвушкин с несвойственной ему нерешительностью снял с плеча автомат.
— Уцелел! — прошептал Беркович. — Хоть он-то от фрицев уцелел!
— Партизанский петух, — подтвердил Лёвушкин и не без сожаления закинул автомат за плечо. — Чёрт с ним, пусть гуляет. Заслужил!
И в эту секунду, в паузе петушиного пения, где-то далеко за селом глухо взревел мотор.
Лёвушкин обернулся и увидел, что из низинки к Чернокоровичам движется тяжёлый трёхосный «даймлер», в кузове которого однообразно, в такт, колышутся кепи егерей.
Взгляд Лёвушкина метнулся в другую сторону. Там, по пахоте, шли партизанские телеги. Шли очень медленно, чтобы не побить колёса. Семеро партизан не предполагали опасности со стороны деревни…
— А, чёрт, — с тоской сказал Лёвушкин и увлёк Берковича за дом. — Надо их остановить. А то к обозу вырвутся…
Хищно оскалив рот, он ещё какое-то время смотрел на взбирающийся на пригорок «даймлер», а потом решительно сунул руку в карман своих кавалерийских галифе, шитых на Добрыню Никитича, извлёк оттуда кусок проволоки и принялся деловито и ловко через рифлёные корпуса привязывать лимонки к «колотушке».
— Становись за углом, — сказал он парикмахеру. — Как только ахнет — сразу очередью по кузову и на огороды, к реке. Может, утечём…
Телеги переваливались через твёрдые как камень, сухие глыбы земли. Иной раз какая-нибудь упряжка застревала, и приходилось всем миром наваливаться и враскачку выталкивать её из борозды или из глубокой промоины.
Кони были мокрые, бока их вздымались, как кузнечные мехи.
— Загоним коней… Эх, загоним… — причитал Степан, перебегая от одной телеги к другой.
— Да заткнись ты… пономарь! — зло сказал Гонта, рукавом куртки смахивая с лица пот. — Людей бы пожалел!..
4
«Даймлер» плотно, уверенно хватал просёлок чёрными разлапистыми колёсами. Солдаты, сидевшие в кузове, смотрели тупо и прямо, борясь с дремотой. Грузовик въехал в узкую улицу деревни, и гулкое эхо заиграло среди пустых домов.
Румяный егерь с ефрейторской лычкой на погонах, сидевший над самой кабиной, вдруг встал и, указывая рукой туда, где виднелись партизанские упряжки, завопил и застучал по кабине.
Шофёр прибавил ходу. Прямой клюв ручного пулемёта вытянулся в направлении обоза. Вразброд, Как настраиваемые инструменты оркестра, заклацали затворы.
…Металлическая коробка по названию «даймлер», наполненная солдатскими судьбами, как воскресная авоська алкоголика пустыми бутылками, подъезжала к дому, где стоял Лёвушкин.
В обозе тоже услышали гул мотора и увидели приближающийся к домам грузовик.
— Фашисты! — крикнул Миронов и принялся нахлёстывать свою упряжку. Не успев свернуть, он задел край телеги, у которой шёл Бертолет. Раздался треск, телеги сцепились.
— Какого чёрта, не видишь! — закричал старшина, замахиваясь кнутом. — Путаешься здесь, нескладуха! К лесу не поспеем!
Топорков скользнул внимательными глазами по лицу старшины и бросился к Гонте.
— Ну!.. Чего же ты! Командуй! — сказал, ухватив Гонту за плечо тонкими цепкими пальцами. — Ставь пулемёт!
Лёвушкин притаился за углом дома, держа наготове тяжёлую железную гроздь. Глаза его были полны холодного бешенства.
Он ждал, рассчитывал. Скорость машины, траектория полёта гранат, время горения запала — все эти величины сложились в голове Лёвушкина в одну чёткую формулу, да так быстро и ловко сложились, как будто Лёвушкин усвоил эту формулу ещё до того, как у него прорезался первый зуб.
И как конечный, действенный вывод этой формулы был взмах руки. Дёрнув длинный шнур «колотушки», Лёвушкин неторопливо швырнул связку через плетень, под радиатор наезжавшего «даймлера».
Лёвушкин бил из автомата в облако пыли и дыма, всё ещё окутывавшее грузовик.
— Стриги их, парикмахер! — упоённо кричал он.
Но из облака ударил ответный огонь, и древесная труха, посыпавшаяся из брёвен над головой разведчика, запорошила ему глаза.
— Отход! — закричал Лёвушкин, и они помчались за дом, на огороды, к крутому берегу реки.
Беркович первым прыгнул с песчаного откоса вниз, но сделал это как-то странно, неуклюже, словно разобщившись вдруг в суставах. Лёвушкин приземлился на влажный прибрежный песок мгновением позже. Парикмахер лежал ничком. Запалённо дыша, Лёвушкин коснулся его затылка — и ладонь стала красной.
Он перевернул Берковича на спину и увидел окровавленный рот; тёмные шарики зрачков безвольно покатились в глазные уголки и застыли.
Лёвушкин услышал наверху тяжёлый топот.
— Эх, душу вашу! — выругался разведчик сквозь стиснутые зубы и, подхватив автомат Берковича, помчался под крутым берегом к прибрежным кустам.
Стихли выстрелы. Румяный ефрейтор стоял на берегу рядом с обер-фельдфебелем, в трёх метрах над Берковичем, и рассматривал убитого.
— Ich hab ihn niedergeschossen, wie ein Rebhuhn, — сказал ефрейтор. — Grag im Fluge![3]
— Gut! — мрачно буркнул обер-фельдфебель.
Неподалёку перевязывали раненых. Маленький радист с рассечённой губой, бледный, заученно кликал по походной рации какого-то «Jäger» — «Охотника».
— Ou, ein Hahn! — раздался со стороны огородов приглушённый вопль ефрейтора.
Он стремительно рухнул на землю, как борец на поскользнувшегося противника, а когда поднялся, в руке его разноцветным флажком трепетал единственный чернокоровичский петух. Петух делал отчаянные попытки вырваться, но красные толстые пальцы держали его крепко.
Господин обер-фельдфебель улыбнулся. Улыбка появилась и на лицах солдат. Даже рассечённая губа радиста потянулась в улыбке.
Взрывы и смерть они не видели. Взрывы и смерть — это неизбежно, а петух для солдатского котла — находка. Петух — это очень хорошо.
— Ein Hahn! — ещё громче закричал ефрейтор и залез на поленницу, высоко подняв петуха.
Издалека, со стороны леса, раздался щелчок — будто бы ударил пастуший бич на опушке.
Ефрейтор, стоявший на поленнице, как на пьедестале, побледнел. Маленькие его глазки, разгоревшиеся под биением петушиных крыльев, как угольки, вмиг подёрнулись пеплом.
Две или три секунды ефрейтор ещё продолжал стоять, словно бы осваивая неожиданную и неприятную мысль о том, что ему уже не придётся хлебать суп из чернокоровичского петуха, и затем тяжело рухнул на землю.
Вместе с гримасой страха и боли его пивное лицо посетило на краткий миг, как последний божий дар, человеческое выражение.
Андреев опустил снайперскую винтовку.
Поленница рассыпалась от падения тяжёлого ефрейторского тела. Петух вырвался из ослабевших пальцев и, разбросав крылья, сверкая когтистыми лапами, опрометью умчался в овражек, в густой бурьян — продолжать свою таинственную, одинокую петушиную жизнь…
5
Накликал «охотников» маленький немецкий радист! Едва обоз втянулся в лес и едва успел Гонта дотащить трофейный МГ до опушки, как окраина Чернокоровичей наполнилась весёлым мотоциклетным треском.
Одна за другой, словно блохи, впрыгивали чёрные маленькие мотоциклетки на бугор, где стояло село, исчезали среди домов, а затем, значительно увеличившись в размерах, появлялись на противоположной околице, ближе к партизанам. За мотоциклетками показался ещё один мерно рокочущий, громоздкий, как чемодан, грузовик, везущий новую порцию солдат.
Мотоциклисты остановились на дороге, метрах в пятистах от леса. К ним подъехал грузовик. Егеря, быстро и ловко развернувшись в цепь, двинулись к опушке. Позади шёл офицер в высокой фуражке, в окружении нескольких автоматчиков.
— Будут прочёсывать, — сказал Топорков, глядя на цепь гитлеровцев одичавшими глазами.
Гонта кивнул и, словно бы лишь сейчас вспомнив о ссоре, резко повернулся к майору и схватил его за отвороты шинели. Лёгкое тело Топоркова заколыхалось, как сухой стебель мятлика под ветром.
— Слушай, майор, ты в военном деле кумекаешь! Я тебе верить хочу, понял?
Топорков смотрел в бронзовое, скуластое лицо пулемётчика, раскачиваемый его руками.
— Отпусти, — сказал он тихо, и пальцы, державшие шинель, разжались. — Хочешь верить, так верь. Не паникуй. Воюй, Гонта! — И он повернулся к Андрееву, который неслышно залёг рядом в траве. — Андреев, офицера видите?
День шестой ИЗМЕНА
1
Цепь, продвигавшаяся к лесу, наткнулась на длинную очередь и залегла. Лейтенант в высокой фуражке перебегал с одного места на другое, слышались его сердитые окрики.
Выждав, когда стих пулемёт Гонты, егеря снова стали приподниматься и попеременно, перебежками, под прикрытием густого автоматного огня продвигаться к лесу. Приподнялся и офицер.
Этого только и ждал Андреев. Вглядываясь сквозь цейсовскую оптику в белое, сухое лицо, он нажал спуск. Взмахнув руками, лейтенант скрылся в траве.
Два егеря тотчас бросились к нему.
— Sanitätsdienst! — закричали на опушке. — Zum Herrn Leutnant![4]
Цепь залегла. И в это время коротконогий, приземистый обер-фельдфебель подбежал к мотоциклистам и что-то прокричал им, взмахнув рукой по направлению к лесу.
Вскоре грохочущие, юркие машины исчезли с опушки. Только лёгкие столбы пыли закрутились над дорогой, и в эти-то столбы напряжённо всматривался майор Топорков.
— Я пойду к обозу! — крикнул он Гонте и коснулся его пропылённой кожаной куртки. — Мотоциклы пошли в обход! В тыл!
Гонта открыл прокуренные крупные зубы. Во взгляде его сквозила неуверенность.
— Никуда… Со мной будешь! — буркнул он и вновь взялся за рукоять МГ.
Ему не пришлось стрелять. Егеря не отрывались от земли. Не хотели егеря идти в загадочный, глухой лес, где скрывались партизаны.
— Видал! — с торжеством сказал Гонта и повернулся к майору.
Но майора не оказалось рядом. Он исчез. Убежал!
Обоз с трудом пробирался в чащобе. Со стороны опушки доносились приглушённые расстоянием выстрелы.
Степан увидел впереди просвет, обогнал свою шедшую первой упряжку и выбежал на узкую лесную дорогу с глубокими колеями, пробитыми в песке.
— Хлопцы, сюда! — крикнул Степан.
Бертолет, Галина и Миронов погнали лошадей к дороге.
Уже вздохнули облегчённо Степановы битюги, развернув телегу на песчаной колее, когда на дорогу, чуть в стороне, выбежал Топорков.
— Назад! — закричал он. — Назад, в лес!
Впалая грудь майора ходила ходуном. Он стиснул воротник гимнастёрки, чтобы удержать в себе сухой, сипящий кашель, который рвался наружу.
Степан, недоуменно хлопая белёсыми ресницами, принялся разворачивать телегу. Топорков подбежал к Бертолету.
— Автомат! — скомандовал он, и Бертолет послушно отдал свой шмайссер.
Топорков, неловко вскидывая ноги, помчался на дорогу. И тут они услышали знакомое тарахтение, будто кто-то, приближаясь, вёл палкой по штакетнику.
Подрывник сбил набок каску, отчего лицо приобрело несвойственный ему ухарский вид, взял из-под сена гранату и побежал вслед за майором.
И Галина, забросив вожжи на телегу, помчалась за ним.
— Тю, скаженни! — сказал невозмутимый Степан и, почувствовав себя самым главным из оставшихся — как-никак человек при конях, — рявкнул на Миронова:
— Отводи обоз!
Топорков, за ним — кузнечиком — прихрамывающий Бертолет, а затем Галина выбежали к повороту дороги, когда из-за деревьев, пробуксовывая в песке, юзя от бровки к бровке, показался первый оторвавшийся от других мотоцикл.
Лицо у подрывника вытянулось и побелело. Он взглянул на Галину и сделал глубокий вдох, как перед прыжком.
— Ничего, — сказал Топорков. — Нам их только отпугнуть!
Крючковатым тонким пальцем он нажал на спуск. И Галина дала короткую очередь.
Водитель мотоцикла попытался было развернуться под огнём, но завяз в песке. Тогда он спрыгнул с сиденья и покатился с дороги в кусты. Напарник его, сняв с коляски пулемёт, зацепился шинелью за какой-то выступ, яростно рвался, пока тот, первый, не пришёл ему на помощь, и оба они скрылись в лесу.
С грохотом, на низких передачах, приближались остальные мотоциклисты. Завидев покинутую машину, они остановились, развернув слегка коляски, и осыпали лес плотным огнём из трёх пулемётных стволов.
Топорков, Бертолет и Галина лежали, уткнувшись в землю, не поднимая головы. Куски коры, срезанные ветви летели на них, и лес загудел, принимая на себя свинцовый удар.
2
Степан возился с застрявшей телегой, колесо которой заскочило в расщеплённый пень.
По ожесточённой пулемётной стрельбе, доносившейся со стороны лесной дороги, Степану нетрудно было догадаться, что Топоркову приходится туго. И поэтому, с надеждой взглянув на вооружённого до зубов Миронова, Степан сказал:
— Слышишь, рубка идёт!
Миронов прислушался. Автоматы Галины и Топоркова стучали без перерыва, но затем автоматные очереди перекрыло звонкое татаканье пулемётов.
— Наши… А это немцы…
Через несколько секунд автоматы и вовсе затихли, лишь пулемёты бушевали вовсю.
— Немцы!
— Видать, труба дело, — сказал Миронов. — Видать, прихватят нас! Да мы ж не начальство, чего им нас расстреливать, а? Авось живы будем.
— Чего ты мелешь? — сурово спросил ездовой.
— Я дело говорю, — озираясь по сторонам, сказал Миронов. — Конечно, командиров, коммунистов они расстреливают, а ты-то человек подневольный…
— Вот, — сказал Степан и достал из-под сена две рифлёные лимонки. — Прямо под взрывчатку и суну, понял? Вот будет и плен…
Миронов вытер ладонью лицо и улыбнулся:
— А ты молодцом, Стёпа!
— Экзамены устраивать! — пробормотал Степан. — Нашёл время!
Обхватив своими лапами-клешнями колесо, он наконец вырвал его из капкана.
— Н-но, рóдные, давай! — гаркнул он.
И тут, разворачивая телегу, Степан заметил двух поджарых, пропылённых фашистских солдат, которые зло и испуганно смотрели на него из-за дерева. Это двое вооружённых ручным пулемётом мотоциклистов, искавшие выход к опушке, наткнулись на обоз.
Широкое лицо ездового отразило мучительную внутреннюю борьбу. Первой мыслью Степана было броситься под телегу и уползти, второй — схватить с телеги карабин, а третьей — не делать ни того, ни другого, потому что ползти — позор, к карабину не поспеть, а вот обоз, который ему доверен, надо угонять в лес, спасать от гитлеровцев.
Все эти фазы душевной борьбы отразились на лице ездового в тот промежуток времени, когда колесо телеги делало четверть оборота. Степан подчинился третьей, самой важной мысли.
— Миронов, стреляй! — закричал он, как в граммофонную трубу, так что эхо пошло гулять по лесу, и погнал своих битюгов вперёд.
Мужественный, умелый сверхсрочник, несомненно, должен был выручить Степана точным огнём.
Но Миронов повёл себя странно, даже невероятно. Как будто особым, избирательным чутьём уловил лишь первую мысль Степана, а остальные заблудились, рассеялись по лесу.
Миронов бросился на землю и притих, словно ожидая, чем закончится эта любопытная сценка.
— Миронов! — взвыл Степан, нахлёстывая лошадей. — Стреляй!
Но сверхсрочник, пятясь, пополз в соснячок, под защиту ветвей. А мотоциклист, тот, что был с пулемётом, справился с потрясением, вызванным неожиданной встречей, и уже наставил ствол со зловещим раструбом пламегасителя на конце. Только то обстоятельство спасло ездового, что при развороте телеги заводные лошадки заслонили его своими крупами от фашистов.
Послав короткую очередь по лошадям, пулемётчик присел, высматривая Степана.
Палец его потянулся к спусковому крючку, лицо исказилось, как это всегда бывает с человеком, который стреляет в противника с близкого расстояния и даже слышит удары пуль в тело… Но очереди не последовало.
Позади мотоциклистов возник Лёвушкин — в растерзанном, мокром ватнике и брезентовых бесшумных сапогах. Раздались два одиночных автоматных выстрела.
Затем Лёвушкин бросился к телеге мимо оцепеневшего Степана и, схватив флягу, приварился к ней пылающим ртом.
Даже если бы в этот момент Лёвушкин увидел наведённый на него пушечный ствол, то и тогда не мог бы оторвать себя от фляги: такое было на его физиономии упоение и блаженство. Наконец фляга была опустошена.
— То-то, слышу, у вас идёт веселье, — сказал Лёвушкин и бросил флягу на ящики. — Шуму-то, шуму, тихо помирать не умеете…
Степан же, глядя на Лёвушкина удивлёнными, застывшими глазами, приложил ладонь к боку, ещё более изумился и сполз под остановившееся колесо.
— Ты чего? — бросился к нему Лёвушкин. — Чего, Стёпка?
— Задела! — сказал ездовой. — Слушай, Миронов там! — Он указал на соснячок, где ещё колыхались ветви. — Убежал… Тащи его, Лёвушкин… Трясця его матери, тащи!..
На дороге уже не стреляли.
3
Покинувший опушку Гонта поспел к дороге как раз в ту минуту, когда Топорков, поняв, что мотоциклистов им не одолеть, крикнул Бертолету: «Отход!» — и приготовился прикрывать отступление.
Гонта ещё не добежал к месту боя, не успел выбрать позицию и, сунув ствол МГ в рогульку раздвоенной сосенки, держа пулемёт неловко, как отбойный молоток, дал в сторону мотоциклистов неприцельную, наугад, очередь.
Безостановочно работающий затвор сжевал остаток ленты, выплюнул последнюю гильзу и осёкся.
Но этой очереди было достаточно: помогая друг другу, немцы кое-как развернули мотоциклы на узкой песчаной дороге и умчались, оставив в лесу двух солдат «без вести пропавшими».
Этих-то солдат, лежавших ничком на земле, Гонта и остальные партизаны, возвращавшиеся после боя у дороги, увидели, когда разыскивали обоз. Неподалёку от солдат, выпятив ободья рёбер, лежали и две заводные партизанские лошадки.
Затем глазам партизан предстала картина ещё более неожиданная.
Истерзанный, в грязи и царапинах, Лёвушкин держал одной рукой за воротник старшину-сверхсрочника Миронова, а другой бил его по круглому лицу, которое легко, как воздушный шарик, моталось от одного плеча к другому.
Степан же сидел на земле, прижав алую ладонь к боку, и подбадривал рассвирепевшего разведчика хриплыми возгласами:
— Врежь ему, Лёвушкин! В плен гаду захотелось!
Увидев Гонту, Лёвушкин швырнул Миронова на землю.
— Вот… — сказал он. — Дезертир, сволочь! Хотел ещё прирезать меня в соснячке… Бросил обоз.
— Где Беркович? — спросил Топорков.
— Там. — Лёвушкин кивнул в сторону деревни, и губы его дёрнулись, словно от нервного тика. — В голову.
— Так, — качнул головой Гонта и подозвал Галину: — Перевяжи ездового.
Затем он обратил взгляд на Миронова.
— Встань! — приказал Гонта, и Миронов быстро вскочил. Глаза его, уже подплывшие синевой, сновали, как маятник у ходиков. Тик-так, тик-так… От Бертолета — к Гонте, от Гонты — к Топоркову. В нём ничего не осталось от бравого и уверенного в себе сверхсрочника. Эта разительная перемена несколько озадачила Гонту, и он прикусил губу, размышляя над происшедшим.
— Сволочь он, — бормотал Степан, пока Галина разрезала на нём влажную от крови рубаху. — Бросил! Убежал!
— У меня автомат отказал! — крикнул Миронов торопливо. — Я хотел за помощью! А Лёвушкина в соснячке не разобрал, думал — фашист. Я к вам хотел, за помощью… Товарищи!..
Лицо Гонты стало тяжёлым и однообразно-жёстким, как булыжник. От человека с таким лицом нельзя было ожидать сочувствия, и Миронов это понял. Он перевёл взгляд на Топоркова. Этот человек, иссушенный, сдержанный, неторопливый, не мог прибегнуть к самосуду, нет, он никак не мог поступить не по закону!
— Товарищ майор, — взмолился Миронов. — Вы ж кадровый! Ей-богу, автомат неисправный… Отказал! Так я кинулся за помощью. Могли ж обоз захватить. Всё оружие!.. Ведь не за себя же думал!
— Постойте! — сказал Топорков Гонте. Он подошёл к телеге, оторвал доску в крышке одного из ящиков с оружием и достал новенький, блестевший смазкой ППШ. — Чёрт с ним, пусть берёт и воюет. Нам каждый человек дорог!
— Эх, майор! — презрительно ответил Гонта и приказал Лёвушкину: — Подай-ка автомат Миронова!
Лёвушкин, блестя разгоревшимися глазами, тут же подал автомат. Гонта бегло осмотрел затвор.
— Неисправный, говоришь? — переспросил он у сверхсрочника. — Это мы очень просто проверим… Становись к сосне!
Миронов проглотил слюну и, шатаясь, ослабев, сделал несколько шагов назад.
— Если неисправный, тебе бояться нечего… — И Гонта вскинул автомат. Кургузый его палец лёг на спусковой крючок.
И тут Миронов, жалкий, растерявший всю свою бойкость и выправку и едва державшийся на ослабевших ногах Миронов, сделал то, чего от него никто не ожидал: мгновенно хлёстко разогнулся, словно подброшенный пружиной, взлетел в воздух и столкнулся с Бертолетом, который только что подошёл к обозу, держа каску в руке за подбородный ремень, как котелок. Подрывник, сам того не понимая, преграждал Миронову путь к лесу.
Как-то коротко и очень ловко Миронов ударил Бертолета ладонью в подбородок, отчего тот завертелся беззвучным волчком, а сам, петляя, помчался между сосенками.
Лёвушкин метнулся было следом, но Гонта крикнул:
— Стой! — и поднял автомат.
Устроившись поудобнее, Гонта повёл стволом, отыскал мушкой движущуюся, бешено работающую лопатками спину Миронова.
Но случилось невероятное. В тот момент, когда Гонта нажал на спусковой крючок, Топорков, изогнувшись, ударил ладонью по круглому диску.
Автомат заговорил, затрясся, но очередь, срезая ветви, ушла в небо.
Миронов скрылся за деревьями.
— А-а… — яростно промычал Гонта и повернулся к Топоркову.
День шестой ТОПОРКОВ РАСКРЫВАЕТ ТАЙНУ
1
Майор стоял посреди обоза, открытый взглядам шестерых людей, стоял твёрдо и неуязвимо.
— Та-а-ак… Значит, всё-таки я не ошибся, — сказал Гонта с натугой. — Ты всё-таки!..
Лёвушкин сделал шаг к майору. И все, кроме сидевшего у телеги Степана, повторили это движение. Вокруг Топоркова образовалось кольцо.
Лёвушкин и Гонта смотрели на Топоркова ненавидяще, найдя наконец виновника всех неудач. Во взглядах остальных сквозила нерешительность, они словно бы ждали объяснений, оправданий…
Всё, что они делали до сих пор и что готовы были сделать, теряло смысл. Всё рушилось с бегством Миронова и предательским поведением человека, который позвал их за собой, и повёл, и довёл до самой опасной черты.
— Ну, майор, — угрожающе сказал Гонта, и круг стал уже, теснее. — Я тебя предупреждал… твоя смерть впереди моей ходит!
— Подождите! — негромко сказал Топорков. Он покачнулся, но, как гироскоп, вернулся к строго вертикальному положению.
Лицо его, длинное, с сухим, надменным ртом, странным образом дёрнулось, словно бы некто, управляющий мимикой, потянул изнутри за проволочку.
Топорков протянул худые длинные руки к ящику с отбитой доской, извлёк из-под крышки ещё один автомат, а затем невероятным для хрупкого тела усилием поднял тяжёлый ящик и бросил вниз на тугие сосновые корни.
Доски крякнули, разошлись, и наземь посыпались завёрнутые в тряпицы камни вперемешку с какими-то обломками металла — покорёженными винтовочными стволами, снарядными корпусами с вытопленным взрывным нутром, гильзами, хвостовиками авиабомб…
Весь этот металлолом хлынул под ноги партизанам.
Круг расступился, и Топорков бросил второй ящик. И в нём тоже оказались не нужные никому куски железа и камни.
— Вот так, — сказал Топорков и, пошатнувшись, опёрся о телегу.
Они молчали. Они ждали, что он скажет…
Странно, удивительно: сделав это последнее, самое неожиданное разоблачение, замкнув цепь чудовищных открытий, он снова приобретал власть над отрядом. Выражение угрозы на лице Гонты с каждой секундой теряло свою остроту и силу, уступая место несвойственной ему задумчивости. Это ожидание, его вынужденность отдаляли Гонту от майора, который вновь обрёл право объяснять и требовать.
Топорков нагнулся и подобрал два закопчённых кирпича, попавших в ящики с какого-то партизанского очага. Все посмотрели на кирпичи, как будто ожидая, что они превратятся в бруски тола или в коробки с пулемётными лентами.
— Вот что мы везём во всех ящиках, — сказал Топорков голосом, который не оставлял надежд на подобные метаморфозы. — У нас ложный обоз… Вот почему мы и шли так странно — задерживались, приманивали фашиста. Настоящий обоз вместе с ударной группой идёт другой дорогой. И не в Кочетовский отряд. Ваши товарищи выполняют задачу, от которой зависят тысячи жизней.
Он посмотрел на кирпичи и продолжал, как будто лепя по их подобию увесистые, угловатые слова, падающие в наступившую тишину глухо и неспешно:
— Пойти на эту уловку пришлось, потому что г отряде действовал предатель, немецкий агент… Теперь мы знаем, кто это, а тогда не знали. Было ясно, что он постарается попасть в обоз… Узнать маршрут, а потом удрать, когда станет горячо.
Топорков облизнул сухие губы и отдышался, ладонью придерживая мехи в тощей груди. Никогда ещё он не говорил так долго. Гонта опустил голову, чтобы избежать прямого взгляда майора.
— И было нужно, чтобы этот предатель удрал и рассказал немцам, как важен этот обоз, чтобы те приковали к нам все свои мобильные силы, чтобы у них не возникло никаких подозрений…
Он ещё раз облизнул губы. А Галина замедленным движением, как бы в нерешительности, протянула майору фляжку.
— Благодарю, — сухо сказал майор, и вода пролилась на его острый подбородок.
— Наша задача — увести немцев за речку Сночь! И Миронов поможет нам это сделать, детально пояснив фашистам маршрут обоза.
При этих словах Лёвушкин присвистнул, и левый глаз его, чуть подсинённый снизу после возни с Мироновым, как-то сам собой подмигнул Топоркову.
Какая-то ощутимая подвижка произошла на застывших лицах партизан при упоминании реки Сночь, словно бы эта далёкая осенняя река дохнула на них холодом. Галина подошла к Бертолету и осторожно коснулась его руки.
— …Если мы сделаем это, то настоящему обозу ничто не будет угрожать, он достигнет цели. А цель его — концлагерь под Деснянском. Там, на строительстве аэродрома, готовится восстание. Знаю, надежды дойти до реки Сночь у нас теперь мало, очень мало. И поэтому я хочу, чтобы каждый из вас всё взвесил… и тот, кто решит и дальше идти вместе с обозом, должен знать, что обратной дороги нет. — Он бросил надоевшие прокопчённые кирпичи и распрямился, вздохнул, как будто избавился от бог весть какой тяжести, и добавил иным, потеплевшим голосом: — Вот такие пироги!
Наступило насторожённое молчание.
Ах, хорошо в осеннем лесу, в преддверии близкой уже зимы, когда пригашены яркие летние огни, повешены шторы из высоких кисейных облаков, зажжены берёзовые свечки, и тишины этой, тишины, пропахшей прелым листом, тонны вылиты на землю из таинственных хранилищ, и природа говорит человеку: вот мой вечерний час, редкий, неповторимый; сядь, поразмысли, не спеши…
Не спеши! Хорошо тому, у кого этот вечерний час долог и ленив, как лёт осенней паутины, у кого впереди и утро, и полдень, и прохлада, и зной… А каково, если минуты считаны и надо враз решить — как жизнь перерубить?
…Они думали и не стыдились того, что думали, потому что их попросили об этом.
Первым не выдержал Лёвушкин.
— Выходит, ловят щучку на живца, а живец, выходит, — это я, — сказал он Андрееву, и глаза его подёрнулись озорной, хмельной поволокой. — А я всегда хотел в щуках ходить.
Но Андреев не поддержал шутливого тона, которым разведчик хотел разрядить обстановку. И лица других партизан долго ещё оставались серьёзными и отрешёнными.
Наконец Бертолет бережно снял ладонь Галины со своей руки и, не говоря ни слова, направился в сторону обоза. Каску он по-прежнему держал за подбородный ремень, как котелок, и в ней что-то позвякивало и погромыхивало.
Все проводили Бертолета насторожёнными взглядами, и Галина вся подалась вперёд, как бы желая помчаться следом.
— Да что уж думать, товарищ майор, — сказал Лёвушкин, покосившись вслед Бертолету. — У нас философы есть, пусть они думают.
А Бертолет, не говоря ничего, подошёл к своей телеге, стал выгружать из каски какие-то болты, гайки, детали мотоцикла. Затем деловито поправил сбрую на упряжке. И этот жест означал, что выбор сделан, и все остальные, глядя на подрывника, поняли, что не надо никаких слов, обещаний и клятв.
2
Лошади, тужась, упираясь крепкими ногами в песок, тащили телеги по лесной дороге.
Галина шла рядом с телегой, на которой лежал раненый Степан. Отрешённое выражение, свойственное всем раненым, оказавшимся наедине с болью, уже поселилось на побелевшем лице.
Но, скосив глаза, Степан увидел, что медсестра Галина, боевой товарищ, прячет влажные глаза в шершавом шинельном воротнике.
— Ты чего? — взволнованно спросил Степан.
— Берковича жалко, — всхлипнула Галина. — Похоронить не смогли… Детишек он не отыскал… Всех нас жалко!
Гонта пристроился к Топоркову, деликатно откашлялся в кулак:
— Майор, вот твой автомат и парабеллум. Командуй.
— А… — сказал Топорков. — Хорошо.
Он забросил автомат за плечо, а пистолет уложил в расстёгнутую кобуру.
— Конечно, ты меня виноватишь, — хмуро сказал Гонта.
— Нет. Худа вы не хотели, во всяком случае. — Топорков посмотрел в насупленное лицо партизана. — Скажите, Гонта, кем вы были до войны?
Не глядя на Топоркова, Гонта ответил:
— Заместителем председателя райисполкома.
— Ого! — сказал майор. — И долго?
— Месяц!
— А до этого?
— До этого?.. Разные должности занимал. Выдвиженец.
— А всё-таки?
— Вообще-то… в пожарной охране… Механизатором был… Жаль, вы не в нашем хозяйстве работали, а то бы меня знали. Ну а потом в зампреды выдвинули.
— Ну и как — не страшно было?
— А чего? Не боги горшки обжигают.
— Да, — согласился Топорков и, поймав взгляд Гонты, добавил с ударением: — Насчёт горшков!..
У ручья обоз остановился. Лошади мягкими губами приклеились к воде и пили долго, вздыхая о чём-то своём, лошадином, раздувая ребристые бока.
Партизаны занялись срочной работой: вскрывали ящики и высыпали их содержимое в бочажок, пустые же ящики ставили обратно на телеги.
Булькала, пузырилась вода, поглощая камни и куски железа. И лица партизан были озабочены и суровы, как будто они топили не хлам, не балласт, а бесценный, спасительный груз. Всё совершалось в угрюмой немоте, как некое жертвоприношение. И только безразличный ко всему лес озвучивал эту сцену вскрикиванием соек и сорок и клёкотом быстрой осенней воды в ручье.
3
Лес становился всё более сырым и тёмным. Упряжки одна за другой преодолевали крутой и скользкий подъём. Молча, с каким-то унылым отчаянием, помогали лошадям люди. Лёвушкин, схватив кнут, стегнул лошадей, прорычал злобно:
— Ну, клячи навозные, так вас!
Лошадёнки, вздрагивая под ударами, рвали телегу из грязи.
— Ты не так, — сказал Степан. Он приподнялся, сделал зверское лицо, втянул губы и издал оглушительное шипение, как если бы телега попала в змеиное гнездо: — Ш-ш-ш-шнел-лер! Ш-ш-ш-шнеллер! Ф-ф-форвертс!
Тяжеловозы пошли бойчее, а следом за ними побежали, помахивая хвостами, учёные колхозные лошадки.
Майор внимательно и обеспокоенно наблюдал за этой сценой. Это не ускользнуло от Гонты.
— Зря ты рассказал насчёт камней, — сказал он. Топорков ничего не ответил, и Гонта, поразмыслив, добавил:
— Надо было как-то выкрутиться. Придумать чего-нибудь.
— Зачем?
— Чтоб людям не переживать зря, — убеждённо сказал Гонта. — Легче бы им было, если б думали, как раньше, что везут оружие.
Топорков с нескрываемым любопытством посмотрел на Гонту.
— В военном деле, — он подчеркнул эти слова, — в военном деле случается, что нельзя говорить правду. Но если есть возможность её сказать, то её надо сказать.
— Это рассуждения, — возразил Гонта. — А людям тяжело идти. Из-за пустых телег никому неохота мучиться и помирать неохота.
— Зато они знают правду.
— А правда эта воевать будет за них?
— Видите ли, — спокойно ответил майор, — если человек идёт со мной, не зная правды, то в трудную минуту я не смогу на него рассчитывать. А тот, кто, зная всё, остаётся со мной, тот будет со мной до конца.
— Нет! — с жаром отвечал Гонта, и бронзовое, крепкое его лицо потемнело. — Не всё надо людям знать! Это вот как раз теперь я за них не поручусь! Трудно будет — уйдут! Бросят всё и уйдут.
В леса полесские, в болота скатывалось белёсое солнце, сумеречный холод пополз по дороге ужом, сухой соснячок сменился дубовой рощицей, а вскоре и ольховник замигал редкими жёсткими листьями.
В плоские зеркальные лужи, отражающие вершинки осин, наезжали колёса, резали деревья на части и били по деревьям тяжёлые сапоги, но спустя несколько секунд всё успокаивалось, ветви вновь тихо укладывались в зеркальные овалы…
Шагавший с последней телегой, рядом с Лёвушкиным, Андреев выстрелил вдруг острой бородкой по направлению к напарнику:
— Слушай, Лёвушкин, откуда они такие берутся?
— Кто?
— Ну, Мироновы!
— От сырости, — угрюмо ответил разведчик.
— Дурень, балаболка! — рассердился старик, — У меня серьёзный интерес: откуда гады берутся? Ведь я ж с ним из одного котелка ел!
— Отстань, дедунь! — сказал Лёвушкин. — У меня за этот день много чего в башке перепуталось.
— Бертолет! — позвал с телеги Степан.
И когда подрывник, белея непокрытой головой, подошёл, ездовой пошарил своей ладонью-клешнёй под шинелью и вытащил две замусоленные бумажки.
— Хочу тебе отдать… — И, встретив недоуменный взгляд, пояснил: — То квитанции за кóней.
— Каких коней? Ты что, Степан?
— То у меня, когда я вакуировал колхозных коней на восток, реквизовали пять штук в армию. Кончится война, так, может, сыщутся. Кобылы, правда, жерёбые были, а жеребцы, може, выжили… Хорошие жеребцы, колхозу приплод будет. А то выведется порода.
— Да ты сам передашь документы, Степан, — успокоил ездового Бертолет.
— Раненый я, манёвру нет! — сказал Степан рассудительно. — Видишь, положение у нас какое! А ты, может, спасёшься… Каску чего снял?.. Надень! Не геройствуй, — сказал Степан, как ворчливый «дядька», и скосил глаз на идущую в стороне Галину. — И вот ещё что…
Всё из того же подшинельного хранилища ездовой извлёк какой-то странный цветастый комок.
— От… Чиколатка трофейная, немецкая… Дай Галке. Скажи, что от тебя. Она обрадуется… Она дивчина хорошая, трудящая, а от войны мало добра видела…
Вышел на дорогу, впереди обоза, Гонта, остановился посреди колеи, как надолб: тёмный лицом, тёмный кожаной курткой. Подождал, пока поравняется с ним Топорков.
— Немцев и слухом не слыхать, — сказал он, и надежда тонко прозвенела в его низком, грубом голосе.
— И не будет, — сказал Топорков. — Маршрут они знают, встретят нас завтра где-нибудь на выходе из пущи…
— Так, — выдохнул Гонта, и не было уже в его голосе несмелого серебряного звона. — Зато переночуем спокойно, так, майор?
— Так, — согласился майор. — Скажите, Гонта… Вот вы говорите, не надо людям знать правды. А вот вы как? Вы знаете… И могу я положиться на вас?
— Да, — ответил пулемётчик без колебаний. — Я сдюжаю. Так я не про себя говорил… Про других.
— А… — пробормотал майор и поморщился, как будто услышав что-то знакомое и надоедливое. — Вы, значит, про «массу» беспокоились. Понятно…
Он оглянулся.
В молчании, устало двигалась по лесной дороге ведомая им «масса» — прихрамывающий Бертолет, закованный в брезентовую броню таёжный охотник Андреев, маленькая медсестра Галина, ловкий и злой разведчик Лёвушкин.
Ужинали у костра молча. Лица уставших партизан были полотняно белы, и щетина темнела на них чернильными мазками.
Хрустели овсом лошади, с неживым бумажным шелестом трепетали над головой листья осин.
Ели. Деловито скребли дюралевыми, самодельного литья ложками в котелках. У костра сидели пятеро — шестой, Гонта, ушёл в дозор…
Андреев, таёжный человек, покончив с кашей, облизал ложку до зеркального блеска и, беспокойно поводя бородкой, уставился на майора:
— Товарищ Топорков, извините меня за имеющийся на уме вопрос, — начал он осторожно.
— Слушаю! — И майор поднял свой заострённый подбородок.
Старик замялся.
— «Чем ревматизм лечат?» — подсказал Лёвушкин, сохранявший полынное хмурое выражение лица.
— Вопрос такого рода, — сказал старик, не обращая внимания на Лёвушкина. — Как получаются, к примеру, такие личности, как Миронов? Ведь я ж с ним вчера из одного котелка ел… Как же это возможно?
И столько было выстраданной горечи в вопросе старика, что Лёвушкин, успевший поднять насмешливую, изогнутую, как спусковой крючок, бровь, тотчас её опустил и удержал готовую сорваться реплику; майор же отложил ложку и, откашлявшись, посмотрел на Андреева с грустной проницательностью философа, признающего все беды мира, но ничего не могущего исправить.
— А вам никогда не приходилось встречать прохвостов? — посмотрел на Андреева майор.
— Нет, — прямо признался старик. — Не выходило.
— Везучий вы человек… И жизнь уж прожили.
— Так я какую жизнь-то прожил? — сказал Андреев. — В тайге уссурийской охотничал… А у нас там худому человеку никак невозможно. К примеру, обмануть товарища. Такому там не выжить. У нас там всё как-то ясно… Вот, к примеру, тигра отловляешь. Так он и есть тигр — лютый зверь, он тебя и не обманывает — когти показывает, зубы… Я так полагаю, что нельзя Миронову боле жить на свете, — убеждённо закончил Андреев. — Неправильно это, что Беркович, своих детишек не найдя, погиб, а предатель жить остался. Неправильно!
— Да, — согласился майор, — неправильно… Спрашиваешь, как они, такие Мироновы, получаются?.. Завербованный он, немецкий агент…
— Так он же не дитёй завербованный! Он же наш человек родился-то…
— Да. Купили чем-то. Или запугали, — сказал майор. — Вот в концлагере бывало: бьют, бьют, потом в одиночку суток на трое посадят, без воды, без хлеба, а потом вызывают к коменданту… в кабинете ещё какой-нибудь лейтенантик из абвера… Колбаса на столе, пиво. И пистолет… Находились такие, что не выдерживали. Очень трудно умирать, когда пиво на столе. А если хоть одного товарища продал, бумагу подписал, то — всё. Нет уже хода к своим… такая, будь она неладна, логика!
— Это вроде бы он сам не сволочь, а произведённый в сволочи? — прищурился Андреев.
— Нет, — сказал майор. — Это он прежде всего сволочь!
— Правильно! — с радостью согласился старик.
— Я думаю, прохвост — он всегда прохвост, — неожиданно вступил в разговор Бертолет. — Вот в райцентре, где я учительствовал, работал один человечек на карантинной станции. Так он кляузы писал, доносы… До войны ещё. Завистлив был, нравилось ему это: других губить, особенно если этот другой получше, повиднее… Что же? Как немцы пришли, он по-прежнему продолжал доносы писать, только уже в гебитскомиссариат, в адрес другой, так сказать, власти, но с той же терминологией и с той же целью.
— И всё пишет, гад? — с негодованием спросил Лёвушкин.
— Нет… Хлопцы попросили его подорвать. Вместе с домом. Он один жил, к счастью. Дали два снаряда, я релюшку соорудил кое-как часовую… Жаль вот, в мирное время нельзя кляузников и доносчиков подрывать! Я б ходил бы и подрывал…
— Ого! — насмешливо сказал Топорков, удивляясь решительности Бертолета.
— А правильно, — согласился Андреев.
Какая-то беспокойная, жгучая мысль терзала его, как прилипчивая оса, вьющаяся у глаз, и он наконец сказал глухо и строго, стараясь быть официальным:
— Товарищ майор Топорков, а не могли бы вы меня откомандировать на предмет, значит, чтобы с Мироновым рассчитаться? Теперь он вам, надо думать, ненужный.
— Зато он немцам нужный, — сказал Топорков, усмехнувшись. — Вы до него не доберётесь, Андреев.
— А я таёжный человек, — сказал старик, хитро сверкнув глазом. — Припрячусь где-нибудь, где ихнее начальство шастает, с винтовочкой. Суток пятеро я без еды смогу высидеть… И уцелю его, значит, как увижу. А то обидно: мы вроде как погибать идём — ну, что ж делать, надо, стало быть… А он жить останется. А для чего? Пиво это немецкое пить?
— Нет, Андреев, вы здесь нужны со своей винтовочкой, — вздохнул Топорков. — Далеко ещё нам до реки Сночь…
— Оно конечно, далеко, — согласился старик, но видно было, что мысль о предателе не оставила его и не скоро оставит…
4
Как сидели партизаны у костра, так и заснули коротким, обморочным сном. Уснул и Топорков. Казалось бы, и вовсе не должно в нём остаться сил после боя, закончившегося бегством Миронова, и тяжёлого перехода, но странно: едкие морщины у уголков губ и глаз словно бы разгладились, размягчились, лопнул где-то внутри узел, стягивавший эти тёмные нити, и они ослабли; исчез напряжённый прищур, и лицо как будто стало добрее… Уснул майор, так и не выпустив из руки карандаша, которым сделал очередную запись в дневнике: «24 октября был бой. Погиб Беркович. Ушёл Миронов. Прошли 24 км. Егеря отстали. Видно, готовят сюрприз».
Над сонным этим лагерем, как колыбельная, звучала незатейливая песня о двух израненных солдатах, что шли «с турецкого края домой»: это Лёвушкин, нахохлившийся, как птица, сидел на поваленном дереве близ пасущихся коней и напевал себе под нос.
И ещё не спал Бертолет. Усевшись рядом с костром в своей излюбленной позе, подогнув ноги и поставив на колени каску, он колдовал над ней, как хозяйка над кастрюлей, позвякивал металлом. А рядом с подрывником, прижав к его плечу худенькое, в редких крапинках веснушек личико, дремала Галина.
Эта их близость, не страшащаяся чужих глаз, раздражала Лёвушкина. Он недовольно поглядывал им в спину и наконец мягко, неслышно подошёл к костру. Покосившись на руку медсестры, доверчиво лежавшую на плече Бертолета, Лёвушкин спросил без особого дружелюбия:
— Чего ковыряешься, Бертолетик?
— Понимаешь, хочу электровзрыватель соорудить, — поднял тот свою иноческую бородку. — Магнето снял с мотоцикла, а у меня как раз подходящий детонатор.
— Соображал бы, — буркнул Лёвушкин, — с запалами возишься, изобретатель, так хоть бы девчонка не сидела рядом!
И он снял руку Галины с плеча подрывника, но, отойдя несколько шагов, увидел, как рука, словно заводная, вернулась на место. Лёвушкин сплюнул и пошёл на свой пост, ещё печальнее напевая о двух раненых солдатах.
День седьмой ЗАПАДНЯ
1
Был утренник, сухая белая соль выступила на траве, и сыпались, сыпались дождём последние листья, и видно было, как поредел за одну ночь осенний холодный лес.
Безостановочно работали копыта, тяжело шагали избитые сапоги, приминая вереск. Бертолет, подвязав вожжи за передок своей телеги, нагнал Галину.
Тихо как! — Он взял её за руку, и лицо её просветлело. — А главное, мы все вместе и снова верим друг другу… Так было тяжело последние дни. Подозрения, недомолвки. Мне очень хорошо в отряде. Здесь все искренни… Конечно, глупо, даже стыдно признаться, но до войны… — он замялся, — до войны я как-то не ощущал рядом близких людей. Я не то говорю, да?
— Нет, говорите! Я понимаю…
Она вдруг остановилась, встала на цыпочки и, следуя извечному женскому неприятию беспорядка, пригладила светлый, беспокойный клок, торчавший на макушке подрывника.
— Вам идёт без каски, — сказала она, как будто речь шла всего лишь о модном головном уборе. И рассмеялась.
В этот ранний сумеречный час лицо медсестры казалось особенно юным, незамутнённым, свежим, и Бертолет смотрел на него не отрываясь.
«Та-та-та…» — весело, как трель охотничьего рожка, прозвучала автоматная очередь. Это напомнили о себе егеря, любители эдельвейсов.
Зачем пришли они в полесские леса, под это серое, в белую облачную крапинку небо? Та-та-та-та… Большая «охота» началась у егерей. Вылавливают затерявшийся обоз с оружием.
Партизаны остановились. Из зарослей, шумно дыша, выбежал Лёвушкин:
— Егерьки слева, товарищ майор! Идут цепью.
— Мотоциклов не слыхать?
— Нет. Сыро там… Не пройдут.
— Сворачивай направо, Гонта!.. Виллó, в охранение по правому флангу, Лёвушкин — по левому!
И обоз ушёл с лесной дорожки в лес, где колёса тонули в мягком вереске по ступицы, где было сумрачно и влажно.
Та-та-та… Звонкое лесное эхо подхватило раскат очередей, стало бросать его из ладошки в ладошку, как колобок.
— Егеря справа! Идут цепью, широко.
— Поворачивай, Гонта! — крикнул Топорков. — Прямо держи, на север! Андреев и Лёвушкин, будете прикрывать.
— У Бертолета на возу полтора пуда взрывчатки, — доверительно сообщил Топоркову с телеги Степан. — Вы ко мне переложите… Если окружат, салют сделаем.
— Лежи… Восстанавливай гемоглобин… — сказал Топорков и затем крикнул на трофейных битюгов: — Ну давай! Форвертс, шнеллер!
Тяжеловозы пошли бойчее, а следом за ними побежали, помахивая хвостами, колхозные лошадки.
2
Потрескивали в лесу короткие автоматные очереди. Словно где-то там, за осинничком, разгорался гигантский бездымный костёр…
Невидимое его пламя уже опалило лицо разведчика Лёвушкина, потемнело оно, сжухлось от предчувствия близкого и тяжёлого боя, и лишь глаза светились, как всегда в минуту опасности, хмельно и дерзко.
Безумолчно верещали, пролетая над головой и спасаясь от автоматного треска, сороки и сойки. Неожиданно выскочил из-за кустов заяц, шмыгнул у самых ног Андреева и Лёвушкина.
— А ведь егерьки и нас, как этого зайца, куда-то гонят, — сказал старик. — Вытесняют! Куда, спрашивается! — Он вдруг насторожённо застыл. — Слышишь, Лёвушкин? Что это?
Равномерное позванивание примешалось к сухим строчкам автоматных очередей. Оно приближалось. Это был пасторальный чистый звук, он противоречил панике, охватившей лес, он казался нереальным.
— Будто на урок сзывают, — прошептал Андреев.
— Мне не надо, — сказал Лёвушкин и сплюнул. — Я целых пять классов окончил. Мне хватит.
Всё сильнее и ближе звонили колокольцем. И вот, выламывая осинничек, прямо на партизан выбежали две чёрно-белые «голландки».
— Глянь! — изумился Лёвушкин. — Мясо!
Передняя корова, огромная, с подпиленными рогами, с колокольчиком-«болтуном» на ошейном ремне, остановилась и дружелюбно замычала, словно при виде хозяев, готовых отвести её в безопасное стойло.
— Видать, от стада отбились… — сказал Андреев. — А может, пастуха убило… Всех война губит. Пойдём!
Они поспешно зашагали по мягкому вереску. Выстрелы приближались. «Голландка», покачивая полным выменем, потрусила за партизанами, следом побежала и тёлка.
Всё глубже в лес загоняли партизан егеря. Начались топкие места. Голые, чахлые осинки стали и вовсе низкорослыми, скрученными от своего древесного ревматизма. Появились мохнатые и высокие, как папахи, кочки, украшенные красными глазками созревшей клюквы, и чёрные, зловещие окна стоячей воды.
Лошади, напрягая ноги, тянулись вперёд всем телом, выдирали телеги из болотной липучки.
А позади — уже не по флангам, а позади — широко, километровым фронтом, растекался треск большого военного костра, зажжённого егерями: та-та-та-та!
Остановился Гонта — почти под ступицы подобралось болото, по лоснящимся тёмным бокам лошадей сползали, как мухи, крупные капли пота, и пена запекалась на шерсти.
Топорков о трудом выдирал свои болтающиеся на тонких ногах сапоги из чёрного месива. Лицо его оставалось сухим и бледным, но он задыхался, и кашель бродил в нём, клокотал и рвался наружу холодным бешеным паром.
— Вот куда гонят нас егеря! — Гонта посмотрел на свои утонувшие в болоте ноги. — Ловко!
— Да, — сказал майор, отдышавшись. — Хотят притопить в болоте, а после выудить без потерь.
— А виноват я! Это я загнал обоз в Калинкину пущу!
Топорков взглянул в затравленные, глубоко ушедшие под брови глаза Гонты.
— Виноват тот, кто учил вас, что горшки обжигать — это очень просто, — сказал майор безжалостно.
3
Лесной следопыт Андреев первым увидел за жалкими, скрюченными прутьями ольховника, за пожелтевшей осокой, за зарослями чёрной куги плотные кроны сосен.
Сосны не растут на болоте! Там, в трёхстах метрах, начиналась песчаная сушь, земля обетованная, жизнь!
— Туда, товарищ майор! — закричал Андреев, барахтаясь в болоте.
…Последнюю упряжку, с ослабевшими лошадёнками, партизаны втащили на песчаный бугор, находясь в полном изнеможении, с ног до головы выпачканные в грязи, блестя зубами и белками глаз. Они победно оглядели сосны над головой и повернулись назад: там, в болоте, потрескивало, приближаясь, автоматное пламя. Бугор меж сосновых стволов густо зарос ежевикой и папоротником. Ежевика впивалась в тело, царапала. Пустяки! Под ними была плотная песчаная земля!
Сверху партизаны увидели, что за бугром им предстоит преодолеть необозримо гладкое пространство, ковёр из похожего на снежные цветы белокрыльника, багульника, трав и мхов. Это пространство казалось прочным и незыблемым, как и та твердь, на которой они стояли.
Но в десяти метрах от берега, утонув почти по самые плечи в серо-зелёном ковре, как бы с обрубленным телом, стоял Андреев, и от него тянулась к холму зарастающая на глазах полоска чёрной воды.
— Всё! — крикнул Андреев. — Дальше топь. Нету нам ходу с бугра. Остров это, товарищ майор.
Со стороны только что пройдённого партизанами мелкого болота тявкающим голоском простучал автомат, и пули с характерным шлёпающим звуком ударили в сосновые стволы, да так гулко, что показалось, будто выстрелили сами деревья.
— Распрягай! Коней, телеги — под бугор! — скомандовал Топорков. Он задохнулся в кашле и хриплым голосом закончил команду: — Окапывайся! — И, взяв лопату с телеги, полез на вершину холма, под сосну; следом за ним, с пулемётом на плече, отправился Гонта.
— Может, отсидимся, сдержим егерей? — сказал Гонта вопросительно. Как ни хмурил он брови, ему не удавалось скрыть виноватый, растерянный взгляд.
— В болотах наша сила, — заметил Лёвушкин с иронией и принялся ожесточённо работать лопатой, отрывая окопчик.
Лицо Гонты ещё больше поскучнело. Они замолчали и прислушались к движению, происходящему на мелком болотце. Оттуда в промежутках между автоматными выстрелами долетали перекличка егерей, ругань, позвякивание металла и… мелодичное равномерное треньканье колокольца.
Блаженная улыбка заиграла на губах Бертолета.
— Слышите?.. Словно на челесте играют! — сказал он, вслушиваясь в звон колокольца.
— Чего, чего? — переспросил Лёвушкин, скривив рот. — Какая челеста? То наши с Андреевым коровки пробиваются.
И верно — из кустарника вышла крупная пятнистая «голландка», а за ней тёлка. Выпуклые глупые глаза животных отражали муку и полное непонимание всего, что происходит на белом свете. Спасаясь от загонщиков, коровы бросились на песчаный остров.
— К своим жмутся, — сказал Андреев. — Нет, животная не дура.
Гонта поставил на сошки свой трофейный МГ, а майор взвёл затвор автомата. Длинные, тонкие его пальцы заметно дрожали. Майор вытянул кисти, посмотрел на них внимательно и прижал к груди, успокаивая, как если бы они существовали отдельно от него, жили особой жизнью.
Двое «загонщиков» с похожими на короны остролепестковыми эдельвейсами на рукавах курток подходили к песчаному холму, выдвинувшись из широко растянутого пррядка. Они часто оглядывались, стреляли без всякой надобности и вытирали потные лица. Им было страшно, они боялись загадочного, ускользающего обоза, боялись болота, чёрных коряг, которые хватали за сапоги и за шинель, боялись топляков, показывавших из воды лоснящиеся спины; здесь всё было чужим и враждебным. Звонко заржала лошадь в партизанском обозе. Егеря остановились, переглянулись и осторожно подались обратно. Замерла и цепь егерей, охватившая остров полукольцом.
4
Зябко, тоскливо было на островке среди сизой сумеречной хмари, среди неизвестности. Партизан бил озноб, и они с надеждой посматривали на крохотный очаг, упрятанный глубоко в песок: там, в красной от угольев пещере, грелся казанок с чаем, и один вид этого прокопчённого казанка согревал охрипшее горло.
Под соснами раздавались странные ритмичные звуки: цвирк… цвирк… — будто пел жестяной сверчок. Быстрые руки Галины скользили по коровьим соскам. И били из переполненного вымени «голландки» по ведру тугие струи: цвирк, цвирк…
И тут же, чуть выше, сторожа непрочный уют этой странной, случаем сложившейся семьи, чернел пулемёт. Привалившись к нему, Гонта набивал ленту.
— Смолкли егеря, — проворчал он. — Комбинируют… Чего комбинируют?
— Небось не отстанут, пока с нами обоз, — сказал Лёвушкин, прервав заунывную песню. — Мы свою долю при себе держим, как горб.
— Да. Прижали нас. Ну ничего, — успокоил Андреев товарищей мудрым своим старческим шепотком. — Мы в своём краю, а они в чужом, нам легче. Родная земля — это, брат, не просто слова, живого она греет, а мёртвому пухом стелется.
— Прибауточки, утешеньица поповские твои, — вскипел вдруг Гонта и сорвался на шип, как котёл со сломанным клапаном: — Ты скажи прямо: считаешь меня виноватым, что на болотах сидим? Я вас в Калинкину пущу направил или нет? Прямо скажи!
Андреев поднял на Гонту зоркие, смышлёные глаза:
— Виноват, Гонта. Взялся командовать, так прояви свойство. Ты тогда не на месте оказался, а сейчас ты на месте. При пулемёте твоё место, Гонта, а не в генералах. Для каждого человека точное место приготовлено, где душа с умом сходятся, как в прицеле, и дают попадание. А то бывает, что душа в небо рвётся, а ум, как тяжёлая задница, привстать не даёт. И человеку одно мучение. Всё-то он готов силой переломать.
— Не ваша философия! — оскалился Гонта. — Вредный твой взгляд, дед. Человек всё может. Были бы преданность да воля!
И он поднял свой литой кулак.
— Не может… Командовать-то каждому лестно. Но не каждый может, — сказал Андреев. — Ох-хо-хо… Мне бы маслица лампадного или камфорного достать. Мучает ревматизм — ну, не военная хвороба!.. Ты, Гонта, не казнись, ярость прибереги на немца.
Галина, склонившись над раненым ездовым, поила его молоком из дюралевой кружки. Зубы Степана дробно стучали о металл.
— Попей, попей тёпленького, — приговаривала Галина. — Ты крови много потерял… Вот довезём тебя до отряда, — утешала она ездового, как ребёнка, — а там в самолёт — и на Большую землю, в госпиталь. Там хорошо, чисто, тепло… Все в белом ходят, и всю ночь огонь у нянечки горит…
Ездовой слушал, и лицо его успокаивалось, и страх смерти, отвратительный, липкий страх, беззвучно стекал с него в песок, в болото, как болезненный пот. Немудрёные, знакомые уже Степану слова утешения звучали как внове, как сказанные только для него, раненного, и был в них непонятный и властный смысл, была в них тайна, которой владеет лишь женщина — милосердная сестра, жена, мать.
Неожиданно Степан приподнял голову.
— У фашистов кони заржали, — сказал он. — Ох, Галка, чтоб миномётов не подвезли!..
5
Партизаны насторожённо примолкли. Со стороны окутанного сизой дымкой болота неестественно громко, как будто принесённое горным эхом, до песчаного островка докатилось откашливание. Это было до того странно, что Гонта взялся за рукоять МГ.
— Partisan! — металлический гулкий голос пронизал туман над болотом и, отражаясь от отдалённого леса, вернулся слабеющими откликами: — san… san!..
Это в мегафон, — пояснил Топорков и подался вперёд. И снова зазвучала усиленная рупором немецкая речь:
— Das Kommando läßt einen eurer Kameraden mit euch reden![5]
«…den… den…» — пропело болото.
Казалось, голос исходит от чёрных коряг, окруживших песчаный остров и выставивших паучьи лапы.
— Переводи, Бертолет! — подтолкнул Лёвушкин подрывника.
— «Командование даёт возможность обратиться к вам вашему товарищу!» — перевёл Бертолет добросовестно, но чужим, бесстрастным голосом, как будто заражённый интонациями немецкого офицера.
И из сумерек донёсся знакомый голос Миронова.
— Партизаны, товарищи! — прокричал он своим округлым, ладным, бойким тенорком. — Положение ваше безвыходное! Ведут вас начальники советские Гонта и Топорков. Им на ваши жизни наплевать, они своё задание выполняют, от энкавэдэ!
Слова сыпались из рупора легко, как шарики из ладони, и прыгали по болотцу дробно, и эхо рикошетило их во все концы.
— Бросайте обоз с оружием, переходите сюда… — торопился Миронов. — Условия хорошие… четыреста грамм белого… крупу…
Он уже говорил взахлёб, давясь слюной, как будто бы спеша прочитать заранее составленный для него текст, и слова стали долетать отрывками, как из испорченного репродуктора:
— …пачки сигарет… сахар натуральный… селёдка…
Оглушительно грохнуло над ухом Топоркова. Горячая гильза выпала на песок из снайперской винтовки Андреева.
— Не слушайте командиров, которые пулей глушат правду! — выкрикнул Миронов.
— Эх, не умею на слух, — сокрушённо вздохнул Андреев.
Затем рупор снова проскрипел по-немецки и смолк. Мертвенная тишина воцарилась над топью.
— Ну, чего язык закусил? — Лёвушкин ткнул Бертолета.
— Они подвезли миномётную батарею, — пояснил подрывник с усилием. — Утром откроют огонь на уничтожение.
— С этого бы и начинали, — проворчал Лёвушкин. — А то: «селёдка, сахар натуральный…» Жалко, нет у нас такого «матюгальника», в который кричат, я бы им пояснил…
— Наша задача — продержать здесь егерей как можно дольше, — сказал майор. — Будем рыть окопы.
— Сколько мы сможем продержаться под обстрелом? — спросил Бертолет.
— Если у них батарея батальонных миномётов калибра восемьдесят один, то около часа, — ответил Топорков чётко и сухо, словно справку выдал. — Если ротные пятидесятки, то несколько больше… Но обстрел они начнут с рассветом.
Андреев, спустившись под бугор, к обозу, принёс большую ковшовую лопату с длинным черенком. Первым, поплевав на ладони, взялся за работу Гонта.
— Эх, судьба-индейка, ладно! — Лёвушкин махнул рукой, как бы окончательно смирясь с неизбежностью того, что должно было произойти на рассвете. — Одного только жалко: этот гад Миронов жить останется!
— Не останется, — успокоил разведчика Топорков. — Если нам удастся выполнить задание, ошибки с обозом ему не простят.
— Уж я тогда постараюсь продержаться, — сказал Андреев.
Партизаны лежали у очага тесной группой, курили, пили чай из дюралевых кружек и котелков, и был у них вид людей, которым некуда спешить.
Только Гонта сидел особняком, мрачной глыбой, на гребне холма, у пулемёта.
Лёвушкин вдруг как-то беспокойно заёрзал на песке, кашлянул в кулак и, поморщившись, как от оскомины, отстегнул под ватником карман гимнастёрки, достал небольшой, сложенный вдвое листок с каким-то замысловатым, расплывшимся от пота и дождя рисунком.
— Вот, товарищ майор, всё хотел вам отдать, да минутки свободной не было… Схемка тут какая-то нарисована… Раньше ещё… ну, до того как выяснилось, вчерась… — Лёвушкин не поднимал глаз, — вы придремали, а схемка торчала из кармана. Сами понимаете, мы на вас грешили, любопытно было, что за схемка… Прощения прошу! — неловко закончил он монолог и отдал бумажку майору.
— А у вас какая была до войны профессия? — спросил Топорков, щурясь.
— Да нормальная… Нормальная профессия. Ну а в детстве беспризорничал, так что, сами понимаете, схемку было нетрудно прибрать…
— И разобрались в схемке?
— Нет. Чего-то тут такое. — И Лёвушкин нарисовал в воздухе извилистую линию. — План местности или чего…
— Эту схемку заместитель командира отряда Стебнев нарисовал, — пояснил Топорков, разворачивая листок и поднося его к огню. — Во время разработки… Так сказать, символ операции… А я в карман положил. Пускай, думаю, если в живых никого не останется, фрицы полюбуются, как мы их одурачили с обозом. С болота снова взлетела ракета, тени побежали по острову, вспыхнул туман, и Топорков показал всем рисунок:
— Расплывчато чуть-чуть… Это кукиш, Лёвушкин.
— Кукиш? — переспросил разведчик, и светлые его брови изобразили сразу два взведённых курка.
— Да, кукиш. Иначе говоря, фига или дуля. Вот!
И майор, неожиданно озорно усмехнувшись, продемонстрировал наглядно изображённый на бумаге предмет.
— А я думал — план, — охнул Лёвушкин.
Он посмотрел на майора, насупившись, затем вдруг открыл в улыбке все тридцать два безукоризненных зуба и неожиданно заливисто рассмеялся:
— Вот дурак я!
И самое неожиданное — поддержал его майор, этот сушёный гриб. Его улыбка, бледно расцветая на лице, вдруг расширилась, и майор, обнаружив концлагерную щербатость, рассмеялся — вначале разбавляя хохот сухим покашливанием, а затем уже, не сдерживая себя, в полную силу.
Они смеялись впервые за всё время походной жизни. Смеялись, потому что сейчас, перед последним боем, ничто не разделяло их.
Не потеря страшна, а неумение смириться с ней. Они смирились с самой страшной потерей. И — смеялись.
И только Гонта мрачно сидел у пулемёта и смотрел на топь, и смех обтекал его, как речная вода обтекает тёмную сваю…
6
Сумерки заползли в лес и забрали болото. Съели постепенно, начиная снизу, стебли куги, поглотили корявые, чёрные, убитые — топью кусты и вывороченные корневища с протянутыми кверху острыми крючковатыми пальцами, подрезали ольховник, оставив лишь голые прутья-вершинки…
…Месяц, яркий до боли в глазах, выкатился и завис над песчаным островком.
— Вы не спите? — спросил Бертолет.
— Нет, — ответила Галина.
— Жалко спать…
Они сидели рядышком под сосной, нахохленные, как заблудившиеся дети.
— Ковш уже ручкой книзу. Значит, три часа… Знаете, мне вспоминается: у нас во дворе печь стояла летняя. Отец, когда трезвый бывал, блины любил печь. На воздухе. И обязательно, чтобы «крест» — вон то созвездие — над печью висел. Осенью это в пять утра бывало.
— Галя, я вам вот что хотел сказать. — И Бертолет шумно вдохнул воздух. — Иначе некогда уже будет… Помните, я впервые в отряд пришёл, вы мне руку перевязывали, утешали, в госпиталь обещали отправить, где «светло и чисто»…
Глаза Галины приблизились к Бертолету.
— Так вот я хочу, чтоб вы знали, Галя: с той минуты я вас люблю. Я не хотел говорить… потому что… потому что всем нам плохо и не время…
— Чудак, ох, чудак! — Смеясь и плача, она прижалась к нему и ткнулась в протёртый воротник его нелепого учительского пальто. — Какой чудак! Что ж вы хоронились… ну зачем?
Ракета, затмевая сияние месяца, зажглась над ними, и пулемёт ударил трассирующими, задев сосну и осыпав их хвоей.
— Эй, разговорились! — раздался сердитый шёпот Лёвушкина. — Болтаете, а люди спят!
— Я не сплю, — со старческой хрипотцой ответил Андреев, который, вероятно, тоже слышал Бертолета и Галину. — Жалко спать. Хоть и старый хрен, а жалко…
Кряхтя, с трудом разгибая ноги, он встал и присел рядом с разведчиком.
— Ладно, Лёвушкин, ты не сердись, ты жизни не мешай… Она ведь как река, жизнь-то, сама выбирает, где русло пробить, а где старицу оставить, кого на стремнину вынести, а кого на бережок бросить… Вот мы с тобой на бережку оказались. Ну что ж. Посидим, подождём. Что делать? Махорочкой давай подымим.
Жёсткая хвоя под месяцем отливала серебром. Тёмные тени причудливо переплетались на земле, на ветвях, стволах, и нельзя было понять, где действительно ветви и стволы, а где их тени.
И в этом переплетении теней были растворены люди, лошади, телеги — весь маленький обоз, не везущий ничего и потому обречённый на гибель.
Переливающийся, стеклянный звук долетел откуда-то сверху До Андреева и Лёвушкина, словно бы загомонили сотни жалостливых, невнятных голосов.
Андреев выставил ухо из-под своего капюшона.
— Гуси улетают, — сказал он Лёвушкину. — Отдыхали где-то, или егеря спугнули…
И все партизаны — народ, умеющий спать даже под выстрелами, — вдруг проснулись и стали прислушиваться.
— Гуси летят…
7
На рассвете остров выплыл из темноты, как корабль. Туман волнами клубился над болотом.
Звонко хлестнул в уши разрыв. Кочки, чёрная вода, коряги — всё это столбом взлетело в воздух.
— По укрытиям! — крикнул Топорков.
Он достал блокнот и к записи «25 октября. Окружены на болоте» добавил: «26 октября. С рассветом немцы начали мин. обстрел. Ждём атаки». Затем он аккуратно, трубочкой, свернул блокнот и запрятал поглубже под шинель.
Снова шумно выплеснулась к небу вода. Заржали, чуя беду, лошади.
Большая «голландка», порвав верёвку, который была привязана к телеге, и звеня колокольцем, бросилась в топь в поисках спасения.
Началось!..
День восьмой ЖРЕБИЙ
1
Партизаны, забравшись в окопы, всматривались в плавающий над болотом туман. Гонта снял кожаную куртку и набросил на свой МГ, чтоб не засыпало землёй.
— Наугад бьют, — сказал Топорков. — Вот туман разойдётся, начнут накрывать.
— Торопятся, — буркнул Андреев. — В болоте сидят, в холоде.
Ещё одна мина разорвалась перед островком, и комок мокрого мха шлёпнулся прямо на пилотку Лёвушкину. Разведчик смахнул его ладонью, как надоедливую муху.
— Они там грелками греются, — сказал Лёвушкин. — Химическими. Такой пакетик, вроде бандерольки… — Он говорил, чтобы заглушить страх, а глаза оставались тоскливыми, злыми, ожидающими. — …Сядешь голым задом на такую грелку, воды в рот наберёшь и кипишь, как чайник.
Снова грохнуло, на этот раз ближе. Бертолет, закусив губу, следил за болотом, за тем, как, освобождаясь от тумана, выплывают чёрные, с изломанными паучьими лапами коряги. Галина, поймав на секунду его взгляд, улыбнулась ему в ответ, но невесёлой была эта улыбка.
Распряжённые лошади сгрудились около телеги, на которой лежал Степан.
— Дед! — крикнул ездовой Андрееву. — Коней хоть в болото загнать, ведь одной миной забьют… А, дед?
Старик обернулся. Но внимание его привлекли не вздрагивающие лошади, а пегая корова, неумолчно звеневшая колокольцем-«болтуном». Андреев застыл с винтовкой в руке; он напряжённо, приподняв бородку, всматривался в топь позади острова.
«Голландка», успевшая безошибочным инстинктом осознать, что встреченные ею люди не могут защитить от воющей и грохочущей смерти, барахталась теперь среди зыбкого травяного ковра, как раз в том месте, где вчера Андреев делал свои безуспешные промеры. Вытягивая мощную шею, отметая мордой листья белокрыльника, она рвалась вперёд, а вслед за ней пыталась пробиться и тёлка.
Лесной житель, Андреев верил в звериное чутьё и ждал, наблюдая за «голландкой», искавшей в топи спасительную тропу.
Снова просвистело в воздухе, и метрах в двадцати от коровы вырос чёрный столб.
Отчаявшаяся «голландка» метнулась, разорвав на клочки травяной настил, и нашла наконец твёрдую основу. Упираясь копытами, она выдернула своё ставшее чёрным, лоснящееся тело из топи.
И пошла вперёд! Пошла, то проваливаясь, то снова выбираясь, пошла так, будто не впервые приходилось ей бродить по этой тайной болотной тропе. Инстинкт уводил её от смерти, как опытный поводырь. Звенел, захлёбывался и вновь звенел колокольчик.
Андреев сполз по песку вниз, ступил в не затянувшуюся ещё ряской чёрную воду и побрёл за мелькающими в тумане пятнистыми телами.
Он спешил. Расстегнув дождевик, он рвал на себе клетчатую рубаху.
2
Туман поднимался над болотом медленно и неуклонно и вскоре должен был открыть остров, как занавес открывает сцену. Ударил разрыв перед самым бугром, взметнуло песок, и срезанная осколком сосновая ветка упала в окопчик рядом с Бертолетом.
Судорога ожидания сжала лицо Топоркова, и он сказал Гонте, чуть приоткрыв рот:
— Дайте по болоту. Как бы корректировщик не подлез!
Гонта снял куртку с пулемёта, не спеша проверил наводку и дал очередь по краю отползающей туманной завесы. Ещё звенело в ушах от трескотни и гильзы сыпались на дно окопчика, когда, весь в грязи и тине, с бородой, украшенной водорослями, как ёлка мишурой, на бугре появился Андреев.
— Товарищ майор, — сказал он, задыхаясь. — Коровы ушли с острова.
— Ну и что? — спросил майор. Но, постепенно осознавая смысл сказанного Андреевым, он повернулся в его сторону. Тонкий бледногубый рот провис по углам. — То есть куда ушли?
— Туда, в «тыл»… — Старик махнул рукой, указывая на непроходимую топь. — Я рубахой пометил тропу, товарищ майор. Уйдём и мы! И телеги вытянем. Попробуем цугом запрячь, по четыре!
Все с загоревшимися глазами потянулись к Андрееву. И у майора оттаяло лицо, живая краска вернулась к нему.
— Чёртов дедок! — крикнул Лёвушкин восторженно и хлопнул Андреева по плечу.
— То животное, — поправил его старик и запахнул дождевик, открывающий остатки клетчатой рубахи и поросшую седыми волосами грудь.
— Запрягайте и уходите, — сказал майор. — Я прикрою. Взгляды партизан скрестились на майоре.
— Вам обоз вести надо! — сказал Бертолет.
Два разрыва один за другим всколыхнули болото чуть левее острова. Беспокойно заржали лошади.
— Некогда дискутировать, — сказал майор. — Скоро начнут накрывать. Идите!
— Эх! — выдохнул Лёвушкин. — А зачем люди жребий придумали?
Финский нож как бы сам собой оказался в ладони разведчика. Он подобрал прутик, молниеносно разрезал его на четыре равные доли, а затем одну из палочек укоротил вдвое. С быстротой профессионального манипулятора Лёвушкин смешал палочки, скрыл их в кулаке, затем выставил лишь равный частокол кончиков:
— Кому короткая, тот «выиграл»…
Галина потянулась было к Лёвушкину, но он остановил её: — Женщины и раненые не участвуют.
— Это почему же? — возмутилась Галина, но Гонта осадил её коротко и гневно:
— Замолчи, Галка!.. — И, насупившись, играя желваками, он выдернул одну из палочек, торчавших из кулака Лёвушкина.
— Длинная! — Лёвушкин повернулся к Бертолету. Галина, округлив глаза, смотрела, как подрывник тонкими пальцами, как пинцетом, выдернул свой жребий. И облегчённо выдохнула:
— Длинная!
И Топорков вытянул длинную палочку.
Лёвушкин разжал ладонь. Среди морщинок, среди перепутанных линий жизни лежал маленький, в полспички, отрезок сосновой ветки. И в нём была судьба Лёвушкина.
Мина разорвалась справа от острова. Чуть дрогнула ладонь.
— Моя! — сказал Лёвушкин. — Мне всегда в игре везло. И тогда Топорков взял разведчика за кисть и, потянув к себе, вытащил из рукава ещё одну, пятую, длинную палочку — утаённый жребий.
— Старый фокус. Короткую потом подсунули, — сказал Топорков. — Будем считать, короткая — моя. Я вас повёл, я буду отвечать. И постарайтесь переправиться через Сночь и увести за собой егерей.
— Теперь меня послушайте, — пробасил Гонта и неожиданно ударил Лёвушкина снизу по открытой ладони: жребий взлетел в воздух. — Я молчал, теперь послушайте. Не майор, а я сюда вас привёл. И я буду прикрывать. И никому не возражать, а то постреляю и ваших, и наших!
Столько было уверенности и силы в голосе этого коренастого, меднолицего мужика, что разведчик, нагнувшийся было, чтобы подобрать палочку, выпрямился.
— И всё! Геть! — добавил Гонта мрачно.
Взгляд его колючих, глубоко упрятанных под тёмными бровями глаз на долю секунды столкнулся со взглядом майора, и, как когда-то, во время их первых стычек, всем почудился фехтовальный звон.
— Майор, ты мою натуру понял, — сказал Гонта. — Меня с места не сдвинешь. Разве что убьёшь. Веди людей, не стой, а то потеряешь обоз…
И он протянул Топоркову крепкую, металлической тяжести ладонь, и сухая, длинная кисть Топоркова легла в неё, как штык в ножны, и лязга не было.
— Может, я и научился бы насчёт горшков, — сказал Гонта. — Наука на войне добрая. Да часу нема!
3
Гонта оглянулся. Последние две упряжки уже вошли в болото. Люди и лошади барахтались в тёмной жиже, среди остатков зелёного ковра, как среди льдин, дышали натужно, с хрипом. Впереди шёл Андреев, высматривая над тёмным месивом пёстрые свои вешки, привязанные к кустам багульника и кочкам.
Остров прикрывал партизан от егерей, и лишь Гонта видел их с вершины бугра. Но сюда же, к этой вершине, снова подтягивались фашисты.
Гонта поправил огрызок ленты, куце торчащей из раскалённого МГ, постучал по круглой коробке, затем подвинул к себе две лимонки…
Островок заходил ходуном под беглым миномётным огнём…
Все четыре повозки стояли в ольховнике. Партизаны прислушивались. Лица их были темны от грязи. Пулемёт постукивал короткими очередями, но затем со стороны острова донеслись один за другим два гранатных взрыва, спустя несколько секунд — третий.
И наступила тишина.
— Всё, — вздохнул Лёвушкин. — У него были две лимонки.
Они закурили, собрав остатки махорки; они ждали, хотя надежды на возвращение Гонты ни у кого не было.
Галина с мокрым от слёз лицом меняла Степану повязку, осторожно откладывая в сторону алые бинты.
— Потерпи… потерпи… — приговаривала Галина. — Сейчас перебинтуем, а то растрясло!
— Отчего кровь красная? — говорил Степан, лихорадочным взглядом уставясь на бинты. — Я понял, Галка. Это чтоб страшно было убивать или ранить. Была б она синенькой или жёлтенькой — не так боялись бы, легче было бы убивать.
Обер-фельдфебель взобрался на холм. За ним, таща из болота раненых, поднялись остальные егеря.
Обер-фельдфебель увидел на гребне присыпанную алым песком, иссечённую осколками кожанку Гонты. Затем он медленно оглядел остров с вершины бугра и выругался.
Обоз снова исчез.
День девятый В СЕЛЕ ВЕРБИЛКИ
1
Первыми протопали по песчаной лесной дороге сапоги Лёвушкина, точнее, не сапоги, а то, что осталось от них, именно: голенища. Ступни Лёвушкина были обмотаны тряпицами и на римский манер перетянуты крест-накрест тем самым жёлтым проводом, который разведчик взял у немецких связистов вместе с катушкой.
Бывшие эти сапоги ступали как бы нехотя, заплетаясь друг о друга: Лёвушкин дремал на ходу. Следом, в отдалении, двигались телеги с безмерно уставшими партизанами. Заморённые кони шли, опустив головы.
Не дремли, дозорный! Но куда там… есть предел и силам двадцатилетнего крепкого парня. И сапоги сами собой вели Лёвушкина по лесной дороге.
Дремала сестра, дремал и раненый Степан, и голова его моталась на сене от неровного движения упряжки.
На остальных двух телегах сидели Топорков и Бертолет, оба с запавшими, серыми лицами и тоже в порванной обуви. Причём последний экипаж, на котором покачивался, изредка приоткрывая глаза, Бертолет, был без одного колеса: вместо него скребла песок гибкая слега, а позади, привязанные к кузову, плелись пегие «голландки».
Замыкал процессию, отстав метров на тридцать от обоза, таёжник Андреев. Шёл он довольно бойко, ступая босыми ногами по песку. Винтовку Андреев держал на правом плече, а через левое были переброшены связанные за ушки и неплохо ещё сохранившиеся кирзачи.
Облетевший за холодную ночь, пустой и тихий осенний лес стоял по обе стороны дороги, и сквозь лёгкие чистые берёзки и осины просматривались дубки, всё ещё державшие на чёрных ветвях жёлтую листву, как награду за стойкость.
Три человека вышли на дорогу с какой-то лесной тропинки. Заметили обоз и торопливо серыми тенями шмыгнули за дубки, притаились.
Но Лёвушкин уже широко открыл глаза — и они мгновенно просветлели. Непонятным, шестым, врождённым чувством он ощутил присутствие чужих людей. Отпрыгнув в сторону, он щёлкнул предохранителем автомата.
— Э, выходи! — крикнул он. — Живо!
И тон его не оставлял сомнений, что он не станет медлить со спусковым крючком автомата.
Из-за дубков вышли две старушки и старичок.
Старушки были по-довоенному, по-мирному чистенькие, в чёрных платках, чёрных жакетах и чёрных юбках до пят, будто в церковь собрались, да ещё с одинаковыми пестрядинными узелками в руках; правда, и жакетки, и платки, и юбки, и даже пестрядь — всё латаное-перелатаное…
Старик же имел вид особый, на нём был промасленный танкистский комбинезон, дополненный лаптями и онучами.
— О! Партизаны! — радостно сказал старик, и прокуренные усы его поднялись.
— Мы не партизаны, — ответил Лёвушкин, оглядываясь на подходивший обоз. — Не видишь — макулатуру собираем… А ты что за танкист?
— Почему танкист? — необидчиво возразил старик, подходя к телеге, за ним тихонько, скромненько шествовали старушки. — Комбинезон вещь хорошая для осени, малопромокаемая. Сейчас война людей раздевает, война и одевает, будьте любезны.
Проскрипели и остановились повозки. Дедок обменялся понимающим взглядом с Андреевым, нёсшим свои сапоги на плече. Принадлежность к одному поколению и житейский опыт объединяли их.
— Сначала испугались, — пояснил старик, обращаясь теперь уже ко всем партизанам. — Может, полицаи? Нет, глядим, свои…
— Почему же свои? — спросил Лёвушкин.
— Во! — И старик взглядом указал на обмотанные тряпками ноги разведчика. — Какие ж вы полицаи?
— Ну ладно, — сурово сказал Лёвушкин, партизанское самолюбие которого оказалось уязвлённым. — Ты что за личность?
— Я Стяжонок Григорь Данилович, это жена моя, — он указал на старушку повыше ростом, — а это сестра её, свояченица моя, Мария Петровна, будьте любезны!
Партизаны, истощённые переходом, смотрели на стариков безучастными тупыми глазами, и лишь Лёвушкин вёл расспросы.
— Это что ж за фамилия такая или кличка — Стяжонок?
— Зачем кличка? Фамилия. Белорусы мы. Из деревни Крещотки, на реке Сночь, слыхали? А идём в Вербилки, это уж Украина, будьте любезны. В Вербилках у нас две дочки, зять да внучата, полный интернационал. Сегодня ж Параскева… Параскева-грязница у нас…
— Празднуете, значит! — Лёвушкин сплюнул.
— Да ведь живые. Покинутые, а живые.
— Живые. Зятья у вас… молодые небось зятья-то?.. Документ есть?
— Недоверие, — пробормотал старик и полез под комбинезон.
— Доверие, недоверие… Может, ты полицаев прислужник?
— Не! Напротив, я на маслозаводе в сепаратор гайку кинул; — сказал старичок и протянул разведчику замусоленную бумажку.
— Будет расспрашивать, — сказал Лёвушкину Андреев. — Ты бы немцев так расспрашивал.
— А я учёный-переученый… Ты погляди, какой документ! «Свидетельство… указом его императорского величества… о высочайшем пожаловании Стяжонку Григорию Данилову… Георгия третьей степени…» Во!
— Удобный документ! — сказал старичок. — Всеобщий! И для немцев, и для полицаев, и для своих…
— Отдай ему бумагу, — сказал майор и, кряхтя, слез с телеги.
Бывалый солдат Стяжонок сразу почуял в Топоркове настоящего командира и невольно подтянулся, лапти его сошлись каблуками.
— Немцы в Крещотках есть? — спросил Топорков.
— Нету.
— А в Вербилках — не знаете?
— Ив Вербилках нету. Чего им там? Наглядывают время от времени. Полицаи наведываются. Господин Щиплюк, трясця его матери. Так у нас будет специальная просьба до вас, чтоб вы его наказали примерно — повесили или расстреляли, это уж как вам будет угодно.
— Очень вас просим, — тут же вмешались в разговор старушки, услышав фамилию Щиплюка, губы их гневно затряслись. — Обтерпелые из-за него, как ягнята!
— Ивана-объездчика в тюрьму забрал и дочку его, Клавку…
— Он такой: как в дом, так и гром!
— Мальчонку стрелил в Крещотках.
— Бабы-солдатки, у кого мужья в Красной Армии, со слёз слепнут от него!
— Ясно! — прервал старушечий речитатив Топорков. — А своих партизан у вас нет, что ли?
— Богом забытый край, — вздохнул Стяжонок. — Партизаны там, за Сночь-рекой. — Он прищурил хитрый глаз: — Вы, должно быть, туда идёте?
— Допустим…
— Н-да, — вздохнул Стяжонок. — Переправиться вам трудно будет. Тут на сто вёрст вокруг один мост был, в Ильнянском, да и тот наши взорвали. А на реке везде немцы.
Он оглядел партизан, заморённых лошадей, повозки, ящики. Особо остановился на слеге, заменявшей колесо.
— Что бы я вам посоветовал. Идёмте с нами в Вербилки. Тут недалеко. Переночуете, передохнете, ремонт вам произведём, а утром порешите, куда надо…
Андреев вздохнул и крякнул при упоминании об удобном ночлеге. Майор же, подобно Стяжонку, оглядел свой потрёпанный, еле бредущий обоз.
— Баньку истопим, будьте любезны, — добавил старик. — И политически надо бы… Соскучился народ по своим…
И уже развернулся обоз, и словно бы веселее заскрипели колёса, и резвее пошли лошади, учуяв вдали запах жилья.
Впереди обоза шагали Топорков и Стяжонок. Чуть поотстав, как почётный эскорт, шли две женщины в чёрном.
— Деревня, конечно, штука хорошая, — говорил Лёвушкин, помахивая кнутом над головами коней. — Да хитрая штука! На сто душ всегда может одна дерьмовая сыскаться. Вот что меня беспокоит. Как думаешь, старик?
— Это конечно, — согласился мудрый таёжник Андреев. — Доверять без разбору нечего, это верно. Да только и без деревни нам, партизанам, не прожить. Вот шли мы по болотам, по безлюдью, и в душе пусто стало.
— А у меня в животе, — возразил разведчик. — По деревенской пище соскучился.
— Э, твои заботы, — махнул рукой Андреев. — Переправа меня беспокоит.
— Боишься?
— Себя-то не жаль. Я-то своё дело в жизни выполнил: и детей вырастил, и внучат понянчил…
2
Это была небольшая, дворов на тридцать, лесная деревушка, типичная для той стороны украинского Полесья, где чувствуется близость к Белоруссии и России: здесь можно было увидеть и мазанку, и сруб с резными наличниками, и незатейливую белорусскую хату…
Топорков вместе с двумя старушками и Стяжонком шёл по единственной, прямой, утыкающейся в берёзовую рощицу улице, осматривал окна и дворы, словно бы вызывая деревню своим открыто партизанским видом.
Следом в деревушку входил обоз, заполняя тишину скрипом колёс и усталым лошадиным пофыркиванием.
И одна за другой стали открываться калитки, и на улицу выходили, немо и строго глядя на партизан, на их оружие, грязные шинели и ватники, перевязанные проводом сапоги, старики и дети — мирное население военного времени.
Партизаны подтянулись, старались держаться прямо и не выказывать смертельную усталость. Они медленно двигались в коридоре лиц — морщинистых, продублённых, спёкшихся на жаре и работе и совсем ещё юных, без единой отметки времени.
Крестьяне всматривались в партизан с болью, волнением: а вдруг возвращается свой, несказанно изменившийся муж, брат, сын, отец… Они радовались, видя в них частичку того мира, который откатился с последними красноармейскими частями и теперь где-то далеко, за лесами, вёл отчаянную войну. Они огорчались, потому что люди, принёсшие дыхание этого мира, были бледны, усталы и слабы… Они смотрели на них с надеждой, потому что, несмотря на пергаментную бледность щёк, несмотря на разбитые сапоги, партизаны держали оружие крепко и шли как хозяева, не таясь.
…Топорков вздрогнул. За плетнём, у крытой дранкой мазанки в три подслеповатых окна, где пышно, последним осенним цветом цвели золотые шары, он увидел лицо, которое на миг приковало его внимание и заставило забыть обо всей деревне.
Оно густо заросло кудлатой бородкой, и нечёсаные пепельные космы скрывали лоб. Но бородка была нестарой, молодцеватой, купеческой была эта бородка, и из-под пепельных косм смотрели на Топоркова свежие, с твёрдым жизненным блеском глаза.
Майор приостановился на миг, насупился, как будто припоминая что-то, но затем двинулся дальше.
— Что это у вас за бородач вон в той мазанке с цветами? — спросил он Стяжонка и оглянулся ещё раз. Но лица у золотых шаров уже не было.
— А… То Фроська взяла в приймы. Пленный. У неё хозяйство, вот и взяла, будьте любезны. Мужик гладкий, помогает. Сидор, если вернётся, в обиде не будет. Он прежде всего хозяйство ставит, — пояснил Стяжонок.
В конце улицы, как бы запирая своим увечным телом выход к берёзовой роще, стоял, опираясь на самодельные костыли, одноногий, свирепого вида мужик. Широкие плечи его были приподняты от костылей, как крылья.
Когда Топорков со своим эскортом приблизился к одноногому, он молча указал костылём на двор, и они прошли за плетень, где выстроилась, как по ранжиру, босая конопушная детвора.
— Коваль! — сказал одноногому Стяжонок, и смешливые хитрые глаза старика, юлившие при встрече с незнакомыми лесными людьми, были строги, и голос звучал почти начальственно. — К нам товарищи пришли на ночёвку. Надо поспособствовать.
— Ясно! — мрачно сказал Коваль. — Надо их не в дом, а в клуню. Там безопаснее, выход к лесу на три стороны. — И буркнул, обращаясь к детворе: — Мишка с Катькой, баньку на задах, у клуни, топить! Санька, бери Тишку, Макогоновых, Степняков — и гоните овец пасти на концы деревни. Всю ночь будете пасти, с кострами. Чтоб ни одна живая душа — ни туда, ни сюда без вашего глаза.
Словно ветром сдуло детвору. Напряжённое лицо Топоркова просветлело.
— Спасибо, — сказал он, улыбаясь Ковалю одними глазами.
— Коваль! — представился одноногий и протянул страшной жёсткости ладонь. — Участник белофинской.
Его тёмные, суровые глаза сощурились в ответной улыбке.
— Вот это и есть мой зять, будьте любезны! — сказал Стяжонок с гордостью.
3
Перед большой, крытой порыжевшей уже, подпрелой соломой клуней на огороженном току хрустели свежим, сочным сеном лошади. Рядом, у телег, постукивали топорами Стяжонок и Коваль. Они меняли заднюю ось, примеряли колесо. Топорков помогал им.
Коваль, отставив костыли и подпрыгивая на одной ноге, работал ловко и ворочал дрогу с такой лёгкостью, что в голову невольно приходила мысль о том, какой неимоверной силы был этот черноволосый мрачный мужик до увечья.
Неподалёку примостился и Бертолет со своим электровзрывателем. Он был занят тем, что прилаживал к доске сложную передачу, главной составной частью которой была ржавая зубчатка от велосипеда с торчавшим, как кость, шатуном, и Стяжонок не без иронии посматривал на эту конструкцию.
Наконец старик не выдержал и спросил, щуря глаз:
— Извините, вооружённый товарищ, для каких надобностей вы это делаете… вроде велосипеда?
Бертолет поднял на старика ясные свои, наивные глаза.
— Подрывное устройство, — охотно пояснил он. — Раздобыл магнето мотоциклетное, да ведь без маховика не раскрутишь как следует, чтоб снять с него две тысячи вольт… Думаю, видите ли, с помощью передачи…
— Мгм, — сказал Стяжонок.
— Они технику со всей Европы гонят, — громыхнул насупленный Коваль, — а мы их велосипедом собираемся.
— Ничего, ничего, — успокоил их Стяжонок. — Там есть техника, на фронтах, а нам и этого будет… А вы, товарищ, не из учителей? — спросил он у Бертолета заинтересованно.
— Преподавал до войны.
— Вот! — Старик, гордый подтвердившейся догадкой, взглянул на Топоркова, который молчаливо обтёсывал тонкую колёсную спицу. — Сразу видно: речь культурная. — И вздохнул: — Ох, нема учителей нынче. Ребятишки растут, как волчата — ни тебе алгебры, ни стишка выучить, будьте любезны! Скорей бы вы до дела повертались!..
…Из маленькой бревенчатой бани, что стояла неподалёку от клуни, близ ручья, выскочил распаренный, завёрнутый в серое рваное рядно Лёвушкин. Глаза его светились весело: он был прирождённый солдат, Лёвушкин, он умел ценить минутную утеху, зная, что от боя до боя недолог путь.
— Дуй в баню, Бертолетик! — крикнул он. — Теперь я понимаю, почему на флоте перед сражением приказывали мыться — и во всё чистое. С лёгким паром приятнее возноситься…
Но недолго наслаждался Лёвушкин покоем и махоркой, которую щедро отсыпал ему в газетный листок одноногий Коваль. Медсестра Галина вышла из клуни с огромной деревянной бадейкой в руке и тут же приметила праздного разведчика.
— Лёвушкин! — скомандовала она. — Хватит прохлаждаться. Неси горячую воду, Степана вымою прямо в клуне, чтоб не трясти!
— Слушаюсь, ваше милосердие, — сказал Лёвушкин и поднял глаза на Галину. — А может, я с ездовым справлюсь? Тебе, может, неудобно?
— Дурак! Ну, дурак! — сказала Галина и принялась развешивать на оглобельных тяжах влажные рыжие бинты. — Неудобно?! Это когда вам руки-ноги режут, когда кость скрипит, вот тогда мне неудобно. Тазы с кровью вашей мужской выносить — вот что мне неудобно, — добавила она с болью, сдавленным голосом. — А всё остальное — удобно. — И она, развесив стираные бинты, скрылась в клуне.
— Трудящая девушка, — сказал Стяжонок и одобрительно крякнул.
— Добрая будет жинка, — подтвердил мрачный Коваль. — Жива бы осталась.
— Эх, товарищ командир, — обратился Стяжонок к молчаливому Топоркову. — Погостили бы у нас денька хоть три. Дали б людям роздыху. Усталый народ!
— Нельзя, — ответил Топорков, продолжая равномерно взмахивать топором.
— Да и на вас поглядеть — кожа да кости. Как только топор держите!
— Нельзя, — повторил Топорков. — Завтра выходить.
— Приказ, значит, — сказал Коваль. — Ну что ж… Ваше дело такое, военное. Вот только раненый при вас — непорядок это. Раненый вам помеха. Да и ему спокой нужен, може, и выживет.
— Что вы предлагаете? — спросил Топорков. — К вам сюда ведь немцы наведываются…
— Сюда — да. Тут его оставить, это верно, рисково. А вам всё равно мимо лесного кордона идти. Там его и оставите. Там тихо. Самого объездчика Ивана полицаи забрали, Щиплюк с ним свои старые, довоенные счёты сводит. А дети его там, мы им всем миром хлеб, другой какой харч поставляем. Так что лишний рот нам не в тягость. А он, може, и выживет.
— Мы подумаем, — сказал Топорков.
4
Горела над деревней лимонная осенняя заря. Пригасал день, дома тёмными кубами вставали на жёлтом небе.
Топорков с автоматом за плечом шёл по пустой улице. Подошёл к мазанке, за плетнём которой, несмотря на поздний час и холод, как солнце, пылали золотые шары.
Топорков прошёл за калитку и, тяжело дыша, перешагнул приступку. Постучал.
— Заходьте, заходьте! — ответил стуку певучий женский голос.
В светёлке горела керосиновая лампа — неслыханная роскошь для военных времён, стены были гладко выбелены, и пергаментное лицо майора слилось с их фоном.
— Сидайте! — сказала женщина и смахнула с табурета несуществующую пыль.
Ей было около сорока — крепкая, с крепкой грудью, с тёмными крепкими руками. Перед её живостью и здоровьем Топорков казался бесплотным, как тень.
— А где сам? — спросил майор.
— Щас, щас, — сказала женщина, обеспокоенно покосилась на автомат и вышла в коридор, там загрохотала какими-то задвижками.
Топорков окинул взглядом горницу: взбитые подушки, чистый глиняный пол, герань и «слёзки» на подоконниках и фотографии, фотографии… А между окнами в обрамлении рушников главная фотография: Он и Она, оба в чем-то схожие, крепколицые, скуластые, серьёзные, видать, очень хозяйственные.
Топорков вяло, ссутулившись, сел на табурет. Он и Она следили со стены за каждым его движением.
Прогрохотало, проскрипело в сенях, и в светёлку вошёл мужчина с кудлатой свежей бородкой и густыми пепельными космами.
Они пристально вглядывались друг в друга — бородач и Топорков. Лицо мужчины наконец выразило несмелую радость.
— Значит, всё-таки Топорков! А я гадал: он или нет…
— А я тебя сразу узнал, капитан Сыромягин, несмотря на бороду!
Мужчина приложил палец к губам и оглянулся на дверь.
— Лейтенант, а не капитан, — прошептал он. — Для конспирации.
— Ближе к народу? — спросил Топорков и указал на табурет напротив. — Садись.
Протянутой руки он не заметил. Сыромягин сел и беспокойно заёрзал.
— Значит, и ты бежал… — и густым зычным голосом крикнул в дверь: — Фрося, тащи закуску и всё прочее!..
Хозяйка влетела с тарелками и бутылкой так стремительно, словно стояла, томясь, за дверью, как генеральский вестовой. В ней чувствовалась добрая довоенная выучка.
Толстое, нежнейшего мраморного рисунка сало было на этих тарелках, и кровяная колбаса была на них, нарезанная тёмно-вишнёвыми ломтиками, и лучок, и крупнокалиберные чесночины.
— Ты когда бежал? — спросил Сыромягин.
— Неделю назад.
— А я уж два месяца. Летит время!
— Да, — согласился Топорков, не сводя с Сыромягина пристального взгляда.
— Эх, были мы в зубах самой фашистской смерти, а теперь вот на свободе. Не верится! — сказал Сыромягин и поспешно разлил самогон в стаканы.
— После тебя в нашем бараке каждого пятого расстреляли, — тихо сказал Топорков. — Двадцать человек!..
— Да, это уж у них порядок железный! Сволочи…
— Я четвёртым оказался.
— Повезло! Эх, майор. Ну, что смотришь так, не пьёшь? На войне — кому везёт, кому нет. Сам знаешь. Осуждаешь, что ль? Все мы побывали в переделках, огонь и воду прошли. И судьба распорядилась, кому какой жребий. Мог и я оказаться пятым.
Стакан в его руке нерешительно завис над столом.
— Да, жребий, — сказал Топорков задумчиво. — Полицаи не беспокоят?
— Прячусь. Деревня дружная, предупреждает. Староста свой, дурит немцев.
— Каждого пятого… Вот лейтенант Сысоев оказался пятым.
— Это у них так заведено, — угрюмо повторил Сыромягин и поставил стакан на стол.
За плечом своего бывшего товарища Топорков видел чисто выбеленную стену, на которой висели фотографии: остановившийся во времени довоенный крестьянский мир. В этом мире не было места капитану Сыромягину. Не он, капитан, был тем скуластым парнем в ситцевой косоворотке, в полушубке, в пиджаке с гигантскими ватными плечами, с гармоникой, со щенком на коленях, не он, капитан, был парнем, который выстроил эту мазанку, посадил золотые шары под окнами и прибил на стену меж окнами классический семейный портрет. Он и Она…
— Двадцать человек! — повторил Топорков.
— А после тебя? И ты на воле гуляешь! Ешь и пьёшь… И за тебя люди полегли. И ты даже не знаешь кто.
Топорков встал.
— Я не за то тебя виню, что от фашистов на волю бежал, — медленно, скрипуче сказал он. — И не за то, что сало ешь. Я за то виню, что от полицаев хоронишься. Войну пережидаешь. Ты за тех двадцать воевать должен. Ты двадцать немцев должен уложить! При-мак!
Он направился к двери.
— Я не трус, ты знаешь! — крикнул Сыромягин. — Ты ж меня знаешь по лагерю…
— Не только беда испытывает, — сказал Топорков устало. — Благополучие тоже испытывает. Храбрый ты был от отчаянья, а сытый ты — трус… И вот что, Сыромягин…
Майор прислонился к косяку. Голос его зазвучал почти задушевно:
— Если б это было не в деревне, которая нас приютила и обогрела, я бы расстрелял тебя как дезертира. И никаких угрызений совести не испытывал. Затем и пришёл, чтоб сказать тебе это. Подумай!.. — И вышел.
Хозяйка Фрося серой мышью шмыгнула, пропуская его к двери, звякнула щеколдой, поспешив запереть мазанку. Она охраняла временный этот военный уют, ограждённый от войны глиняными побелёнными стенами.
В ночь постепенно уходили леса. На закраинах деревни, у дорог и тропинок, горели костры, и сидели у костров деревенские мальчишки — зоркие и неподкупные часовые.
— Я тоже, как четырнадцать исполнится, в партизаны пойду, — говорил один, конопушный. — Я знаю, с четырнадцати они берут…
У клуни на фоне мерцающего, ещё не утратившего нежного зелёно-жёлтого цвета неба виднелись силуэты Бертолета и Галины.
— Боже, как хорошо… не стреляют… тишина… И слышишь, лошади дышат?.. Будто уже мир наступил… — прижавшись к колючему, обтрёпанному пальто Бертолета, говорила Галина и снизу вверх смотрела на его измученное, с запавшими глазами лицо. — А может, ещё и спасёмся, выберемся, а? Может, вот так всю войну пройдём мимо смерти? Бывает ведь такое — люди с войны живыми приходят…
5
В клуне на глиняном полу горела плошка, и при её свете Андреев выкладывал из вещмешка нехитрые партизанские пожитки, а Топорков склонился над блокнотом.
«…Выбрались из окружения. Прикрывая отход обоза, погиб Гонта…» — записал он.
Пламя плошки металось, и белое лицо Топоркова то вспыхивало, то уходило в необъятную пустоту клуни.
«…27 октября… Прошли 60 км, остановились на ночлег в селе Вербилки…»
Резко качнулось пламя плошки, с визгом и очень широко распахнулась дверь, и в проёме встал Лёвушкин. Оставив дверь открытой, он, шатаясь, прошёл мимо плошки, едва не задев её. Остановился.
Андреев обеспокоенно посмотрел на майора, затем на Лёвушкина.
— Уважают нас, — сказал Лёвушкин. — Очень уважают нас в деревнях.
Майор спокойно и с интересом наблюдал за Лёвушкиным. Лёвушкин взглянул на майора, на Андреева. Взгляды их столкнулись. И Лёвушкин сказал ворчливо и с вызовом:
— Ну, что вы смотрите!.. Ну и нечего на меня смотреть! Мы вот здесь… — Он запнулся, мучась от косноязычия и стараясь выразить какую-то сложную и глубокую мысль. — Мы, значит, здесь, а они — там!
Неверным движением он указал на открытую дверь клуни.
— Кто они? — спросил Топорков.
— А!.. — махнул рукой Лёвушкин и резко опустился на сено. Неловко снимая сапоги, он пробормотал: — «Пусть сердце живей бьётся, пусть в жилах льётся кровь!..»
Так и не сняв сапог, откинулся на спину и затих.
Андреев с тревогой посмотрел на командира и, видимо решившись как-то защитить подгулявшего товарища, начал было осторожно и дипломатично:
— Товарищ майор!..
Но Топорков энергично взмахнул рукой, не давая старику высказаться:
— Ладно… Будем считать, что чисто нервное.
Разведчик, переворачиваясь в полусне, прошелестел сеном и пробормотал заключительное двустишие:
— «Живи, пока живётся. Да здравствует любовь!..»
День десятый ЛЕСНОЙ КОРДОН. ВСТРЕЧА СО ЩИПЛЮКОМ
1
Едва начало светать, обоз уже выстроился на окраине лесного села. Партизаны проверяли упряжки, укладку ящиков. Позванивали под ногами примороженные крепким утренником лужицы.
Тут же хлопотал, помогая партизанам, Стяжонок в своём чёрном, лоснящемся комбинезоне. Приковылял на костылях и угрюмый Коваль, принёс тяжёлый узел.
— Провиант, — пояснил Коваль и вывалил узел на повозку. — А вот чего вам не можем дать: сапог и лошадей. Сами понимаете, какая ценность в мужицком деле.
Топорков оглядел «голландок», которых Лёвушкин подвязывал к задку телеги.
— Оставь им коров, — сказал майор. — Нам уж недолго.
— Не, тёлку можете оставить, — возразил Коваль. — А продуктовую берите. Пускай при раненом… — И добавил: — А переправляться советую в Крещотках. Народ там правильный: сплавщики. Подсобят. Придумают чего-нибудь.
— Придумаем, — подтвердил и Стяжонок. — Только в село обозом не входите. Одного кого-нибудь пришлите — ив крайний дом от дороги. То свояченицы моей дом, Марии Петровны. А она мне сообщит, и будьте любезны. Переправим!
Обоз тронулся. Топорков некоторое время стоял в нерешительности, как будто вслушиваясь в звуки пробуждающегося села: пение петухов, собачий лай, хлопанье и скрип калиток…
Он смотрел на мазанку, затынок которой густо порос золотыми шарами, и как будто ждал чего-то. Но тиха была мазанка, не шевелились занавески на окнах, не курилась труба.
Топорков попрощался с Ковалем и Стяжонком и, уже не оборачиваясь, клонясь вперёд прямым туловищем, пошёл догонять обоз.
И снова крутились спицы, отсчитывая походное время. Постепенно затихало пение петухов.
Когда Лёвушкин оглянулся, он увидел лишь берёзовый лесок, безжизненный и пустой.
— Может, мне приснилось? — спросил разведчик. — Может, не было этой деревушки?
— «Как сон, как утренний туман», — сказал Бертолет, не отрывая глаз от Галины.
— Во-во! — Лёвушкин усмехнулся, но, попав в перекрестие взглядов Галины и взрывника, почувствовав их особый, тайный смысл, нахмурился.
Майор взобрался на телегу и бессильно прислонился к ящикам.
— Что-то тяжело стало идти, дед, — сказал он Андрееву с виноватым выражением.
Медленно по песчаной дороге, рассекающей леса, двигался одинокий обоз. Было тихо. Обнажённые деревья стояли в предснежной задумчивости. Облетели за эту холодную ночь и дубы. Пусто и светло стало в лесах.
2
Топорков, сидя в телеге рядом с Андреевым, развернул карту.
— Что-то немцы от нас отстали. Потеряли, что ли? — обеспокоенно спросил Топорков.
— Да, спокойно идём, — отозвался Андреев. — Вот так бы и идти до самой до Сночи.
— Нельзя. Никак нельзя, — качнул головой Топорков. — Станут немцы нас в другом месте искать, на тот, на настоящий, обоз могут нарваться.
— Да, прав, выходит, Лёвушкин: мы свою судьбу с собой несём, как верблюд горб… — вздохнул Андреев. — Ну что ж… Нам-то с вами что! Мы-то с вами хоть пожили. А вот молодых очень жалко.
— Да, пожили… Вам сколько, Андреев?
— Шестьдесят три годочка. А вам?
— Тридцать.
— Сколько? — переспросил Андреев, и клинышек его бородки приподнялся от удивления. — Как тридцать?
— Тридцать. Недавно исполнилось.
— А-а… — простонал Андреев, пристально рассматривая майора. — Война это! Война, вот что она с людьми делает! Говорят, считай лета коню по зубам, а человеку — по глазам… А по глазам-то вам все пятьдесят…
Длинный тощий палец Топоркова долго блуждал над извилистыми линиями карты. Затем Топорков поднял голову, сказал Андрееву:
— Поворачивайте вот сюда, — и указал на заросшую лесную дорогу.
— Куда это, товарищ майор?
— На лесной кордон. Попробуем исключить из этой опасной нашей игры хотя бы медсестру и раненого…
Затем Топорков на ходу слез с телеги и остановился на обочине, ожидая, пока с ним поравняется повозка, на которой ехала медсестра.
Упряжки шли одна за другой, дружно, не требуя присмотра людей в ставшем уже привычным для животных порядке и ритме.
— Виллó, — сказал Топорков, не глядя в глаза Бертолету. — Пойдёте сзади, в прикрытии, метрах в ста от обоза.
Он видел, как Бертолет, не сводя глаз с медсестры, мало-помалу отстал и скрылся за деревьями.
— Сестра! — сказал майор, шагая рядом с медленно вращающимся и подпрыгивающим колесом. — Мне надо с вами поговорить.
Галина отвела взгляд от дороги, за поворотом которой исчез взрывник, и встревоженно посмотрела на майора.
— Вам нужно остаться на кордоне вместе с раненым, — сказал майор.
— Нет, — поспешно возразила Галина. — Нет!
— Выслушайте, — сказал майор. — Скоро начнётся самое трудное. Он не выдержит. — Топорков кивнул в сторону спящего Степана. — Ему и так становится хуже от тяжёлой дороги, от тряски. В деревне его нельзя было оставить.
Он прямо и коротко взглянул ей в лицо.
— Девочка, дорогая, я всё понимаю…
Впервые за всё время обозной жизни в речи строгого и сдержанного майора прозвучало местоимение «ты», и медсестра, холодея от этого дружеского обращения, не сводила глаз с пергаментных щёк и бледногубого рта.
— …Но это необходимость.
— Вы хотите, чтоб я живой осталась? — сказала Галина. — Вы этого хотите!
— Я хочу, чтобы все живы остались, — ответил Топорков, и сухие его глаза заблестели. — Но если мы будем везти раненого дальше, то не сохраним ни его, ни здоровых.
— Всё верно, верно, — сказала Галина, прижимая руки к груди и бледнея всё больше. — Только вы всё по закону рассуждаете, по логике, а не можете понять…
— Ты не права, — тихо возразил майор. — Я могу понять. Просто мне приходится думать сразу за очень многих людей, но понять я могу. У меня на Большой земле жена. Такая же молодая, как ты. Ей двадцать лет. Я поздно женился, перед самой войной. Она очень хорошая, очень красивая. Такая красивая, что мне приходится заставлять себя не думать о ней. Иначе становится очень тяжело, и я боюсь не выдержать… Война, девочка, война, и от этого факта мы никуда не можем скрыться.
Неутомимо вращающееся колесо отсчитывало секунды, и с каждой промелькнувшей спицей приближался кордон.
3
Дом объездчика стоял в таком густом темноствольном дубовом лесу, что, тёмный, с замшелой деревянной крышей, казался органической составной частью этого леса, чем-то вроде гигантского пня… Под крышей и над наличниками была приколота длинная доска с надписью: «Кордон № 17 Налинского лесничества».
Прямо перед избой был колодец с низким срубом и журавлём и долблёная колода-поилка, и лошади, дёргая телеги, тотчас потянулись к ней, и замычала, почуяв запах свежей воды н жилья, уставшая «голландка».
На ступеньках сидел Лёвушкин.
— Не открывают, — пожаловался он, когда обоз остановился у кордона. — У них, видишь, мамки тоже нет…
Занавески на двух небольших пыльных окнах раздвинулись, и за тёмным стеклом показались и скрылись лица.
— Идите вы, сестра, — сказал майор.
Она поднялась на ступеньки, звякнула несколько раз щеколдой, нажав на отполированную пальцами металлическую пяту, и постучала.
— Не откроем! — раздался звонкий мальчишечий голос. — Боимся!
— Чего ж вам меня бояться? — спросила Галина. — Разве такие полицаи бывают?
Занавески раздвинулись, за дверью послышался шёпот…
В избе её встретили четыре пары насторожённых ребячьих глаз. Погодки — старшему было лет двенадцать — смотрели на неё, сжавшись тесной кучкой в углу.
— Ну, здравствуйте, — сказала она.
Они молчали. Затем старший, с выпачканным золой лицом, выступил вперёд и сказал:
— Татка полицаи взяли. И Клавку тоже…
Следом за медсестрой в дом вошёл Лёвушкин, с автоматом, в сбитой набекрень пилотке, с дерзкими светлыми глазами. И ребячьи лица загорелись.
— Ну как, орлы, не боитесь больше?
— Дядька, а вас за оружие Щиплюк может забрать, — сказал старший. — Он сердитый. Он у нас ружьё охотничье забрал.
— И корову, — добавила младшая девочка.
— А я его самого заберу, если встречу, — сказал Лёвушкин. — У меня для полицаев специальный мешок есть…
Дети улыбнулись и выдвинулись из своего угла, осмелели.
— А хотите, мы вам тётеньку эту симпатичную оставим, носы вам вытирать? И корову.
— Хорошая? — спросил старший.
— Кто? — в свою очередь, спросил Лёвушкин.
— Да корова!
— Хозяйственный мужик! — похвалил Лёвушкин. — Сразу видно — главный в доме, по существу задаёт вопросы. Корова, брат, во!
— Насовсем или так, подержать?
— Насовсем. Корова непростая. Она нас от фрицев спасла. — И, видя, как детвора в изумлении поспешила открыть рты, добавил: — Тётя Галя вам потом расскажет. Принимай, Галка, хозяйство!
4
В углу, на подушке в наволочке из грубой пестряди, белело круглое плоское лицо ездового Степана.
Вокруг Степана на табуретках и лавках расселась детвора, жующая, глазастая, с ломтями чёрного хлеба в руках. Плясало в печи пламя, и дом был наполнен теплом и чистотой.
— Главное, больше книжóк читать, больше книжóк! — поучал Степан своих внимательных слушателей. Лицо ездового оставалось неподвижным, лишь вспухшие, растрескавшиеся губы шевелились. Было непонятно, обращается он к детям или разговаривает сам с собой в каком-то чадном, но не убивающем мысль бреду. — Вот я грамотным дуже завидую… Не пришлось выучиться. А хотел на врача по лошадям пойти… На курсы животных санитаров вступил. И не повезло: курсы прошёл, а документа не дали. У нас руководитель был — ох, сильный мужик, с бритой головой, как кавун, в белых перчатках. Вот привели на манеж больную лошадь, он махнул перчаткой, кричит мне: «Мужик, проведи рысью!.. Стой! Ясно! У неё боль в плече». А меня чёрт дёрнул, говорю: «Не, нема… она на такой манер хромает, что, выходит, сухожилие у неё подрезано. Видать, дурень какой пахал на ней да и лемехом подрезал…» Осмотрели: и точно. Сухожилие подрезано.
— Мне татко всегда говорит: пашешь — не толкай лемех к ноге! — сказал старший важно.
— А Звёздочки всё равно нету, — поправила его младшая.
— И что ты думаешь? — продолжал Степан, глядя в бревенчатый потолок. — Всем документы дали за скончание курсов, а мне не дали… А учёным быть дуже хорошо. Вот у нас в отряде подрывник — университет окончил. Это ж надо. Приятель мой! И химию знает… и дроби!
Ездовой, не поворачивая головы, скосил глаза в окно и увидел, что Галина доит «голландку», а Лёвушкин стоит возле неё. И ещё он увидел, что обоз, мелькая среди голых деревьев, уходит всё дальше от кордона.
— Вот они немцев побьют и возвернутся сюда, — продолжал Степан, — и я его вам покажу. Он обязательно сюда возвернется, есть тут у него дела…
Галина, поставив на землю ведро с молоком, стояла с разведчиком и, держа его за отвороты шинели, говорила:
— Лёвушкин, ты уж за ним посмотри. Пожалуйста! Ты ловкий, ты надёжный…
— Ну ладно, ладно, чего там! — сказал Лёвушкин. — Обещаю. Чего мне с ним делить. У нас только одна война на двоих, а девки, видать, будут разные. Если доживём, конечно!
Она неловко поцеловала его в щёку.
— Сподобился! — сказал Лёвушкин. — Как любимого дедушку чмокнула… — И, иронически подняв светлую бровь, он торопливо и не оглядываясь зашагал вслед за скрывающимся вдали обозом.
5
Обоз двигался сквозь густой, свежей посадки сосняк.
Бертолет и Топорков шагали позади телег, в арьергарде, по глубокому, усыпанному коричневой хвоей песку. Лицо майора, несмотря на холодный ветер, было в мелком поту, и шёл он с натугой, ссутулившись и прикрыв глаза.
Топорков вытер пот со лба, с усилием, догнав телегу, ухватился рукой за кузов и попытался сесть на ходу, но чуть было не сорвался.
— Помогите сесть, — сказал он хрипло.
Бертолет подсадил его, и майор прислонился к ящикам, прикрыв глаза. Пот снова густо выступил на его лице.
— Что с вами? — спросил взрывник.
— Ничего, ничего, — ответил майор. — Усталость. Нельзя нам уставать, да вот война получается длинная…
Он развернул карту.
— Как вы думаете, почему они нас не преследуют? — спросил Топорков с тревогой. — Может, потеряли, а?..
И тут к Топоркову подбежал Лёвушкин.
— Товарищ майор, там, по дороге, полицаи едут. Трое. Пропустим? Или, может, возьмём? — Последние слова он выделил, произнёс С надеждой. — Возьмём, может, товарищ майор?
По дороге навстречу партизанскому обозу ехала бричка с «польским», лозой оплетённым кузовом. Человек, сидевший на бричке, узколицый, загорелый, был одет во всё новое: на нём была чёрная пилотка, надвинутая на низкий лоб, серая шинель нараспашку, а под ней мадьярский коричневый френч с огромными накладными карманами.
Чуть поотстав, с карабинами за спинами, лёгкой рысцой на карих крестьянских лошадках прыгали за бричкой двое верховых.
Лицо полицая совершенно чётко и определённо выражало одну, конкретную мысль, а именно: что сидит он, полицай, в личной бричке, что на нём чёрные суконные штаны с кантом и что позади него находятся двое подчинённых с карабинами.
Для выражения более сложных мыслей это лицо не было предназначено.
Дорога, круто повернув, вошла в выемку; справа и слева высились поросшие березнячком холмы.
Вот тут-то впереди полицай увидел человека, который стоял посреди дороги, широко расставив ноги, и дымил самокруткой.
Хозяин брички не очень испугался, скорее удивился, и на всякий случай достал из кобуры большой чёрный наган.
— Погляди наверх! — крикнул человек.
Взгляды полицаев заметались по сторонам, да и было от чего заметаться.
Справа, с гребня холма, смотрел на них ручной пулемёт. Слева же, меж берёзок, возник некто долговязый, белоголовый, со шмайссером, направленным от живота — для веерной стрельбы.
Ещё прежде всякой мысли чутьё подсказало полицаям, что о спасении и думать нечего. Молодой конвойный, худосочный парень с оттопыренной нижней губой, вяло приподнял руки. Второй же, тот, что был постарше, рванул из-за спины карабин.
Сухо разрезал воздух винтовочный выстрел. Голова конвойного дёрнулась, как мяч, и он сполз с коня. Песок под ним сразу потемнел.
Полицай бросил револьвер. А молодой конвойный поднял руки повыше.
На холме, позади брички, появился Андреев со снайперской винтовкой в руке. Все четверо не спеша стали приближаться к полицаю.
Лёвушкин первым вскочил в бричку, не глядя на полицая, провёл ладонями по чёрным кантованным галифе, поднял наган. Пальцем поманил к себе конвойного.
Когда конвойный, как загипнотизированный, подъехал к нему, Лёвушкин пальцем же указал, что следует слезать с лошади, и затем неторопливо снял с его спины карабин. Вся эта молчаливая и поэтому особенно страшная для полицейских процедура, несомненно, доставляла ему огромное наслаждение. Оттопыренная губа конвойного затряслась. Он упал на колени — как будто век учился падать, ноги сами легко подогнулись — и затараторил бестолково, его оттопыренная губа запрыгала, как на пружинке:
— Партизаны… граждане… товарищи… не своей волею… молод ещё… мамка велела… паёк… селёдку давали… пшеничный хлеб из немецкой пекарни… крупу… рисовую и пшено…
— Пшено? — переспросил Лёвушкин, и конвойный, взглянув в его светлые, затянутые какой-то странной хмельной дымкой глаза, замолчал. — Пшено — это да…
— Документы! — сказал Топорков.
Лёвушкин расстегнул у конвойного китель и, ловко обшарив внутренние карманы, взял аусвайс и фотокарточку дивчины с надписью на обороте, затем проделал ту же операцию с онемевшим полицаем, причём в руках разведчика оказался вместе с документами блестящий «дамский» пистолетик, похожий на игрушку. Лицо Лёвушкина отразило чувство полнейшего удовлетворения, и пистолетик легко скользнул в рукав и исчез, как будто его и не существовало.
Документы были переданы Топоркову.
— Щиплюк?! — удивлённо произнёс майор, глядя в удостоверение.
— Так точно, он! — подтвердил конвойный и подпрыгнул на коленях. — Он, он во всём виноват. Это ж зверь. Сегодня ночью Ивана — объездчика с семнадцатого кордона — в тюрьме застрелил. Дочку в Германию отписал. Его, его покарайте… я молодой ещё…
Топорков пристально смотрел на Щиплюка, словно бы силясь разгадать какую-то тайну, но никакой тайны не было. Перед Топорковым навытяжку с пустым от страха лицом стояло ничтожество. Как только появился спрос на подлость и предательство, судьба вознесла его, но сейчас, лишившись документов, оружия, брички и конвойных и оставшись лишь при чёрных штанах, Щиплюк стоял немо, не в силах решиться ни на жалостливые оправдания, ни на сопротивление, ни на бегство. Даже для того чтобы упасть на колени и залопотать, подобно конвойному, требовался маломальский артистический дар или хотя бы непосредственность; ничтожество не обладало и этим.
— Значит, Ивана — объездчика с семнадцатого кордона?.. — переспросил майор.
— Так точно, — сказал конвойный. — Зверь! Я и сам его забоялся. Готов хоть сейчас в партизаны. У вас хоть справедливость… Вы просто так человека не убьёте, а они… Гады!
— Слова твои — золото, — нежно сказал Лёвушкин и, взяв конвойного за воротник, поднял его с земли. — Вот только сам ты — дерьмо собачье!
— Лёвушкин! — Топорков отозвал разведчика в сторону. — Вы вот что… Вы молодую эту гниду отпустите. Так надо. Пускай доложит про обоз. Боюсь, немцы нас потеряли…
— А может, сначала переправимся по-спокойному? — неуверенно сказал Лёвушкин.
— Неизвестно, где они нас ищут, — возразил Топорков. — Могут на тот обоз наткнуться. Нет, пусть уж будут при нас. Исполняйте!
Два выстрела раздались за холмом, в березнячке, и сойки испуганно забились в ветвях.
Лёвушкин, неслышно, по-кошачьи ступая, вышел из-за берёзок и аккуратно сложил на землю две пары брюк — новые, окантованные и «бэу», заезженные на седле до блеска, два френча, две пилотки и две пары подбитых шипами, насмаленных немецких сапог с короткими голенищами.
— Ты что! — Лицо Топоркова пошло пятнами. — Я же приказал молодого отпустить.
— А я и отпустил, — сказал разведчик, моргая белёсыми ресницами и широко открыв невинные глаза. — Что он, голый не добежит, что ли?
6
И снова медленно вращались колёса. Проплывали пустые осенние леса.
Как будто ничего и не произошло. Но…
Впереди обоза на добром карем коньке ехал Лёвушкин, стиснув гладкие бока шипастыми крепкими подошвами немецких сапог.
Тарахтела лёгкая бричка с Андреевым и Топорковым, и ствол ручного пулемёта торчал из неё, напоминая о невозвратной эпохе тачанок.
Второй карий конёк брёл в паре с трофейным тяжеловозом.
И шагали по пыли кургузые, подбитые шипами немецкие сапоги, надетые Бертолетом взамен разбитых старых.
Ленивое осеннее солнце уже зависло над лесом, и длинные тени пересекали дорогу…
Топорков, сидя в бричке рядом с Андреевым, развернул карту.
— Пожалуй, к утру они нас и встретят, — сказал он. — Полицай молодой, должен бегать прытко.
— Уж постараются не упустить, — отозвался Андреев.
День одиннадцатый САМЫЙ ТРУДНЫЙ ДЕНЬ
1
Упряжки были подогнаны одна к другой, а лошади подвязаны вожжами к задкам телег: не хватало погонщиков.
Лёвушкин, как всегда, был в дозоре. Он то устремлялся вперёд, то останавливался, замирал среди холодной тишины. Очевидно, чутьё подсказывало ему близость противника.
И Андреев, таёжный охотник, брёл с особой осторожностью, таясь, соснячком. Неприметный его дождевичок мелькал среди блёклой хвои. Солнце уже укатилось за лес, светились лишь высокие барашковые облака…
Коротко, с металлическим звоном, будто молотком дробно отбарабанили по наковальне, прозвучала очередь пулемёта с мотоциклетной коляски.
Обоз остановился. Дремавший Топорков сбросил с глаз тонкие, воскового оттенка веки, привстал и с усилием спрыгнул с брички. Беззвучно, как лист, опустилось на землю сухое тело. Подбежал вездесущий Лёвушкин:
— На развилке — разъезд: два мотоцикла… и собака.
— Собака?
— Овчарка. В коляске. Заметили меня, — видать, собака почуяла.
— Виллó, Лёвушкин, гоните обоз в лес, вдоль посадки! — крикнул майор и взял с телеги трофейный ручной пулемёт, оставленный мотоциклистами, подстрелившими Степана у Чернокоровичей.
Обоз — телега за телегой в подвязи — стал медленно, как эшелон, поворачивать, и лошади, разбив усыпанный хвоей песок, зашагали вдоль молодого, рядами посаженного соснячка. Уже слышалось знакомое тарахтение мотоциклов. Моторы то ревели, преодолевая песчаные преграды, то приглушённо, басовито постукивали на холостых оборотах.
Партизаны залегли в соснячке на хрустящем мху.
— Осторожно подъезжают, — прошептал Андреев. — Учёные!
Топорков ладонью сдерживал судорожное дыхание.
— Собака — это очень плохо, — сказал он.
— Ясно, — кивнул бородкой Андреев и протёр чистой тряпицей линзы оптического прицела.
Из-за сосновой ветви Топорков видел, как на лесной дороге, глубоко просев колёсами в песок, остановился мотоцикл. Позади колясочника колыхался штырь натяжной антенны. Показалась и вторая машина.
Несколько соек, перелетев дорогу впереди, прокричали что-то сварливыми голосами. Пепельная, отменной породы овчарка, важно сидевшая в коляске второго мотоцикла, повела ушами и проворчала. Влажно блеснули фиолетовые дёсны.
…Коротким видением пронеслась в памяти майора концлагерная сцена: упавший заключённый — руки его прикрыли затылок — и овчарка, которая, брызжа слюной, наклонилась над ним, готовая вцепиться в шею. Этим заключённым был сам Топорков. Это над его головой хрипела овчарка, роняя жаркую слюну…
Мотоциклисты подъехали к тому месту, где свернул обоз. Песок здесь был взрыт копытами, а железные ободья колёс проложили чёткую колею в сторону, к соснячку.
Солдат, сидевший позади второго мотоциклиста, слез и позвал собаку, придерживая длинный поводок. Овчарка легко, пружинисто выпрыгнула из коляски и упёрлась широко расставленными лапами в песок. Она злобно косила глазами в сторону соснячка и ворчала. Мотоциклисты переглянулись.
— Los, Adolf, los du! — сказал водитель солдату. — Da gibt’s auch ein Mädel.[6]
2
Андреев выстрелил. Винтовка в его руках подпрыгнула, и из ствола потянулся дымок.
— Отходи! — сказал майор и нажал на гашетку «ручняка».
Мотоциклисты мгновенно залегли и открыли ответный огонь. Серая овчарка лежала на дороге недвижно, как груда пепла, и пули поднимали возле неё фонтанчики пыли.
Андреев, не задевая деревьев, чтобы не шевелить ветвей и не выказывать своего положения, бесшумной змейкой прополз между рядами сосенок.
Достав гранаты, двое мотоциклистов под прикрытием пулемёта перебежали дорогу и залегли для нового броска. Топорков дал ещё одну длинную очередь и пополз, волоча «ручняк», следом за Андреевым. Он хрипел, задыхался, но полз, ставя острые локти в трескучий мох и подтягивая сухое тело.
Мотоциклисты переглянулись и разом, как по команде, далеко и мощно бросили гранаты. «Колотушки», описав высокую траекторию, затрещали в ветвях в том самом месте, где только что лежали Топорков и Андреев. Жёлтым и красным вспыхнул песок, оглушительно громыхнул сдвоенный разрыв, и солдаты, едва успели просвистеть осколки, бросились вперёд, стремясь использовать ту победную долю секунды, пока враг ещё ошеломлён и не в силах сопротивляться.
Но Топорков, угадавший этот бросок мотоциклистов, снова дал очередь сквозь соснячок, не целясь. Один из солдат упал. Второй, приткнувшись к нему, зашелестел перевязочным пакетом.
Топорков побежал, клонясь вперёд туловищем.
Он перебежал полянку, взрывая песок сапогами, и упал. Несколько секунд он лежал неподвижно, короткие, судорожные вздохи сотрясали тело. Наконец он поднял слезящиеся глаза. Поляна расплывалась, качались деревья, и тело отказывалось повиноваться. Палец никак не мог нащупать спусковой крючок.
На противоположной стороне поляны мелькнули серо-зелёные шинели, и белый прерывистый огонёк возник среди кустов и низких сосен. Снова заныли, рикошетя, пули.
Майор уткнулся лицом в песок, набрал побольше воздуха в лёгкие и закусил губу, пытаясь привстать. Серо-зелёные, осмелев, перебегали по поляне.
— Держись, майор! — гаркнул где-то неподалёку за соснами Лёвушкин.
Разведчик вылетел на поляну, распластался и тут же несколькими длинными очередями опустошил обойму, вставил новую и, перебежав в сторону, исчез.
С поляны застучали по нему автоматы, затем сухо заговорил ручной пулемёт, но Топорков уже пришёл в себя и, приникнув к прикладу, отжал упругую гашетку. Очередь прогремела и резко оборвалась: затвор, отброшенный силой отдачи для нового выстрела, так и остался взведённым. Коробка была пуста.
Но серо-зелёные, не дождавшись прибытия главных сил, стали отползать… Отбились! Хоть на час, хоть на четверть часа, но отбились!
Майор с надеждой посмотрел на барашковые облака, прикрывшие розовое закатное небо: они несли с собой сумерки.
3
Лёвушкин вышел из соснячка и огляделся. Перед ним был пологий; спускавшийся к оврагу луг, он густо зарос высокой блёклой травой и пестрел последними осенними цветами: одуванчиком, ромашкой и белой ясноткой.
За оврагом, под тополями, стоял обоз, и светлела там, как створный знак, макушка Бертолета.
По лугу шёл, не оборачиваясь, безразличный ко всему Топорков. Пулемёт, бесполезный уже, без коробки, он нёс в правой руке, изогнувшись от тяжести и приподняв острое левое плечо.
Чуть в стороне от Лёвушкина показался из сосняка Андреев. Бородка его воинственно торчала, и заскорузлый дождевик звенел, как кольчуга.
— Отбились, дед! — крикнул ему Лёвушкин радостно и пошёл за Топорковым.
Осенние облака-барашки висели высоко над пёстрым лугом, цвели последние, прибитые уже морозами цветы, и Лёвушкин насвистывал весело: он был прирождённый солдат, он радовался лугу, белым облакам, тишине. Ну а что будет через час?.. Кто из нас знает, что будет через час?
Сапоги Топоркова шелестели в жухлой траве, приминая ромашки и яснотку.
Всё медленней и неуверенней становились его шаги. Он закусил губу, прикрыл глаза, преодолевая метр за метром. Он слышал слова, отбивавшие ритм и ставшие уже привычными для его сознания: «пятый!.. пятый!.. пятый!..», и подчинялся этим словам, шагал, и кровь стучала в артериях, барабанно повторяя ритм движения: «пятый!.. пятый!..»
Но всё медленней становились шаги.
Трофейный пулемёт сполз, и Топорков волочил его за раструб пламегасителя. Приклад чертил по лугу борозду, стебли цеплялись за спусковую скобу.
«Пятый…» Но вот замерли шаги, сапоги запутались в цветах. Пулемёт упал на землю. И следом, с таким же глухим, неживым стуком, лицом в траву упал майор.
— Кто стрелял? — закричал Лёвушкин.
Ствол его автомата, готовый блеснуть огнём, описал полный круг — от луга к соснячку и снова к лугу. Но сосняк был недвижен, и луг был пуст, и стояла осенняя тишина, особенно разительная после острой пороховой молотьбы, как будто загустевшая, подобно клею.
— Кто стрелял?! — сорвавшимся голосом на весь луг ещё раз крикнул Лёвушкин, так что эхо метнулось испуганным зайцем и пошло прыгать над травой.
Андреев нагнулся и перевернул Топоркова на спину. Сухая, тонкая рука с большими часами на запястье перекатилась через грудь и упала в траву.
Часы продолжали идти, пульсирующими толчками двигалась секундная стрелка под треснутым стеклом.
— Кто стрелял? — сиплым шёпотом повторил свой вопрос Лёвушкин.
Чувство мести клокотало в нём, и губы дёргались.
Андреев припал ухом к груди майора, привстал, отвёл тонкое веко. Над ним, ссутулившись, тяжело дыша, навис Бертолет.
— Сердце, — сказал Андреев. — Сердце у майора не сдюжило.
— Какое сердце? — прошипел Лёвушкин, схватив Андреева за плечо и повернув к себе лицом. — Какое может быть сердце? Как может человек в войну от сердца помереть? Ты что!
— Не сдюжило, — повторил Андреев. — Срасходовало себя, пережглось.
Он встал с колен. Рука Лёвушкина медленно потянулась к пилотке. Лицо Топоркова, белевшее в густой траве, казалось спокойным, почти счастливым.
— Предел свой перешёл, — вздохнул Андреев. — Эх, майор!..
Часы на тонком запястье, откинутом в заросли ромашек и одуванчиков, продолжали идти, и двигалась, прыгала секундная стрелка.
4
Белые барашковые облака стали пепельными. Лёвушкин финским ножом вырезал последнюю дернину и уложил её на могилу: на краю луга, под вербами, где стоял обоз, высился теперь аккуратный зелёный холмик. И на нём цвели попавшие сюда с дёрном одуванчики и ромашки — нехитрые осенние цветы.
— Первого по-человечески хороним, — сказал Андреев, счищая бугристой жёлтой ладонью комья, прилипшие к лопате.
— Как напишем? — мрачно спросил Лёвушкин. И сам ответил: — Так и напишем: «Пал смертью храбрых в борьбе с фашистскими захватчиками…» Всего не скажешь, что надо.
— Про партейность положено, — вставил старик.
— А он партейный был?
— Партейный не партейный, а коммунист, — ответил Андреев. — Всамделишный!.. Как его по имени-отчеству, знаешь?
— Топорков… Майор… В самом деле, а как его звали? По имени ни разу… Он и сам всегда на «вы», без никаких.
— Командир, — пояснил старик. — Положено.
Разведчик расстегнул внутренний карман шинели, достал сложенную, протёртую на сгибах карту и блокнот, в котором было несколько коротких и аккуратных записей.
— Вот и все бумаги.
— Надо написать коротко: Топорков! — предложил Бертолет. — Чтобы полицаи не разрушили. А после войны, кто из нас выживет, поставит памятник.
— Э! — простонал Лёвушкин. — После войны! Сколько ж их, таких могил, будет после войны! Что уж… Неси какую-нибудь доску, Бертолет.
— Вот так, — сказал Андреев, поправляя дёрн. — Когда беда приходит, один ничего на себя не берёт, другой — столько, сколько сдюжит, а третий — всё на себя валит… А сердце, сердце, оно у каждого махонькое…
Дощечка, прибитая к сосновой палке, была вставлена в дёрн. И надпись на дощечке: «Топорков». Из-за сосняка донёсся гул моторов. Партизаны тревожно посмотрели друг на друга.
— Надо идти, — сказал Бертолет. — Принимай команду, Лёвушкин!
— Нет, — ответил разведчик. — Ты распоряжайся. Вот. — Он протянул Бертолету карту, листок с рисунком, блокнот и — поверх бумаг — карандаш и часы с расстёгнутым ремешком.
— Верно, — поддержал разведчика старик.
— У меня характер не командный, — возразил взрывник. — Не умею я людьми распоряжаться.
— Ничего, зато башка на месте, — сказал Лёвушкин. — А характеру я добавлю. Пусть только кто тебя не послушается!
Он повернулся, как бы намереваясь пригрозить кому-то, кто готов нарушить дисциплину, но рядом не было никого, кроме Андреева и лошадей. И Лёвушкин, опомнившись, махнул рукой:
— Чего там командовать! Невелика дивизия… Давай! В карте ты разбираешься. И не горяч, как я… А нам сейчас очень надо выкрутиться, неясно, что там фрицы удумали!
Бертолет надел на руку часы с треснутым стеклом и обвёл товарищей застенчивым взглядом. Голос его, впрочем, прозвучал достаточно твёрдо, хотя в нём и не было командирских интонаций:
— Ну что ж… Главная наша задача — дойти до реки, переправиться и вытянуть немцев на тот берег. Как и приказывал майор.
— Вот! — сказал Лёвушкин удовлетворённо. — Всё правильно. А говоришь, характера нет!
5
Дорога шла в гору, прямо в сумеречное небо, к угольно-чёрной кряжистой ветле. Ветер гнул ветви старого дерева, один за другим обрывал последние, случайно уцелевшие листья.
— Ползают, — сказал разведчик, когда обоз поднялся на пригорок: снизу, куда уходила цепочка вётел, доносилось негромкое тарахтение моторов.
— Это они путь к реке перерезали! — Лёвушкин зябко поёжился. На пригорке ветер был особенно ощутим.
— Позади тоже гудит, — сказал Андреев. — И гарью доносит.
Бертолет водил хрящеватым носом по карте, высматривал что-то. Сумерки сгущались, и впереди лежала полнейшая неизвестность.
— Вот здесь минное поле обозначено, — сказал Бертолет. — Попробуем пройти?
— Я ещё не ходил по минному полю, — ответил Лёвушкин. — Но видел, как ходят. Покойники были хорошие люди.
— С этой стороны нас сторожить не будут, — серьёзно продолжал Бертолет. — Как раз успеем проскочить к реке… Единственный шанс, а?
— Ночью-то?
— Ночью самое время разминировать.
— Давай! — согласился Лёвушкин.
Дряблый свет располневшего месяца, который нёсся куда-то напролом в мутных облаках, освещал заросшее пахучей сурепкой и сорной травой поле. Бертолет лёг на живот, заполз за межу и пошарил руками в сурепке. Затем, раскрыв перочинный нож, он поковырялся в земле, запустил пальцы куда-то вглубь, сдул песчинки с открывшейся перед ним деревянной коробки и вывинтил взрыватель.
— Лёвушкин! — прошептал он. — Это «два зет»!
И столько радости было в голосе подрывника, словно он ожидал, что Лёвушкин, услышав это сообщение, немедленно пустится в пляс.
— Они в работе лёгкие, Лёвушкин! — И Бертолет пополз дальше. Голова его, как гигантский одуванчик, торчала из жёлтого мелкоцветья сурепки, а тонкие руки работали проворно, словно лапы крота.
Тонким, заострённым прутом он осторожно покалывал поле впереди себя и, почувствовав сопротивление дерева, рыл ладонями землю, закусив губу и сдерживая тяжёлое дыхание.
Он то и дело тёрся носом и щекой о плечо или рукав, отчего тёмное его, обтрёпанное пальто стало мокрым, как от обильной росы. Но пальцы работали, свинчивали взрыватели, и потное лицо Бертолета светилось высшим творческим вдохновением, оно было самозабвенно.
Лёвушкин, ползший следом, втыкал прутики, обозначавшие границы прохода. Аллейка этих прутиков протянулась уже метров на сорок в поле, и груда деревянных коробок росла.
Время от времени в низине, где раздавался гул, взлетали ракеты.
Чуть-чуть посветлело небо на востоке, Андреев ввёл первую Упряжку в узкую аллейку из веточек вербы. Колёса едва не сбивали эти ветки, и старик осаживал лошадь, чтобы не выехать за пределы прохода.
На последних метрах, в сурепке, копошился Бертолет.
— Сейчас, — сказал он осипшим голосом и извлёк последнюю коробку.
Лёвушкин осторожно принял её.
Изогнувшись, как сухой стручок, Бертолет склонился над промоиной и опустил в холодную воду израненные чёрные пальцы. Затем, похлопав озябшими ладонями по бокам, достал блокнот и карандаш. Пальцы, однако, не смогли удержать карандаш, он выскальзывал, и тогда Бертолет, взяв его в кулак, как это делают маленькие дети, крупными кривыми буквами продолжил записи майора: «29 октября. Нет Топоркова. Прошли минное поле».
Лёвушкин оглянулся. Преследователи остались позади. Перед ними был сумрачный и глухой лес — надёжная защита от вездесущих мотоциклистов.
Подрывник, усевшись на телегу среди деревянных начинённых взрывчаткой коробок и пустых ящиков, тут же уснул. Почерневшая его кисть с майорскими часами свешивалась с телеги. Вращались, вращались неутомимые колёса. Всё дальше от егерей уходил обоз, оставляя на влажной земле глубокие росчерки колёс.
Светало.
День двенадцатый ПОСЛЕДНИЙ
1
Перед ними была река. Она блестела под низко висящим над противоположным берегом солнцем.
Это была река лесная, спокойная, но глубокая, очень глубокая — вода в ней казалась чёрной. Течение чуть заметно шевелило ивовые кусты, и плыли по густой воде узкие белые листья ивняка. На той стороне виднелся вросший в низкий берег остов сгоревшего баркаса.
— Ничего, — успокоил товарищей Андреев. — У нас на Дальнем Востоке ширше… Ничего река. Если б не телеги, запросто можно…
— Без телег нам никак нельзя, — серьёзно сказал Бертолет.
Тень командирской озабоченности легла на его лицо и провела две малоприметные бороздки у углов рта.
— Это я всё понимаю, — сказал старик. — Как там Лёвушкин сказал: «Свою долю за плечами носим, как горб»?
— Может, до моста — и с бою, а? — спросил Лёвушкин. Бертолет заглянул в карту и сказал:
— До моста бы можно. Да только моста нигде поблизости нет.
— А может, сходить к тому старичку в Крещотки? — спросил Андреев.
— К какому ещё старичку?
— «Танкисту», «будьте любезны…».
— Пустые хлопоты, — буркнул Лёвушкин. — То ж серьёзное дело — переправа. Кто на это пойдёт!
— Кому фашисты костью в глотке стали — тот и пойдёт, — возразил Андреев. — Может, баркас помогут раздобыть. Или ещё чего придумаем…
— Попытка — не пытка, — согласился Бертолет. — Выбирать-то у нас всё равно не из чего.
— Одна только просьба к тебе, Бертолет, как к командиру, значит… — снимая с плеча винтовку и выгребая из карманов последние патроны, сказал старик. — Если даст судьба переправиться, обещай отпустить меня для наказания провокатора Миронова Кольки. Мучает меня эта мысль, что носит земля такого гада… Один патрон для него особо берегу…
— Обещаю, — сказал Бертолет.
И они ещё долго следили за тем, как Андреев, нахлобучив капюшон, шёл через поляну и скрылся затем за деревьями.
Бертолет сидел в своей излюбленной позе — по-татарски подогнув ноги и поставив рядом каску с металлическими деталями и велосипедную зубчатку.
— Опять мастеришь? — спросил Лёвушкин.
— Да… немного осталось.
— Лёгкий ты человек, Бертолет, — сказал Лёвушкин. — Всегда дело находишь. А я, как свободный час, весь извожусь. Или дай стрелять, или уж самогонки. Прямо не знаю, что я после войны буду делать.
Затем Лёвушкин долго лежал на телеге и смотрел сквозь белёсые ресницы на облака. Приподнялся на локте и, обнаружив Бертолета всё в том же положении, сказал:
— Слышь, Бертолет, как ты думаешь, вспомнят о нас после войны?
— Именно о нас с тобой? — рассеянно спросил Бертолет, прилаживая велосипедную цепь к деревянной шестерёнке, надетой на магнето.
— Ну, о майоре, о Гонте…
— Да как сказать… На фронте столько сейчас людей гибнет, представляешь?
— Да… А мне, если уж загремлю, хотелось бы, чтоб помнили. Вот был Лёвушкин, хороший парень, хотя и дурак. И чтоб всплакнула какая-нибудь… Ведь некоторым везёт — их долго помнят…
— Что память? — спросил Бертолет, отрываясь от своего электровзрывного устройства. — Конечно, на миру и смерть красна. Да разве в этом дело? Вот пройдёт лет сто, уйдут поколения, для которых война — это боль, и станет эта война историей. Ну, вот ты о войне тысяча восемьсот двенадцатого года много думаешь? Кажется, красивая была штука: гусары, кавалергарды, ментики, кивера… Нет, знаешь, самое главное, чтобы каждый делал своё дело, не думая о памяти. Это — забота других. Уж как получится. Вот как майор!
— Да, майор… — вздохнул Лёвушкин. — Ты как думаешь, что в нём такое особое было, а?
— Не знаю. Он был коммунист. Настоящий. Не на словах.
— Жалко, что в войну лучшие люди гибнут, — сказал Лёвушкин. — Очень жалко… Нет, Бертолет, насчёт памяти ты не прав. Кто-то из нас должен выжить и о майоре рассказать. Нельзя о нём забыть, никак нельзя…
Река Сночь, чёрная, холодная река, несла последние ивовые листья.
Зябко подрагивали кусты, опустившие в воду тонкие ветви. И посвистывал в долине, на просторе, северный ветер, гнал ватные зимние облака.
2
Ох и повезло же уссурийскому старичку Максиму Дорофеевичу Андрееву под занавес нелёгкой походной жизни!..
Перед ним на столе — огурчики, капустка свежайшего засола, но без горечи, старинный лафитничек с довольно прозрачной жидкостью и — чудо после партизанского неуюта! — трезубая мельхиоровая вилка. Как известно, огурчик, надетый на вилку, имеет неоспоримые вкусовые преимущества перед тем огурчиком который приходится хватать грязными лапами…
Но самое большое чудо — сама хозяйка, чистенькая гостеприимная старушка свояченица Мария Петровна. Она стояла по ту сторону стола со скрещёнными на груди руками, с почтительно-внимательным выражением лица, как перед уважаемым и редким гостем.
В углу — лампадка неугасимая пред образом Черниговской божьей матери; чисто, ладно в доме. И плошка на столе. Не очень яркая, но достаточно света, чтобы разглядеть огурчики.
И сам Андреев преобразился: снял свой звенящий дождевик, снял ватник я остался в стареньком, узкоплечем грубосуконном пиджаке, седые сосульки, свисающие с головы, причесал кусочком старой гребёнки, обнаруженной в необъятных карманах, бороду выжал во влажной пятерне, отчего получился задиристый калининский клинышек — и вот, пожалуйста, отличный вышел старичок, уютный, аккуратный, не стыдно было бы и в колхозном президиуме посидеть…
Мария Петровна отошла к печи и ловко вынесла на ухвате дышащий паром горшок.
— Это с чем же у вас кандер, Мария Петровна? Похоже — со шкварками? — спросил, шевеля ноздрями, Андреев.
— Со шкварками, Максим Дорофеевич, — ответила хозяйка чинно.
— А у нас больше с комбижиром готовят, — сказал Андреев и придвинул к себе миску.
— С комбижиром какой кандер!
— И то! — согласился Андреев и погрузился в миску.
В окошко, затянутое вышитой чистенькой занавесочкой, тихо стукнули три раза. Стукнули со значением: два удара подряд, частя, а третий — в отрыве.
Мария Петровна выглянула, кивнула, и в избу, внеся струю холода, в комбинезоне и шапке, вошёл Стяжонок. Вслед за Стяжонком один за другим вошли в узкий дверной проём, щурясь на плошку и снимая шапки, восемь человек, в лаптях и сапогах, возрастом под стать Андрееву и Стяжонку.
Вошли и сели рядом на лавку, вдоль стены, и руки сложили на коленях, и твёрдые сухие лица обратили на Андреева.
— Значит, насчёт баркасов, — сказал басом самый белый и рослый. — Насчёт баркасов — пустое дело.
— Сявкун, — шепнул Андрееву Стяжонок. — У него Щиплюк внучонка стрелял. Голова всей бригады.
— Надо переправу делать, — заключил Сивкун.
Он осмотрел «бригаду», выжидая.
И посыпались реплики, как картошка в чугунок.
— Эго, конечно, не шутейное занятие. Очень даже…
— Сночь — дурная река, не гляди, что тихая.
— Наплавной мост надо делать.
— А с чего?
— Ниже Крещоток двенадцать вёрст комли сложены для сплава.
— Верно. С-до войны ещё. Для школы, для стройки.
— Как сбрасывать будем?
— Накатом, там под горку. Жёлоб подроем, чтоб не шуметь.
— А плотить?
— Вязать на берегу, внахлёст и заворачивать потом, с оттягом.
— Естественно вполне… Вам сколько переправлять?
— Четыре телеги, — ответил Андреев, напряжённо слушавший стариковский переговор. — Груз не тяжёлый.
— Ну, значит, внахлёст. Верёвкой и проводом. Не рассыплется.
— Чтоб потом топором тюкнул — и нет моста. На живую. А то немцы за вами могут вдарить…
— Позвольте, товарищи сплавщики, узнать, — почтительно спросил Андреев. — Какой будет установлен, значит, срок?
Сивкун вздохнул, отчего заколыхалось пламя плошки и заметались кудлатые тени стариковских голов на стене.
— Ну, если б в мирное время ты, дорогой товарищ, был, скажем, председатель колхоза и сделал бы, как положено, наряд, и пообещал бы выставить ведро казённой, то скажем… за неделю управились бы… — И, глядя в осунувшееся лицо Андреева, добавил: — Ну а раз ты есть неимущий партизан, то за десять часов, я думаю, управимся. Только вы нам защиту обеспечьте, чтоб не постреляли наших хлопцев.
— Это будет, — пообещал Андреев.
— Будьте любезны, — добавил довольный Стяжонок.
Старики один за другим выходили, сгибаясь под низкой притолокой.
Андреев тоже встал, надел ватник, дождевик.
— Позвольте, Мария Петровна, вас поблагодарить, — сказал он смущённо.
— Та что там, — махнула она рукой и внимательно посмотрела на Андреева ясными своими глазами: — Хочется и мне с вами, Максим Дорофеевич, чистосердечно поговорить. Времени на обходные беседы нету.
— Нету, — эхом отозвался Андреев.
— Куда вы торопитесь?.. Не в ваши годы войну воевать, Максим Дорофеевич, это дело молодых.
— Оно-то верно, — согласился Андреев.
— А мне вот в хозяйстве одной очень трудно. По двору, скажем, за курями или за тёлкой посмотреть — это ничего, а уж в лес за хворостом, это не для моих сил, тут какой-никакой, а мужчина нужен…
Она не сводила с Андреева чистых, прозрачных глаз.
— Уж извините, что я так откровенно, да ведь мы люди немолодые, нам чего уж… Знаем, что такое лихо и какая штука жизнь человеческая!..
Борода Андреева сделала несколько кругообразных движений, что означало усиленную работу мысли.
— Спасибо на добром слове, Мария Петровна, — сказал он наконец. — Слова ваши от души, и слышать их мне было лестно. Да не могу я, Мария Петровна, от военного дела уходить… — Тут старик изменил ровному дипломатическому тону и сказал с жаром: — Гибнут молодые, Мария Петровна, и такого человека я вчера схоронил, что до него, хоть триста лет проживи, не дорастёшь и сердцем, и умом… Мне ли бояться, мне ли от судьбы своей уходить? Нет такого у меня права, беда большая пришла, а руки оружие ещё держат, и глаз видит…
Старушка молчала.
— Совесть не позволит, Мария Петровна, при всём почтении к вам и любови… Вы откровенно говорили, и я скажу: в своей жизни против совести не ступил. Одно, по правде сказать, имею на душе. Смешной, конечно, случай, но чем больше старею, тем больше имеет на душу воздействие… До революции ещё, молодым, до деревни нашей казацкой путейского инженера сопровождал — тогда чугунку строили на Владивосток. Инженер был сильно выпивши, да и я был не тверез, и через речку вброд зачем-то стал того инженера нести на спине, ну, и не туда занёс, уронил… Давай вытаскивать. Вода холодная была, он протрезвел. Вытащил его, а он, что было, не помнит и стал полагать, что это я его спас — как проходящий, значит, случайный человек. И — нате! — вручает мне золотой червонец за спасение.
— Николаевку! — ахнула Мария Петровна.
— Именно. И не хватило мне сил отказаться. Смешной случай, а как вспомню — скулы от стыда сводит… Вот и война, и всего насмотрелся, а не забываю. Вот, Мария Петровна, как на исповеди, мой ход против совести…
Надвинув на голову капюшон, Андреев замешкался на минуту и сказал смущённо:
— Позвольте спросить, Мария Петровна… не найдётся ли у вас лампадного маслица для моей хворости… Ревматизм мучает.
— Это можно, — спокойно сказала хозяйка. — Это можно, Максим Дорофеевич.
Она достала из-за иконы, с неприметной полочки, пузырёк из-под духов, пригасила пальцем огонь, теплившийся у печальных глаз богородицы, и из тёмно-коричневой лампадки долила пузырёк доверху.
— Думаю, не обидится бог, — сказала она с улыбкой.
— Благодарствуйте, — сказал Андреев, и бородка его дрогнула. — И за добрые слова ваши, и за гостеприимство — большое вам спасибо… — И он тихо вышел из горницы.
3
На песчаной кромке, под обрывистым берегом реки Сночь, стоял обоз: четыре телеги с ящиками. Лошади фыркали, пили тёмную воду.
А в двадцати шагах ниже по течению реки кипела работа: летели с откоса, взрывая песок, брёвна, глухо били в береговую кромку, поднимали фонтаны брызг, и бесстрашные сплавщики, а с ними с десяток подростков, стоя по колено в воде и ворочая баграми, вязали длинный и узкий плот.
Полоса связанных сосновых комлей, похожая на лестницу, уже протянулась вдоль берега, и Андреев, прыгая с бревна на бревно, поторапливал:
— Давай шустрей, сплавщички!
Бревно к бревну подвязывали старички, и лестница росла, увеличивалась, чтобы, развернувшись, ткнуться к тому берегу и перегородить реку временной, но прочной связью.
— Как там ваши, много их, удержат? — опасливо спросил кудлатый сплавщик.
— Удержат, — сказал Андреев.
Близ переправы гудела земля под ударами падающих с обрыва брёвен. Сплавщики наращивали плот.
Длинная лента связанных брёвен лежала вдоль берега. Теперь эту ленту предстояло поставить поперёк реки, чтобы соединить оба берега.
Четверо старичков взялись за прочный пеньковый трос, прикреплённый к дальнему краю плота, а остальные принялись баграми отталкивать настил.
Река медленно разворачивала бревенчатую ленту. Наконец плот, удерживаемый туго натянутой верёвкой, перегородил реку, но несколько метров тёмной воды всё ещё отделяли край шаткого настила от дальнего берега.
— Вот бес, вода осенняя, ширит реку, — пробормотал Андреев. — А ну подгоняй, наращивай! Не бойсь портки промочить, на печи будем греться! — И он, подталкивая багром бревно, пошёл по колеблющемуся настилу.
— Идут, — прошептал Бертолет.
Тяжело лязгало, грохотало и гудело за краем лощины, и глаза партизан округлились от напряжения. Казалось, ещё немного — и на перевале дороги покажется нечто чудовищное, неодолимое, гигантское, как бронтозавр.
…Тёмным резным силуэтом вырос мотоцикл. Но он не мог издавать такого грохота, и Бертолет с Лёвушкиным проводили его спокойными взглядами. Мотоцикл, ворча мотором на малых оборотах, спустился в лощину, а за ним на фоне белёсого хмурого неба вырос угловатый и громоздкий, как башня средневекового замка, броневик.
Он не спеша стал спускаться по неровной дороге, и колёса его ходили вверх-вниз под тяжёлым кузовом.
— Вот это да! — сказал Лёвушкин, и глаза его захмелели в охотничьем азарте. — Зауважали нас фрицы! Сильно зауважали! Надо же!..
Броневик вёл за собой под прикрытием своей брони два грузовика с солдатами. Замыкал колонну связной мотоцикл. Облачко гари повисло над дорогой.
— Броневик фирмы «Даймлер», — сказал Бертолет и положил свою неспокойную руку на замысловатый подрывной механизм. — Два мотора, два водительских места — впереди и сзади. Для лесной местности…
— Завалить бы его, — прошептал Лёвушкин.
Мотоциклисты ехали не спеша, рассматривая дорогу. Над ними плыл ствол крупнокалиберного пулемёта, установленного в башне «даймлера».
Грохот броневика сотрясал землю. Колыхались ряды касок в грузовиках. Бертолет взялся за шатун велосипедной зубчатки и что есть силы рванул его. Зубчатое колесо пришло в движение, и зажужжало, вращаясь, магнето.
Но взрыва не последовало. Переваливаясь, броневик преодолевал низменный участок, где был заложен фугас.
— Ну чего ты! — взмолился Лёвушкин.
— Крути! — крикнул ему Бертолет и тонкими дрожащими пальцами прижал к магнето отошедшую проволоку. — Говорил же, без паяльника…
Лёвушкин, перекосив лицо, привстал, забыв об осторожности, и бешено закрутил зубчатку.
Облако земли встало над колонной и закрыло её, пошатнулась, побежала куда-то земля, дохнуло огнём, и Лёвушкина отбросило в сторону, вырвав из его рук подрывную машинку. Разведчик приподнялся, ошалело глядя на подползавшего к нему Бертолета. У обоих были чёрные, в ссадинах лица.
— Пошли, — простонал подрывник, выплёвывая песок и траву.
Падая, задыхаясь, они взобрались на пригорок. Оглянулись. Лёвушкин протёр запорошённые песком глаза, раскрыл рот и в восторженном порыве хлопнул Бертолета по вихрастому затылку.
— Даровитый ты парень, — прошептал он, не отрывая глаз от лощины, взбухавшей чёрным дымом. — Вроде мешком пришибленный, а даровитый… Вот девки, наверно, за это и любят, — добавил он неуверенно. — Они чуют…
— Пошли, пока фрицы не опомнились, — потянул его за рукав Бертолет. — Чего там смотреть… Удовольствия мало.
4
Наплавной мост из колышущихся брёвен, тонкий и прямой, вёл к тому берегу.
Крещотские мастера, тревожно поглядывая на косо выгибающуюся под ветром полосу дыма, укладывали между крупными комлями жерди, чтобы не сбились телеги.
— Спасибо, сплавщички! — крикнул Лёвушкин. — И дуйте кто куда. У кого ноги слабые, возьмите там бричку. И побыстрей!.. Думаю, свидимся ещё!
Он подхватил под уздцы первую пароконную упряжку и вывел её к мосту.
Лошади упирались, они боялись колышущегося настила, но сзади подталкивали телегу Андреев и Бертолет, и упряжка взобралась на брёвна.
Настил дышал, он ходил волнами, оседал под тяжестью лошадей и телеги, через несколько метров колёса уже глубоко ушли в воду и прыгали на горбатых комлях, поднимая брызги.
— Счастливого пути, будьте любезны! — крикнул с обрыва Стяжонок и исчез вместе с бричкой и сплавщиками.
Растворились в лесу крещотские старички и мальцы.
За высоким песчаным берегом чёрной дугой стлался дым.
…Упряжка медленно двигалась по прогибающемуся деревянному полотну. Брёвна скакали, как поплавки, под копытами лошадей и колёсами, мост играл, но — держался, держался! И упряжка, громыхнув, соскочила с настила в осоку, и лошади, осмелев, почуяв землю, рванули телегу из грязи так, что влажные комья полетели с колёс.
И вторая и третья повозки прошли по наплавному мосту. Партизаны вели их, черпая голенищами воду, чертыхаясь и скользя на уходящих в тёмную речку брёвнах.
Когда последняя упряжка прыгнула с горбатых сосновых комлей в осоку, Бертолет с Лёвушкиным, щёлкая кнутами и крича, погнали обоз дальше, за деревья, куда не могли долететь пули преследователей. Андреев же, подхватив топор с телеги, бросился по наплавному мосту обратно.
Опережая застрявшие в лощине грузовики, егеря в касках и пилотках, в полном боевом снаряжении, с бьющимися о бёдра коробками противогазов, бежали между соснами к реке. С высокого берега они заметили переправу. Они кричали, показывая руками, и сапоги их, подбитые шипами, гулко топали по земле.
После неожиданного и страшного взрыва фугаса на дороге они были полны ненависти. Одним из первых бежал, неся на плече МГ, как некогда делал это Гонта, огромный егерь, загорелые руки которого торчали из рукавов френча, как из детской курточки.
Под сухоньким стариковским телом Андреева настил не прогибался — только мокрые брёвна прыгали в ногах, упругие, как мячи.
Оказавшись под обрывом, на самом краю моста, он несколькими резкими ударами топора перерубил верёвки и проволоку, связывающие крайние комли, и настил, подталкиваемый течением, крякнул, заскрипел, стал медленно уходить одним концом от берега. Постепенно обозначилась полоса чёрной воды, отделившей настил от песчаной кромки под обрывом, куда спешили егеря.
Всё круче изгибалась бревенчатая лента под напором реки, и Андреев побежал обратно, высоко подбрасывая ревматические колени и взмахивая руками, чтобы удержать равновесие на скользких брёвнах.
На середине реки он остановился, обернулся, увидел каски и пилотки егерей над обрывом… Согнувшись, как будто опасаясь удара в спину, он ещё быстрее пустился по настилу.
Близ низменного берега, поросшего осокой, он снова принялся рубить верёвки и провод, часто взмахивая топором и кряхтя при каждом ударе. Он не оглядывался. Он спешил. Но по его фигуре, съёжившейся, нарочито невнимательной к тому, высокому, берегу, чувствовалось, что он понимает, как близки егеря.
Раздался треск, скрип, и брёвна начали расходиться.
И тут с обрывистого берега равномерно татакнул станкач. Высокий немец, обхватив пулемёт своими огромными лапами, дал нескончаемую, веерную очередь по реке, и была в этой очереди вся его злоба и всё его бессилие.
Андреев сел на бревно. Словно бы отказали вдруг стариковские ноги. И сидя, закусив губу от боли, уткнувшись бородкой в грудь, среди кипевшей от пуль воды, среди взлетающих фонтанчиками щепок и кусков коры, он продолжал рубить последнюю проволочную нить, соединяющую разошедшиеся звенья настила.
Плотно, глухо ударили пули в брезентовый плащ. Андреев откинулся назад. Пальцы его последней жизненной хваткой вцепились в брёвна.
Средняя часть настила оторвалась и, медленно поворачиваясь, как льдина, поплыла по тёмной реке Сночи. На краю её, выставив острый клинышек бородки из капюшона, лежал Андреев — потомственный уссурийский казак.
То ли от пуль, то ли от движения крайних брёвен тело перевернулось, и из кармана дождевика выпал пузырёк, закрытый стеклянной притёртой пробочкой с «сердечком».
Всё дальше уплывал мост. Лишь несколько куцых плотиков, наподобие мостков для полоскания белья, остались на обоих берегах.
Постепенно пальцы Андреева разжались, и тело тихо, без всплеска, соскользнуло в воду. Остался лишь пузырёк с лампадным маслом, средством от «невоенной» болезни — ревматизма.
Лёвушкин с Бертолетом, оставив обоз в ивняке, бежали через кусты, увязая сапогами в сырой, чавкающей земле.
— Дедок! — кричал Лёвушкин. — Дедок!
Они выбежали на берег. Река была пуста. Не было ни моста, ни Андреева, только два куцых мостка из брёвен напоминали о переправе.
На противоположном высоком берегу разворачивались, ворча дизельными моторами, два больших грузовика. Егеря на ходу влезали в кузова. Последним, забросив пулемёт, влез рослый солдат…
— Дедок! — ещё раз крикнул Лёвушкин.
Он побежал, поднимая брызги и путаясь в осоке, вниз по реке. И увидел за поворотом: медленно разворачиваясь, плывёт по тёмной воде бревенчатый настил, который десять минут назад служил для них мостом. И настил этот был пуст.
— Дедок! — угасшим уже голосом крикнул Лёвушкин.
Бертолет, оставшийся у места переправы, нагнулся и поднял из травы снайперскую винтовку. Отвёл затвор, и выпал на его ладонь один-единственный золотистый патрон, последний патрон, сберегаемый Андреевым для того, чтобы покарать предательство и зло.
Лёвушкин, с опущенной головой, подошёл к взрывнику. Посмотрел на патрон, на винтовку.
— Ты дай мне, — сказал он, вставил патрон в казённик и забросил винтовку за спину.
5
Наступили сумерки, и пошёл снег, первый снег года. Он был крупным, мокрым, тяжёлым и вмиг облепил деревья, кусты, одежду двигавшихся полем людей и повозки.
Снег налетел порывом, усыпал землю, и сразу высветлело вокруг, и чётко, словно вырезанные из чёрного картона, обозначились фигуры лошадей: снег мгновенно стаял на их горячей шкуре, и она клубилась паром.
Скрипели сапоги, оставляя чёткие следы на белом поле, и за обозом тянулась чёрная полоса взбитой колёсами и копытами земли.
И вдруг вдали, за горизонтом, небо вспыхнуло, как вспыхивают пары бензина, и заиграло красными и белыми сполохами. Гулом отозвалась этому внезапному свету земля.
Зарево разрасталось, мигая и подсвечивая алым и жёлтым низкие плотные облака.
— Это там… под Деснянском, — прошептал Бертолет. — Значит, тот обоз добрался…
— Дошёл! — сказал Лёвушкин. — Дошёл!
Они стояли, не в силах оторвать взгляда от красных сполохов за горизонтом.
Затем Лёвушкин хлопнул товарища по плечу и крикнул, смеясь и плача:
— Всё, Бертолет… Всё!.. Нет, что же мы наделали, а? Что же мы наделали, что даже самому страшно!..
Он вытер грязной ладонью лицо:
— А ну дай тот листок, что майор с собой носил!
И когда Бертолет достал и развернул листок с расплывчатым изображением кукиша, Лёвушкин прикрепил его к ящику.
— Нехай посмотрят, нехай!.. Нет, что мы наделали! — повторил он, и непонятно было, то ли снег тает на его щеках, то ли ползут слёзы.
Бертолет машинально взглянул на часы майора. Под треснутым стеклом неутомимо двигались стрелки.
— Ну хорошо, — сказал Лёвушкин и вздохнул облегчённо. — Значит, всё не зря… — Он достал из кармана две лимонки, взвесил их на ладонях и одну отдал взрывнику: — Возьми.
— А ты куда?
— Я?.. Дедок велел тот патрон, что в винтовке, на Кольку Миронова израсходовать. Так я попытаюсь… А потом — туда. — И Лёвушкин махнул в сторону зарева. — Может, чем-нибудь я им понадоблюсь…
— Это да… Это конечно…
— А ты, Бертолет, дуй на кордон… Возьми Галку и Степана под свою охрану. Доставишь в отряд… Хорошая она дивчина… И будь здоров!
Они поцеловались.
— Да, чёрт нескладный, я тебе тяжеловоза заседлаю, поедешь как на печке…
— Прощай, Лёвушкин! — прошептал Бертолет.
Зарево в стороне Деснянска всё разрасталось, оно пульсировало белым огнём, и чуть подрагивала под ногами партизан земля.
— Аэродром подрывают, — констатировал Лёвушкин.
Уже съехав с пригорка, Бертолет остановил своего мерина. Вспомнив о блокноте, доставшемся ему от Топоркова, он похлопал по карманам, отыскал огрызок карандаша и сделал последнюю запись: «30 октября. Переправились через Сночь. Приказ выполнен».
Когда Бертолет оглянулся, он увидел на белом пригорке, подсвеченном заревом, лишь телеги с пустыми ящиками…
Ссутулясь, Бертолет трясся на широкоспинном тяжеловозе, и табунок партизанских коней бежал перед ним лёгкой рысцой.
Широкий тёмный след оставался от табуна.
Примечания
1
«Первый, второй, третий, четвёртый, пятый!.. Выйти вперёд, пятый!.. Выйти вперёд, пятый!.. Пятый!.. Пятый!..»
(обратно)2
«Пляшут жернова…»
(обратно)3
Я подстрелил его, как куропатку, влёт.
(обратно)4
Санитары! К господину лейтенанту!
(обратно)5
Командование разрешило одному из ваших товарищей поговорить с вами!
(обратно)6
Смелей, Адольф. Среди них девчонка.
(обратно)ВИКТОР СМИРНОВ Ночной мотоциклист
Полицейские ворвались в хутор на рассвете. Действовали они на сей раз ловко и храбро: хутор был окружен ротой егерей, снятой с фронта специально для карательных операций, и в случае отступления полицейские сами были бы расстреляны из пулеметов.
Через час бой с небольшой группой партизан был окончен, и командир полицейского отряда, откозыряв обер — лейтенанту, приступил ко второй части акции. Население затерянного в лесах Гродненщины хуторка было собрано у большого сарая. Обер произнес речь, а командир шуцманов переводил. Как только фашистский офицер пунктуально объяснил, что жители хутора, приютив партизан, «совершили тягчайшее преступление против рейха», солдаты и полицаи загнали людей в сарай и подожгли его.
…Мне было тогда пять лет, я жил в Сибири, но, как и у всех русских, боль войны вошла в мою Кровь и мозг, отпечаталась в глубинах сознания: достаточно малейшего толчка, чтобы вызвать в памяти картины, которых я не видел. Надо мной пролетают серо — зеленые длиннотелые «мессершмитты» так низко, что различимы чужие, холодные лица летчиков; я вижу беженцев, угловатые темные танки, мнущие стебли кукурузы, вижу обмерзлые пустые квартиры Ленинграда… Есть страны, где не видели фашизма вблизи, но мы видели, и память о пережитом передается от поколения к поколению.
Так вот, сарай догорал, и те, кому хотелось, насмотрелись досыта; полицейский начальник допросил четверых партизан, захваченных в хуторе, и, озлобленный молчанием, застрелил одного из них.
Остальных повели берегом реки к городу. Их не сожгли вместе с теми, в чьих избах они ночевали, их должны были повесить на площади. Партизаны видели, как горел сарай, и, наверно, им тяжело было чувствовать себя живыми. Полицаи шли нестройной толпой, от реки поднимался туман, и в низинке, где он был особенно густ, партизаны, точно сговорившись, бросились бежать. Двое, петляя, помчались в прибрежный кустарник, а третий прыгнул с обрыва в реку.
Полицейские долго стреляли из автоматов, срезая очередями ветки кустов. Двух партизан вскоре нашли, но третий, тот, что прыгнул в воду, исчез. Командир отряда до самого города оставался мрачным и злобно гонял желваки: он не любил оставлять свидетелей в таких делах. Он боялся, этот фашистский прихвостень. Люди не могли забыть содеянного им, и он предчувствовал время, когда каждый встречный будет казаться ему свидетелем обвинения.
1
Я просыпаюсь с тяжелой головой и не сразу сознаю, где нахожусь. Лишь когда вижу плюшевую портьеру и репродукцию картины Шишкина в позолоченном багете, вчерашний день смыкается с настоящим, все встает на место. С чего я должен начать? Да, нож… Нож, отмеченный клеймом африканского корпуса Роммеля. Из всех возможных орудий убийца предпочел почему — то этот экзотический клинок.
Николай Семенович спит на диване, тяжело, с присвистом дыша. Множество листков на столе исписано его неровным почерком. Темно — синий китель с майорскими погонами небрежно брошен на стул.
Беру патрончик из — под валидола — он пуст. Вчера шеф высыпал на ладонь таблетки, их было не меньше шести. Когда, работаешь в угрозыске, привыкаешь замечать такие мелочи.
Я надеюсь ускользнуть из номера, чтобы позвонить врачу, но шеф предупреждает меня.
— Присядь, Паша, — говорит он, приподнимаясь. Лицо его мне не нравится. Оно сиреневого оттенка, в тон портьерам. Конечно, человек, получивший в войну три ранения и не знающий, что такое нормированный рабочий день, не может рассчитывать на здоровый цвет лица. Но это уже слишком и для Эн Эс.
— Я вызову врача.
— Спасибо. Но я вот о чем… Тебе придется поработать сегодня за двоих. Я отлежусь.
— Работа небольшая. Если выяснится с ножом…
— Сейчас ты мои глаза, и уши, и руки. Ты часто надеешься на меня. Но если что упустишь сейчас, никто не восполнит пробела.
— Ясно.
Мне льстит перспектива самостоятельной работы. И пугает.
— А я облюбовал диванчик. Мотор отказывает. «Вчерашний день доконал, — думаю я. — Угораздило загрипповать перед выездом. Сердце. Грипп для него слишком тяжелая нагрузка. Сердце. Черт, мне никогда не приходилось задумываться над тем, что у меня есть сердце, всякие там легкие, селезенка! Все словно в одном слитке».
— Так я пошел?
— Давай, — соглашается шеф. — И предоставь действовать Комаровскому.
Это в характере Эн Эс — не вмешиваться в работу местной милиции, пока нет необходимости. Он только направлял поиск, не давая ему зайти в тупик, и умудрялся делать это так незаметно, что казалось, будто все идет само собой. В управлении часто говорили о стиле майора Комолова и пытались анализировать и «передавать» этот стиль, но так получалось далеко не у каждого. По — моему, никакого продуманного стиля не существовало, а был просто характер Комолова. Он и дома держался точно так же, никому не навязывая себя. «Твой Эн Эс — человек», — говорили ребята в управлении. И этим было все сказано.
Большой, вялый, Николай Семенович дремлет на диванчике, закрыв глаза. Наверно, молча борется с болью.
Ну что ж, попробуем. Будем глазами, ушами и руками. Даже головой — по возможности…
Правление общества охотников занимает рубленый домишко возле рынка. Нижний этаж отдан под магазин. Комаровский решил вызвать местных охотников сюда, а не в отделение, чтобы избежать лишних пересудов и слухов, которые быстро распространяются по такому городку, как Колодин.
Мальчишкой я любил бегать в этот магазинчик с большой аляповатой вывеской, на которой был изображен краснощекий человек с патронташем. Иногда Дмитрий Иванович, заведующий, давал мне подержать «зауэр три кольца» или еще какую — нибудь редкую штуковину, а в девятом классе я и сам обзавелся одностволкой. У магазина я часто встречал дочь Дмитрия Ивановича — Лену…
Городок мало изменился с тех пор, как я уехал в «область». Он остался деревянным, и даже тротуары, за исключением главных улиц, были дощатыми. Зато на окраине, ближе к Мольке — гряде невысоких сопок, — вырос новый каменный городок. Там строился химкомбинат. Этот белый поселок со временем должен был поглотить Колодин. Бетон и стекло вели неуклонное наступление на старый таежный городок.
Сейчас над Молькой громоздятся тучи, пахнет затяжным августовским дождем. Доски тротуара гибко пружинят под ногами… Вот дом Коробьяникова, выглядывающий резными фризами из — за тополей, баня, славящаяся ажурными деревянными кружевами. Тихий Колодин. И вот — на тебе! — расследование загадочного и зверского убийства.
У охотничьего магазина порывистый ветер треплет афишу: «Первенство области по футболу. «Химстрой» — «Металлург». Футбольные страсти коснулись и моего городка.
Уже на пороге магазина какой — то внутренний толчок удерживает меня…
Двухцилиндровая «Ява» мягко подкатывает к крыльцу. С заднего сиденья соскакивает мужчина в кожаной куртке, плотный и широкоплечий. Наклонившись к мотоциклисту, подростку в белом шлеме и очках, он что — то тихо говорит; извинительно — ласкова, даже заискивающа его поза. Рука осторожно и примирительно касается плеча мотоциклиста.
Вкрадчиво мурлычет двигатель.
Мотоциклист… Что — то знакомое в его фигуре, повороте головы, в прямой, изящной посадке. Он сбрасывает руку с плеча, словно прилипший комок снега, и это небрежное и гибкое движение также кажется знакомым мне.
Видимо, я присутствую при какой — то ссоре.
«Ява» скрывается в пыли. Я останавливаю мужчину, поднимающегося на крыльцо.
— Простите.
— Да? — раздраженно спрашивает он. Ему лет тридцать пять, лицо довольно красивое, из тех, что принято называть мужественными: тяжелый подбородок, крупные скулы, глубоко сидящие жесткие глаза. Темный, прочно въевшийся в кожу загар. Только морщины белеют.
— Видите ли, я жил когда — то в этом городе… Этот человек… Эта девушка на мотоцикле Лена Самарина?
— Самарина!
Он взбегает по деревянной лесенке. Ступеньки скрипят под тяжелым телом. «Очень энергичный мужичок, — думаю я, глядя на широкую выпуклую спину. — Такие берут жизнь просто, как яичницу со сковородки. Ну, пусть! Ладно».
В маленькой конторе правления — начальник колодинской милиции капитан Комаровский, его помощник и Дмитрий Иванович, бессменный предводитель здешних охотников.
Дмитрий Иванович сразу узнает меня.
— Паша! — говорит он и трясет мою руку. Очки его, сползшие на кончик носа, тоже трясутся. — Наконец — то завернул к нам. Несчастье — то какое! Не думали, не гадали…
— Как Лена? — спрашиваю я.
— Лена! — сияет старик. — Сорванец, как прежде. Преподает физкультуру. На мотоцикле гоняет. Хуже парня!
Это в восьмом классе мы с ней взбудоражили весь город, когда тайком отправились в путешествие по Катице, а лодка перевернулась, и мы очутились на скалистом островке. Нас нашли на пятые сутки.
— Ты бы хоть писал изредка. Все дела?
— Дела…
Сказать бы прямо — забыл, вот и не писал. А тут, приехав в Колодин, вспомнил. Невозможно не вспомнить, потому что Колодин — мое детство, а детство — это Ленка. Да и только ли детство? Там, у дома Коробьяникова, мы впервые поцеловались. «Отец говорит, он был хороший, Коробьяников, — сказала Ленка. — Больницу выстроил и библиотеку». — «Он был купец, буржуй, — ответил я. — А больница — это филантропия». — «Ты дурак. Филантроп знаешь, что значит? Любящий людей». Мы, как всегда, поспорили, а потом… поцеловались. В доме Коробьяникова светилось окно, и тополя шумели под ветром. Городок наш безлесый, и только у этого дома был зеленый оазис. Здесь шелест листвы заглушал шепот.
Позднее мне пришлось задумываться над этим спором, и, познакомившись с Эн Эс, я понял, что филантропом можно быть, даже если работаешь в милиции. Точнее, особенно если работаешь в милиции. Час считают суровыми людьми. Наверно, так оно и есть. Сотрудникам угрозыска жизнь предоставляет не так уж много поводов для улыбки и радужного настроения. Но я помню, как однажды Николай Семенович вытащил из стола толстую пачку писем и сказал: «Знаешь, самое ценное для меня — это…» Ему писали люди, которые, казалось бы, имели основание считать моего шефа врагом. Писали из колоний, из тюрем, из мест высылки. «Вы дали мне понять, что не все потеряно…», «Хочу поскорее вернуться к честному труду и надеюсь на вашу помощь». Он ездил в колонии, устраивал своих подопечных на работу, улаживал какие — то сложные семейные конфликты. Меньше всего Эн Эс был похож на того угрюмого и неподступного сыщика, какими я представлял раньше сотрудников угрозыска.
— Ну что ж, начнем? — предлагает Комаровский. Долговязый, худой, он возвышается каланчой в полосах табачного дыма. «Дядя Степа» — так мы звали Комаровского, когда он был старшиной и дежурил на колодинском рынке.
Входит широкоплечий человек в кожаной куртке, тот самый, которого привезла на мотоцикле Ленка Самарина.
— Жарков, из автошколы ДОСААФ, — шепчет Дмитрий Иванович. — Чемпион области по мотокроссу, мастер спорта.
В голосе Самарина я улавливаю нотки неприязни. Чемпион спокойно оглядывает нас, глаза его твердо поблескивают.
— Нас интересует эта штука, — говорит Комаровский, показывая на стол, где лежит злополучный нож. — Дмитрий Иванович как будто видел нож у кого — то из охотников. Вы нам не поможете?
Жарков внимательно рассматривает нож. Лезвие тускло мерцает. Вот от этого холодного куска стали погиб инженер Осеев.
Нож заметный. Наборная плексигласовая рукоять, отличной стали лезвие. У самой рукояти отчеканен странный рисунок: лев под пальмой. Эн Эс, взглянув на клеймо, сразу определил: «Золингеновский. В Германии сделали несколько тысяч таких ножей для африканского корпуса Роммеля. Кто — то, наверно, привез с войны как трофей, а потом уже переделал рукоятку и переточил лезвие».
— Боюсь, что не смогу помочь. — Жарков пожимает плечами. — Не видел…
— Ну что ж, лиха беда начало, — говорит Комаровский, едва закрывается дверь за чемпионом. — Продолжим.
Тучи, перевалившие через Мольку, заполонили небо. В окно ударяет дождь — словно горсть песка сыпанули. Комаровский включает свет, и на ноже вспыхивает зайчик.
Высокий хромой охотник, отставив в сторону клюку, рассматривает нож. Выражение настороженности появляется на его хмуром лице.
— Анданов. На почте работает, — шепчет Дмитрий Иванович, — на медведей ходит, мастак! Охотник первоклассный.
Анданов смотрит на нож с опаской, как на существо, готовое взбеситься.
— Не видел раньше… Нет, не видел!
Он выходит, постукивая клюкой. Одного за другим представляет Дмитрий Иванович новых охотников. Врач Малевич, тракторист Рубахин, летчик Бутенко. «Не знаю», «не видел»… Слесарь промкомбината Лях, рослый парень, добродушный и улыбчивый, с транзистором на ремне, едва взглянув на нож, заявляет:
— Видывал это «перышко», У Шабашникова. Факт!
Лях подписывается под протоколом, улыбаясь: он и не догадывается, какая мрачная трагедия привела нас сюда.
Комаровский постукивает пальцами по столу.
— Шабашников? Невероятно… Кстати, его пригласили?
— Приглашали, — отвечает пожилой сутулый лейтенант, помощник Комаровского.
— Он в загуле. Говорит, поминки справляет. Они соседи были с инженером.
— Пригласите еще раз!..
— И близко этот Шабашников живет от дома Осеева? — спрашиваю я.
— Близко. Через огород.
— Помните, собака метнулась через забор? Это по направлению к дому Шабашникова?
Тогда собака потеряла след — после такого ливня самая лучшая ищейка была бы беспомощна. Мы с майором Комоловым и экспертом вылетели в Коло — дин, как только в областном угрозыске получили сообщение об убийстве. Пилот мастерски посадил маленький ЯК на раскисшую площадку, усыпанную оспинами луж. Шеф во время полета был мрачен, то и дело кашлял в кулак — я не знал, что он решился вылететь с гриппом, при его — то сердце!
Возле дома номер девять на улице Ветчинкина собралась толпа. Осеева уже увезли «а судебно — медицинскую экспертизу. Комаровский показал только что отпечатанные фотокарточки: Осеев лежал на пороге дома, голова свисала на ступеньки.
Пока мы осматривали двор, приехал следователь прокуратуры, а вслед за ним врач — Комолов просил его прибыть побыстрее к месту преступления, чтобы потолковать с глазу на глаз. Майор предпочитал беседу любому, даже самому обстоятельному документу. Поэтому когда врач принялся зачитывать пять машинописных страниц, перейдя, наконец, к классическому: «осмотром и судебно — медицинским исследованием трупа установлено, что смерть наступила от…» — майор перебил его:
— Чем?
— Нож длиной не менее двенадцати сантиметров. Проникающее, в сердце. Умер сразу, сразу.
— Следы борьбы?
— Нет…
Врач волновался. Видно, недавно окончил институт и к такой работе не привык. Он был заикой, говорил слегка нараспев и часто повторял окончания фраз.
— Видите ли… Я осмотрел очень тщательно… Никаких следов. Борьбы не было, не было.
— Ну, а ваши субъективные наблюдения? Я знал: майор с большим доверием относился к таким вот застенчивым ученым мальчикам. Он не терпел людей с апломбом.
Врач оживился, почувствовав уважительное отношение милицейского начальника.
— Судя по положению трупа, убийца ударил сразу, как. только открыли дверь. И — вы знаете? — был нанесен и еще один удар, но уже после фактической смерти.
Комолов поморщился.
— Просто зверюга, зверюга, — сказал врач.
— Когда наступила смерть? — спросил майор.
— Время мы знаем точно, — заметил Комаровский, — преступник уронил будильник, шаря на столе. В двенадцать ночи. В двенадцать и десять минут.
Я представил себе эту ночную сцену: тусклый свет; лампочки в сенях, фигуру Осеева, возникшую в проеме двери, и черную крутую спину убийцы с головой, убранной в плечи, — как хищник перед прыжком. Преступник знал, как надо действовать. Если бы он замахнулся, Осеев успел бы прихлопнуть дверь. Но удар был коротким и резким.
Мы вошли в дом. Следы, оставленные грязными сапогами убийцы, вели в глубь коридора. Дом был просторный и пустой. Осеев, сравнительно недавно переехавший в Колодин, в ожидании семьи не обзаводился мебелью. В первых двух комнатах мы увидели голые бревенчатые стены и покрытый легким слоем пыли крашеный стол. Преступник сюда не заходил. Он направился прямо к кабинету — единственной обжитой комнате.
Эксперт снимал и зарисовывал отпечатки, я непрерывно щелкал фотоаппаратом. Кое — где с сапог осыпалась глина, и я аккуратно собрал ее в конверты.
Убранство кабинета было нехитрое. Две этажерки с книгами, старая, с прогнувшимся матрасом кровать, грубый, незастекленный буфет с посудой, медвежья шкура на полу, письменный стол в углу, у окна. Следы вели только в этот угол.
Мы подошли к письменному, столу. Ящики были выдвинуты, какие — то бумаги валялись на полу. Будильник с разбитым стеклом лежал циферблатом вверх. Убийца, видимо, спешил. В верхнем ящике стола лежала раскрытая сберкнижка. Незадолго до трагической гибели Осеев снял с книжки около пятисот рублей. Денег в столе не было.
Преступник предусмотрительно надел перчатки. Он оставил несколько жирных отпечатков на бумаге, покрывавшей стол. От пятен исходил едва уловимый запах бензина.
Мы детально исследовали дом и двор, но больше ничего не удалось найти. Вскоре привезли собаку, толстолапую черную овчарку. Она было взяла след, но дождь уже смыл запахи. Неожиданно собака рванулась через забор, натянув длинный поводок, но дальше, за забором, беспомощно закрутилась и с виноватым видом легла на брюхо.
— Кто живет в этом направлении? — спросил Комолов.
Комаровский назвал фамилии соседей: Казырчук, Сажин, Шабашников…
Поблизости от того места, где крутилась собака, стояла дощатая покосившаяся уборная.
— Вызывай золотарей, — сказал шеф Комаровскому.
Через три часа мы нашли в уборной узел. Нож и сапоги были завернуты в махровое голубое полотенце, похищенное в доме убитого. Край полотенца был оторван.
…Комолов, едва дойдя до гостиницы, свалился с ног: «Грипп по сердцу резанул». Тем временем мы получили первые результаты экспертизы: найденные нами сапоги действительно принадлежат человеку, входившему той ночью в дом Осеева. Зазубрина, имевшаяся на ноже, оставила характерный след, задев ребро.
Через полчаса в контору правления охотничьего общества возвращается сутулый лейтенант. Он переминается с ноги на ногу у двери.
— Не намерен Шабашников явиться, Борис Михайлович. Говорит: «У меня тоскливое состояние». Выпивши он.
— Он понял хоть, почему его вызывают?
— Да нет, где там. Сидит, с собаками разговаривает, как сыч какой — нибудь.
— Не видел, чтобы сычи разговаривали с собаками, — сердито бормочет капитан.
— Да он и тверезый с ними толкует с утра до вечера. Полагаю, от одиночества.
— Что ж, поедем, составим ему компанию для беседы.
2
В гостиницу я возвращаюсь поздно, на улицах горят фонари, дождь гасит их и без того тусклый свет. Мерцает неоновая реклама, установленная над зданием. «Для Аэрофлота нет расстояний. Москва — через десять часов».
Да, десять часов полета над таежным морем… Но как бы ни быстры были самолеты, все — таки расстояние остается расстоянием. В такой дождь до Москвы не десять часов, а все десять суток.
Эн Эс не один, с ним врач — знакомый уже мне молодой человек, который говорит нараспев.
— Вы зря отказываетесь лечь в больницу, — говорит он, ставя на рецептурном бланке пометку «Cito». — Вам это необходимо, необходимо.
— Не смотрите на меня так мрачно, доктор, — почтительно отвечает Эн Эс. — На сей раз я пригласил вас не как паталогоанатома, а просто как хорошего врача.
— Ну уж, ну уж…
— Мне нужен денек — другой. А потом отдых. Поддержите пока мой мотор, ладно?
…Прежде всего Эн Эс заставляет меня вскипятить чайник и переодеться. Плащ я выжимаю, как половую тряпку.
— Хватит с нас одного больного.
Майор не дает мне говорить, пока я не выпиваю две чашки густого чая, заваренного по особому, разработанному Комоловым способу, который у нас в управлении носит название «пришел с февральского дежурства».
— Теперь давай по порядку. Помни: я ничего не видел.
— Кажется, мы скоро можем закончить это дело, Николай Семенович.
— Ишь ты. Veni, vidi, vici*.
* Пришел, увидел, победил (латин.).
Любовь к латыни он сохранил еще с рабфаковских времен, когда собирался податься в фармацевты. «Не язык, а сама логика».
— Выводы потом. Давай по порядку!
— Хорошо…
— И помни: я ничего не видел…
Домишко Шабашникова стоял за ветхим забором, ворота висели на одной петле, открывая вход во двор. Повсюду были разбросаны какие — то хомуты, поленья, миски с собачьей едой.
Достаточно было лишь беглого взгляда, чтобы убедиться: здесь живет бобыль.
За сараем, через два или три двора, виднелась «круглая», на четыре ската, крыша. Это был дом убитого инженера Осеева.
— Он чем занимается, Шабашников?. — спросил я у капитана.
— Да так… Охотник. Можно сказать, профессионал. Шкурки сдает. Собаки у него знаменитые, щенками торгует. Сейчас увидите Найду — лучшая, говорят, лайка в Сибири, универсал.
— Один живет?
— Один.
Мы вошли в дом после того, как на стук никто не отозвался. В доме было сумрачно. Хозяин сидел на кровати и, держа на коленях фокстерьера, разговаривал с ним. Поджарая лайка настороженно следила из — за шкафа. У ее ног барахтались два щенка. Здесь было собачье царство. Да и сам Шабашников показался мне похожим на служебного пса, получившего отставку по возрасту. Обвислые щеки, слезящиеся глаза, весь пожухлый, мятый.
Он был не то чтобы сильно пьян, но и трезв тоже не был.
— Извините, что побеспокоили, — мягко сказал Комаровский. — Нам известно, что у вас имеется охотничий нож…
— У меня разрешение, — буркнул Шабашников, не поднимая головы. — На карабин и нож.
— Идет проверка… Оружие у вас? Покажите, пожалуйста.
Шабашников принес карабин и стал рыться в брезентовой полевой сумке. Комаровский, бегло осмотрев ружье, с интересом следил за поисками. Наступила тишина.
— Нет ножа, — растерянно пробормотал Шабашников.
— Поищите хорошенько.
Ножа, как мы и ожидали, нигде не оказалось. Через несколько минут мы уже знали, что у охотника исчезли также старые кирзовые сапоги сорок второго размера, и получили заодно подробное описание ножа: золингеновская сталь, лев и пальма на лезвии, наборная рукоятка.
— Когда вы в последний раз видели нож? Шабашников наморщил лоб.
— Да вот позавчера…
— Восьмого августа? — Комаровский бросил взгляд в мою сторону. Преступление было совершено в ночь с восьмого на девятое.
— Ну да, восьмого… Я ходил к соседям, к Зуенковым, проводку чинить и брал нож для зачистки провода.
— Может быть, забыли там? Комаровский предоставлял ему возможность выкрутиться.
— Нет, принес, положил в сумку.
— Ну, а дальше? Вспомните подробности. Вечером и в ночь с восьмого на девятое вы были дома?
Комаровский задавал короткие вопросы, словно гвозди вбивал. Он толково вел этот разведывательный допрос. Я чувствовал, что еще немного — и Шабашников сам загонит себя в угол.
— Дома… Вообще — то плохо помню… Под хмелем был.
И тут я увидел, как в нем шевельнулся страх, выполз из — под спиртной дремы. Глаза меняли выражение — словно диафрагма открылась в объективе и реальная жизнь вместе с сумрачным светом дождливого дня хлынула внутрь. Диафрагма открывалась все шире, и чем больше вбирали в себя глаза Шабашникова, тем сильнее росла в них тревога. Он был не так уж стар, это ясно чувствовалось сейчас.
— Щеночков я продавал в тот день, — сказал охотник. — Щеночков. Жалко мне их всегда, вот и…
Он вдруг улыбнулся мне. Улыбка была жалкая, заискивающая. Да, вот так оно и бывает. Пьяная дурь, неожиданная вспышка алчности и жестокости. И ничто не остановило его, одурманенный мозг не поставил ни одного барьера.
— Собаки! — забормотал хозяин, протягивая мне фокстерьера. — Посмотрите: Тюлька, такого «фокстера» нигде не увидите. Любого лиса возьмет! Люблю я собачек…
Он сказал это так, будто любовь к собакам могла оправдать любой его поступок.
Тюлькины смешливые глазки — бусинки затерялись в завитушках белой шерсти. Шабашников и впрямь любил собак — фокстерьер был чист и вычесан. А в доме творилось черт знает что.
— Значит, в ночь с восьмого на девятое вы были дома? — еще раз спросил Комаровский.
— Где же еще?
— И выходит, только в тот вечер или ночью ваш нож и сапоги могли быть похищены?
— Не знаю, — пробормотал Шабашников. — Наверно.
— В таком случае необходимо задержать вора. Мы осмотрим место происшествия…
— Да зачем? — замахал руками Шабашников. — Мелочь какая! Не надо, ни к чему, идите себе занимайтесь делом.
— Вы понимаете всю важность происшедшего? Украдено оружие. Оно может быть использовано похитителем.
— Нож — тоже мне оружие!..
— Все — таки!
Шабашников нехотя написал заявление в милицию. Привезли розыскную собаку. Проводника предупредили, как вести поиски. Вскоре овчарка, рыскавшая по двору, настороженно принюхиваясь, принялась разрывать лапами груду щебня, сваленного у сарая. Мы извлекли из — под щебня небольшой сверток. В обрывок полотенца, того самого, махрового, голубого, была завернута пачка денег. Десять «четвертных».
— Это ваши деньги? — спросил Комаровский.
Шабашников побледнел. Руки его тряслись, и он никак не мог унять эту дрожь.
— Нет, не мои… Никогда их не видел в глаза!
— Откуда же они взялись?
Шабашников молчал. «Возможно, он действительно ничего не помнит, — подумал я. — Бывает ведь… Алкогольное помешательство. Это может пройти так же быстро, как и пришло».
Я был очень удивлен, когда Комаровский ограничился лишь тем, что попросил Шабашникова далеко не отлучаться. По дороге в отделение я сказал об этом капитану.
— За Шабашниковым мы посмотрим, — ответил Комаровский. — Но что — то мне 'не верится в его злодейство.
Я подумал: «не верится» — слабый аргумент против улик.
3
Николай Семенович слушает меня и делает записи в блокноте. Стакан чаю стынет на столе.
— Значит, улики достаточно веские? — спрашивает Эн Эс.
— По — моему, да.
— Позвони Комаровскому. Нужны данные о Шабашникове.
Дождь все идет. За окном крупные капли описывают траектории, словно падающие звезды. Город лежит внизу темной массой, как уснувшее животное. Шевелится, вздыхает. Окна домов плотно прикрыты ставнями… Первый августовский затяжной дождь.
— Ты как будто спокоен, Паша?
— Да ведь тупое дело, Николай Семенович. По пьянке. Омерзительно все это.
Я и впрямь не чувствую того следовательского азарта, который охватывает каждого милицейского работника, разгадывающего загадку сложного, запутанного преступления. Гнев, страсть — при чем здесь они? Это унылое лицо с дряблыми щеками, мутные с похмелья глаза… Какой он, в сущности, убийца? Нелепый случай, нелепая жестокость.
Надо аккуратно и точно довести это дело до конца. И баста! Он должен получить по заслугам.
— Так — так.
Эн Эс недоволен, это я хорошо чувствую.
— Не появилось ли у тебя ощущение, что ты уже все постиг, что твоя работа ставит тебя как бы над людьми, а? Со временем это может появиться — и нет ничего страшнее для нашего брата.
— Я не замечаю в себе ничего такого…
— А это приходит. Незаметно, исподволь. Я так и не понял, что ты думаешь о человеке, которого подозреваешь в убийстве или соучастии. Кто он таков? Ты веришь обстоятельствам, минуя человека.
— Но улики… Я же не адвокат!
Самолюбие заставляет меня сопротивляться.
— Нет, ты и адвокат. И прокурор… Человек! И ты имеешь дело с человеком.
Меня задевают слова шефа. Я люблю его, он «мой старик». Мне хотелось бы, чтобы обо мне говорили: у Павла Чернова «комоловский» стиль работы. Я всегда старался быть похожим на него и перенять у него все, даже привычки. Одно время даже покашливал кулак, точь — в — точь как Николай Семенович.
Но есть в шефе нечто такое, чего нельзя перенять копированием…
Комаровский является в номер, держа под мышкой маленький школьный портфельчик. Обычно с такими портфельчиками ходят управдомы или колхозные бухгалтеры. Длинная темно — синяя шинель подчеркивает худобу и нескладность фигуры.
— Сегодня ты кое — что нащупал, Борис Михайлович? — спрашивает майор.
Капитан вытирает костлявой рукой лицо, покрытое каплями дождя. Хмыкает. Он застенчив — особенно с высокими чинами. Это у него, видимо, от «старшинского» прошлого.
— Нащупал? Как сказать…
Комаровский тоже в чем — то сомневается. Чутье — тонкое растение, выросшее на почве, которая называется опытом! В этом они оба превосходят меня.
— Ну, так что Шабашников? — спрашивает Комолов.
— Понимаете, он у нас в городе на хорошем счету. Человек отзывчивый. В войну был в армии снайпером. Попал в плен, бежал. Жена погибла на фронте, медсестрой была. Один живет. Ну пьет, факт, это у него периодами. Есть такой минус… С уголовным миром никаких связей.
— С деньгами у него как?
— Туговато, раз пьет.
— В каких отношениях он был с Осеевым?
— Вроде дружили… Шабашников бывал у Осеева.
— Он мог знать, что Осеев хранит дома наличными крупную сумму?
— Думаю, да. Говорят, Осеев советовался с ним насчет покупки мебели.
— Понятно, — сказал Комолов и открыл свою алую кожаную папку. — А что нам известно об Осееве? Полгода назад в Колодин на строительство химкомбината приезжает инженер Осеев. Вот телеграмма — компрометирующими материалами о нем мы не располагаем. Напротив, характеристика положительная… Приехав в Колодин, Осеев покупает дом и участок на улице Ветчинкина. Очевидно, собирается осесть после выхода на пенсию. У Осеева жена и дочь. Они живут в Иркутске. В июле дочь гостит у отца. В августе Осеев ожидает приезда семьи. Пятого августа берет с книжки пятьсот рублей, чтобы купить кое — что из мебели. А в ночь с восьмого на девятое августа его…
На втором этаже гостиницы, под нами, начинает играть оркестр. В ресторане веселье. Пол в номере слегка вздрагивает. Комолов морщится и расстегивает воротник рубашки.
— Открой окно, Паша. Душно. В номере холодно, но я распахиваю окно. Плохо шефу.
— Итак, какие улики против Шабашникова? Доложи, Паша.
— Ну, во — первых, нож и сапоги! Нож, которым совершено убийство, принадлежит Шабашникову. Следы, оставленные на полу в доме Осеева, — это следы его сапог.
Комолов утвердительно кивает.
— Далее. Шабашников знал, что Осеев хранит деньги. Именно деньги интересовали преступника. Ведь он больше ничего не тронул в доме.
— А в состоянии Шабашников нанести такой сильный и точный удар?
Тут я могу выказать эрудицию в области, где майор, житель большого города, не очень силен.
— Он ведь «забойщик», Николай Семенович.
— «Забойщик»?
— Ну да. Так у нас говорят — капитан знает. Колодинцы приглашают его на забой скотины. Это тонкая работа. Нужен глаз и крепкая рука, чтобы попасть точно в сердце.
— Это верно, — соглашается Комаровский.
— И еще. Осеев вел довольно замкнутый образ жизни. Ночью он мог открыть дверь только хорошо знакомому человеку. Именно таким был для него Шабашников, сосед. Ну и, конечно, деньги, найденные во дворе Шабашникова, — улика неоспоримая. Словом, основная версия: Шабашников либо убийца, либо соучастник.
— Твое мнение, Комаровский? — спрашивает шеф.
— Мнение?
Капитан смущенно кашляет в рукав.
— Правильно доложено. Но Шабашников!.. Очень сомнительно: человек никогда не ценил деньги, сам раздавал — и вдруг…
Верный своей дипломатической манере, Комаровский не вступает в открытый спор. Стоит ли перечить товарищу из «центра»? Но, я чувствую, капитан остается при своем мнении.
— Что ж, Паша, логика штука полезная, — говорит Комолов. — Но у версии, которую ты предлагаешь, несколько неувязок — из — за поспешности они отметены тобой. Первое противоречие. Убийца нанес удар, едва лишь Осеев приоткрыл дверь. Зачем Шабашникову, пользовавшемуся доверием инженера, так спешить? Похоже, преступник опасался, что Осеев, увидев, кто стоит на пороге, тотчас захлопнет дверь. Если так, то Осеев либо вовсе не знал его, либо знал как человека, которого надо бояться.
Второе. Преступнику были нужны деньги. Очевидно, он знал, что они хранятся в письменном столе — кроме стола, ничего в комнате не тронуто. Но деньги лежали в первом же ящике, на виду. Отчего все ящики перевернуты, а бумаги разбросаны? Более того, следы, оставленные на бумагах, говорят, что убийца интересовался всем содержимым стола уже после того, как были найдены деньги. Что он искал? Может быть, не только деньги.
Третье. Если Шабашников — преступник или соучастник, опасающийся разоблачения, что мешало ему получше запрятать похищенные деньги? Убийца, проявивший ловкость и сноровку, на редкость неумело распорядился «добычей».
Четвертое: следы на полу. Преступник позаботился о перчатках, а вот то, что грязные сапоги оставят четкие отпечатки, не учел. Как ты все это объясняешь, Паша?
— Ну… ведь он был в состоянии опьянения, Николай Семенович! Отсюда странные промахи.
— А не похоже, что удар нанесен пьяным человеком, Паша! Тебе не кажется? Я бы предположил, что в доме инженера побывал матерый зверь… Он не вышмыгнул из двери, сторонясь трупа, как можно было ожидать от грабителя, пошедшего на «мокрое дело». Он спокойно нанес второй удар. Это хищник. Беспощадный, жестокий, хладнокровный. Почерк его свидетельствует о ясном уме и расчете. Способен ли Шабашников на это, а? Подумай хорошенько.
Я молчу. Крыть, как говорится, нечем. Слишком уж заманчивой была для меня перспектива легкого, мгновенного раскрытия преступления. Салага!
— Не спеши, Паша. — Комолов кладет мне на плечо тяжелую ладонь. — Мы только начинаем расследование. И я могу ошибаться. И ты. Но наши ошибки не должны выходить из этой комнаты, чтобы не наделать зла. Для каждого из нас после нескольких лет работы наступает период, когда хочется чувствовать себя асом и каждое дело проводить четко, блестяще и быстро. Это кажется очень важным, а на самом деле не имеет никакого значения. По — настоящему важно лишь одно: действительно ли ты нашел виновного и не пострадал ли при этом безвинный. Только это… Только!
Холодный ветер врывается в комнату, отдувая занавески. Комолов жадно дышит, его бледное, слегка оплывшее лицо искажено гримасой боли.
— Прилягте, Николай Семенович.
— Сделаем так, — продолжает майор. — За Шабашниковым пока посмотрит Комаровский. А ты, Паша… поработай над версиями. Если не Шабашников, то кто? Видимо, тот, кто мог украсть нож и подбросить деньги, чтобы навести на ложный след. Может быть, не так уж нужны были ему деньги, если он отказался от половины суммы ради собственной безопасности?
— Но если не деньги, то что?
— Не — знаю, не знаю. И аналогичных дел не припомню… Разобраться будет нелегко. Но я буду рядом, Паша, а как только почувствую себя лучше, то включусь полностью. Понял?
Звонит телефон. Я сразу узнаю голос.
— Мне Павла Чернова. Павел? Это Лена Самарина. Ты еще помнишь?.. Я тоже помню. Отец сказал, что ты здесь, такой сверхзанятый, почти секретный. А видеться с женщинами тебе разрешают?
«Женщина, — отмечаю я про себя. — Господи, я помню ее совсем цыпленком!»
— Что там еще? — спрашивает майор.
— По личному делу, Николай Семенович, — отвечаю я, прикрыв ладонью трубку.
— Знакомая… по школе.
Не вовремя позвонила Ленка. Но Комолов смеется.
— Ну так что ж смущаешься? Иди, ты свободен. Все еще сыплет дождь, и мы с Ленкой договариваемся встретиться в ресторане. Единственный ресторан Колодина находится как раз под нами на втором этаже гостиницы.
4
В ресторане шумно. Компания геологов празднует окончание полевого сезона. Бородатые парни в ковбойках и вельветовых куртках, рыцари тайги… Девчонки в грубых свитерах, счастливые, с сияющими влажными глазами.
Наверно, человек моей профессии выглядит рядом с этими парнями страшным анахронизмом. Нож из уборной, похищенные деньги, старые сапоги, оставляющие следы на полу… Жестокость, алчность, алкогольный психоз. Варварство, заглянувшее в наш век из далекого прошлого.
А кто — то ходит по тайге. Ищет ванадий. Спутники запускает. Строит батискафы.
— Венька, ты ешь третий бифштекс.
— Я недобрал за сезон сто одиннадцать бифштексов.
— Парни, Сиротка Люпус притащил рюкзак с образцами!
Геологи… Из нашего выпуска трое ребят пошли в геологи. И еще наш класс дал горного инженера, микробиолога, летчика. Я знаю, о моем выборе говорят, пожимая плечами и улыбаясь: «Чернов Пашка, лучший математик, медалист, пошел в милиционеры!» Ну, а кто же должен «идти в милиционеры», хотелось бы знать?
Через два столика от меня сидит человек со спиной широкой и мощной, как стальной щит скрепера. Спины, если присматриваться, могут быть так же выразительны и неповторимы, как форма уха или отпечаток пальца.
Этого человека я уже видел.
Он оборачивается. А… преподаватель из школы ДОСААФ, Ленкин приятель. Он в обществе белокурой дамы с губами, накрашенными слишком ярко для Колодина.
Геологи едят апельсины, оркестр в бодром танцевальном темпе играет «Бродягу». Мрачная личность в шароварах старателя, заказавшая «Бродягу», горюет у пустых графинов.
«…Презумпция невиновности, Паша. Это не просто термин, это стиль нашей работы. «Презумпция» — от латинского слова «предварять». Предварительно ты исходишь из положения, что человек, с которым столкнулся при расследовании, невиновен. Не доказав обратного — на все сто процентов! — ты не имеешь права считать его виновным».
Так говорил Эн Эс… Но если не Шабашников, то кто? Значит, нам противостоит чрезвычайно хитрый и опасный преступник, справиться с которым будет нелегко.
В застекленной двери я вижу Ленку. Светлая, коротко стриженная головка. В школе девчонки говорили ей: тебе не придется краситься, ты всегда будешь «в моде». У нее волосы льняного цвета.
Я иду к выходу, и кажется, что все столики смотрят на меня, даже оркестранты. Застыла кулиса в руке тромбониста. «Вы видите лейтенанта в штатском? С хохолком на затылке?» Я снова превращаюсь в мальчишку. Прошлое ожило.
— Пашка!
Мы почти одного роста — так она вытянулась. От нее пахнет дождем и прохладой улицы, этот запах особенно ощутим в теплом табачно — кухонном воздухе ресторана.
— Пашка, я рада.
Мальчишки из детства уходят так далеко, что их можно безбоязненно целовать у широкой застекленной двери ресторана. Мальчишки из детства становятся родственниками.
— Дай я посмотрю на тебя, лейтенант милиции. Какие складочки у рта!..
Мы идем к столику, продолжая разговаривать, но я уже плохо слышу Ленку. Что — то изменилось в ресторанной обстановке. Я никак не могу собраться и «настроить фокус». А… мотоциклиста — вот кого нет. Пока я встречал Лейку, он исчез со своей дамой. В ресторане два выхода — один в вестибюль гостиницы, другой на улицу. Он не хотел, чтобы его видела Ленка. Почему?
— Ты меня слушаешь, Паш?
— Да — да!
— Я хотела уехать из Колодина. Все уезжали. Поступила в Ленинграде в Лесгафта. У меня всегда было хорошо с гимнастикой, ты знаешь. Но отец разболелся, пришлось вернуться. Преподаю в школе. Смешно, да? Самарина — «училка».
— С тройкой за поведение!
Это когда мы убежали за Катицу, на необитаемый остров, нам закатили в табель по тройке.
— Мне и сейчас достается за поведение.
— Я подумал об этом, когда увидел тебя на мотоцикле. Слишком экстравагантно для Колодина.
— Привыкла. В институте пристрастилась к мотоциклу. Когда вернулась, купила «Яву».
— Ну, у вас даже чемпион по мотокроссу живет. Она становится серьезной — глаза холодные, неулыбчивые. Впервые вижу, что у нее серые глаза. Раньше я знал только, что они красивые. Но смотреть в них было почему — то страшно.
— Вопрос с подвохом?
— Что ты, Ленка. Просто я видел у магазина…
— Ну да, ты должен быть наблюдательным. Она крутит пальцами ножку бокала. Ногти у нее покрыты бесцветным лаком. Слишком длинные и аккуратные ногти для мотоциклистки. Вероятно, кто — то помогает ей возиться с машиной. Жарков? Это как болезнь — следить за мелочами, даже близкий человек становится объектом наблюдения.
Ленка стала взрослой. Наверно, было кое — что в ее жизни за эти годы. И был кое — кто. Неприятно думать об этом. Не мальчишечья ревность, нет. Элементарный мужской эгоизм.
— Ты не замужем?
— Сам видишь.
— Стала бы ты носить кольцо!
— Стала. Это хорошо — кольцо. Только надо носить, когда оно радостно, правда?
Да, она стала взрослой.
Она постепенно оттаивает после моей неловкой фразы о чемпионе. Надо быть осмотрительнее. Вернувшееся детство — только иллюзия.
Ох, Ленка, я рад тебе, но мысли мои все время убегают к опустевшему дому на улице Ветчинкина.
— Паш, да ты не слушаешь меня!
— Не обижайся, пожалуйста.
— Я не обижаюсь. Ты и раньше был такой — вдруг уходил куда — то далеко — далеко. Но я знала, как тебя вернуть. А теперь не знаю… Ты так и не подался в физики!
— Только лейтенант милиции. Воюю с нарушителями…
— Паша, говорят у Шабашникова нашли деньги!
Это так странно. Он лес любит, зверей.
— Не будем говорить о делах, ладно?
— Не будем. Но он хороший, Шабашников. …Мы выходим под дождь, когда часы бьют полночь, а оркестр, фальшивя от усталости, играет «До свиданья, москвичи». Женщина в черном платье поет:
«Все равно от меня никуда не уйдете». Мы не москвичи, мы уходим. На пустой площади мокрый булыжник отражает алый неоновый свет рекламы. «Для Аэрофлота нет расстояний…» Хорошо Аэрофлоту. Но кем и когда будет изобретено средство, позволяющее преодолевать те расстояния, что пролегают между людьми? Ленка — и та все еще далека от меня, а Шабашников — как житель иной планеты. Ленка, озоруя, шлепает по лужам.
— Ну, что ты такой насупленный, Паш? Не надо. Утро вечера мудренее — царевна это знала! А хочешь, я покажу тебе одну сцену? Позавчера, знаешь, историк собрал наших педагогов и сказал, что намерен поставить вопрос обо мне.
Она — руки в боки — выходит под фонарь.
— «Хочу сказать о преподавательнице физкультуры Самариной Елене Дмитриевне. Я ничего не имею против мотоцикла как средства передвижения. Но хорошо ли, что член нашего коллектива, к тому же девушка, носится по городу? Совместимо ли это с положением…» И пошел!
— А ты?
— Я? В ответ прошпарила наизусть. Чехова. Помнишь, Ивсеменыч заставлял нас учить «Человека в футляре»? «Если учитель едет на велосипеде, то что же остается ученикам? Им остается только ходить на головах!..» — «И раз это не разрешается циркулярно, то и нельзя… Женщина или девушка на велосипеде — это ужасно».
— Вот — вот. Все полторы страницы. Учителя рассмеялись, на том и дело кончилось.
Ленка смеется, подставив дождю лицо. Из темноты выходит постовой милиционер.
— Бежим! — Ленка хохочет и хватает меня за руку.
Так в детстве мы бегали из чужого сада. Сумасшедшая девчонка!.. Мы топаем по деревянному тротуару. Темный Колодин тонет в холодной августовской мороси.
— Смотри, какой дождь! Веселый дождь, славный дождь.
Нет, она осталась прежней Ленкой, которая хочет щедро сеять радость и доброту.
5
За весельем жди похмелье… Сонная дежурная отпирает дверь гостиницы.
— Вас искали.
Взбегаю наверх. Номер пуст, сладко пахнет камфарой. На столе записка. «Николаю Семеновичу стало плохо. Увезли в больницу. Комаровский».
Звоню в больницу. Дежурный врач отвечает, что у майора Комолова прединфарктное состояние и они настоятельно рекомендуют не беспокоить его.
— Никаких записок, никаких дел. Полный покой. Ему нельзя было выезжать с гриппом!
— Что ему принести?
— Ничего. Майор просил не сообщать родственникам до выздоровления.
Только сейчас я ощущаю, как важно было для меня присутствие шефа. То, что рядом всегда был старший по возрасту, умный, доброжелательный человек, я воспринимал как должное. Смогу ли я работать без него?
Впрочем, все это неважно… Лишь бы выздоровел!
Я решаюсь отправиться к Комаровскому. Начальнику гормилиции не привыкать к ночным визитам.
Капитан живет на улице Каландарашвили. Очень трудная была фамилия у знаменитого иркутского партизана.
Дождь льет по — прежнему. Всхлипывают ручьи. Улица Каландарашвили граничит с поселком химкомбината. Здесь стоят стандартные деревянные дома, в два этажа.
За обшитой войлоком дверью слышатся возбужденные детские голоса. Кажется, я всех разбудил. Мне открывает толстая женщина в халате. Детские головы выглядывают из темной комнаты. Одна, вторая, третья, — четвертая… Ну, Комаровский!
— Бориса Михайловича нет, ушел по делам, — говорит жена капитана. У нее мягкое, добродушное лицо. Руки красны от бесконечных стирок. — Вы посидите. На кухне ничего? Больше негде: детвора…
Через час приходит Комаровский. Он несколько смущен моим визитом — стесняется, видать, многоголосого семейства, заполнившего, как всплывшая опара, тесную квартирку. Он насквозь продрог и, скинув накидку, долго греется у печки, еще хранящей тепло.
— Майор — то, а? Трудно будет без него. — Комаровский сокрушенно качает головой. — А я у Шабашникова был. Решил поговорить начистоту, с глазу на глаз. Да и майор посоветовал.
Худой, усталый, без строгого форменного кителя, Комаровский похож сейчас на пожилого рабочего, вернувшегося из цеха после тяжелой смены.
— Знаете, Павел Иванович, я думаю. Шабашников нас не обманывает… Он, конечно, догадался, в чем его подозревают и почему. Очень переживает, взвинчен до предела. Кстати, мы навели кое — какие справки. Шабашников действительно был восьмого августа у соседей, чинил электропроводку. Он пользовался «роммелевским» ножом и унес его, с собой в сумке. Это было в четырнадцать часов.
— Значит, нож, а заодно сапоги могли быть украдены только восьмого августа с четырнадцати до полуночи?
— Выходит, так, — подтверждает капитан. — Я узнал у Шабашникова, кто навещал его в тот день. Кроме этих людей, никто не мог проникнуть в дом незамеченным.
— И мы должны опираться на его показания как на свидетельские?
— Само собой.
Комаровский достает из своего потертого бухгалтерского портфельчика листок.
Что ж, будем считать, Шабашников дал «объективные показания». Однако что за иронический тон? — останавливаю я себя. Доверие — цепочка, тянущаяся от человека к человеку. Разорви одно звено, и Вся цепь уже никуда, не годится. Комаровский верит в Шабашникова, и эта вера должна передаться мне.
— Так вот, пять человек, — продолжает Комаровский. — В тот день, как помните, Шабашников продавал щенков. Ну, и наши охотники заходили к нему. Вы их знаете, наверно: врач Малевич, Анданов с почты. Лях из райпромкомбината, преподаватель автошколы Жарков. Был еще пятый. Но ни фамилии его, ни имени Шабашников не знают. Видел его впервые.
— А подробности этих визитов известны?
— Кое — что. Врач пробыл у Шабашникова несколько минут. Он просто зашел посмотреть на потомство знаменитой Найды. Лях тоже пробыл недолго, взял щенка в долг, под зарплату. Анданов выбрал щенка, но с собой не взял и оставил задаток — шесть рублей. Пробыл около получаса. После этого Шабашников отправился в магазин. К приходу Жаркова он был уже изрядно «навеселе». Жарков купил щенка и предложил «обмыть» покупку. Последнего посетителя Шабашников уже не смог толком разглядеть. Тот говорил, что гостит у родственников, неподалеку от Колодина…
— А когда ушел этот последний гость?
— Неизвестно.
Значит, у нас теперь две задачи: отсеять лиц, имеющих достоверное алиби, и установить личность этого незнакомца.
Выйдя от Комаровского, я обнаруживаю, что небесное ситечко перестало сеять влагу.
Я и сам не замечаю, как через полчаса оказываюсь на улице Ветчинкина, возле дома инженера. Видно, меня привела сюда смутная надежда на то, что близость к месту преступления поможет разгадать загадку.
Дом Осеева пуст и темен, как деревянный склеп. На другой стороне улицы, у забора, я замечаю неподвижную темную фигуру. Кто — то из сотрудников Комаровского. А вот и знакомые ворота на одной петле.
Бац! От неожиданного толчка чуть не лечу с дощатого тротуара в грязь. Машинально хватаюсь за кобуру.
— Извините, извините, ради бога!
Включаю фонарик. Слесарь Лях, улыбаясь, растерянно разводит руками. Засмотревшись на дежурного, я и не заметил, как слесарь выскочил из ворот.
— Извините, товарищ лейтенант! — Он уже узнал меня. — Задумался! Но это хорошо, что случайно встретил вас. Я был у Шабашникова.
— Догадался.
— Мне не дает покоя… Я и не знал, когда опознал нож, что дело связано с убийством инженера. Я, таким образом, обвиняю Шабашникова, да?
— Почему вы так думаете?
— У нас слухи распространяются быстро. Я тут же помчался к Шабашникову, несмотря на ночь. Хотел расспросить его. Он не виноват, товарищ лейтенант. Десять лет знаю его!
Похоже, весь Колодин собирается встать на защиту Шабашникова. Странная, однако, эта ночная встреча.
— Идите лучше спать, товарищ Лях. Приходите завтра в горотдел, выскажете свои соображения.
Он уходит. Начинает светать. Колодин в этот час кажется таким мирным, уютным, он спит и видит сладкие утренние сны. Кажется невероятным, что в этом городке могла произойти такая трагическая история.
Произошла ведь! Где — то поблизости коротает тревожную ночь убийца… Один из пяти?
6
Воздух по — осеннему прозрачен, сопки, на которых просматривается каждое деревце, окружают умытый, прилизанный Колодин как декорации. «Хорошо, что солнце, — первая моя мысль. — На сердечников, говорят, очень действует погода».
В девять я уже в больнице. Главврач не может сообщить о Комолове ничего утешительного. «Состояние не внушает особых опасений…» Резиновая формулировочка!
К двенадцати в горотдел собираются сотрудники Комаровского, еще ранним утром отправившиеся по срочному заданию. Они сообщают немаловажные для расследования данные о пятерых охотниках, побывавших у Шабашникова накануне убийства.
Врач Малевич вечером заступил на дежурство в поликлинике. Он отлучался с места дежурства не более чем на пять минут. От поликлиники до дома Осеева — около трех с половиной километров. «Исключается».
Анданов, «почтмейстер», в тот же вечер уехал из города, повез в областную клинику больную жену, которая неожиданно почувствовала себя хуже… «Проверить. Что за срочный отъезд?» Лях, выйдя от Шабашникова, направился вместе со щенком к приятелю Новикову, который раньше служил в милиции собаководом. Беседа затянулась до часу ночи. Показание Новикова не вызывает сомнений.
У Жаркова четкого алиби нет. Сторожиха продовольственного магазина, дежурившая неподалеку от дома Жаркова, сообщила, что часов в десять вечера чемпион укатил на своем спортивном ИЖе. Когда вернулся Жарков, сторожиха не знала. В одиннадцать тридцать на улице был выключен свет в результате аварии на электростанции. «Разобраться». О пятом посетителе ничего не известно, но меры к розыску приняты.
Что ж, «иксом» мы еще займемся. Пока остаются двое. «Почтмейстер» с его срочным отъездом интересует меня больше, чем Жарков. Не слишком новый способ получить алиби: отправляешься на вокзал, берешь билет и незаметно возвращаешься обратно. Задача в том, чтобы в конце концов оказаться в пункте назначения. Комолов называл этот маневр «заячьим скоком». Бывает, что заяц, уходя от преследования, вдруг делает прыжок в сторону, и охотник натыкается на оборванную строчку следов.
Надо исключить и возможность «заячьего скока».
Что касается мотоциклиста…
— Борис Михайлович, давно Жарков живет в Колодине?
— Постоянно — с полгода.
— То есть он приехал в одно время с Осеевым? Что привлекает его в Колодине? Чемпион мог поселиться поближе к «центру».
— Видимо, личные дела. Но долго не удержится. Летун.
— Ну, а как Анданов?
— Этот сменил несколько городов, пока не осел у нас. Он охотник до мозга костей. Ему глушь нужна, тайга. А в наши дни сами знаете: сегодня глушь, а завтра заводские трубы выросли. Строятся сибирячки…
Как бы в подтверждение слов капитана со стороны химкомбината доносится мощный удар. Дом крякает, дребезжат стекла.
— Диабаз подрывают, — объясняет Комаровский. Густое облако пыли поднимается над Молькой, тянется к небу.
— Кстати, сегодня летная погода, — замечает Комаровский как бы невзначай.
— Должны прилететь жена и дочь Осеева.
Похоже, шеф дал указание Комаровскому заботиться об мне — не упустил бы чего по молодости лет.
— Я звонил на химкомбинат, — продолжает капитан, — чтобы встретили. Несладко им: вместо новоселья на похороны.
Нет, он заботится не только обо мне, обязательный колодинский «дядя Степа».
— Машина будет сегодня в вашем распоряжении, Павел Иванович.
— Отремонтировали?
— Кое — как. Обещают другую дать, да не спешат. Захолустный городок, обойдемся, мол…
В его голосе уже звучат просительные интонации: вы — то ближе к центру, посодействовали бы. Старшинские хитрости, капитан…
Звоню в отделение связи Анданову. «Надо бы побеседовать. Когда вам удобно?»
— С двух до трех я обедаю дома, — говорит Анданов.
Дом двухэтажный, старый. Лестница музыкальна, словно ксилофон. У каждой ступеньки свой неповторимый скрип. Ровно в два я у двери. И тут же чьи — то шаги повторяют музыкальную фразу. Стук палки отбивает такт.
Ступеньки даются Анданову нелегко, на лице появляется гримаса боли, когда он заносит негнущуюся правую ногу. В руке — новенькая, еще не захватанная пальцами клюка.
Держится он холодно и с достоинством, подчеркивая всем поведением, что пригласил меня не из чувства гостеприимства, а исполняя свой гражданский долг.
— В моем распоряжении минут двадцать. Я должен еще пообедать. Вам достаточно двадцати минут?
Он говорит так же, как и движется, — размеренно и четко. Мышцы лица при этом остаются неподвижными: словно маской прикрыт. Что ж, профессия налагает отпечаток. Дотошность, пунктуальность, сосредоточенность, малоподвижный образ жизни — все это отразилось в сидящем передо мной человеке. Наверно, он хороший почтовый работник.
— Я не знал, что у вас больная нога. Заставил спешить?
— Пустяки. Ушибся, пройдет.
Я коротко объясняю: дело об убийстве Осеева требует выяснения кое — каких деталей, и он, Анданов, может нам помочь. Медлительно, заученными движениями Анданов набивает трубку, открыв ярко — желтую коробочку «Золотого руна». У него сильные волосатые пальцы.
— Не знаю, смогу ли помочь, — говорит Анданов. — Я плохо его знал. Кажется, он не увлекался охотой.
— Но вы, наверно, знакомы с кем — нибудь из людей, близко знавших Осеева. С Шабашниковым, например.
— С Шабашниковым я знаком.
— Когда вы видели его в последний раз?
— Последний раз? Одну минуточку. Анданов затягивается, душистый дым плывет по комнате.
— Постойте… Это было перед моим отъездом восьмого августа. Я заходил к нему, хотел купить щенка.
— Шабашников ничего не говорил вам об Осееве?
— Ничего. Я слышал, что Шабашников якобы заподозрен… Извините, что вмешиваюсь. Но Шабашников не способен совершить что — либо противозаконное.
Мельком оглядываю фотографии на стенах. Бесчисленные снимки жены: маленькая полная девочка в кудряшках, с ямочками на щеках, потом маленькая полная девушка с ямочками, потом женщина все с той же не тронутой годами улыбкой и с теми же кудряшками.
«Самого» не видно на фотографиях, только два сравнительно недавних снимка. Бывают люди, которых трудно представить детьми, и Анданов из их числа. У него не было младенчества, он не ползал перед объективом на голом пузе и не ждал птички, которая вот — вот вылетит из круглого стеклышка. Длинное пальто, барашковый воротник, руководящий «пирожок» на затылке. Таким, наверно, он появился на свет и сразу принялся за сортировку писем, телеграмм и другую общественно полезную деятельность.
— Во сколько вы ушли от Шабашникова?
— Часов в пять.
Мягко и деликатно я стараюсь получить от Анданова ответ на вопрос, который не хочу задавать «в лоб». Анданов оказывается гораздо более понятливым, чем я ожидал. Он облегчает мою задачу.
— В тот же вечер я выехал из Колодина. Жена почувствовала себя хуже, и я решил поместить ее в областную клинику. Здешние врачи, увы… Впрочем, вам это неинтересно. Очевидно, молодой человек, вы хотите установить алиби всех, кто был у Шабашникова? Что ж, пожалуйста.
Как бы ни раздражал меня этот холодный тон, я начинаю чувствовать нечто вроде благодарности к этому спокойному, сдержанному человеку. С ним не надо финтить.
— Назвать поезд?
— Да.
— Я выехал со станции Коробьяниково в десять тридцать. Вагон шесть. Мягкий. Там были двое проводников — мужчин.
Он говорит уверенно и спокойно.
— Когда вы уходили, Шабашников был трезв?
— Да.
— Много вы оставили задатку за щенка?
— Шесть рублей.
— Зря вы это сделали: Шабашников тут же напился.
— Я должен был заплатить. Но, к сожалению, расходование суммы от меня не зависело.
Комната у Анданова большая и сумрачная. Тюлеч вые накидки на тумбочках, герань и — «слезки» на окне, ракушечные шкатулки — здесь ощутимо недавнее присутствие хозяйки, домовитой и рачительной. Квитанции и жировки аккуратно подколоты на гвоздик.
В доме, должно быть, знают цену деньгам. Расписание поездов в рамочке: белый реактивный самолет над красным электровозом. «Почтмейстер» и дома — как на работе.
— Надеюсь, содержание нашего разговора…
— Я знаю порядок, — перебивает меня Анданов. Скатываюсь по лестнице — ксилофону под дикий вопль ступенек. Интересно, что у него на обед? Мне представляется длиннолицый унылый человек, сосущий сухарь над стаканом бледного чая.
— Не похищены ли у вашего мужа вместе с деньгами какие — либо драгоценности, дорогие вещи?
— Вещи?
Женщина в черном шерстяном платке и черном платье смотрит на меня, стараясь сквозь ворох собственных мыслей добраться до смысла вопроса. Вся наша суета так далека от нее, так ничтожна. Если бы мы приходили до. Не после, а до.
Дочь Осеева сидит чуть поодаль. Похожа на мать, такое же строгое красивое лицо, брови вразлет.
— Драгоценности?
Если бы убийца унес с собой хоть что — нибудь еще, кроме денег, мы получили бы в руки нить. Вещи оставляют заметный след.
— Разве что янтарные запонки, — говорит дочь. Она смотрит на меня неподвижными глазами. Зачем все это? Для меня запонки — это запонки. Вещественное доказательство. Для них — ощутимое прикосновение к прошлому. Может быть, день рождения, торжественный вечер, свечи в праздничном пироге. Горе заслоняет им весь мир. А тут еще я со своими вопросами. Но я не могу ждать.
Я смотрю в опись, составленную при осмотре дома Осеева. Вот — «запонки янтарные, одна пара». На месте.
— Ваш муж никогда не делился с вами своими опасениями?.. Может быть, вражда, сложные отношения с кем — либо?
— Нет. Он ладил с людьми.
— Но вы уже несколько месяцев не видели его.
— Он регулярно писал. Дочь приезжала. Все было хорошо.
— Вы гостили в Колодине, — обращаюсь я к дочери. — Кому ваш отец без опасений мог открыть дверь ночью?
— Трудно сказать. Отец еще не обзавелся друзьями. Разве что Шабашникову.
У меня еще много вопросов, но Осеевы держатся из последних сил. Если бы мы приходили до…
— Я только об одном попрошу, — говорит мать. — Верните мне дневник мужа. Он дорог как память.
— Дневник?
Мне не надо заглядывать в опись: дневник никак не мог пройти мимо глаз.
— Вы уверены, что ваш муж вел дневник в последние дни?
— У него это вошло в привычку. Он много ездил по стройкам, много видел. Хотел составить «маленькую летопись».
— Да, у отца был дневник, — подтверждает дочь. — Толстая тетрадь, он сам сшивал листы.
Мне становится как — то зябко. Словно дорожка, по которой я шел, вдруг оборвалась и оттуда, из темноты, из провала, веет холодом. Если дневник похищен преступником, значит подтверждается опасение шефа: деньги только маскировка, ложный след! Но… дневник мог быть утерян Осеевым, сожжен. А что, если в дневнике лежали деньги и убийца прихватил его впопыхах? Десятки вопросов вспыхивают один за другим, как цифры на электронном табло.
— Ваш отец участвовал в строительстве некоторых предприятий, имеющих оборонное значение… Могли быть в его дневнике какие — либо данные об этих стройках, цифры, расчеты?
— Не думаю, — отвечает дочь. — Скорее всего это были записи личного характера.
Я смотрю, как Осеевы садятся в машину. Милицейский шофер предупредительно распахивает дверцу фургончика перед двумя женщинами, одетыми в черное.
— Дневник скорее всего мог понадобиться человеку, который уже сталкивался с Осеевым, — говорит Комаровский. Он расхаживает по кабинету, долговязый, как цапля, и размахивает руками. — А Шабашников уже двадцать лет безвыездно живет в Колодине. Никаких связей с Осеевым в прошлом.
— А «наши охотники»?
— Анданов за последние годы жил в Рассолье, Рубахине, Карске. Обращаю внимание: он в отличие от Осеева не искал строек, а бежал от них. Рассолье, Рубахино и Карск — ныне города индустриальные. Кстати, Осеев там никогда не работал. Жарков несколько раз бывал в Нижнеручьинске и Слюсарке, где жил инженер. Но что тут удивительного? Жарков в недавнем прошлом цирковой артист, гастролер.
— Но мы еще ничего не знаем о незнакомце.
— Да! Звонили из областного управления, — спохватывается Комаровский. — Помилуйко намерен прилететь. Заменит Комолова.
Помилуйко. Как бы неуверенно ни чувствовал я себя, оставшись без Комолова, мне бы не хотелось, чтобы Помилуйко заменил шефа, Помилуйко любит работать в одиночку, превращая остальных сотрудников в простых «подсобников». Он слишком напорист, этот майор, и к тому же у него постоянные нелады с Комоловым.
— Паща, это ваше первое самостоятельное дело, по крайней мере до приезда Помилуйко. Не волнуйтесь, все будет в порядке, Комаровский наклоняется надо мной, такой добрый, усталый и домашний, что милицейский китель, который топорщится на его костлявых плечах, кажется реквизитом, позаимствованным в местном народном театре. И я впервые думаю, что он почти вдвое старше меня. Он уже был «дядей Степой — милиционером», когда я только пошел в первый класс.
«Первое дело»? Нет… Но, кажется, это первое по — настоящему сложное дело. Если мне не удастся найти подтверждение версии о преступнике, похитившем нож и сапоги у старика… Тогда останется один подозреваемый, Шабашников. Выходит, его репутация и судьба в моих руках.
— Вы не волнуйтесь, Паша… А вот пообедать вам надо бы!
— Как — нибудь доедем, — уверяет меня шофер. Ему лет девятнадцать, и он большой оптимист.
Задний мост скрежещет, как будто там, под днищем, работают жернова. Худо у колодинской милиции с транспортом.
Вокзал находится в четырнадцати километрах от города, это, собственно, самостоятельная станция, и называется она Коробьяниково. Но в Колодине говорят «наш вокзал». Городу хочется быть значительным.
В десять тридцать на станцию приходит двадцать второй поезд: тот, в котором ехал Анданов. Сегодня я могу застать ту же бригаду проводников, и мне надо обязательно успеть, иначе бригада сменится и проверка усложнится.
Ухабистая дорога, присыпанная щебенкой, мотает машину, словно катер на волне.
— Вот пришлют новую, — бормочет шофер. — Мигалку поставим на крышу, радиостанцию. Как в Москве!
— Здорово! — говорю я. — Как бы побыстрее? Опаздываем.
Шофер, сделав свирепое лицо, разгоняет машину. «Козлик» совершает лихие прыжки, оправдывая свое название. Потом скрежет переходит в поросячий визг. Мы останавливаемся.
— Теперь, значит, не успеем, — говорит шофер. Улица темна и пустынна. Автобус к поезду, вероятно, уже ушел. И ни одной машины. Справа тянется длинный унылый забор. Склад… Но ведь там должен быть телефон!
Я отыскиваю проходную. Кому звонить? И тут меня осеняет: Ленка — возмутительница тишины. У Самариных есть телефон… Это мне просто повезло, что какой — то местный руководящий деятель воспылал охотничьей страстью и ему потребовалась помощь Дмитрия Ивановича. «Деятеля» давно нет, а телефон остался. В этом великое преимущество механизмов перед должностными лицами: коль их поставили, они всегда на месте.
— Помнишь, ты обещала научить ездить на мотоцикле?
— Десять часов вечера — самое удобное время.
— Но ты должна меня выручить! Через несколько минут Ленка лихо тормозит около «газика». На ней белый марсианский шлем.
— Давай сяду за руль, — говорю я.
— Ты не умеешь.
— Посмотрим, чему нас учили в милиции.
— Не забудь: на нем катушечный акселератор. Приемистость! Стокилометровая скорость через одиннадцать секунд разгона.
— Да ты заправский мотоциклист!
— Это моя вторая профессия. Я серьезно, — не смейся.
Черные рукоятки руля согреты Ленкиными ладонями. Мы летим в ночь, неся перед собой узенький коридорчик света. Поднимаемся на сопки и спускаемся в распадки, словно в воду ныряем — холодный сырой воздух бьет в лицо. Километровые столбы возникают как белые привидения.
Здорово это — скорость! В пути у тебя всегда есть четкая и желанная цель. И все, что мучало недавно, становится простым и понятным. Изобретатель колеса был великим человеком…
Я чувствую затылком дыхание Ленки. Руки закоченели, и весь я закоченел, но мне удивительно хорошо. Вокзал выплывает, как каравелла времен Колумба. Это неуклюжее бревенчатое строение со множеством надстроек и переходов.
Кассирша меланхолично щелкает компостером.
— Как с билетами на тридцать второй?
— В августе всегда свободно…
— А в шестой вагон?
— Тем более. Это мягкий.
Странно, что Анданов взял мягкий вагон, когда были свободны купированные. Он не похож на человека, который с легким сердцем извлекает из кармана бумажник.
Глухо гудят рельсы, дальний свет паровоза шарит по сопкам. Вскоре платформу заливает сияние прожектора и фигуры людей становятся просто черными силуэтами. За палисадником я вижу Ленку. Лунно сияет ее шлем. Дурацкая песенка почему — то приходит на память: «И марсианочка с фотоннаю ракетою ко мне летит, летит…» Проводник мягкого вагона на редкость словоохотлив. Он фонтанирует, как тюменская скважина. Вид милицейского удостоверения приводит его в восторг. Этот курносый увалень любит приключения.
Да, он помнит: такой высокий строгий пассажир, а жена его маленькая, и он поддерживал ее за руку, потому что она была больна. Да, это он на фотокарточке, факт. Наверно, научный работник. Почему? Ну, такой серьезный и ехал в мягком. Не остался ли пассажир на перроне? Нет, он ехал до конца. Билет у них был в третье купе, там ехал какой — то инженер, который пил много чая, просто даже подозрительно!
Значит, пассажир с больной женой вошли в купе, а инженер выскочил оттуда со своим чемоданом и подстаканником. У него был собственный серебряный подстаканник — тяжелый, как гиря. Даже подозрительно… Инженер сказал, что не хочет ехать в одном купе с женщиной, которая больна и громко стонет. Вообще — то можно понять человека. Нынче эти вирусы в моде — страшное дело, так и косят, так и косят. У него, у проводника, у самого первый муж родной тетки… Ладно, он больше не будет отклоняться от темы, он понимает, что время дорого.
Значит, инженера перевели в другое купе, а строгий пассажир с женой ехали одни. Вагон — то свободный! Выходил ли пассажир из купе? Ну, этого он не знает, потому что вскоре пошел спать, а дежурить заступил напарник.
На станции бьют в колокол.
— Да где же напарник?
— Он за кипятком помчался… Федя!
Я вижу, как мчится Федя с ведром. Поезд лязгает и трогается. В два прыжка я оказываюсь у палисадника.
— Ленка! Я поехал. Соскочу на первой станции и завтра вернусь. Спасибо!
— Выходи в Лихом! — кричит Ленка. — Подожди на станции. Я скоро буду там… Вернусь в Колодин, а оттуда по тропинке.
— Не надо!
— Жди!
В служебном купе напарник Федя косит на меня глазом. Он осторожен, себе на уме и в отличие от приятеля не склонен радоваться приключениям.
— Значит, я заступил. Зашел в купе: не нужно ли чего? Нет, говорит, не нужно. Жена хворая лежала. В третьем часу он вышел из купе. Спросил бинта. Ногу он поранил, прыгая с полки. Соды спросил для жены.
— Вы точно видели пассажира в третьем часу?
— А вот как вас вижу, так и его. На фотоснимке — он, точно.
Вот и все. Можно возвращаться. Круг сузился. Теперь их остается только двое: Жарков и незнакомец.
— Вы извините, конечно, — говорит курносый проводник, чрезвычайно довольный происшествием. — Он, что, преступник большой? Замечу где — поймаю! Я такой…
— Лучше не ловите. И про разговор этот забудьте. Пусть «почтмейстер» спокойно охотится на медведей. Сортирует письма. Рассылает телеграммы. Нависшее над ним подозрение в эту минуту рассыпалось прахом.
8
В Лихом на пустой платформе горит керосиновый фонарь, вокруг — августовская темь. Шумят невидимые деревья, и пахнет сырым лесом.
Зря я втянул Ленку в эту поездку. Где она блуждает на своей «Яве»? Разъезд Лихое соединяет с Колодином тропка, вьющаяся по тайге, как слабый ручеек. Тридцать пять километров тайги. Уж лучше бы мы договорились встретиться не в Лихом, а в Полунине — там хоть какая — то дорога.
Еще слышен шум поезда. Он плетется по однопутке, по краю озера, минуя многочисленные разъезды. Часа через три неторопливой езды поезд достигнет станции Полунине. Когда погаснет стук колес, можно будет услышать голос Катицы, той реки, по которой мы с Ленкой когда — то плыли к необитаемому острову.
В Полунине достали старую лодку. Да, тогда, мы чудом избежали опасности. Железная дорога не сразу уходит от Колодина — она описывает дугу. Огромное озеро Лихое прижимает рельсы к самому хребту. Это обстоятельство и выручило нас с Ленкой во время робинзонады: обходчик заметил, как лодка входила в Катицу. Он — то и помог найти нас. Уйди мы не к западу от Колодина, а к востоку, в глухую тайгу, нас не нашли бы после «кораблекрушения».
Вот поезд подошел к мосту через Катицу, затих — там один из разъездов. Машинист небось отправился в сторожку чайку попить в ожидании отправления. Чудная у нас дорога.
Ленки все нет. Шальная девчонка, выдумщица! Надо идти навстречу.
В тайге темно, но меня выручает карманный фонарик. Каменистая тропа уже успела подсохнуть после дождей. Но там, на пути к Колодину. река. Быстрая Черемшанка. Как Ленка перескочит через нее на своем мотоцикле?
Еще прежде чем услышать стук двигателя, я вижу, как над головой загорается мертвенным светом верхушка ели, потом выступает еще несколько вершин пониже. Потом я слышу стрекот «Явы». Фара в темном лесу кажется ярче солнца.
— Ленка, сумасшедшая!
— Устала чертовски… — Голос у нее хриплый. — Разожги костер. Хорошо, что какая — то добрая душа догадалась проложить мостик через Черемшанку. Знаешь, где мы хариусов когда — то ловили… А то бы застряла со своей «Явой» как пить дать!
Огонь с треском поедает хвою. Ленка сидит, как любят сидеть все девчонки у костра, — подтянув колени к подбородку и неподвижно глядя на огонь. Ее щеку пересекает царапина, брюки в грязи. Решилась на такое путешествие, чтобы на оставлять меня на пустом разъезде в тайге!
Мы сидим у костра и молчим. Есть самые простые радости на свете, которые чаще всего не замечаешь, настолько они бесхитростны. Но потом — только потом — узнаешь, что они — то и были счастьем. С годами начинаешь понимать это. Мы думаем о счастье в будущем времени, но оно всегда в прошлом, потому что как настоящее неощутимо. Этот костер и женщина — девочка, положившая подбородок на колени, такая усталая, и алые сосновые стволы, и короткое, но полное ощущение покоя — все это станет потом счастьем, я знаю.
— Тебе что — нибудь дала эта поездка? — нарушает молчание Ленка.
— Да. Есть линии, которые мы называем ложными. Но сначала надо узнать, действительно ли они ложные.
Глаза у нее сейчас темные — темные.
— Да, в жизни бывают ложные линии, — говорит она.
Что — то беспокойное, тяжелое лежит у нее на душе. Я беру ее руку и ощущаю живую прохладу. Как будто коснулся речной быстрой воды, и она ящерицей трепещет в ладони.
—: Я так мало знаю о тебе, Ленка.
— Профессиональное любопытство? Она всегда была такой — мягкая, добрая, своя, и вдруг неожиданный укол.
— Прости, Паш… Знаешь, у меня такое чувство, будто я вложила в него вею свою жизнь, и мне ничего не осталось.
Она говорит так, словно мне знаком каждый ее день из этих шести лет. Но я знаю, кого она имеет в виду.
— Я вернулась из Ленинграда… Нельзя надолго уезжать из маленьких городов, а если уезжаешь, лучше не возвращаться… Весной к нам прибыл аттракцион «Бесстрашный рейс». Знаешь, мотоциклист гоняет внутри деревянного колодца? Никогда не любила балаганов. А тут Леша Лопушок — он теперь зав — отделом культуры — потащил меня: «Пойдем, познакомлю с интересным человеком».
Пошли… Мотоцикл ревел, стена качалась, публика само собой ахала. Но он, Жарков, действительно здорово работал. Потом Леша познакомил меня с ним. Он показал новый трюк и сказал: «Только для вас». Я села на его машину и спросила, как ездят по стене. Он думал, я шучу. А я поехала. Надо было резко забрать скорость и лезть наверх, когда почувствуешь, что инерция плотно прижимает машину к доскам…
Мы стали встречаться. Он показался мне необыкновенным человеком. Всегда в дороге, новые города, опасность. Он предложил работать вместе, и я научилась ездить как следует. Мы должны были поженить. ся, но я увидела, что смельчак, ищущий тревожной жизни, давно стал торговцем и фигляром. Каждый виток он переводил в монету. Он любил браваду, видимость успеха, балаганное почитание.
Его надо было вытащить с «вертикальной стены». Мне удалось сделать это. Он переехал в Колодин. Стал чемпионом области, мастером спорта. Я думала, что все плохое позади. Но он не мог без дурных денег, без восхищенных почитательниц, ресторанного хвастовства. Завертелись темные болельщики, дельцы, девицы…
— А я — то думал: чего это чемпион живет в Колодине?
— Он все собирается уехать, но… когда ему трудно, я нужна. Он понимает, что без меня покатится вниз. Он хочет сохранить и меня и свою бездумную «артистическую» жизнь. И я тоже никак не решусь порвать с ним… Отчего мы, женщины, так привязчивы, отчего мы живем только тогда, когда живем для кого — то?
. — Просто ты очень хорошая, Ленка. Добрая. Человек.
Ну, что я могу сказать ей? Такие клубки распутывает жизнь, время. Ни я, ни кто — либо другой не в силах ей помочь.
Горит костер, и «Ява», как верный пес, смотрит на» нас выпуклым глазом фары.
9
Слышу, как звонит телефон, но не могу оторвать голову от подушки. На меня с ужасающей скоростью несется узенькая таежная тропинка, мелькают деревья, луч света шарит по лесу.
Будит меня деликатное покашливанье. Комаровский, подобрав полы шинели, сидит на стуле верхом.
— Сон — первое благо молодости. Я никак не мог дозвониться.
Протираю глаза. Телефон на столе как черный укор.
— Ну, что Анданов? — спрашивает Комаровский.
— Ехал в поезде. Чистое алиби.
— Я так и думал. А у меня кое — какие новости.
— Николай Семенович?
— Здоровье майора без изменений… Помилуйко собирается прилететь послезавтра! Из области пришел результат анализа. Ну и напали на след «пятого». В тайге его видели, на охоте.
Торопливо одеваюсь. Через полчаса мы сидим в горотделе.
Передо мной бланки из лаборатории криминалистики. Анализ отпечатков, оставленных преступником на бумагах Осеева, показал, что перчатки, как мы и предполагали, были смочены в бензине. Причем в бензине содержалась примесь машинного масла типа автола или СУ.
— Преступник имел дело с двигателем внутреннего сгорания. С любым двигателем, где нет централизованной смазки, — говорит Комаровский.
— А может, масло было на перчатках? Растворилось в бензине?
— Не исключено. Но в любом случае подтверждается, что это не Шабашников. С двигателями он не имеет дела. И в доме у него нет смазочных материалов, я осматривал тщательно.
— Значит, остается предположить самое очевидное: преступник пользовался мотоциклом или велосипедом с моторчиком…
— У нас сейчас развелось много мотоциклистов, — задумчиво говорит Комаровский. — Особенно, как началась стройка.
— Но вряд ли найдется много охотников разъезжать глубокой ночью. По здешним — то дорогам! Убийство произошло в ноль часов десять минут. Надо опросить жителей: не слышал ли кто ночью, около двенадцати, шума мотоциклетного или велосипедного движка. Может, нам удастся определить маршрут?
Комаровский отдергивает занавеску, закрывающую милицейскую карту Колодина. Кружочки на карте обозначают места, где за последнее время были совершены какие — либо преступления. Шесть кружочков, шесть краж. Не много даже для такого городка, как Колодин… Хорошо Комаровскому! У нас в управлении более занятная карта.
— Выходит, он нездешний? — рассуждает вслух капитан. — Иначе зачем ему подъезжать к дому Осеева с шумом? Пешком прошел бы.
Он вглядывается в карту, как бы открывая для себя новые, неизвестные районы.
— Нет ли здесь связи? Смотрите… Комаровский показывает на два кружочка, прилепившихся к окраине городка.
— Совсем недавно, в конце июля и начале августа, были похищены два мотоцикла. Один найден в лесу под Колодином — неисправный, а другого не нашли. Похититель пока неизвестен. Похоже, это одно и то же лицо. Самое странное, что раньше у нас никогда не уводили мотоциклов. Зачем? Угнать невозможно: тайга. На запчасти? Но мы проверяли — запчасти не появлялись на рынке…
— Что гадать?.. Давайте пока займемся этим незнакомцем, проживающим вне Колодина.
— Это уж Кеша нам должен помочь. Жду его с минуты на минуту. Вы знаете Кешу Турханова?
Кто в Колодине не знает таежника Кешу? Турханов — первый здешний охотник, соболятник, в годы войны на пожертвованные им деньги были построены два истребителя. Я узнал о Кеше задолго до того, как научился читать.
— Он не раз помогал нам, — с гордостью говорит Комаровский. — Другого такого следопыта не найти.
Кеша Турханов входит без стука, отстранив секретаршу. У него свои понятия — если нужно, входи. Люди всюду должны встречаться так же просто, как встречаются они в тайге.
Кеша немолод, могуч и сутул. Спина его привыкла к двухпудовой паняле, а ноги — к тридцативерстным переходам. Узкие глаза смотрят зорко и проникновенно.
— Здравствуй, следователь. Звал?
Комаровский рассказывает о новом охотнике, который объявился под Колодином. Кеша сосет трубочку и рассматривает капитана. Он такой, Кеша: если захочет, поможет, нет — и не пытайся добиться ответа. То, что мы «представители власти», для него не имеет никакого значения. Но он знает, что работа у нас справедливая, нужная, а превыше всего Турханов ценит справедливость и закон.
— Есть такой охотничек, следователь. Городской. Приехал погостить. В деревне живет, однако, у родственников.
Выезжаем на исполкомовском «газике». День облачный и ветреный. Дорога, по которой мы едем, носит гордое название — Полунинский тракт. Это семьдесят километров проселка, соединяющего Каледин со станцией Полунине. Когда — то тракт имел значение, а сейчас по нему в пору ездить лишь вездеходам.
— Кеша, ты уверен, что мы его застанем?
— Охотника — то? Он этой ночью, однако, в засадке сидел. Отдыхает…
— Откуда ты знаешь, Кеша?
— В тайге все видно. Не город ведь. На двенадцатом километре мы сворачиваем на таежную узкую дорогу и вскоре въезжаем в деревню. Ни одного деревца близ домов. Так уж водится у си-. биряков, привыкших враждовать с лесом.
Останавливаемся у большой избы — пятистенки, рубленной по — старинному, «связью», с охлупнями над крышей. Комаровский стучит в окно. Нам открывают сразу же, без всяких опасений, Охотничек вовсе не кажется смущенным неожиданным милицейским наездом. Горбоносый, смуглый, в меховой расшитой безрукавке, он похож на радушного жителя Закарпатья.
— Дело, говорите, имеется? Милости прошу. Кваску?
— Знакомимся. Сащенко Евгений Петрович, тридцати восьми лет, инженер ОТК в «почтовом ящике» большого сибирского города. Приехал погостить у родственников. Сащенко охотно рассказывает о своей поездке в Колодин, к Шабашникову. Он уже слышал о трагическом событии и готов помочь нам чем может.
— Собаку себе подыскиваю. У меня была чудесная лайка. Орест. Погибла. Что я могу рассказать об этом визите? Шабашников, понимаете, был под хмельком. Пришлось отложить покупку.
— Вы впервые в Колодине?
— Впервые
— А долго пробыли у Шабашникова?
— Минут пятнадцать. Было около девяти, когда я пришел.
— Вы сразу отправились домой?
— Сразу.
— И часам к двенадцати были у себя?
— Нет. Это целая история… В двенадцать ночи я был на Полунинском тракте.
— Один?
— Как перст! Я опоздал на «летучку» и решил дождаться попутной. Как назло ни одной машины. Я не знал, что это такой пустой тракт… Пришлось идти пешком.
— Ночью? И вы не остались в городе ночевать?
— У кого? У меня нет знакомых, а гостиница из — за этого строительства забита народом.
— Вы заходили в гостиницу?
— Зашел по дороге.
— А на тракте ночью никого случайно не встретили?
Наконец — то Сащенко понимает, что наш приезд вызван желанием установить его алиби. В глазах его вспыхивает и тут же гаснет тревожный огонек.
— Кого встретишь на тракте ночью? Хотя… Вы сможете разыскать его!
— Кого?
— Мотоциклиста. В Выселках, в нескольких километрах от Колодина, я присел отдохнуть у будочки. И тут услышал мотоцикл. Проголосовал. Но мотоциклист пронесся мимо 'как на пожар.
— Как выглядел этот человек?
— Козырек кепки закрывал лицо, я не рассмотрел. Мне показалось, он нагнул голову, проезжая мимо… Плащ, перчатки…
— А марку машины вы можете назвать?
— Думаю, ИЖ.
— Вы не можете вспомнить поточнее, когда это было?
— Я специально посмотрел на часы, когда промчался этот летун. Чем — то он напугал меня, я даже хотел заявить в милицию, но, видите, вы меня опередили. Без восемнадцати час, вот когда это было! Время у меня абсолютно точное.
— Ну что ж, спасибо за помощь. Сащенко, в безрукавке, надев тяжелые охотничьи сапоги, провожает нас к «газику».
— Я пробуду здесь недельку. Если понадоблюсь, прошу…
«Газик» снова трясется по ухабам. Кеша Турханов меланхолично сосет свою коротенькую трубочку.
— Этому Сащенко можно доверять, кажется, — говорит Комаровский. — Если он действительно впервые в Колодине… Нетрудно проверить. Такое преступление мог совершить лишь человек, хорошо знающий город и Осеева.
10
Жарков, развалясь в кресле, насмешливо поглядывает на меня. Я нервничаю, черкаю на бумаге какие — то закорючки. Он, конечно, знает о ночной поездке Лены в Лихое и, кажется, намерен своим поведением подчеркнуть, что к нашей беседе примешаны и личные счеты.
— Итак, Шабашников пошел за водкой, а вы остались в его доме. Затем вы отправились к себе?
— Да.
Он длинной струей выпускает дым — облачко заволакивает мое лицо. Будь терпелив, говорю я себе.
— Вы были дома весь вечер и всю ночь?
— Вечером я выезжал к знакомым, а ночью был дома.
— Выезжали? На чем?
— Такси в Колодине нет. И трамвай еще не успели пустить. Поэтому, извините, я выехал на мотоцикле.
Что ж, сторожиха продмага, заметившая отъезд Жаркова, права: он действительно выводил свой ИЖ.
— Скажите, пожалуйста, когда вы вернулись домой?
— Двенадцати еще не было.
До убийства Осеева, отмечаю я. Так ли это? Знает ли он, что в одиннадцать тридцать на улице был выключен свет?
…После рассказа Ленки мне трудно разговаривать с этим человеком. Поэтому я стараюсь быть предельно вежливым.
— Вы уверены, что до двенадцати вернулись домой?
— Ну, знаете ли! — возмущается Жарков. — Уж не подозреваете ли вы меня?
— Мы работаем, — как можно более спокойно отвечаю я. — Нам приходится беседовать не только с вами. Каждый точный ответ — это помощь в нашей работе.
— Хорошо, — соглашается Жарков. — Я говорю «до двенадцати», потому что, когда приехал, включил приемник, а потом услышал, как объявили время.
— У вас какой приемник?
Жарков смеется, показывая два ряда безупречных зубов. «Ну и вопросы задает мальчишка из угрозыска!» — читаю я в его прищуренных глазах. Он очень самоуверен.
— «Сакта». Радиола. Это важно?
— Важно. Еще один вопрос. Как долго вы слушали радиолу «Сакта» после двенадцати?
— Ну, часа полтора.
Удивительная выдержка у чемпиона. Кажется, права физиономистика, уверяя, что тяжелые подбородки свидетельствуют о незаурядной воле. Таким подбородком, как у чемпиона, орехи только колоть.
— Прочитайте ваши показания и подпишите. Жарков внимательно читает. Ставит лихую закорючку.
— У вас неплохой слог. Все?
— Нет. Хотелось бы знать, как вы пользовались сетевым приемником, если с одиннадцати тридцати до четырех, в ночь с восьмого на девятое августа, у вас был выключен свет?
Улыбка сходит с лица Жаркова, Ошибку уже не исправить.
— На пушку берете?
— Весь квартал был отключен, на электростанции устраняли аварию. Вспомните, где вы находились той ночью?
Он выплевывает, намокшую сигарету.
— Хорошо: я не был дома. Но отвечать не собираюсь. Если считаете, что я виноват в чем — то, докажите. Я не обязан обосновывать собственную невиновность. Правильно я понимаю закон?
— Вы правильно понимаете закон. Жаль только, что не хотите помочь нам. Не знаю, как это расценить!
— Как хотите. Вам я не отвечу.
Жарков с ударением произносит «вам». К нему возвращается самоуверенность. Во мне медленно колючим клубком растет раздражение. Провожу кончиком языка по нёбу. Говорят, успокаивает.
— Очень жаль, — повторяю я.
…Пожалуй, не стоит продолжать. Пусть Жарков успокоится, а мы посмотрим, как он будет вести себя дальше.
Звонит телефон.
— Павел Иванович? Комаровский беспокоит. Я из ГАИ. Приходите. Обнаружили кое — что любопытное.
В сумрачной комнатушке, увешанной схемами, Комаровский вместе с начальником ГАИ, угрюмым молодым человеком, колдует над картой, словно над шахматной доской.
— Посмотрите, какая получается картина!
Красные кружочки лежат на карте, как конфетти.
— Нам пришлось поднять человек тридцать дружинников, ну, и все ГАИ, разумеется. Опросили жителей этого участка, — капитан обводит ладонью добрую половину города. — Некоторые действительно слышали ночью шум мотоциклетного мотора. Я отметил места.
Кружочки расположены на карте довольно беспорядочно, но все — таки проследить путь ночного гонщика можно. Правда, возле дома Осеева, в радиусе полукилометра, кружочков нет: очевидно, владелец мотоцикла, если это был преступник, обладал достаточной осмотрительностью и оставил машину подальше от дома. К нему он пробирался скрытно.
— Видите, кружочки выводят нас на Ямщицкую улицу. А Ямщицкая переходит в Полунинский тракт, — замечает Комаровский. — Помните рассказ Сащенко?
— Но «наш» ли мотоциклист выезжал на тракт?
— «Наш»! Один человек даже видел этого «гонщика». Дворник, проживающий в доме сорок шесть по Ямщицкой, заметил мотоциклиста, мчавшегося к тракту.
— А когда это было?
— Тут нам повезло. Дворник говорит: «Сразу же после того, как на стройке раздался взрыв. Еще земля не успела успокоиться». Я звонил взрывникам на стройку, узнал время: ноль часов тридцать минут. Через двадцать минут после убийства. Как видите, совпадает… Скорость мотоциклиста, заявляет дворник, была очень большой. Кепка с козырьком, прикрывавшим лицо, темный плащ, перчатки. Показания Сащенко подтверждаются!
— Дружинники и наши сотрудники опросили всех владельцев мотоциклов, — продолжает Комаровский. — В городе и районе. Никто из них не проезжал в первом часу ночи по Ямщицкой к Полунинскому тракту.
— Однако показания дворника и Сащенко совпадают. Ну… а если это был сам Сащенко?. — Подтверждено, что Сащенко ранее никогда не приезжал в Колодин. Он не может знать города. Об этом человеке у нас есть самые лучшие отзывы.
Что ж, Сащенко можно исключить из «пятерки»? Остается один Жарков. Мы не знаем, где он был в ту ночь, куда выезжал на своем ИЖе.
— Борис Михайлович, что вы можете рассказать о Жаркове?
— Он у нас заметная фигура, местная знаменитость, — говорит капитан. — Человек легковесный, любит успех, деньги, ресторанную жизнь. Все это, конечно, не повод для серьезных подозрений, а связей с уголовным миром у него нет. Откровенно говоря, мне жаль Лену Самарину. Ее считают невестой Маркова. Она девушка открытая, ясная, с чистым сердцем… А он не очень порядочно ведет себя по отношению к ней. Обманывает, обижает, но в трудную минуту всегда ищет у нее помощи. Не знаю, как быстро покатился бы он по наклонной, если бы не Лена. Вот какая петрушка… Я ведь Лену давно знаю, да и вы, Павел Иванович, тоже.
Капитан, вздохнув, испытующе смотрит на меня. Очевидно, наша встреча с Ленкой в ресторане и ночное путешествие не прошли незамеченными для Колодина… Интересно, действительно ли боязнь потерять Лену удерживает чемпиона в Колодине?
— А вчера Жаркова видели вместе с дочерью Осеева, — как бы вскользь бросает Комаровский. Вот как, чемпион, вы успеваете всюду!
— Очевидно, они не вчера познакомились, — говорит капитан. — Но об этом мне ничего не известно.
Дочь инженера Осеева заметно осунулась с тех пор, как я видел ее. Глаза тусклые, обращенные внутрь. Чуть приметная гримаса раздражения на лице.
Завтра похороны. Будет долгий путь на Мольку, где в защищенном от ветров распадке приютилось кладбище. Старушки в платочках будут бросать с машин еловые ветви, угощать «панафидкой». Для них, старушек, хоть горький, но привычный ритуал, а для Осеевых — ни с чем не сравнимая боль. Я только вношу лишнее беспокойство в эти суетные черные дни, дни прощания.
Сверстники — физики, летчики, геологи, здоровые, веселые хлопцы, — знаете ли вы подлинную тяжесть грубого милицейского дела?
— Скажите, вы давно знакомы с Жарковым? Она отвечает бесстрастным глухим голосом:
— Мы познакомились, когда я первый раз приезжала в Колодин.
Она не спрашивает, почему меня интересует Жарков. Ей все равно.
— Он подошел ко мне как — то… в магазине. Сказал, что знает отца. Помог донести домой покупки.
Даже сейчас, с лицом, серым от бессонницы и волнений, она очень красива. Словно монашенка с картины Нестерова. Отрешенная, почти бестелесная красота.
— Жарков бывал у вас дома?
— Нет. Он провожал меня, случалось.
— Как вы открывали дверь? Ключом?
— Я стучала в окно. Отец знал мой стук.
— Условный?
— Да, пожалуй. Он ведь был радистом в армии. Ну, а я телеграфистка. Морзянке он меня выучил еще в детстве.
— Что же вы выстукивали?
— Да так, глупость… Три точки, три тире, три точки.
Сигнал «508»! Наверно, еще девчонкой она придумала это. Возвращалась со школьного вечера и постучала в окно: три точки, три тире, три точки. Было морозно, она зябла в легких туфельках и подала сигнал о помощи. С тех пор отец всегда ждал, когда раздастся знакомый стук. Ждал и в самые последние дни…
— Жарков, наверно, шутил по поводу этого сигнала «505»?
— Да, я объяснила, что значит мой стук, и он рассмеялся: «Остроумно придумано».
«Объяснила»… Вряд ли чемпион нуждался в этом. В его биографии записано черным по белому: в армии был радистом второго класса. Как и убитый инженер Осеев.
— Жарков знал, что вы должны были снова приехать к отцу?
— Да. Я писала ему, просила достать машину, чтобы помочь отцу перевезти мебель.
До Осеевой так и не доходит смысл вопросов. Мы с ней существуем сейчас в разных измерениях времени.
11
Облачный день стремительно несется над Колодином. Он выплывает из — за Мольки белыми, светящимися на солнце клочками пара и уходит в тайгу, словно падает где — то там, за лесным морем, в хранилище времени.
Скоро сумерки. Мне хочется, чтобы облака неслись помедленнее и не так спешили стрелки часов… Так мало сделано!
Просмотренные мною дела об украденных мотоциклах ничего не дали. В конце июля с окраины Колодина исчез БМВ. Спустя два дня БМВ нашли близ тропы, ведущей к Черемшанке. По этой тропе мы с Ленкой возвращались из Лихого. Места там глухие, можно надежно припрятать мотоцикл. Однако поломка машины помешала вору, и он просто бросил ее. Второго августа точно так же неизвестным лицом был уведен ИЖ. На этот раз мотоцикл найти не удалось.
Возможно, между кражей машин и убийством Осеева есть связь, но приходится заняться главным вопросом — откуда мог взяться таинственный ночной мотоциклист, кто он?
Стандартный перечень вопросов… Как он выглядел? Неизвестно. Как был одет? Кепка, серый плащ… Вся мужская половина Колодина носит кепки (дань моде) и плащи благородного мышиного цвета (постарались снабженцы). Откуда он держал путь? Неизвестно. Хорошо ли ездил на мотоцикле? Неизвестно.
Стоп. Это можно определить. Дом сорок шесть на Ямщицкой, где дворник в половине первого заметил мотоциклиста, стоит на окраине. Отсюда до Выселок, места встречи «гонщика» с Сащенко, девять километров. Сверенные с нашими часы Сащенко показывали сорок две минуты первого. Итак, «гонщик» мчался со средней скоростью около пятидесяти километров в час. Ночью, по плохой дороге! Наверняка такой стремительный бросок под силу только опытному мотоциклисту, асу.
Это предположение надо проверить. Следственный эксперимент — вот как будет называться мой следующий шаг… Маленькая милицейская комнатушка с грубыми деревянными столами и стульями уже в полумраке.
— Лена, мне опять понадобится твоя «Ява».
— Бедная милиция, безлошадные!
— У нас тяжелые мотоциклы. А мне нужны «средние кубики».
— Ну что же, я начинаю привыкать к твоим звонкам, — отвечает Ленка.
На Ямщицкой, у дома 46, я останавливаюсь, чтобы засечь время. Еще горит вечерняя заря, ставни не закрыты. Восходит луна, огромная, алая и такая близкая, что рукой можно достать…
Резко поворачиваю рукоятку газа и едва не вылетаю из седла. Рывок. Шестнадцать лошадиных сил ревут в цилиндрах. Держитесь, амортизаторы!
Колеса упруго прыгают через выбоины. Я едва успеваю вертеть рулем, выбирая безопасный путь.
Луч света мечется, свистит ветер, тело коченеет от ночной, летящей в меня сырости. Мотоцикл, подпрыгнув, повисает на миг в воздухе, и мне кажется, что я лечу над дорогой, словно ведьма на шабаш.
Врываюсь в лес, рассеченный трактом. Шумно. Бегает эхо. Корни деревьев бьют в шины. Сосновые стволы раскалены закатом. Близость их обжигает лицо.
Раз! Проскакиваю между двумя сосенками. Чувствую, как заднее колесо вертится, не находя опоры. Доля секунды — и оно рвануло дорогу, метнуло ее за спину.
Лужи бросаются под мотоцикл — склизкие, округлые, как черные медузы. Грязь брызжет в лицо.
Вот уже светятся Выселки. Фонарь у автобусной остановки — как вторая луна.
У столба с фонарем я торможу. Сразу на оба тормоза. «Ява» приседает, словно готовясь поползти по земле.
Восемнадцать минут. А мне казалось, что я мчался как рекордсмен. Я проигрываю «ему» по меньшей мере минут пять.
Попробуем еще раз. До Колодина доезжаю за шестнадцать минут. Прогресс. И еще раз в сторону Выселок. Удается побить собственное достижение, но у самых Выселок, на взгорке, меня подстерегает беда.
Вылетев на вершину крутого холмика, «Ява» угрожающе задирает переднее колесо, стартуя в небо. Сбрасываю газ, но уже поздно. Описывая дугу, лечу в кювет. К счастью, склон крут. Скольжу по наклонной, прямо к темной воде. Сверху, продолжая светить фарой, сползает по грязи «Ява».
Я хватаю мотоцикл, чтобы остановить его угрожающее движение. Резкая боль обжигает руку, и машина наваливается на меня. Я не сразу освобождаюсь от тяжести.
Наконец поднимаюсь на ноги. Кости целы, мотоцикл невредим. Левую руку жжет нестерпимо. Так и есть: приложился к раскаленному глушителю. Кожа уже вздувается волдырем. Говорят, при ожогах помогает сода. Знать бы да прихватить!
А все — таки можно считать, что я выиграл в последний раз по крайней мере еще минуту. Так что не горюй, лейтенант. Свою задачу ты выполнил: от Колодина до Выселок можно проехать за двенадцать минут. Только для этого необходимо быть гонщиком высокого класса.
Нет, так просто чемпион по мотокроссу от меня не уйдет!
12
Помилуйко развивает бурную деятельность. Его хватка, начальственный тембр голоса и безапелляционность позволяют в первый же день сотворить чудо: райисполком выдает в распоряжение майора единственную в городе «Волгу». На этой «Волге» я мотаюсь по Колодину, привожу и отвожу людей: сначала Жаркова, потом белокурую девицу, которую я видел с чемпионом в ресторане, потом Сащенко, еще какую — то бородатую личность…
Так я превращаюсь в «рыбку на посылках». Но иного и не следовало ожидать. Помилуйко любит работать в одиночку.
После обеда майор вызывает меня и Комаровского, чтобы ознакомить с результатами расследования, которое он так прочно и без колебаний взял в свои руки. У него вид человека, уверенного в том, что он всегда и при любых обстоятельствах делает правое дело.
Наверно, рядом с ним я кажусь вислоухим щенком.
— Садись, Чернов. Как рука? Все на перевязи? Помилуйко торжественно перебирает бумаги. Он доволен сегодняшней работой. Низенький, коренастый, энергичный, он любит говорить: «Я человек действия». Это так. Он умеет быть бесстрашным и решительным, когда нужно. Я видел, как Помилуйко один, отстранив помощников, взял пьяного бандита, вооруженного пистолетом.
Но в таком деле…
— Мне пришлось кое — что привести к общему знаменателю. Почитай — ка, Чернов.
Это протокол допроса Жаркова. «В ночь с 8 на 9 августа я находился у гражданки Любезновой М. Н.». Так вот зачем я ездил за этой белокурой гражданкой! «Однако в беседе с оперуполномоченным Черновым вынужден был скрыть этот факт, так как Чернов находится в дружеских отношениях с моей невестой Самариной Е. Д. и мое признание, как я считал, могло стать известным ей».
Хорош гусь этот Жарков!
— И вот это почитай.
Протокол допроса гр. Любезновой. «Жарков находился у меня с 23 часов 8 августа до четырех утра 9 августа, что может засвидетельствовать Д. И. Русых, присутствовавший на вечеринке…» Русых — та самая бородатая личность, которую я возил на «Волге».
Я перевожу взгляд на Комаровского. Долговязый капитан сочувственно и виновато улыбается.
— Да, показания безупречны. Алиби…
— Он как на духу все выложил мне, — гремит Помилуйко. — Тики — так. Вот, Чернов, Жизнь посложнее наших схем.
Он подмигивает и шутливо грозит коротким пальцем.
— Ох, Чернов, молодец! Не успел приехать, невесту чуть не отбил. Напугал мотоциклиста! Молодежь. За ней глаз да глаз нужен. А, Комаровский?
Начальник колодинской милиции улыбается в ответ. Это характерная улыбка капитана, который откликается на шутку майора. Субординационная улыбочка. А мне невесело. Дал я маху с этим Жарковым. Что ж, остается лишь признаться майору, что расследование заходит в тупик?
— Видимо, вы тут усложняете, — говорит майор сочувственно. — «Комоловщиной» занимаетесь, интеллигентскими штучками. Надо нам вернуться к этому Шабашникову. Но ты не огорчайся, Чернов. Не твоя вина.
Он предоставляет мне возможность принять сторону сильного. В данной ситуации сильная сторона — майор Помилуйко.
— Я продолжаю сомневаться в причастности Шабашникова к преступлению.
Две сердитые морщинки появляются на лице майора.
— А твои ли это сомнения? Ты еще молод, легко поддаешься влиянию. Посуди сам: ты логично замечаешь, что сапоги и нож могли быть похищены только одним из тех, кто посетил Шабашникова вечером восьмого августа. Так? Ни Лях, ни Малевич, ни Анданов, ни Сащенко, судя по твоим же правильным заключениям, не могут быть замешаны в преступлении. Отпадает и последний, Жарков. Ну?
Я молчу. Все ясно. Дело, за которое взялся Помилуйко, должно быть раскрыто в короткий срок. И баста! Эх, если бы не болезнь моего «либерала» — шефа…
— А ведь улик, свидетельствующих против Шабашникова, достаточно. Надо только доработать кое — что. Тики — так!
Он практик, Помилуйко, он умеет «глядеть в корень». Шабашников — это синица в руки, тогда как я со своими сомнениями предлагаю ловить журавля в небе… А что, если этот журавль окажется «глухарем», безрезультатно закончившимся делом?
Я смотрю на Комаровского. Он молчит.
— Я остаюсь при своем мнении, — говорю я. — Исчезновение дневника, следы горючего на бумагах — не вижу ответа на эти вопросы. Прошу дать мне возможность доработать версию согласно плану, намеченному Комоловым. Вы ничем не рискуете.
Майор не любит возражений, но, очевидно, мне удалось преодолеть робость и произнести свою «речь» с достаточной убежденностью.
— Ну, хорошо, — поморщившись, соглашается Помилуйко. — Попробуй. Только не напортачь. А я займусь Шабашниковым. Тики — так!
13
Вот теперь я могу выполнить указание врача и отлежаться в номере как следует, баюкая обожженную руку…
Неужели я не способен самостоятельно вести розыскную работу? Быть может, я из тех, кто вечно путается в противоречиях и догадках, не в силах сделать определенный, четкий вывод? Эх, «подвел» Жарков, «подвел»!
Медный маятник больших настенных часов отмахивает секунды. Лежи, братец. Ты бестолочь. Ты не умеешь защитить правого и найти виновного. Старый Шабашников, волнуясь, ждет исхода дела, так близко затронувшего его. Эн Эс, борясь с болезнью, думает о тебе и надеется на твою волю, ум, настойчивость, а ты запутался и никак не найдешь разгадку.
Скажи: «Шабашников виновен» — и все сразу станет легко и просто. Не можешь? Не веришь, значит. Комолов первым посеял сомнения в твоей душе, а затем они выросли, превратились в убежденность. Не виновен, нет…
Что бы ты ни делал, твоя судьба всегда скрещивается с чужими судьбами. И никуда не уйти от этой огромной ответственности.
Попробуй еще раз. Собери себя в кулак. Еще раз восстанови в памяти трагическую ночь восьмого августа. Попытайся найти новые звенья.
В двенадцать десять он был у дома Осеева. Кто он? Не рецидивист, не профессионал — такие идут на «мокрое» лишь в случае крайней необходимости. А необходимости — то и не было. Он мог оглушить Осеева, связать. Но он убил. Нанес второй удар, чтобы быть полностью уверенным в смерти инженера. Эта хладнокровная жестокость свидетельствует о преступном опыте, о привычке убивать.
Он сделал все, чтобы запутать след. Выкрал нож. Подсунул деньги. Что еще должен был сделать такой осмотрительный, расчетливый преступник? Обеспечить алиби. Дутое алиби — вот с чем я обязательно должен был столкнуться.
Скорее всего не деньги причина преступления. Если он решился с такой легкостью подбросить Шабашникову половину суммы… Однако половину взял! Жаден. Жаден все — таки, как и всякий преступник.
Предположим, это и есть тот самый загадочный любитель ночной езды. Он приехал издалека. Мотоцикл оставил на окраине.
…В начале первого ночной мотоциклист покинул дом Осеева. В полпервого он на Ямщицкой, без восемнадцати час — в Выселках. Куда он спешил?
Вот карта. Можно построить график движения. Скорость, как установлено, около пятидесяти километров в час. В час двадцать он должен был приехать в Медведково. Это небольшое тихое сельцо. В нем ему делать нечего. Значит, он миновал Медведково и помчался дальше. В час сорок он — у Рубиной заимки. В два часа он достиг Полунина, конечного пункта на тракте. Далее лишь узкие таежные тропы. Полунине, Полунине. Захудалая станция, приткнувшаяся к берегу озера Лихого. Три десятка домов… Можно предположить, что он спешил на железнодорожную станцию. Стало быть, его интересовал поезд…
На первом этаже гостиницы должно быть расписание поездов. Спускаюсь, в вестибюль. Вот оно, на стене. Где я видел этот белый реактивный самолет над красным электровозом?.. Впрочем, это неважно. «Ст. Полунине». Сюда в два пятнадцать прибывает тридцать второй пассажирский поезд: стоянка десять минут.
В тридцать втором в эту ночь ехал Анданов! Странное совпадение. Стоит подумать. Когда столько разрозненных фактов, малейшее их совмещение заслуживает пристального внимания. «Ищите странное. В странном — разгадка».
Анданов… Восьмого августа «почтмейстер» навещает Шабашникова. В тот же вечер срочно выезжает из Колодина. С больной женой. В отдельном купе. Что мне известно о его поведении в вагоне?
«Значит, я заступил. Зашел в купе: не нужно ли чего? Нет, говорит, не нужно. Жена хворая лежала. В третьем часу он вышел из купе. Попросил бинта. Ногу он поранил, прыгая с полки. Соды спросил для жены».
В третьем часу — сразу же после того, как поезд вышел из Полунина. Говорят, сода помогает при ожогах. Говорят еще, что у мотоциклистов ожог ноги — довольно частая травма. Если бы «Ява» сразу же накрыла меня и я не успел бы задержать ее рукой, то получил бы такой же ожог.
Выходит, он…
Факты, только факты! Не спеши… Прежде всего необходима проверка.
Медсестра в районной поликлинике, полная меланхоличная блондинка, перебирает карточки — вот — вот заснет.
— Анданов? Да, был на перевязке. У хирурга Малевича.
С Малевичем мы уже добрые друзья. Утром он бинтовал мою руку, предварительно в пламенной речи изничтожив изобретателей, которые додумались до мотоцикла. «Раньше предпочитали лошадок. Тихая, мирная езда. Укрепляла нервную систему. Сейчас у нас в Колодине каждый второй мотоциклист. Мои пациенты. Настоящие или будущие».
Малевич — очень экспансивный товарищ, с жестикуляцией, какую можно увидеть только в старых немых фильмах.
— Вы снова ко мне? Рука беспокоит? Может, вы опять взобрались на это железное помело? Я объясняю причину визита.
— Анданов? Только что был у меня. Весь мир помешался на мотоциклах. Даже этот немолодой человек. У него тоже травма. Ожог ноги. И выглядел он вначале похуже, чем вы. Он смешной человек. Стыдится признаться. Думает, что я посмеюсь над его увлечением. «Кипятком обварил». Это он мне говорит. Как будто я не видел ожогов.
— Доктор, когда Анданов впервые пришел к вам с травмой?
Медсестра приносит историю болезни. Малевич с трудом вчитывается в записи, сделанные его торопливой рукой.
— Сейчас, сейчас… Да, вот. Десятого августа, утром.
Десятого августа утром Анданов, оставив жену в клинике, возвратился в Колодин. Как он умудрился получить ожог в купе мягкого вагона?
Помилуйко слушает, барабаня пальцами по столу. Этот стук раздражает меня, сбивает с толку.
— Стоп, стоп, братец, — говорит Помилуйко строго — снисходительным голосом экзаменатора. — По — твоему, Анданов мог совершить такой бросок?
— Посмотрите расчет, товарищ майор. Если бы я не прожил в Колодине семнадцать лет, то, пожалуй, не сумел бы сделать этого расчета. Вот они, цифры, на листке. В десять тридцать поезд вышел из Коробьяникова. В одиннадцать остановился в Лихом, а затем медленно пополз по однопутке, берегом озера, через тоннели и мосты. Он как бы описывал полукруг с центром в Колодине, и на этом могла быть основана затея преступника. Затея, которая свидетельствовала о незаурядном уме и изобретательности.
Лихое — Колодин, Колодин — Полунине. Вот два радиуса полукруга. В Лихом преступник мог незаметно покинуть вагон и пересесть на мотоцикл. Тридцать пять километров отделяли его от Колодина. Та самая таежная тропка, по которой ехала Ленка. К двенадцати преступник на окраине Колодина. В двенадцать десять — происходит убийство… А затем стремительный бросок в Полунине на перехват поезда.
— Ну, а где он взял бы мотоцикл? — спрашивает Помилуйко, продолжая барабанить пальцами.
— Он мог использовать только чужую машину. Украденную. Запрятать ее недалеко от станции. Перед убийством в Колодине были уведены два мотоцикла. Один из них, первый, найден близ Черемшанки, то есть по дороге из Колодина в Лихое. Он был неисправен. Поэтому не случайно вскоре был украден и второй мотоцикл. Характерно, что ранее подобным воровством здесь никто не занимался.
— А приехав в Полунине, он втащил мотоцикл в вагон?
Я пожимаю плечами. У Помилуйко веселеют глаза.
— Теоретик ты, Паша. Я в твои годы тоже был теоретиком. Всюду искал какие — то тайны, загадки. На самом деле все проще.
— Но бывают случаи, когда…
— Скажи, можно проехать эти тридцать пять километров по таежной тропе за шестьдесят минут?
— Не знаю.
Мне следовало бы сказать: «сомневаюсь». Ленка проскочила эту тропку за полтора часа. А она ездит классно.
— Допустим, что возможно. Но, значит, Анданов великолепный мотоциклист, да? Есть сведения об этом?
— Нет.
— Еще вопрос. У тебя этот Анданов просто демон какой — то. Разрабатывает тончайший план, идет на огромный риск… Ради чего? Он обеспеченный человек, тихий, скромный. И вдруг! Взгляни на свою версию с точки зрения реальной жизни.
— Дело, по — видимому, не в деньгах. Мы не знаем, что было в дневнике.
При моей версии ограбление как причина убийства отпадает само собой. Может, сведение каких — то давних счетов? Но пути Анданова и Осеева не пересекались… Однако кто знает. Я вспоминаю комнату Анданова, фотографии в рамках. Я еще подумал — бывают люди, которых нельзя представить детьми. Они пришли в этот мир без молодости, без прошлого. Или боясь прошлого? Опять теоретизируете, лейтенант… Но почему все — таки у Анданова не сохранились старые фотографии? Его домовитая супруга не преминула бы вывесить их на стенку.
— Это скорее материал для романа, Павел. Да, Помилуйко не любит «теоретиков». Он практик, он не отрывается от земли. Дело, за которое он взялся, должно быть закрыто. Я же предлагаю длинный и сомнительный путь, который может привести к неудаче.
— Посмотри, какую любопытную штуку я нашел. Помилуйко достает из ящика стола старую, сделанную из медной гильзы зажигалку.
— Зажги эту «адскую машину».
Фитиль чадит и, наконец, вспыхивает. Я стряхиваю бензин с пальцев. «Адская машина» течет.
— В связи с делом о хищении ножа я еще раз осмотрел дом Шабашникова, — говорит Помилуйко, — Жаль, что вы с Комоловым не обратили внимания на зажигалку… Значит, перчатки были смочены бензином с небольшой примесью масла, да? Так вот. Шабашников заправляет свою зажигалку из бутыли, которую взял у соседа Зуенкова. А в бутыли — горючее для мопеда, понял? В бензине разбавлено масло.
Помилуйко подбрасывает на ладони зажигалку.
— Вот и разгадка. Я так понимаю: Шабашников не хотел включать свет в доме и воспользовался своей старой зажигалкой. Горючее попало на перчатки. Тики — так.
Майор прав: на зажигалку стоило обратить внимание.
— Все — таки я попробую найти доказательства для своей версии, — говорю я. — Уверен, что это удастся.
— Упрям, упрям, — благодушно ворчит Помилуйко.
Ожог, который Анданов пытался выдать за ушиб, пока еще не улика. Это скорее исходный пункт в той сложной умственной динамике, которую мы называем догадкой.
Должны найтись доказательства. Моя теория — соляной раствор, насыщенный предположениями и умозрительными расчетами. Нужна хотя бы тоненькая ниточка, чтобы раствор начал кристаллизоваться. Нужны реальные детали, которые сами собой, без принуждения, укладывались бы в версию.
Нет преступника, который не оставлял бы улик. Аксиома, известная каждому новичку. Прежде всего мотоцикл. Куда он делся, где был укрыт? Надо снова отправляться в Лихое по той злополучной тропе. Только один человек сможет помочь мне в тайге. Кеша Турханов, лесной житель.
14
Утром звонит Комаровский: «Кеша будет ждать в Лихом, у станции. Я просил его разузнать, где охотничал последние дни Анданов».
С опаской сажусь на «Яву». Забинтованная рука едва держит рычаг сцепления. Никакие мази доктора Малевича не спасают от боли. А мне еще предстоит доказать, что от Лихого до Колодина можно проскочить за шестьдесят минут.
Небо хмурится, вершинки сопок исчезают в облаках. Опять пахнет дождем. Еду не спеша, изучая тропу. Надо полагать, преступник не один день присматривался к этой дороге, прежде чем решился привести в исполнение свой план.
В ту ночь, когда мы с Ленкой возвращались из Лихого, дорога показалась мне легче и безопаснее, чем теперь. Иногда тропа натыкается на каменные осыпи, руль дергается, вырывается из рук. Толчки отдаются во всем теле. Скальные обломки по сторонам как надолбы. Гонка будет с препятствиями.
Внизу холодно светится Черемшанка. Тропа уходит прямо в воду. Камни, разводья пены, белые бурунчики, шум переката, а на том берегу крутой и скользкий подъем.
Как это Ленка отважилась? Да, мостик! Она говорила о мостике, выстроенном «доброй душой».
Мостик белеет наверху — там, где сближаются отвесные берега. Четыре тесаные жерди, сбитые скобами. Настил достаточно широкий, чтобы провести мотоцикл. Белая щепа разбросана на траве. Пахнет смолой. Новенький мостик. Надо же — появился совсем недавно, как раз перед убийством. Еще одно совпадение.
…Кеша Турханов ждет меня на тропе, недалеко от разъезда. Сидит, сгорбившись, на поваленном дереве, трубочка словно приросла к губам. Эдакий лесовичок, хранитель таежной тишины. Подает ладошку дощечкой.
— Начальник просил прийти.
Сидим курим. Кешу лучше не беспокоить вопросами, он сам знает охотничий этикет. Когда спраши» вать, когда отвечать.
— Анданов — то на Бычковом зимовье бывал последние дни, — говорит Кеша. — Мастерил, знать, мостик.
Бычкова зимовьюшка — старый сруб на Черемшанке, недалеко от нового мостика. Охотники давно не посещают зимовьюшку. Зверье ушло от Колодина, от шумных мест.
— Что же он там промышлял, Кеша?
— Откуда знать? Промышлять — то там нечего.
— Почему ты думаешь, что мастерил мостик?
— Откуда знать? Стружка с одежды насыпалась в зимовье. Свежая стружка.
— А точно Анданов?
Турханов хмыкает, выбивает трубочку на жесткую бугристую ладонь. Держит горячую золу, как в пепельнице.
— Видел табачок? Из кореньев… Простой! Анданов медовый табак курит, духовитый. Только он!
— Слушай, Кеша. Вот у меня мотоцикл. Надо его запрятать возле станции. Куда бы ты запрятал?
— Зачем прятать? Оставь на станции, никто не возьмет.
— Нельзя, чтобы кто — нибудь видел, понимаешь? Кеша косит на меня прищуренным темным глазом.
— Понял, следователь. Подумать надо. Он поднимается с бревна, сутулый, пригнутый годами к земле, но все еще крепкий. Он из той породы потомственных таежников, которые не знают, что такое больница…
— Надо бы Савкину яму посмотреть, следователь. Он идет медвежьей походкой через завалы кедрача. Когда — то здесь похозяйничал шелкопряд, оставив черный, мертвый лес.
Савкина яма — неглубокий, густо заросший котлованчик.
— Отсюда песок брали, когда строили дорогу, — бормочет Кеша и, кряхтя, лезет по откосу вниз. Он копошится в яме, осторожно разгребая валежник. Дождь наверняка смыл следы.
Я касаюсь тонкой, едва ощутимой нити догадки, которая возникла из неясного предположения. Но кристаллы уже начали выпадать. Раствор твердеет. Мостик, выстроенный Андановым. Его интерес, проявленный к этим скучным для охотника местам. Такие совпадения не могут быть случайными. Теперь не я ищу факты, а они меня. Значит, я на верном пути…
— Погляди — ка, — зовет Кеша из кустарника. Густые ветви прикрывали здесь землю от дождя. На песке — отпечаток протектора. Неподалеку от рубчатого узора находим темное пятно. Здесь масло натекло из карбюратора. Очевидно, мотоцикл лежал на боку. Бензин испарился, а масло осталось. Мы находим еще кусок промасленной тряпки. Больше ничего не удается обнаружить.
— Съездишь со мной в Полунине, Кеша?
— Опять мотоцикл искать?
— Да. Но там его насовсем запрятали, понимаешь?
— Это легко. В озеро, однако, бросить нужно. В Лихое. Шаман — скалу знаешь? Могила, однако, — поразмыслив, протяжно тянет Кеша.
С Шаман — скалы станция Полунине как на ладони. Поблескивают стальные ниточки рельсов. Облако пара застыло над паровозом. Внизу тусклое зеркало озера. Рябь кажется неподвижной.
От Полунинского тракта к Шаман — скале ведет узкая тропинка. Сюда, случается, забредают туристы, любуются озером. Оно диковинка: воды из озера вытекает больше, чем вносят реки. А вот не скудеет. И глубины удивительные. Полно провалов, расщелин метров на триста глубины, говорят.
У Шаман — скалы как раз такой провал. Если он сбросил мотоцикл со скалы, нам никогда не найти машину… Неужели в тихом корректном «почтмейстере» таится такой изощренный, такой зловещий ум? Не верится.
— Что тут стоять? — спрашивает Кеша. — Камень, он молчит. Сто лет молчит, тыщу лет молчит.
Скала почти отвесно уходит в воду. Гладкая, вылизанная дождями. Лишь небольшой карнизик метрах в шести подо мной.
— Веревка есть, Кеша?
Кеша — таежник, запаслив. Мы связываем два небольших обрывка. Только рука не подвела бы. Авогь… Хорошее русское слово «авось».
Спускаюсь, преодолевая боль. Карнизик пологий, стоять на нем трудно. От каменной стенки несет вековым холодом. В одном месте камень хранит след соприкосновения с металлом. Светлый, свежий шрам. Осколки стекла, разбросанные на карнизе, кажутся вкраплениями драгоценного минерала.
Осторожно подбираю осколки. Ребристое стекло от фары. Еще одно совпадение…
— Живой, следователь? — спрашивает сверху Кеша.
Живой, Сейчас выберусь. Отдышусь сначала. Надо поберечь силы. Что будут стоить эти открытия, если я не смогу доказать, что он мог проскочить из Лихого в Колодин за шестьдесят минут?
В номер Помилуйко я врываюсь, забыв поздороваться. У майора изумленное лицо.
— На кого ты похож, Чернов?
Наверно, у меня не слишком респектабельный вид.
— Я из Лихого… За пятьдесят две минуты… Это трудно, но возможно!
— Выпей воды. Ты энергичен. Комолов знал, кого брать в помощники. А у меня тоже новость, — Помилуйко тяжелой ладонью хлопает меня по плечу. — Шабашников «раскололся».
Хорошо, что подо мной оказывается стул.
— Сознался Шабашников, да. Подписал!
— Как же с Андановым? — бормочу я. — Ведь он… Я рассказываю о результатах поездки. Помилуйко терпеливо выслушивает, хмурится.
— Интересные наблюдения. Но где хоть одна явная улика? Мостик построил? Хорошо, построил. И ногу обжег… утюгом, предположим. Дома, перед отъездом.
— Но до отъезда он не хромал, это подтверждено.
— Ну, не сразу почувствовал боль…
— А кто сбросил мотоцикл со скалы?
— В самом деле, кто? Вот я судья, представь. Докажи, что Анданов сбросил какой — то мотоцикл. Ну?
— Мне трудно это доказать. Но истина… человек… Лишь это важно!
— Э! Шабашников уже в наших руках. Хочешь запутать дело? Завести в тупик? У тебя нет ни одной явной улики. Думаю, и не будет.
Майор любит ясность. Шабашников признался. Точка. Подписал.
— В общем хватит анархии. — Помилуйко рубит ладонью воздух. — Действуй теперь только в соответствии с моими указаниями, ясно?
Остается один человек, с которым я еще не встречался и который может рассказать многое. Жена Анданова.
Я снова на приеме у Малевича. Бинт пропитался кровью, отвердел, словно гипс. Но Малевич нужен мне не только как хирург. Если он знает точно, где сейчас жена Анданова, я выеду немедленно.
— Вы не бережетесь, лейтенант. Так больно? Ножницы, сестра… Вам знакомо слово «сепсис»? Дождетесь, если не будете держать руку на перевязи.
Звякают инструменты. Я дергаюсь, как лягушка на школьном опыте.
— Не будете беречься — уложу в больницу. Право!
Удивительные у него руки. Сильные и нежные. Я всегда чувствовал особую симпатию к хирургам. Их работа сродни нашей. Такое же непосредственное проникновение в человеческие жизни. Каждый шаг, каждое движение связано с чьей — то судьбой. Они, как и мы, не имеют права ошибиться. Ночные вызовы, вечное беспокойство. Смысл нашей профессии, в сущности, тоже заключается в том, чтобы обнаружить вредную ткань и отделить ее от здоровой, очистить среду.
— Скажите, доктор, жена Анданова лечилась в вашей поликлинике? В какой больнице она сейчас?
— Да, она лечилась у нас. Вам я могу сказать:
была безнадежна.
— Была?
— Да. Неоперабельная опухоль. Анданов знал и все — таки повез. Люди всегда надеются на чудо.
Малевич плещется над умывальником. Есть в его фигуре что — то скорбное, как у человека, несущего на себе тяжесть чужих бед.
— Ах, вы не знаете? Я думал, слухи распространяются в Колодине молниеносно. Анданов уже вылетел, его вызвали телеграммой. Летальный исход. Он был готов к этому.
Сестра помогает мне спуститься по лестнице, придерживая за локоть. Малевич разбередил ожог — боль адская. Только бы добраться до гостиницы.
15
— Пашка, как ты себя чувствуешь? Это Ленка.
— Нормально.
— Я осмотрела мотоцикл и подумала: как же должен выглядеть ты сам?
— Нормально. Шишкинских медведей разглядываю. Симпатичные.
— Тебе плохо, Паш?
— Ничего. Нормально.
— Я знаю. Я всегда знаю про тебя. Изучила. Приезжай к нам. Послушаем музыку… А?
— Рихтер в Колодине?
— «Итальянское каприччио», ладно? Или двадцатый Моцарта.
С «Итальянского каприччио» для меня и для Ленки началась музыка. Мы купили пластинку случайно. Нам понравилось звонкое название — каприччио. Потом скупили все пластинки Чайковского. Мы ведь были глубокими провинциалами, нам приходилось открывать для себя то, что жители больших городов впитывают вместе с воздухом.
— Я за тобой заеду, Паш. На бедной «Яве».
На окне знакомые с детства занавески… Вот чего мне не хватало эти дни — спокойствия, чувства дома. Ленка сидит рядом, я вижу только ее руки.
Я люблю музыку, но, признаться, плохо понимаю ее. Я слушаю музыку и думаю о чем — то своем: она становится моими мыслями, проходит глубоко внутрь и растворяется во мне.
Игла извлекает из черного диска мелодию… Вот детство. Безмятежное, тихое, как падающий лист. Говор Черемшанки, шелест тайги. Остров на Катице, огонь костра, первые беспокойные и сладкие мысли о любви. И тарантелла. Вихрь. Любовь, юность. Страстные, зовущие звуки. Все тише, глуше.
И снова черная поступь смерти. Печаль, сожаление. Как предчувствие осени после весенней вспышки. Расслабляющая горечь проникает в сердце. Светлые впечатления детства придавлены шагами судьбы. Что дальше — покорность, ожидание? Каждый раз, прислушиваясь к тяжелым шагам, я замираю.
Вот оно — словно нарастающий бег конницы… Вклинивается в траурный марш и одолевает его. Мотив, который олицетворяет детство, превращается в торжественный гимн. Молодость вечна, если ты способен к страсти, подвигу. Все быстрее скачут всадники…
Так всегда действует музыка. Накипь слетает с сердца. Все проясняется. Я и он. Мы противостоим друг другу в немой схватке. Он расчетливее, хитрее меня. Он знает, что, совершив изощренное злодейство, не оставил следов, которые могли восстановить против него закон. Закон придуман справедливыми людьми, которые хотели исключить возможность ошибки. Это тот случай, когда ты догадываешься, кто преступник, и не можешь ничего поделать. Он все предусмотрел.
Но я не выпущу его. У военных есть выражение «вызвать огонь на себя». Я попробую…
— Ну вот, у тебя лицо посветлело, — говорит Ленка. — Я же знала…
В темном окне я вижу целое созвездие. Там поселок строителей. Сотни семей за стеклами, как сотни миров. А в доме Осеева не зажгутся окна. Убийца еще ходит по городу. Пока убийца на свободе, смерть всегда может ступить на порог дома. Может войти и в эту комнату.
— Ленка, мне пора.
— Вы уже на посту, лейтенант?
— Ты все посмеиваешься?
— Нет, — она серьезно смотрит на меня. — Мне не хочется, чтобы ты уходил так внезапно. А может, лучше было бы, если б ты совсем не приезжал…
— Может, Мы молчим. Между нами пролегли несколько лет. И Жарков. И многое другое. Нам трудно теперь отыскать дорогу друг к другу. Но, может быть, она существует, эта дорога?
— Почему признался Шабашников?
Комаровский упрямо смотрит в стол. На жилистой тонкой шее дергается кадык.
— Не знаю… Он в таком состоянии, когда все безразлично. Майор ярко нарисовал перед ним, как произошло убийство. Вчера Шабашников сказал:
«Может, это в самом деле я? В беспамятстве. В городе меня, наверно, осудили. Уж все равно». Сегодня он признался.
— Ну, а вы?
— Что же мне кричать: «Не ты!» — говорит капитан. — У одного майора одна точка зрения, у другого — другая.
— Но у вас свое мнение!
— Вам двадцать четыре года, Павел Иванович, — устало говорит Комаровский.
— Вам легко. Могу только завидовать.
Да, мне двадцать четыре, я не был старшиной и не приобщился ко всем жизненным сложностям. Я шел по расчищенной дорожке. Можно и дальше идти не спотыкаясь. Пристроиться кому — нибудь «в хвост», как это делают шоферы в тумане. Пусть он, другой, принимает решения. Помилуйко, например. Он вытянет и сумеет оценить адъютантскую преданность. «Тики — так!» — Боюсь, что это как раз то дело, когда долго бьются, но виновного так и не находят, — говорит капитан. — Шабашникова не засудят, нет. Одного признания еще мало. Вот увидите.
Себя или меня успокаивает начальник колодинской милиции? Во мне волной поднимается злость. Неужели о н, подлинный преступник, сумел перехитрить всех? Помилуйко не в силах отказаться от приманки. Я черпаю воду решетом. Комаровский ждет.
— И все — таки мы найдем, — говорю я капитану. — И вы мне поможете.
Комаровский после минутного раздумья протягивает руку. Ладонь его костлява и суха.
— Куда вы сейчас? — спрашивает он.
— К Кеше Турханову. Он даст знать, когда Анданов вновь появится в тайге.
16
Окно зимовья светится тусклым желтым светом. Над деревьями догорает день. Придерживая одностволку, я осторожно подхожу к окну. Кеша прав — он здесь.
Помощник Комаровского принес утром записку. Корявым почерком Кеша вывел: «Анданов ружьишко брал, подался в Лиственничную падь Полунинским трактом».
Теперь нас двое в тайге, в тридцати километрах от Колодина. Я знал, что Анданов выедет в тайгу Полунинским трактом. Даже если деньги не были причиной убийства, он — такова уж психология преступников — не станет отказываться от «добычи». Половину суммы Анданову пришлось подбросить, чтобы навести следствие на ложный путь. Остальные деньги он наверняка припрятал.
Он мог сделать это только близ тракта, когда мчался в Полунине. Брать деньги с собой было бы рискованно.
Нас двое в тайге. Это мне и нужно. Я должен дать понять Анданову, что многое знаю о ночном убийстве. Для Анданова на карту поставлено все. Если он решит, что его карта бита, то, не задумываясь, пойдет и на второе убийство, чтобы скрыться в бескрайней тайге. Тут — то он выдаст себя, и я должен его взять.
Это глупо и опасно, я знаю. Но что делать? Вот только не оплошать бы!
Стволы лиственниц, еще недавно отливавшие медью, слились в одну темную неразличимую массу. В окно зимовья видно: Анданов склонил над столом крупную лысеющую голову. Листает кредитки. Рядом, на столе, солдатиками стоят патроны… Я немного опоздал. Мне бы взять его с поличным у тайничка!
Анданов резко поднимает голову. Заметил. Я рывком распахиваю дверь. Сердце бьется неровными толчками. Не дрейфь, лейтенант.
— Какая встреча, — говорит Анданов и, усмехаясь, помешивает кочергой в печурке. — Садитесь, гостем будете.
Он совсем не похож на того Анданова, с которым я встречался в городе. Там он был смиренным почтарем. Тайга распрямила его. Глаза блестят угрюмым блеском, рубаха, обтягивающая плечи, подчеркивает их ширину и мощь. Впервые в голову приходит мысль, что орешек может прийтись не по зубам.
— Тоже решили поохотиться? — спрашивает он.
— Вроде того.
— С больной рукой?
— Они так жгутся, эти глушители.
В зимовье жарко, трещит огонь в печурке, пахнет «медовым руном». Анданов, изредка поглядывая на меня, набивает гильзу. Сыплет из полотняного мешочка картечь. Свинцовые шарики со стуком падают на стол. Два десятка темно — серых шариков. И в каждом, может быть, заключена смерть.
Да, я опрометчиво бросился вслед за «почтмейстером», понадеявшись только на свои силы. Тут нужна целая группа… Но если бы он догадался, что я не один, то вся затея пошла бы прахом.
Была не была…
— Слышал, вы закончили дело, лейтенант. Рад за вас. Больше не будете докучать вопросами?
Он уверен в себе. Знает, что у нас на руках ничего нет. Но пальцы все — таки выдают волнение. Сильные, поросшие темными волосами пальцы. Он сдавливает гильзу так, что картон трескается, и порох сыплется на стол. Мертвая хватка. Плохо, если такие пальцы нащупают горло или сожмут наборную рукоять ножа.
«Кто ты? — думаю я. — Ты мастерски владеешь ножом и ездишь на мотоцикле, как гонщик. Как шахматист, ты умеешь видеть на много ходов вперед. Где, когда ты столкнулся с Осеевым? Как возникла вражда, вызвавшая страшный исход? Прошлое, судя по документам, у тебя самое заурядное…» Мы сидим в тесной зимовьющке, как добрые друзья.
— Знаете, Анданов, я впервые распутал сложное дело.
Он молчит. Главное для меня — не оступиться ни в одном слове.
— Путевой обходчик помог. Он стоял у другого вагона и все видел.
— Не совсем понимаю вас.
Лицо у него по — прежнему непроницаемое. Длинное, темное лицо, как маска.
— И еще Савкина яма, где лежал ИЖ. Сохранились следы, которые вели от разъезда к яме. В общем мотоциклетный бросок не совсем удался. Не обошлось без свидетелей.
Анданов наклоняется и помешивает палкой уголья. Так вот что жарко горело в печурке, когда я вошел! Он успел избавиться от денег.
— Вы что — то непонятное рассказываете, — говорит Анданов. — Пойду лучше дровец принесу.
Сгибаясь, чтобы не задеть бревенчатый потолок, он выходит на разведку. Не привел ли я кого — нибудь? Возвращается успокоенный.
— Любопытно все — таки, что мы встретились. Он разглядывает меня с высоты своего роста. Бицепсы перекатываются под кожей. Гантелями небось занимается.
— Однако я в засадку собираюсь, на солонцы. Вы со мной?
— Уж куда вы, туда и я.
Мы выходим в темноту. Ружье висит у него на плече. Я стараюсь держаться поближе к Анданову, чтобы он не успел вскинуть свою «тулку». Близок финал.
Он молчит. Я иду следом почти вплотную. Темнота густая и вязкая.
Говор реки становится громче. Мы выходим к Черемшанке. Здесь река широка и бурлива. Чуть приметен с откоса свинцовый блеск воды. На месте Анданова я бы дальше не пошел. Чувствую, как напрягаются мышцы.
И все же Анданов застает меня врасплох. Он неожиданно останавливается, делает ловкий нырок, выворачивается, и от мощного броска через спину я лечу в Черемшанку.
Шлепаюсь на мокрые камни: боль пронизывает тело. Но я тут же заставляю себя вскочить и броситься в сторону. Сверху бьет огонь. Картечь рвет воздух над ухом. Все — таки успел отскочить! Я издаю громкий протяжный стон, хриплю. Прислушиваюсь:
не щелкнет ли экстрактор, извлекая гильзу? Но Анданов решает, что выстрела дуплетом достаточно.
Приникаю к камням, втискиваюсь в воду. Мое ружье отлетело куда — то. Осторожно пытаюсь достать пистолет. Рука вялая, непослушная.
Анданов прыгает — я прямо на меня. У меня неплохой удар левой. Плотно забинтованный кулак обрушился бы на него, как кувалда, но я прижат к камням и не могу замахнуться. В борьбе у него все преимущества: десять пальцев против пяти.
Пытаюсь высвободиться. Он цепок и ловок. Нащупывает горло. Я борюсь, не думая уже о боксе. Только одно — жажда жить. Инстинкт самосохранения. Он клокочет в нас обоих.
Бью головой, он скатывается. Мне удается привстать. Теперь я могу достать его правой.
Он отклоняется и перехватывает руку. Попадаюсь на прием. В плече раздается хруст, боль пронизывает тело. Правая рука висит как парализованная, а забинтованной левой я не могу достать пистолет. Анданов знает это и не спешит, переводит хриплое дыхание. Он немолод, и его уже изрядно утомила эта борьба.
Мы стоим в темноте друг перед другом. Эту секундную передышку надо использовать. Бью левой, свингом. Кажется, не промахнулся. Он не ожидал этого. Голова его глухо стукается о камни.
Я зубами разматываю бинт и, высвободив пальцы обожженной руки; включаю фонарик. Анданов лежит между двумя обточенными водой валунами. Я приподнимаю ему голову: не захлебнулся бы!
Анданов, камни, торчащий из воды приклад — все это начинает плясать, кружиться в свете фонарика. Продержаться еще немного! Анданов скоро придет в себя, и я уже не смогу справиться с ним. Достаю пистолет и стреляю в воздух. Отдача выбивает пистолет из ослабевшей руки, он падает в воду.
Но неподалеку, в темном лесу, раздается ответный выстрел из охотничьего ружья.
17
— Мальчишка! Романов начитался! — говорит Помилуйко, поправляя одеяло на моей кровати.
Но в голосе не чувствуется осуждения. Он отводит глаза. Шея майора багровеет. Если бы я рассказал в управлении, как покраснел Помилуйко, это вызвало бы сенсацию. Но я не буду рассказывать. К чему?
— Да, братец, как оно обернулось, дело… Тики — так! Ну, ты бойкий оказался малый. Бойкий… Если б не вышла твоя авантюра, ох, и досталось бы мне!
Ему! А мне что досталось бы, окажись Анданов победителем?
Ветер колышет тюлевые занавески, шишкинские медведи гуляют по туманному лесу. Прохладно, чисто и попахивает больницей. Всего лишь несколько дней назад я, проснувшись в этом номере, раздумывал над тем, удастся ли найти человека, которому принадлежит «роммелевский» кинжал.
— А вдруг бы он тюкнул тебя? — спрашивает Помилуйко, стараясь придать голосу начальственную строгость. — Хорошо, что Кеша Турханов выручил!..
Кеша не внял моей просьбе, отправился следом в Лиственничную падь. Конечно, это Комаровский попросил Кешу не оставлять меня. Тихий колодинский капитан!
— А вообще — то бригада выполнила задачу, — говорит Помилуйко. — Несмотря на отдельные ошибки.
Я молча смотрю на него.
— А знаешь ли ты, Павел, кого мы… кого ты взял?
Он извлекает из пухлой папки стопку листов.
— Познакомься. Передаю дело в высокие инстанции.
Помилуйко показывает большим пальцем в потолок.
— Сознался как на духу. А что ему оставалось?
Не отрываюсь от протоколов, пока не дочитываю до конца. Не сразу удается представить картину преступлений, совершенных человеком, которого в Колодине знали под фамилией Анданов.
Я вижу его в полутемном купе мягкого вагона. Настороженный, с головой, вдвинутой в плечи, он весь в ожидании… Постукивают колеса. Скоро разъезд Лихое. Их сосед только что покинул купе, напуганный стонами больной женщины.
Они остались вдвоем с женой. Все идет в соответствии с планом. Анданов растворяет в стакане четыре таблетки нембутала. «Пей! Станет легче!» Беспомощная, привыкшая подчиняться беспрекословно, она выпивает стакан. Через десять минут крепко спит.
Анданов прислушивается к ее дыханию. Он боится, что нембутал не окажет воздействия.
Жена. Единственный близкий и преданный ему человек. Но сейчас он боится ее. Она может невольно выдать его, дать следствию пищу для подозрений. С затаенной радостью Анданов думает о том, что дни жены сочтены. Переезд нанесет последний удар. О, «добрая школа» была пройдена им. Он знает, что жалость — ложное и опасное чувство.
Анданов выскальзывает в коридор: никого. В тамбуре, открыв дверь заранее припасенным ключом, он соскакивает с подножки на неосвещенную сторону Платформы. Никто не заметил его в Лихом. Анданов надевает перчатки. Нож Шабашникова, старые сапоги, завернутые в бумагу, тоже с ним. Теперь к Савкиной яме, где спрятан ИЖ. Через час он постучится в дверь Осеева.
— Телеграмма из Иркутска, — скажет Анданов. — От дочери.
Он знает, что инженер ждет приезда дочери. Но в руке у мотоциклиста не телеграмма — нож. Остро отточенный клинок со странным рисунком у рукоятки. Это третья и последняя встреча Осеева и Анданова. Первая состоялась двадцать лет назад. Рука убийцы через годы дотянулась до партизана, сумевшего избегнуть смерти в тысяча девятьсот сорок третьем.
А как это началось?
В июне сорок первого года под Львовом шел жаркий бой. Железнодорожники — одна винтовка на троих — штурмовали гору Подзамче, захваченную немецкими парашютистами.
Он решил перейти линию фронта. Притаил под шинелью пропуск — листовку, на которой был изображен вонзившийся в землю трехгранный штык. Не трусость, не вспышка панической слабости руководили предателем. Он сознательно решил переметнуться к тому, кто казался более сильным. Он хотел власти над людьми, богатства, хотел «быть наверху». Увидев офицера в эсэсовской форме, Анданов взметнул руку в фашистском приветствии.
— Прошу не считать военнопленным, — выпалил он заученную немецкую фразу. — Цель моей жизни — служение фюреру.
Это был великолепно разыгранный спектакль.
Фашисты формировали диверсионные группы, и предатель вступил в одну из таких групп. Риск был велик, но велика была и выгода, а он решил вести крупную игру. Его обучали искусству рукопашной схватки, меткой стрельбе, всем хитростям, необходимым для диверсанта. Сильный, жестокий, решительный, он быстро пошел «в гору».
В конце сорок второго года он командир специального полицейского отряда в Белоруссии. Карательные акции. Сожженные хутора. Свидетелей своих «подвигов» он старался не оставлять, проявляя известную предусмотрительность.
В сорок третьем судьба свела Анданова с Осеевым, радистом небольшого партизанского отряда. Осеев был в числе четверых оставшихся в живых партизан, захваченных на хуторе. Хутор со всем населением был сожжен. Осеева и его товарищей ждала виселица. По дороге в город радист бежал. Это был один из немногих свидетелей, видевших собственными глазами зверства, чинимые этим фашистским прихвостнем.
Когда гитлеровцы покатились под ударами Советской Армии, командир полицаев «раздобыл» необходимые документы и бежал из Белоруссии на Украину, где его никто не знал. Так, собственно, и появился на свет человек по фамилии Анданов.
Он забился в глухой сибирский городок. Никуда не выезжал: захолустье представлялось ему единственным надежным убежищем. Боялся новых людей, встреч. Но жизнь оказалась неутомимым преследователем. В захолустные города вторглась индустрия. Анданов бежит от строек и поселяется, наконец, в Колодине. Но этот городок тоже наводняют беспокойные строители. И судьба неожиданно снова свела Анданова с Осеевым. Бывший полицай не сразу узнал бывшего партизана, но тревога коснулась его. Он почувствовал, что Осеев присматривается.
Анданову нетрудно было перехватить письмо Осеева, в котором инженер сообщал приятелю о своих подозрениях.
Он сжег письмо. Однако за первым могло последовать второе, третье… Бежать? Срочный выезд еще больше укрепил бы подозрение инженера. Анданов решил устранить Осеева. Устранить так, чтобы избежать возмездия. Прежде всего алиби. Тщательное изучение карты и железнодорожного расписания натолкнуло его на мысль использовать мотоцикл. Он рассчитывал, что проводники не заметят «отлучки».
Труднее было раздобыть мотоцикл. Купить машину он не мог — выдал бы себя. После первой неудачной попытки Анданов сумел угнать чужой ИЖ. Алиби было только половиной плана. Нужно было пустить следствие по ложному пути. У Шабашникова Анданов похищает нож и сапоги, …Ударив ножом, он прошел в темную, пустую комнату, нашел дневник, о существовании которого подозревал. Взял деньги. Затем, покинув дом инженера, Анданов снял сапоги и завернул их вместе с ножом в обрывок полотенца. Выбросил все эти «вещественные доказательства» в уборную. Он понимал, что милиция произведет тщательный осмотр. Пробравшись к сараю Шабашникова, запрятал деньги. Не всю сумму, нет: жалко стало. «И без того влипнет старик».
Близ станции Полунине Анданов полетел в кювет и обжег ногу. Но мотоцикл остался невредимым. Анданов сбросил машину в озеро и успел к поезду. Через несколько минут, переодевшись, он вышел к проводникам — напомнить о своем присутствии и заодно достать соды.
Зверюга. Хитрый, беспощадный хищник. Фашист. Затаившийся, надевший маску добропорядочности, он продолжал нести заряд, смерти. Так мина, найденная много лет спустя после войны, кажется безобидной консервной банкой. Но прикосновение к ней несет гибель и разрушение.
Я рос в этом городе, ходил по тем же улицам, что и он. Я наивно полагал, что прошлое — это прошлое… Зверюга, фашист.
— Ну, ты не волнуйся, Чернов, — говорит Помилуйко и осторожно берет у меня протоколы.
— А Шабашников? — спрашиваю я. Помилуйко чешет затылок. Нет, его ничем не проймешь.
— Маленький город, — говорю я. Помилуйко пожимает плечами. Он не понимает, что я имею в виду. Маленький город… Слухи, которые распространяются с быстротой правительственных депеш и принимают характер достоверности. Шабашников — «убийца, вор». Он уже был отмечен клеймом, и, как ему казалось, на всю жизнь. Он хотел избавиться от позора и решил, что это можно сделать, лишь смирившись с ним.
— Ну, дело прошлое. Выздоравливай, я тут постараюсь все довести до кондиции. Приедут ведь оттуда.
Большой палец снова описывает дугу, указывая куда — то в потолок и за плечо. Помилуйко уходит, попрощавшись поднятой ладонью, как триумфатор. И тут из — за двери, оглядываясь, появляется Комаровский. Очевидно, старые навыки сыскной работы позволили ему незаметно прошмыгнуть мимо грозного майора.
— Здравствуйте, Паша. Я принес записку от Николая Семеновича.
«Паша! Врачи разрешили общаться с миром, но говорят, что с работой придется пока проститься. Я все узнал от Комаровского. Ты поступил, как мальчишка. Но, знаешь, я рад за тебя. Спокойствие и мудрость — все, что мы называем опытом, — придут, а сердце дается человеку от рождения, и тут я неисправимый идеалист…»
— И еще звонила Самарина.
Лицо у Комаровского добродушно — хитрое, понимающее. «Дядя Степа», он тут в Колодине все секреты знает. Недаром первая его служба началась на посту на базаре.
— Спрашивала, можно ей прийти сегодня. Я сказал — конечно.




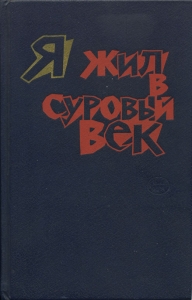



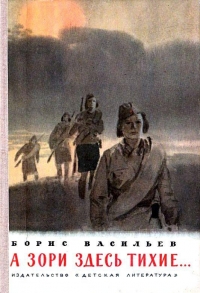

Комментарии к книге «Обратной дороги нет», Виктор Васильевич Смирнов
Всего 0 комментариев