Сергей Михеенков Высота смертников
«…и кажется, что мы, над обыденным поднятые, живем в надземности, в вечности. И поставлены как бы перед лицом Судьбы».
Ив. С. Шмелев. Из писем периода Второй мировой войны.Глава первая
Немец-конвоир был небольшого роста, на голову ниже Воронцова. И возможно, именно рост Воронцова его больше всего и раздражал. Он давно, от самой станции, шел за ним, угрюмо поглядывал Воронцову в спину, покачивал карабином с примкнутым штыком, будто примеривался.
Сразу за станцией двое пленных из команды, пригнанной на днях откуда-то с северного участка фронта, присели на обочине. Позже из разговоров шедших рядом Воронцов узнал, что это были вяземские. Наголодавшиеся в окружении, а потом в лесах, они ели что попало. Ночью, когда колонну загнали в какой-то пустой скотный двор, они нашли несколько старых свеклиц и тут же принялись их грызть. Утром у них открылся понос. Конвоир подошел к присевшим на обочине, сказал коротко:
— Steht!
Подождал с полминуты, чтобы стало очевидным, что команда не выполнена, и, примерившись, как примериваются ножом, когда колют поросенка, всадил штык в спину одного из пленных. Тот раскинул руки и завалился на бок. Немец брезгливо оскалился, выдернул штык и тщательно вытер его о шинель убитого. Заколотый штыком пленный лежал ничком, в последнем судорожном движении подобрав к животу колени, как усталый путник, так и не одолевший остаток своего пути. Пыльная, с прожогами, шинель коробом поднялась на тощей сгорбленной спине. И конвоир все время, пока счищал со штыка бурую слизь, совсем непохожую на кровь, что-то зло бормотал, не поднимая глаз ни на пленных, ни на своих товарищей. Колонна медленно и молча проходила мимо.
Пленные косились на убитого, на спущенные его штаны и раскинутые в пыли черные руки. Никто не осмеливался поднять глаза выше и посмотреть на немца, который все еще возился со своим испачканным штыком. Воронцов посмотрел на лежавшего в дорожной пыли, немного замедлил шаг, так что на него сзади наперли и толкнули в спину, что-то бормоча со злой надсадой. Но он успел мельком взглянуть на немца. Взгляды их встретились. Воронцов глазам своим не поверил: во взгляде конвоира, только что убившего беспомощного человека, он увидел не злобу, а растерянность. Неужели это тоже был человек, который теперь нуждался в объяснении совершенного им поступка, но не находил его.
И вот теперь он все время шел неподалеку. Воронцов чувствовал, как немец смотрит ему в спину. То ли его раздражал высокий рост Воронцова, явно выделявшегося в колонне, то ли шинель, которая выглядела не такой потрепанной, как у большинства, и то, что петлицы на ней были тоже не такими, как у остальных. Воронцов выбрал момент и снова взглянул на конвоира: теперь в его глазах он не увидел той растерянности, которая владела им полчаса назад. Лицо немца выглядело каменным, непроницаемым, а глаза не выражали ничего. Такие лица Воронцов не раз видел перед боем, внезапно оглянувшись на кого-нибудь из своих бойцов, кто в ту минуту находился рядом. Сейчас подойдет и всадит между лопаток свой штык. И никто ему не помешает. Просто ждет подходящего момента. Нельзя, нельзя давать ему ни малейшего повода. Воронцов попытался зайти в середину колонны, но туда его не пустили. Грубо вытолкнули из колонны:
— Куда прешь, лейтенант!
— Ты тут, парень, не командуй. Откомандовался.
— Да тихо вы! Он не лейтенант.
— А кто же? Посмотрите на его нашивки!
— Курсант. С сержантскими «секелями». Не видишь?
— А, курсант… Да один хрен!
На что они рассчитывали, говоря эти слова и толкая его, как чужого, на обочину, к конвоиру? Да ни на что. Просто это — плен. Тут каждый за себя… За себя… Шедших в колонне уже охватил тот психоз, та нервная дрожь, когда каждому кажется, что уж он-то, он, может, единственный, выживет, что, скорее всего, на обочине оставят идущего рядом, не его, другого, что минуты обреченного уже сочтены, и ему уже не поможешь, а значит, и незачем ему протягивать руку, только себе хуже сделаешь… И вот тут-то, среди гудящих шагов и осторожного полушепота идущих слева, Ворондов и услышал фамилию заколотого конвоиром и то, что он был из партии, пригнанной из-под Вязьмы. Онемевший и одуревший от голода, недосыпания и побоев, Воронцов вздрогнул и пришел в себя от одного только слова: «Вязьма».
Некоторое время он собирался с иными мыслями. Думал о том, что с ним произошло. Думал, что ждет впереди. Думал, как можно из этого выбраться. Думал о том, что ему нужен напарник. Но не доходяга, вроде большинства, шедших в этой колонне. Внешне-то и он плоховато выглядит. На лице еще не затянулись рубцы от побоев, болит бок, рука. Истощен недоеданием. Измучен недосыпанием. Но кости целы. Даже не сломано ни одно ребро. Хотя полицейские били на убой. Но силы еще оставались, и если бежать, то он может свободно одолеть несколько километров, не останавливаясь. Ему нужен такой же.
Когда его взяли, полицейские даже обыскивать не стали, сразу начали бить. И медная створка складня с Михаилом Архангелом, и трофейный нож остались в кармане шинели. Потом, когда передавали в лагерь, его обыскивал немец-конвоир. Немец был совсем молодой, ровесник Воронцова. Обыскивал не спеша, добросовестно, и Воронцов свой нож бросил под ноги и затоптал в песке. А створку складня конвоир нашел сразу:
— Was ist das?
— Das ist Ikone, — сказал он, стараясь правильно выговаривать слова на ненавистном языке.
Немец какое-то время с любопытством разглядывал барельеф и неожиданно вернул иконку Воронцову.
Теперь его снова, как и в лесу, когда кончились патроны и полицейские поднялись и, покрикивая, стали приближаться к нему, била дрожь. Пот по спине стекал под ремень. Брезентовый солдатский ремень, которым он подпоясывал шинель, у него забрали еще в лесу. Но брючный, старенький его курсантский ремень с размухрившимся концом оставили даже немцы.
Надо искать напарника.
Рядом плелся, охая и что-то шепча, какую-то бессмысленную фразу, пожилой пехотинец в линялой гимнастерке и разорванных штанах, через которые были видны худые бледные жилистые ноги, искусанные комарами.
— Берите все, — бормотал он, повторяя свою фразу через каждые две-три минуты. — Мне уже ничего не надо… Все забирайте… Берите все…
С этим не побежишь.
Другой, молодой артиллерист, с бледным, онемевшим лицом в грязных потеках пота, скреб по дороге рыжими опорками, время от времени поправляя штаны, подвязанные куском телефонного провода. В глазах его все же просвечивало что-то живое, осмысленное. И Воронцов вскоре шепнул ему:
— Откуда?
— Из-под Вязьмы. — И артиллерист ответил настороженным взглядом.
Этот еще живой, с этим можно разговаривать.
— Там… Вашего?
— Нашего. — И снова вскинул глаза, в них стыла неподвижная, как камень, настороженность. — А тебе что надо?
— Того же, чего и тебе. Потом потолкуем. Если интересуешься.
На привале раздавали баланду. Артиллерист выхлебал, вылизал языком свою миску и подошел к Воронцову:
— Ну? Интересуюсь.
— Скоро леса кончатся, — сказал Воронцов и посмотрел за болотину, заросшую тусклой, будто обгорелой на солнце зеленью. — Там не побежишь.
— А, вон ты что… Ну, я тебе не компания. Лично мне воевать надоело. Я в плен сам пошел. Своей волей. Понятно тебе? Так что иди ты к…
Артиллерист ушел. Осталась горечь, которая напомнила о саднящем затылке и о болях в боку. Вот тебе и поискал напарника! И хорошо еще, если не сдаст конвоиру. Он уже знал, что добровольно в плен шли две категории людей: одни — уставшие воевать, с надеждой, что завтра-послезавтра их распустят по домам; другие же шли служить новой власти. Моли бога, Воронцов, чтобы артиллерист оказался из первых, подумал он и попытался осторожно отыскать в толпе сгрудившихся сутулых потных спин и пыльных пилоток артиллериста. Но тот словно сквозь землю провалился.
Отдых оказался коротким. Их снова подняли и погнали дальше. Впереди был Рославль. Значит, гонят в Рославльский концлагерь.
Иногда их колонну обгоняли одиночные грузовики, и тогда охранники подавали команду принять правее. Они, сломав строй, сгрудившись, как бараны, теснились к самому краю. И тогда Воронцов, как зверь, старался различить в запахах пыли и давно немытых человеческих тел запах леса, запах той воли, которой не смог воспользоваться неделю назад, когда пытался перейти линию фронта. Иногда навстречу проходила немецкая техника, целые колонны. Тогда их надолго накрывало дорожной пылью и вонью выхлопных газов. Конвоиры ругались, поталкивали пленных прикладами, а то и покалывали штыками, чтобы подогнать отстающих. Воронцов оглянулся: немец, заколовший вяземского, по-прежнему маячил поблизости.
Однажды им встретилась небольшая колонна беженцев. Несколько телег, запряженных коровами. Беженцы, видимо, остановились на отдых. Они распрягали коров, чтобы дать им попастись на обочине. Усталые женщины и старухи сидели на траве. Трое ребятишек побежали к дороге и начали совать пленным печеные картофелины. Охрана их не отгоняла. Картофелины быстро кончились, и, когда подошел Воронцов, мальчики уже стояли с пустыми руками и молча смотрели на проходивших мимо. Воронцов их сразу узнал. И они узнали его. И хотели было кинуться к нему, но поостереглись: подходил конвоир, держа карабин наперевес. Глаза мальчиков сияли такой радостью, что, казалось, они вот-вот бросятся к Воронцову. Но старший из братьев, стоя впереди, что-то сказал им, и те притихли. А Воронцову махнул рукой и окликнул негромко, чтобы не услышал конвоир:
— Дядя Саша! — И растерянно оглянулся на опушку, где распрягали коров взрослые.
Оттуда, от леса, уже бежала к колонне женщина с ребенком на руках. Она бежала, оступаясь в промоины и колеи, и время от времени хваталась одной рукой за бредущее мимо нее угрюмое серое пространство, из которого на нее смотрели измученные человеческие глаза, среди которых она вдруг узнала те, которые ей снились по ночам все эти дни и недели и за которыми она отправилась в этот нелегкий путь. Но утекающее вместе с пылью пространство, тот молчаливый поток, куда был обращен ее взгляд и жест, нельзя было ни остановить, ни даже хотя бы прикоснуться к нему. Он принадлежал охране. И все-таки она бежала к нему и хватала его, потому что знала: случай, который ей много раз рисовался в воображении несбыточной сказкой, произошел, что он еще длится и неизвестно чем кончится, что, если не вмешаться, если пустить все на волю судьбы и покориться ей, то все и закончится ничем, а значит, плохо. Она вдруг почувствовала свою силу и власть. Нет, не все может забрать у человека война. Не все. И она сейчас встанет поперек обстоятельств, которые огромным железным колесом катились по дороге, не разбирая ничего, ни рытвин, ни ухабов, и, конечно же, могли раздавить любого, кто окажется на пути. Монах Нил однажды сказал ей, что Саша сам найдет ее и окликнет. Он и окликнул. Детей. Бог детей к дороге послал. Чтобы Саша увидел их.
— Саша! Сашенька! Родненький же ты мой! — пронзая пыль и ропот людей, осаживая окрики охраны, внезапно пронесся над колонной отчаянный, как последний зов, женский крик, который, может, уже в это мгновение спас не одну человеческую жизнь. Кому-то вернул силу, а кому-то достоинство.
Нет, женского крика колонна не слышала никогда. Она слышала ругань и брань конвоиров. Стоны и стенания пленных. Но женского крика, зовущего родного человека по имени… И она остановилась. Серый поток, громыхавший стертыми подошвами солдатских ботинок и сапог, иссяк, замер. Все смотрели на бегущую женщину с ребенком на руках. И всем было страшно оттого, что бежит она слишком отчаянно и вот-вот может упасть и повредить ребенка. И каждому из них в те мгновения представлялось, что та незнакомая женщина бежит к нему, что никакая она ни незнакомая, а самая родная и близкая — жена, сестра, невеста, дочь. Но только к одному она бежала. К кому же? К кому она бежит? Кого из них окликнула судьба?
— Зина! Зиночка! — откликнулся замерший серый поток.
К Воронцову подошел конвоир, тот самый, коренастый, шедший все время позади, неподалеку. Неужели это и есть та ошибка, которую все же сделал Воронцов, дав немцу повод расквитаться с ним. За тот взгляд на дороге. За то, что он, пленный, не человек, а дорожная пыль, увидел растерянность в глазах человека, ту мимолетную человеческую растерянность, которая свидетельствовала о том, что он только что совершил убийство пленного, поступок, считавшийся позором для любого солдата любой армии. И что же, спрашивал он себя, все произойдет здесь? Сейчас? На глазах у тех, кого он так любил и любит и по ком так сильно скучал? Зачем это нужно судьбе? Зачем? Немец приближался, не сводя с Воронцова глаз. Что ж, пускай все произойдет именно так. Хотя бы будет кому похоронить тело. А где Пелагея? Она, должно быть, тоже здесь. Он сделал шаг вперед, готовый принять удар штыка. Увидеть бы ее, Пелагею. Нет, уже не успею. Но хотя бы голос ее услышать. В последнее мгновение. Где ты, Пелагея? Почему не окликнешь меня? Так и попрощаемся. Хотя бы так. Но немец закинул карабин за спину и спросил Воронцова, одновременно останавливая жестом руки бег Зинаиды:
— Wer ist diese Frau?
Он спрашивает, кто она ему. Кто она ему? Кто? Как кто? Она ему самый близкий человек. Сестра. Жена. Да, да, жена. Роднее жены и сестры нет никого на свете. Разве что мать. Но мать бывает только одна.
— Wer ist diese Frau? — повторил вопрос немец.
— Es ist meine Frau, Herr Soldatt. Meine liebe Frau. — И он посмотрел конвоиру в глаза.
Немец улыбался. Это была улыбка усталого человека, тоже измученного обстоятельствами. Никакого подвоха ни в его улыбке, ни в глазах не таилось. Перед Воронцовым стоял человек. Не конвоир, несколько часов назад заколовший штыком беспомощного больного человека, пленного, не жестокая машина для убиения себе подобных и истребления в живых последних человеческих черт, а — человек.
— О! — покачал тот головой и, махнув рукой колонне, чтобы та продолжала свой путь. Немец ухватил Воронцова за рукав и повел к начальнику конвоя.
Зинаида в это время подбежала, остановилась и, глядя то на Воронцова, то на конвоиров, медленно опустилась на колени и положила сверток с ребенком на дорогу, в пыль, к ногам того, кого вдруг узнало ее сердце среди сотен других, похожих друг на друга, но чужих.
Конвоир что-то говорил своему начальнику. Наконец тот поднял руку, закинул автомат за спину, сказал:
— Gut.
Немец присел на корточки и пальцем подозвал к себе младшего из Пелагеиных сыновей, Колюшку. Тот подошел, оглянулся на Зинаиду.
— Не бойся, мальчик, — сказал немец по-русски. — Скажи, кто это? — и указал пальцем на Воронцова.
— Это наш папка. — И мальчик припал к ноге Воронцова, крепко обхватил своими цепкими ручонками.
— Gut, — устало сказал немец и что-то сказал конвоиру тем же усталым голосом.
Тот кивнул и побежал в голову колонны. Он даже не оглянулся.
Колонна двигалась дальше, уходя на запад и унося за собой стоны, вздохи, взгляды и запахи обреченных на страдания людей. Вместе с нею ушли и охранники. А на обочине дороги, среди оседающей пыли, остались стоять те, кому выпала иная судьба.
— Сашенька, — наконец разлепила онемевшие губы Зинаида; она поняла, что сейчас должна ему сказать о самом главном, а об остальном — потом: — Саша, это твоя дочь. А Пелагеи больше нет.
Он тоже встал на колени, наклонился к свертку, который вдруг начал шевелиться и кряхтеть, поднял его и прижал к груди. Он сразу понял все, и руки его задрожали, потому что этот живой сверток и был Пелагеей, и еще кем-то, таким же родным и бесконечно дорогим.
Прокопий, Федя и Колюшка обступили их, обняли Воронцова и начали поднимать с земли, видимо, стараясь поскорее увести с того места, где минуту назад могло произойти самое худшее. Они уже знали: дорога — место опасное.
— Вставайте, дядя Саша. Пойдемте, тетя Зина. Картошка остынет, — сказал старший, Прокопий, помогая Воронцову держать ребенка.
— Дядя Саша, как хорошо, что ты опять с нами! — смеялся Федя, все еще не веря в случившееся и трогая за руку то Воронцова, то Зинаиду.
А младший, Колюшка, смеялся.
— Пойдемте, пойдемте. Туда, к народу.
— Кто эти люди, Зиночка? — спросил Воронцов, подняв наконец голову.
— Мы к ним по дороге пристали. Из-под Рославля. Беженцы. Домой возвращаются.
Зина, ребята, дитя, свобода, картошка… Господи, как это может быть?..
Заночевали они в лесу. Дальше с обозом не пошли. Возвращаться в Прудки было нельзя. Прудки снова оказались на оккупированной территории, и там, по словам Зинаиды, размещалась немецкая артиллерийская часть. Оставалось одно — пробираться к затерянному в лесах озеру Бездон, на хутор Сидоряты.
Зинаида подоила корову и сразу же поделила молоко. Теперь едоков стало больше. Самую большую кружку она налила Воронцову:
— На, Сашенька, пей. Наголодался небось.
Он смотрел в ее радостные глаза, пытался прочитать, что в них, но ничего, кроме радости и счастья, не мог разглядеть. Его и самого приступами охватывала радость. Но как можно было радоваться после известия о смерти той, с которой были связаны, может, самые лучшие дни его жизни?
— Я знала, что тебя найду. — Она так и светилась вся, какими-то едва уловимыми движениями и интонациями голоса напоминая Пелагею. — И ребята все, в один голос: пойдемте, тетя Зина, дядю Сашу искать, да и все тут. Дядя Ваня и тетка Васса отговаривали, мол, пропадешь и детей погубишь. А Нил сказал: иди.
— Нил? Кто такой Нил?
— У нас на озере живет. Монах. И чем только кормится, непонятно. У нас ничего никогда не брал. Живет и живет. Молится, ягоды собирает, травы, какие-то коренья. Найдет, выкопает, помоет в озере, высушит. Тем и живет. И все молится, молится. И у воды, и у могил, и в лодке, и возле дерева. Я не раз видела.
Она рассказала ему о монахе, о его предсказании. Но не сказала всего.
До озера было километров тридцать. До Подлесной, родной деревни Воронцова, километров восемнадцать-двадцать. Но хутор находился в одной стороне, а родина Воронцова в другой. На хуторе — тихо, нет ни немцев, ни полицаев. В Подлесной — неизвестно кто и что. А в Прудках снова немцы.
Воронцов сделал несколько глотков и передал кружку Зинаиде.
— Что ты? Невкусно?
— Пей сперва ты. Я — потом.
— Да что ты, что ты! Думаешь, мне не достанется? Пей-пей. Я и еще волью. Поправляйся.
Вечером, когда нашли в лесу полянку для ночлега и развели костер от комарья, Зинаида вскипятила в котелке воды, откуда-то достала чистые тряпки, кусок марли и принялась промывать раны Воронцова. Он не чувствовал боли. Он чувствовал прикосновения бережных, осторожных пальцев Зинаиды и вскоре, то ли от усталости, то ли оттого, что все осталось позади, то ли от этих заботливых прикосновений, задремал. Голова его поклонилась, поплыла в сторону, как тяжелая коряга в воде, и вскоре легла на колени Зинаиды. Так она и просидела с ним до полночи, пока не зашевелился и не закряхтел в пеленках на телеге ребенок. Зинаида переложила голову Воронцова на фуфайку и подошла к телеге. Сунула руку под пеленку — пеленка оказалась сырой. Она перепеленала девочку в сухое, покормила молоком из рожка. И та, успокоившись, снова уснула. Прокопий, Федя и Колюшка спали тут же, на телеге, тесно прижавшись друг к другу.
Она подошла к костру, бросила на угли охапку сухих ольховых веток. Те сразу занялись неторопливым пламенем, распространяя по лесу сладкий аромат растопленной смолы. Вечером они остановились в сосняке, где всегда бывает меньше комаров. Пока плутали в поисках дороги и места для ночлега, Воронцов нес Улиту на руках. Зинаида вела корову и время от времени наблюдала за ним: девочка спала, а он все равно откидывал с ее личика косяк пеленки и смотрел на нее, на то, как она спит и иногда чмокает во сне губами, кривит их, складывая то в плач, то в улыбку. Она сказала ему, как будто напоминая о самом главном:
— Это твоя дочь. Твоя и Пелагеи. Улита.
После этих слов он взял девочку на руки и долго не отдавал. Пока та не намочила пеленку. И все время молчал. Зинаида ни о чем его не расспрашивала. Им многое хотелось сказать друг другу, о многом расспросить. Но ни он, ни она не торопили друг друга, зная, что все еще спросится, все раескажется. Все у них еще впереди.
Почему все в жизни происходит так, а не иначе? Как все это пережить? Почему рядом с добром и милосердием, которые, как ему казалось, гораздо ближе к человеческой природе, им же, человеком, творится такая жестокость? И почему этой жестокости, этому взаимному истреблению людей никак не наступит конец? Ведь должны же и другие устать от бойни? Просто устать. Ведь устает же человеческий организм от тяжелой работы. От пахоты, от косьбы, от топора. Можно косить день, ночь и даже еще день и ночь, а потом настанет минута, и самому захочется упасть подкошенной усталостью травиной и уснуть надолго, позабыв обо всем: и о том, что скошенное надо сушить, и собирать в боровки, и потом куда-то везти и убирать под навес, от дождя и тлена… Усталость. Она должна наступить. Как наступает зима. И сковать неподвижными льдами воду, какой бы ошалелой ни была река.
Но два фронта, две противоборствующие армии бьются уже больше года, и — никакой усталости. Неужели только он, курсант подольского пехотно-пулеметного училища Александр Воронцов, так устал от войны? Смертельно устал. И как избавиться от этой усталости? Чем ее извести? Тишиной? Сном? Крестьянской работой на хуторе? Усталость тела — это одно. Устав от косьбы или пахоты, поспишь ночь, и уже встаешь полон сил и желания идти и работать дальше. Только мышцы немного побаливают. А на душе радостно, что много уже сделано, что работы осталось всего-то на зорю-другую. Вся эта работа — впрок. Но как проспаться от той усталости, которая теперь владела им? И не только телом. Не только мышцы и кости болели от нее. Не только они.
Вначале он действительно спал сутками, так что, просыпаясь, путал ночь с днем, а утро с вечером. Но потом совестно стало подходить к столу, и он взялся с Иваном Степанычем поправлять загон для скота. Потом перекрыли крышу на хлевах. Потом обновили пральню. А женщины тем временем занимались огородами, скотом, детьми. Всем работы на хуторе хватало с утра и до того часа, когда солнце, тоже утомленное, заваливалось за дальние сосны на другой стороне озера, где иногда появлялась и исчезала сгорбленная фигурка человека. То был монах Нил. Воронцов уже привык к нему. Всякий раз, приходя на кладбище, он встречал Нила то по дороге туда, то на обратном пути, то на самом кладбище, или на полянке, которая отделяла кладбище от озера.
— А я тебя признал. — Нил махнул в его сторону тяжелым пальцем. — Евсеев внук. Что ж ты так постарел?
После того случая Воронцов сбрил бороду. И теперь, когда брился, трогал морщины, действительно появившиеся вокруг рта и на лбу. Вот почему немцы поверили, что Зина — его жена, а Пелагеины сыновья — их дети. Там, на дороге, он выглядел на все тридцать. Шрамы на скулах и подбородке и рубец на рассеченной губе постепенно затянулись, подсохли, опухоль спала. Зинаида внимательно следила за его ранами, мазала какими-то мазями, которые ей давала Анна Витальевна. Вскоре отвалились и корки, открыв розоватую нежную наготу шрамов. Вначале шрамы чесались, но спустя некоторое время Воронцов о них забыл.
Однажды ранним утром, выйдя на двор, Воронцов увидел людей, шедших краем озера. Они вышли к воде всего на минуту, видимо, наполнить водой фляжки, и тут же исчезли в зарослях черемушника и дикой смородины. Четверо. С автоматами. Никому он ничего не сказал. Но после завтрака, когда они с Иваном Степанычем запрягали коня, чтобы вывезти из лесу заготовленные для ремонта полов в хлевах сосновые плахи, спросил старика:
— На хуторе оружие какое-нибудь, кроме ружья, есть?
— А зачем тебе оружие? — беспокойно посмотрел на него Иван Степаныч, видимо, о чем-то догадываясь. — Мы тут не воюем. Ни к чему нам это.
Воронцов больше на эту тему не заговаривал. Но старик продолжал поглядывать на него настороженным глазом и наконец спросил:
— Видел кого?
— Видел. На рассвете сегодня. Четверых с автоматами. Пятый, видимо, в кустах сидел, наблюдал. Один из них фляжки водой наполнял. Может, две, а может, три. На всю братву. Но то, что не одну, — точно.
— Германцы? Или Красная Армия?
— Камуфляжи немецкие. Автоматы тоже.
— Тогда, Сашок, вот что. — Иван Степаныч перекинул на полок вожжи и кивнул на сенной сарай. — Автомат лежит вверху, справа от лестницы, на жердях. К нему два запасных рожка. Пелагеин автомат. Она с ним пришла. Оставайся на хуторе. Покарауль. Дети пускай дома посидят. В лес их не отпускайте. Я один поеду. Но стрельбу тут не начинай. Если что, уводи в лес. К вырубкам. А там я вас встрену. Там сообразим, как дальше быть. Но ты поосторожнее, может, это мужик к Анюше пришел. Проведать ее. Пеши были? Или на лошадях?
— Лошадей не видел.
— Ну, может, он и есть.
Воронцов поднялся по лестнице на верх сенника, пощупал на жердях. Под клоком сена действительно лежал немецкий автомат. Он нащупал его холодную ребристую рукоятку и потянул на себя. Автомат был разряжен. Там же, на жердях под сеном, он нашел брезентовый подсумок с двумя полными и одним полупустым рожком.
То, что это был автомат Пелагеи и что она последней держала его в руках, старательно укладывала в подсумок запасные магазины, застегивала клапаны, — эта мысль мгновенной дрожью охватила Воронцова. Он даже понюхал брезент, словно стараясь уловить запах ее рук. Но плотная материя пахла металлом и сеном. Ничего от Пелагеи здесь не осталось. Разве что аккуратно застегнутые клапаны подсумка.
Глава вторая
Младший лейтенант Нелюбин открыл глаза и увидел, что по груди его, по разодранной гимнастерке, ползет божья коровка. Старательно семенит легкими, хрупкими лапками, спеша куда-то по своим делам, осторожно перебирается через махры разорванных осколками ниток, через комочки земли и обрывки травы. Глянцевито поблескивает на солнце ее оранжевая в черных точках спинка. И вся она удивительно опрятная, нездешняя, как пулька от новенького автоматного патрона, показалась ему видением. Куда ж это она, ектыть, торопится, подумал младший лейтенант Нелюбин. Но тут же сознание вернуло ему то, что произошло несколько минут назад. Он приподнял голову. Снаряд разорвался левее, на взгорочке. Еще дымились лохматые комья земли вокруг небольшой продолговатой воронки. И прямо возле нее виднелись чьи-то ботинки и автомат с оборванным ремнем и без диска. Нелюбин узнал этот автомат. Узнал и ботинки, ладно, со знанием дела подбитые медными подковками, выточенными из затыльника снарядной гильзы. Сержант Григорьев, командир первого отделения. А где взвод? Взвод, видимо, отошел. Откатился назад. Как и вчера, трижды. Каждый раз с большими потерями. С такими же вот ботинками, раскиданными взрывами возле свежих воронок… С божьими коровками…
Ротный гнал их на высотку. Проклятая, обмотанная колючей проволокой в несколько рядов, напичканная пулеметами и минометами, она дыбилась впереди двумя пологими холмами, за которыми виднелся еще один, более высокий, почти обрывистый, откуда и вели огонь пулеметы. Там немцы обжились основательно, отрыв блиндажи, отсечные линии траншей и окопов в глубине. Туда они отходили в случае артналетов, а потом так же быстро занимали передовую линию и встречали атакующих огнем. Там они имели не только минометы, но и «скрипачи», и полевые гаубицы, и ПТО. И наши танки теперь сюда вряд ли сунутся. Три дня назад сунулись. Полезли, ектыть, в лоб, напролом, без разведки. Как всегда. И сразу же попали под огонь противотанковой батареи. Правда, польза от них таки все же была: порвали проволочные заграждения, растащили столбы и колья по всей лощине и по взгорью. Там, на подъеме, их и начали бить болванками и фугасами. Один, легкий, выгоревший, со сбитой башней и закопченными бортами, до сих пор стоял в лощинке перед траншеей взвода. Два других тракторами ночью успели отбуксировать в тыл. Подвели тросы и утянули. Это была единственная атака роты с танковым усилением. Ротный материл танкистов и артиллеристов, которые не подавили огневые точки, хотя за несколько часов до начала атаки командиры стрелковых взводов отметили на карте все пулеметы, а также направления, откуда бьют орудия и минометы. То ли боги войны пожалели снарядов, то ли снарядов у них не было вовсе, но артподготовка оказалась жидкой. И танки немцы пожгли в первые же минуты боя.
А сегодня подняли без танков.
Все эти дни младшему лейтенанту Нелюбину везло. Несколько раз мины рвались совсем близко. Однажды, когда почти добежал до первой траншеи, под ноги шлепнулась штоковая граната, кувыркнулась, как поддетый битой «чижик», откатилась к связному, и тот отбросил ее прочь. Связного спустя несколько минут убило осколком мины. Нелюбин даже поблагодарить его не успел. А ведь тот жизнь ему спас. Свою тоже, но, как оказалось, ненадолго. Неделю назад их маршевая рота сменила здесь, под Зайцевой Горой, стрелковый батальон, в котором к тому времени едва ли насчитывался взвод. А теперь и их пора было менять, потому что в атаку поднимать стало некого. И батальон, и их маршевая, все они лежали теперь на взгорке. Трупы на жаре за несколько часов раздувало, и в траншее нечем было дышать. Трупный запах, казалось, проник всюду, даже в землю, пропитав ее через невидимые поры на несколько метров в глубину. Однажды, одурев от этого смрада, Нелюбин отрыл в своем окопе нишу и сунул туда, в свежую глину, голову, чтобы вдохнуть и подержать в себе ту земляную свежесть. Но и там воняло трупом. Проклятая высота. Она вся пропахла мертвечиной. Какая ж ты, ектыть, Зайцева Гора? Зайцы живут в чистом месте. А тут… Вот как война загадила пространство, с отчаянием думал он.
И вот, выходит, что отбегался по склону Зайцевой Горы и он, командир стрелкового взвода младший лейтенант Нелюбин. Ну и слава тебе Господи, подумал он с отчаянием, еще не зная, чем все это кончится. Хоть в госпитале полежу. В тишине. В покое. Куда ж меня? Он приподнял голову. В висках гудело, как во время танковой атаки. Пошевелил рукой, ногой. Пока одними пальцами. Но вроде все цело. Не только пальцы, а и руки слушаются. Туда-сюда ими поворочал, пошаркал по сухой, пыльной земле, изрезанной танковыми гусеницами и осколками снарядов. Живой. А подняться нету сил. Значит, какая-то важная жила порвана, догадался он, только пока не понятно, какая именно.
Божья коровка забралась на медаль, переползла на колодку, остановилась и попробовала взлететь. Открыла роговицы подкрылков, вздрогнула, затрепетала коричневыми, прозрачными, как слюда, крылышками. Но не улетела. Или что-то у нее не вышло. Или передумала. А может, тоже ранена, повредила крыло или что-нибудь важное в своем организме. Много ли ей надо. Вот и ползает теперь по мне, как по мертвому камню, подумал Нелюбин и пожалел Божью тварь: эх ты, козявка… И тут только обратил внимание на то, что орденская лента на колодке тоже распорота и держится на честном слове, может, всего на одной нитке, до которой осколок не достал. И тут непорядок, заволновался Нелюбин: так я вовсе награду потеряю. Может, и булавку повредило. Надо было перед атакой в карман все сложить. Завернуть в носовой платок и прибрать подальше. Ведь всегда так делал. Медаль, она — что? А ничего. Железка, хоть и серебряная, так говорят. Жизнь за нее у смерти не выкупишь. В голодную минуту заместо сухаря даже не съешь. И вряд ли что за нее выменяешь. Но другого солдату за его работу, терпение и муки по уставу не положено. Значит, медаль надо беречь. Как оружие и иной шанцевый инструмент, который в солдатском деле просто необходим. И тут же спохватился, глядя, как божья коровка карабкается по махрам распоротой и, конечно же, испорченной орденской ленты, стал корить себя вот какими раздумьями: эх, Кондрат, Кондрат, всю жизнь ты о материальном пекся, имущество пуще живого берег, за утерянную обойму патронов, за фляжку или котелок солдата со свету готов был сжить. Оно так. И — правильно. Тем же уставом — бережь надежней прибытка — и колхоз держал. Но человек-то не железка, и ценность его жизни никак невозможно ставить в один ряд с ценностью вещи, даже самой что ни есть нужной и дорогой. Оказывается-то, Кондратушка, не в хомутах и закромах вся-то человеческая суть, не в них, какой бы нужностью ни награждал их Господь и как бы ни завивались вокруг них обстоятельства жизни. Не в трудоднях суть живого человека. Даже такого черноземельного крестьянина, каким был он, Кондратий Герасимович Нелюбин. А в чем же тогда? Вот лежит он, бывший довоенный председатель колхоза, отец троих детей, а теперь командир стрелкового взвода, которому совсем недавно присвоили первое офицерское звание младший лейтенант, валяется посреди исковерканной земли, сам похожий на кусок дерна и на всю окрестную изуродованную и ни на что теперь не гожую землю. Лежит с кубарями в петлицах, которые, может, уже и ни к чему ему в этой жизни. Из всех, кого не миновали здесь пули и осколки, видать, только один живой. Еще дышит. Еще не потерял способность соображать. Еще может, если захочет, заплакать о себе. Остальные… Где они, остальные? Должно быть, ушли. То ли вперед, то ли назад, за сухой ручей. И никому он уже не нужен. Разве только одной войне. Да и той, должно быть, уже в тягость его затянувшаяся жизнь. Придут ли за ним живые? И кто придет, если это и случится? Свои? Немцы? Свои, видать, думают, что убит. Так же, как и сержант Григорьев. Эх, жалко Григорьева. Хороший был командир отделения. Надежный сержант во взводе — это, считай, три бойца плюсом. А что тогда сейчас самое важное? Да то, что ты, Кондрат, еще живой. Может, только один и остался здесь, живой, на изувеченной, набрякшей кровью, как талой водой, и нашпигованной железом земле. А если живой, то ты еще командир взвода. Ведь от должности тебя никто не освобождал. Не было такого приказа. И звания никто не лишал.
Божья коровка еще потопталась по махрам распоротой орденской ленточки, раскрыла роговицы, проворно выбросила крылышки и взлетела. И понесло ее ветром куда-то в сторону сухого ручья, к лощине, за которой они, может, час-другой назад, а может, всего-то несколько минут начинали атаку. И опять он остался один со своими мыслями и горькими сомнениями.
Немцы-то в любом случае придут, размышлял он. Чтобы обыскать. Забрать из карманов документы, письма. Нелюбин вспомнил, как не раз в отбитых траншеях находили своих товарищей, захваченных немцами накануне во время боя или ночью уведенных прямо из окопов: лежали с вывернутыми карманами, а рядом вытряхнутые «сидора». И зачем им мои письма? Был бы я, размышлял младший лейтенант Нелюбин, генерал или хотя бы командир батальона. Какой им интерес в том, что именно, какие дорогие для меня слова я своей Настасье Никитичне пропишу? Тем более что и писать-то ему еще некуда. Нелюбичи и все деревни на Острике оккупированы. До Настасьи Никитичны и Анюты еще дойти надо. Траншею до них прокопать. А уж потом письма им писать и ответные дорогие треугольнички хранить в своих карманах, чтобы потом, когда случится тихая минутка, молча, укромно их перечитывать и, может, даже целовать. А что, когда рядом бабы нет, можно и письмо ее поцеловать. Ведь это ж ее письмо, ее рученькой написанное и ему с надеждой посланное… Но пока нет у него никаких писем. Да разве ж они, немцы, знают про это? Все равно приползут. И он вспомнил, как смотрели на него немецкие автоматчики на реке Шане, когда он лежал, смертельно раненный, и умирал на галечной косе у самой воды. Что было в их глазах? А ничего. Не разглядел он в тех глазах ни жалости, ни злобы.
Он подтянул правую руку. Рука послушалась. Хотя тут же это его движение отдалось во всем теле протяжной ноющей болью. Значит, тело живое, если болит. Невелико утешение, но и оно в радость. Он вспомнил, что на ремне висела граната Ф-1. И теперь надо было заклинать судьбу, чтобы граната оказалась на месте. А то ведь возьмут голыми руками. Как Мартына на гулянье. И нечем от них будет оборониться. Сантиметр за сантиметром он подтягивал руку к нужному месту, к ремню. Там, возле пряжки, должна висеть на скобе граната. Так «феньки» носить было опасно: перетрется проволочка чеки или разогнется ненароком усик, и упадет граната под ноги, сработает взрыватель. Молодым бойцам из пополнения Нелюбин приказывал носить гранаты в карманах или гранатных сумках. Сам же в бой ходил так, с «фенькой» на ремне. И, глядя на него, вешали на пояса ручные гранаты и другие «старики».
Рука доползла-таки до ремня. Уморилась, вспотела, как задохлая лошаденка в борозде, но таки дотянулась до пряжки и вскоре нащупала ребристый бок гранаты, гладкий карандашик взрывателя, скобу чеки и кольцо. Все на месте. Слава богу. Хоть что-то цело. Теперь он не один. Граната была теплой, как свежее яичко в гнезде. Видать, солнце нагрело. Вот и хорошо. Хоть одно ладно, с удовлетворением подумал он и откинул голову, чтобы отдышаться и дать отдохнуть руке. Потому что внезапная усталость стала томить его тело, болезненной вяжущей истомой проникая всюду, во все части и клеточки его покуда еще живого тела. Он испугался, что и правая рука окажется во власти этой внезапной немощи, и сжал пальцы в кулак, тут же снова разжал и опять сжал. Рука слушалась. Хотя снова вспотела. Снова ей досталась тяжелая работа. Ничего, ничего, милая, уговаривал ее Нелюбин, потрудись, хоть ты у меня послужи, пост не бросай, а то пропадем.
Как бы ни шумело в ушах, как бы ни рвало перепонки воспоминанием взрыва, а Нелюбин все же уловил посторонние звуки, которые возникли вдруг где-то там, возле снарядной воронки, где лежал убитый отделенный. Звуки издавал человек. Кто-то полз к нему. Недолго ж я их ждал, подумал Нелюбин и почувствовал, как легкость и неведомо откуда взявшаяся сила переполняют его тело. Так всегда бывало перед боем. И поэтому он не испугался. Он знал, что рано или поздно немцы придут. Он положил руку с гранатой на грудь, зубами разогнул усики и ухватился за кольцо. В какое-то короткое мгновение вспышка памяти вернула ему издалека прошлого лица двух дорогих ему женщин, сыновей, дочери, потом еще одной женщины, генерала, сидевшего под сосной с пистолетом в руках… Генерал был еще жив, еще смотрел на свой пистолет, еще не поднес дуло к виску… Нет, ектыть, не пойду к ним в плен и я, подумал Нелюбин, глядя на своего генерала: генерал поднял пистолет, вот сейчас раздастся выстрел, и Нелюбин, дождавшись его, как приказа действовать, рванет зубами и свое кольцо…
— Взводный! Товарищ младший лейтенант! — услышал он знакомый голос.
Не может быть, подумал он, узнавая голос командира первого отделения. А может, все уже произошло? И генерал выстрелил себе в висок, и он, младший лейтенант Нелюбин, выдернул свою чеку? И сержант Григорьев окликает его душу на небесах? Вот молодец отделенный, хороший командир, и тут меня не бросает… На хороших товарищей Нелюбину на войне всегда везло. Но всех их либо убивало, либо разносило по госпиталям, либо он их терял рано или поздно на кривых и обрывистых дорогах войны. Зота, Васяку, Иванка, курсанта Воронцова, других. Может, кого тут встрену, мелькнула нечаянная радость. Вот Григорьев уже нашелся. И тут я не один. И тут взвод соберется. Не так, выходит, что и страшно… И куда мы теперь полетим, думал он уже не спеша, уже не тормоша свою правую руку. В ад или в рай? Нет, бывает же какое-то время, до ада, до Страшного суда, когда душа вольно летает над землей, по всему родному простору. И новая радость озарила его: в Нелюбичи, на Острик, в первую очередь надо слетать, там побывать, родню навестить, Настасью Никитичну, Анюту и Варю. Хоть со стороны на них, родимых сиротинушек, глянуть. А потом куда? В ад или в рай? В рай вроде не за что, нагрешил много, накуролесил и с бабами, и так, по моральной части и по материальной тоже. Проживи тут по совести, по заповедям… То то надо ухватить, то там успеть, то родне помочь, то товарищу, то самому в игольное ушко пролезть изловчиться… Так что в рай вряд ли определят. Но и в ад его не за что. За что его на сковородке жарить? Никого он не предавал. Товарища в беде не бросал. Приказ всегда исполнял до последней возможности. Устав чтил беспрекословно. Так что не за что его в ад. И зачем-то вспомнился Гордон: вот уж этот-то и там, пожалуй, выкрутится. А Фаина Ростиславна в рай попадет — это уж Бог урядит по ее заслугам. Скольким она жизни спасла, себя не жалела, от стола не отходила, исковерканные наши тела, грязные и вшивые, от железа всякого, постороннего, очищала, нитками специальными зашивала… Это ж должно ей в зачет пойти. Обязательно должно. Вот говорили лекторы и прочие активисты-агитаторы, что ничего на небе нет, никакого Бога, ни его архангелов. А мы ж с Григорьевым летим куда-то… И никто нам не страшен, словно нас уже охраняют эти самые архангелы. Которым тоже никто не страшен.
Солнце наклонилось за полудни, длиннее стали тени берез и осин, подул прохладный ветер, утаскивая тяжелый трупный запах за сухой ручей в сторону болота. Стало легче дышать. И уже не подступали к горлу спазмы и не выворачивало горькой слюной.
Сержант Григорьев, раненный в левую руку и наскоро перевязавший себя прямо поверх гимнастерки, кое-как затащил своего взводного в лес. И как раз вовремя. Немцы пошли в контратаку. Молча. Без артподготовки и стрельбы. Числом до роты. С тремя легкими и одним средним танком. А следом катили, толкали вперед легкую пушчонку, волокли на плечах ящики со снарядами. То, что они собрались атаковать, сержант Григорьев понял еще там, возле воронки: заметил, как выползли из кустов саперы и начали срезать с кольев проволоку и растаскивать завалы. Быстро проделали проходы и — назад. Только трава заколыхалась. Вот бы пулемет, подумал он, наблюдая за ними. Но не только что пулемета, а и автомата у них со взводным не было. Автомат, искореженный взрывом, валялся возле воронки. Винтовка сержанта Григорьева оказалась пуста. Да и окажись в ней патроны — что он, с одной-то винтовкой, против изготовившейся к атаке роты? По ширине и количеству проходов можно было без труда определить, какая атака готовится. Взвода, роты или батальона. Гранату, которую он осторожно высвободил из крепких пальцев взводного, до заграждений, пожалуй, не добросить. Пока лежал без сознания, потерял много крови, а с нею и сил. А теперь еще предстояло выбираться со взводным на плечах. Так что тут не до стрельбы. И не до немцев. Все равно проволоку они уже срезали. И их одинокая граната ничего не изменит. А их, затаившихся здесь, на нейтралке, выдаст.
Он перекинул через голову ремень винтовки, поднял обмякшее тело взводного и потащил его к лесу. Назад, к сухому ручью, в сторону своей траншеи идти было опасно. Наверняка за нейтральной полосой уже наблюдали снайперы. Так что по прямой уйти они им не дадут. Но здесь их пока закрывали кусты. Лощиной, скатившись с пригорка, они вскоре незаметно добрались до осинника. Там и затаились.
Сержант зарядил винтовку новой обоймой. Замерев, они ждали своей участи. Взводный лежал на спине. С трудом он держал голову, чтобы хоть что-то видеть — там, за кустами, где открывалась поляна, где вольно гуляло жаркое заполуденное солнце и легкий ветерок поколыхивал верхушки трав, уцелевших от огня и осколков. Он толкнул Григорьева. Тот обернулся.
— Не вздумай стрелять, — промычал он. Губы спеклись, как будто по губам полчаса назад его и били до полусмерти.
Григорьев кивнул.
— Может, не заметят.
Немецкие цепи прошли по склону вниз. Пролязгали их танки. Но стрельбы не было слыхать и минуту спустя, и больше. Как будто наши отошли без боя. Или некому там уже было отходить и биться. Подождав еще немного, Нелюбин и Григорьев отползли глубже в лес. Нелюбина мутило, во рту накапливалась горькая, с рвотным привкусом слюна, и он сплевывал ее, и вслед за слюной его выворачивало.
— У тебя, похоже, контузия, — кивнул ему Григорьев. — Полежать тебе надо. Слышь, взводный?
— Тошнит…
— Это и есть контузия.
— В груди ломит. Как все одно осколок там…
Нелюбин мотнул головой. Он уже сам кое-как управлялся со своим телом. Но быстро уставал. Ноги подгибались, как будто ему под коленками подрезали жилы, но не до конца, так что еще можно было где трюшком, а где на карачках передвигаться в нужном направлении. Вот жизнь, жалел себя, как мог, Нелюбин, что ж это за распроклятая такая жизнь… Контужен — не ранен. Кровью не истеку, все же радовался он своему теперешнему состоянию. Но, с другой стороны, контузия бывает и похуже ранения. Он вспомнил курсанта Воронцова и то, как тот порою дергал головой и, замерев вдруг, болезненно морщился. Жаловался, что стекло битое в ушах звенит, покоя нет. А главное, вот что плохо: в госпиталь с контузией не направляют. Слюни не текут — оставайся в своей траншее и воюй дальше… Тем более ему, взводному, рассчитывать на отправку в госпиталь бессмысленно еще и потому, что в роте остался только один штатный командир взвода — он. Лейтенантов побило еще в первой атаке. Молодые, глупые. Понеслись со своими наганами впереди цепи, и их, сперва одного, потом другого… Как это произошло, Нелюбин видел хорошо. Вот и его, видать, похоронили уже. Если от взвода еще кто-то и остался, то наверняка отполз к траншее. Теперь сидят там, обираются, с винтовок глину счищают и кровь, перекличку делают. И то — вряд ли. Кому там теперь перекличку делать? Если только сам ротный придет, чтобы обложить уцелевших матюгами.
— Григорьев, ты автомата моего не видел?
— Что, потерял?
— Потерял, не потерял… Видишь, нету автомата.
— Ну и хрен с ним. Видать, разбило. Мина возле тебя хряпнула. Так что ты, товарищ младший лейтенант, у нас заговоренный. Вот выберемся к своим, сто грамм мне своих отдашь.
— Отдам, Григорьев. Отдам, дорогой ты мой. Только бы выбраться. Только бы не попасться им в руки.
О том, что Нелюбин был в плену, в роте знали. Некоторые даже недобро косились. За спиной он иногда слышал нехороший шепоток или, наоборот, напряженное молчание. Терпел. Куда деваться, в драку же не полезешь, свое доказывать. Да и что докажешь? Что в плен в два счета любой может попасть? От тюрьмы да от сумы, как говорят… Но младшего лейтенанта ему все же присвоили. Таки зачли курсы. Не зря учился. Хотя, признаться, на учебу как таковую пришлось мало времени. Некогда было учиться. Армия наступала, и курсантов армейских курсов младших лейтенантов бросали на разные участки фронта: то чтобы закрыть немецкий прорыв, то, когда началось общее наступление, чтобы усилить свой. Приказ на него в полк пришел в конце мая. Но долго его не объявляли, и какое-то время он командовал взводом в звании старшины. Видать, проверяли. Ротный помалкивал, хотя старшина ему как-то обмолвился: так, мол, и так, приказ, говорят, пришел, и в других ротах даже старшие сержанты сменили «секеля» на кубари, а он все носит довоенные петлицы. Но спустя несколько дней ротный сказал, что не его это воля — офицерское звание присваивать своему взводному, жди, мол, начальству виднее, проверяют… Ладно, думал он все это время, поглядывая на молоденьких лейтенантов, и в старшинах похожу. Все равно вон, и лейтенантам сапог яловых, с добротной двухрядной подошвой, не выдали, в кирзачах траншею топчут. Но раз как-то вернулся он со своим взводом из боевого охранения, а возле землянки стоит посыльной из штаба полка. «Нелюбин, тебя батя к себе зовет». Батей в полку звали только одного человека — подполковника Колчина. Доложился ротному, пошел. Шел он тогда в тыловую деревню, где стоял штаб полка, и ни о чем хорошем не думал. Неделей раньше у него во взводе случилось ЧП: ночью из траншеи исчез боец. То ли немцы утащили, то ли сам ушел. От ротного ему уже попало. Комбат тоже отматерил. А теперь вот и к командиру полка волокут… Но подполковник Колчин, грузный дядька примерно его, Нелюбина, лет, посмотрел на него весело и сказал: «Нелюбин? А почему небритый?» Пришлось сказать, что взвод в полном составе только что вернулся из боевого охранения. «Никого не потеряли, товарищ младший лейтенант?» Услышав о потерях, старшина Нелюбин чуть не присел, но когда комполка обратился «товарищ младший лейтенант», он невольно оглянулся, предполагая, что подполковник Колчин спросил о возможных потерях кого-то все же другого, а не его, старшину Нелюбина. «Вам, — вдруг повторил подполковник Колчин, — младший лейтенант Нелюбин, еще и медаль пришла. И надо бы вручить ее вам перед строем. Но завтра наступление. Не до построений». Вот так он вернулся во взвод с кубарями в петлицах и новенькой медалью «За отвагу».
А теперь колодку медали царапнуло осколком. Взвод куда-то пропал. Автомат разбило. И надо было думать о том, как поскорее отсюда выбраться к своим, за сухой ручей, чтобы еще и звания не потерять, и должности, и человеческого достоинства.
— А ты, взводный, говорят, уже был в плену? — вдруг спросил Григорьев, будто читая по его лицу.
— Был. Мне, Григорьев, этим полозом уже по шее терто…
— А что как попадемся? А, младший лейтенант? — И посмотрел на свою винтовку. — Ну что мы, с одной винтовкой, против их силы?
— Тихо, парень. Тихо. — Нелюбин, вдруг почувствовав, что его сержант дрогнул, и похлопал его по плечу. — Ничего, ничего. Пересидим тут. Главное, не высовываться пока. Винтовка… У нас, Григорьев, граната еще есть. Не возьмут они нас.
— Ты что? Взорвать нас хочешь?
— Да нет. Это я так. — И Нелюбин, превозмогая боль и тошноту, которая все еще крутила его изнутри, невесело засмеялся. Нет, взорвать себя… Вряд ли он это сможет сделать. Или все же сможет? А, Кондрат, допытывался он у себя. Сможешь чеку выдернуть? Ладно, ладно, рано пока об этом… Надо выбираться…
Глава третья
После госпиталя Радовскому дали недельный отпуск. И он решил поехать в Смоленск и там растратить эту в общем-то недолгую радость. Анна считалась пропавшей без вести. В донесении в графе без вести пропавшие он так и написал: радистка, сержант Анна Витальевна Литовцева… Расставание с нею томило, угнетало. Как она там? Сроки уже подходят. Не сегодня завтра должна родить. Все ли там сделают как надо? Бросил на произвол судьбы. Надо было просто увезти в тыл, устроить в хорошем госпитале, чтобы родила под присмотром врача. Но тогда… Уж лучше так: пропала без вести. Надо выдержать и это. Не подавать виду. Пропала — почти погибла. А главное — выбыла из списков. В тыловом же Смоленске предстояло кое-кого повидать. Отыскался однополчанин. Двадцать два года назад, в ноябре, они вместе уходили на перегруженном пароходе из Крыма. Вместе голодали и мерзли в Галлиполи, в тоскливой Кутепии, где каждый день кто-нибудь умирал или стрелялся от безысходности. Потом, в Сербии, их пути разошлись. И вот снова оба оказались здесь, в России, на родине.
В Смоленске, в комендатуре, Радовскому выдали ордер на комнату в небольшой гостинице, построенной, по всей вероятности, большевиками. И вечером в ресторане в центре города он встретил штабс-капитана Зимина в черном мундире оберштурмфюрера СС. С ним за столиком сидели еще двое. Зимин обнял бывшего однополчанина и тут же представил своим друзьям. Те были в штатском.
— Андрей Константинович фон Сиверс, — представил Зимин высокого господина средних лет в сером коверкотовом костюме, в осанке которого явно чувствовалась офицерская выправка. — Вильфрид Карлович Штрик-Штрикфельд. А это, господа, Георгий Алексеевич Радовский, мой боевой товарищ, с кем вместе… не только из одного котелка, но и голодали. Я уже вам рассказывал о наших злоключениях. Но теперь, слава господу, мы снова в России, в своем благословенном Отечестве, на своей земле.
Зимин наполнил рюмки. Все встали.
— За Россию, господа! За единую и неделимую!
Сиверс и Штрик-Штрикфельд были из прибалтийских немцев. Оба с января 1941 года, когда дивизии вермахта накапливались в Польше для предстоящего июньского броска на восток, состояли на службе при главном штабе фельдмаршала фон Бока. Затем, когда фон Бок был смещен с поста командующего группой армий «Центр» за провал операции «Тайфун» и неудачи под Москвой, а на его место Гитлер назначил командующего 4-й полевой армией фельдмаршала фон Клюге, человека более послушного и гибкого, перебрались в штаб Верховного командования сухопутных сил (ОКХ). В разговоре не раз упоминалось имя Рейнхарда Гелена. Как нетрудно было понять, оберст Гелен способствовал их переводу непосредственно под его подчинение и покровительство.
— Георгий! — тряс хмельной головой Зимин. — Тут такое дело завернулось! Хорошо, что мы встретились. Вид у тебя слегка потрепанный, ну да ничего. С сегодняшнего дня я ставлю тебя на довольствие. Откормлю, подлечу. Есть свои люди в госпитале. У нас здесь, в Смоленске, везде теперь есть свои люди.
— Хорошо вы тут устроились, — суховато усмехнулся Радовский, и все, сидевшие за столом, несмотря на изрядную степень опьянения, насторожились.
— Ты что-нибудь слышал о Русском освободительном комитете? — Зимин сделал предупреждающий жест рукой и посмотрел на Сиверса и Штрик-Штрикфельда. — Господа, за Георгия Алексеевича Радовского я ручаюсь головой.
Они снова выпили. Теперь — за Русскую освободительную армию. Коньяк развязал языки, и вот уже разговор потек вольнее, свободнее.
— Если в ставке фюрера в самое ближайшее время не возобладает здравый ум и если немецкие генералы не поймут наконец, что сил ни вермахта, ни потенциала Германии, ни даже объединенной под немецкими штыками Европы недостаточно даже для взятия Москвы, то крах, господа, наступит гораздо раньше. Я думаю, уже следующей зимой. Большевики будут атаковать зимой. Зимой это у них лучше получается.
— Да, пожалуй, — заметил кто-то, — французов тоже зимой гнали.
Эта параллель несколько смутила остальных. Но вскоре разговор продолжился с прежним жаром.
— Подбросят еще несколько десятков свежих дивизий, насытят линию фронта тяжелой техникой и вооружением… А так называемые партизанские бесчинства?
— Об этом, господа, нам, пожалуй, лучше расскажет Георгий Алексеевич. — Сиверс внимательно посмотрел на Радовского, сделал едва заметный поклон. — Вы, как я понял из рассказа Вадима Дмитриевича, были ранены в районе Дорогобужа при ликвидации партизанских баз. Вот и поделитесь своими наблюдениями, что же происходит в лесах по нашу сторону фронта?
— Фраза партизанские бесчинства — это блеф не желающих видеть правду, — сказал Радовский, поправляя приставленную к стулу резную ореховую трость, сделанную ему в госпитале одним из пленных красноармейцев и служившую вместо костыля — нога еще побаливала, и при ходьбе он быстро уставал. — Все гораздо серьезнее, господа. Нужно говорить не о беспорядках на территориях, занятых германской армией, а о сопротивлении. Да, да, о сопротивлении. И это сопротивление, хотелось бы нам этого или нет, все отчетливее приобретает черты и масштабы народной войны. И если понять, что Россия — это не Франция и не Польша, то можно предположить, во что это может вылиться.
Штрик-Штрикфельд напрягся. Сиверс снова вежливо кивнул. Очевидно, то, о чем сейчас говорил Радовский, каким-то образом ложилось на их разногласия.
— И сил полиции, и немецкой, и нашей, здесь недостаточно. Потому что никакими силами эту стихию уже, кажется, невозможно удержать в рамках так называемого нового порядка. Вы, должно быть, знаете, сколько штатных дивизий, в том числе и танковых, штабу Клюге пришлось снять с передовой и перебросить под Вязьму и Дорогобуж. Сопротивление будет разрастаться по принципу снежного кома. Но самое неприятное — это то, что стихия народного возмущения против бесчинств германских солдат постепенно принимает черты, я бы сказал, политического движения сопротивления.
— Что вы имеете в виду?
— Сталин перебрасывает в партизанские районы командиров и комиссаров, специалистов подрывного дела, диверсионные десантные группы. И усилия большевиков, надо это признать уже фактом, дают свои плоды. Сталин, через своих партизанских комиссаров, контролирует уже основные районы и самые многочисленные формирования противника по эту сторону фронта.
— Большевики выбросили еще одну козырную карту, — пьяно мотнул головой Зимин и молча махнул до дна очередную рюмку. — Они провозгласили эту войну Великой Отечественной. Если так дальше пойдет, то Восточный фронт окажется между молотом и наковальней. С одной стороны — полнокровные сибирские дивизии, вооруженные тяжелыми танками и реактивными минометами. С другой — партизанские формирования. Они уже сегодня объединяются в полки и бригады. Где гарантия, что завтра они не заполучат тяжелую технику и достаточное количество обычного стрелкового вооружения и боеприпасов и не выстроятся колоннами за нашими спинами?
— Отечественная война — это не просто звучит. Это волнует. И не только нервы, а более глубокие материи. И каждого человека, и всего общества в целом. Это объединяет.
— Что ж, они в чем-то, очень важном, пожалуй, самом важном, правы, — заметил Сиверс. — Тогда, в восемьсот двенадцатом, французы… Теперь — германцы. А говорят, Сталин приказал ввести погоны, а своих генералов награждает орденами Кутузова и Суворова? Искренне он это делает или нет, но этому горцу в уме не откажешь. И русский характер он чувствует тонко. Совдепия превращается в Россию. Да, да, господа.
— Заметьте, господа, что все это — на фоне разнузданной нацистской политики на оккупированных землях. — Сиверс отодвинул от Зимина графин с водкой. — Прав, трижды прав был Наполеон, когда сказал, что, выступая против мощной державы, можно выиграть битву, но не войну.
— У Сталина ничего не выйдет. Все это: и ордена, погоны, — делается не искренне, а под давлением обстоятельств.
— Фюрера обстоятельства тоже не милуют, но он пока остается глух и слеп к тому, что уже очевидно.
— А кто-то, господа, день и ночь твердил, что Совдепия — это колосс на глиняных ногах, что стоит толкнуть его, этого глиняного истукана, и… А тут толкнули под Минском, толкнули под Бродами, толкнули под Киевом и Брянском, и — что?! Под Москвой обосрались в худые и тонкие подштанники.
— Русский народ… Русский человек… Фюреру нужно было не с самолета исследовать русские просторы, а хотя бы в рядах его наступающей пехоты. И разговаривать с русскими людьми, которые в первые летние недели встречали германцев как освободителей, не как с недочеловеками, а как союзниками по борьбе против режима Сталина.
— Увы, господа, пруссаки никогда не проявляли большого искусства в умении общения с другими народами. А уж нацисты тем более. Уже в Австрии и Чехии это было очевидным. Австрияки, и те куда более человечны и умны. — Мысли, которые смело высказывал Сиверс, разделял и Радовский. Но разделяет ли их кто-нибудь там, наверху, в Ставке Гитлера, где определяется вся стратегия ведения войны на Востоке?
— Вы видели, что творится в лагерях для военнопленных? — Зимин грохнул по столу кулаком. — Сотнями ежедневно вывозят на телегах во рвы. Неделю тому ездил в Рославль. Люди доведены до крайней степени физического истощения, до полной потери человеческого облика. Из них уже невозможно сделать солдат, которые на смерть пойдут за дело освободительной идеи. Не-воз-мож-но! Их нужно год откармливать! Чтобы они имели нормальный человеческий вес. Лечить не только от дистрофии, но и психику.
— Немцы рассуждают примерно так: русских на сорок миллионов больше, чем нужно, и они должны исчезнуть. Этот бред я слышал совсем недавно из уст одного оберста из штаба фон Клюге. — Это снова сказал Сиверс.
— В морду бы за такие слова.
— Зимой, под Наро-Фоминском и Можайском, именно это и произошло.
— Да, господа, — сказал Радовский, глядя на Сиверса, — для немцев все это — Восточный фронт. Всего лишь Восточный фронт. Просторы, где маневрируют танковые и пехотные дивизии вермахта и СС. А для нас — Родина.
— В декабре я был при штабе фон Бока, — вскинул подбородок Штрик-Штрикфельд. — Однажды фельдмаршал сказал: здесь, под Москвой, мы либо выиграем, либо безвозвратно проиграем войну. Так что там вполне отдают себе отчет в том, что на самом деле происходит здесь, и в войсках, и по обе стороны немецких и русских линий.
— Да, с уходом фон Бока многие наши надежды рухнули.
— Ничего, господа, ничего. Настанет, настанет и наш час. Русский освободительный комитет готов, после некоторых предварительных мероприятий организационного характера, поднять население против режима Сталина. По некоторым предварительным оценкам, под ружье уже завтра мы сможем поставить армию в один миллион солдат. Вот аргумент, с которым Берлин вынужден будет считаться!
Радовский узнал из этого разговора, что условием русской стороны является следующее: признание границ 1939 года, равноправное положение русского народа и образование независимого русского национального правительства на демократической основе. А это означало самое главное — конец войне.
На следующий день Вадим Зимин рассказал, что в середине июля группа армий «Север» разгромила в «котле» русскую 2-ю ударную армию Волховского фронта, при этом германский патруль захватил в плен командующего этой армией и заместителя командующего войсками Волховского фронта генерал-лейтенанта РККА Андрея Андреевича Власова. Власов — фигура среди большевиков, в особенности в армейских кругах, влиятельная. Недавно от него получено согласие о сотрудничестве. Именно он возглавит Русскую освободительную армию. Сейчас ведется усиленная работа по созданию структуры будущей армии. Смоленский комитет возглавляет эту работу.
— Власов? Я слышал, он тоже из большевиков?
— Имеет орден Ленина. В гражданскую, кажется, командовал полком.
— Да, красный генерал из крестьянских сыновей. И это сейчас не должно нас смущать. Гитлер склонен к тому, что Русское освободительное движение должен возглавить человек из народа.
— Под Москвой, в период самых жестоких боев, командовал 20-й армией и успешно наступал.
— А какая роль отводится нам? Будем состоять при экс-красных командирах военспецами?
— Пусть даже так. На первых порах. Но если все пойдет на лад и эти прусские безумцы прекратят отговаривать фюрера от радикального шага навстречу русской идее, уже к зиме немецкие войска будут отведены на линию тридцать девятого года. Россия без большевиков и Сталина! Демократическое правительство! Георгий, могли ль мы с тобой мечтать об этом?! Там, на турецком берегу, когда пуля в рот казалась универсальным средством от всех болезней, терзавших нас. А потом… потом, друг мой, разберемся и с пруссаками.
— Ты наивный человек, Вадим. Немцы никогда не оставят захваченной территории. Ни-ког-да! Они ведь и воюют не против Красной Армии, а за территорию. Чтобы расположиться на ней хозяевами. Облокотившись при этом на наши головы. Вот что происходит в действительности. Доказательства — на каждом шагу.
— И все-таки у них нет другого выхода, как призвать на помощь нас, русских. У них сейчас некомплект в дивизиях до семи тысяч человек. Где они их возьмут? Так что скоро, совсем скоро ворота концлагерей будут распахнуты — на восток! И в бой мы пойдем не в этой вот форме, и не с нашивками «ОСТ», а в русских шинелях и гимнастерках. Дайте время.
Радовский засмеялся.
— Давай лучше выпьем, — предложил он. — За мое новое назначение.
— Ты получил новое назначение?
— Да. Буду формировать новую роту. Приказ о моем назначении и новых полномочиях подписан.
— Кто подписал приказ?
— Оберст Лахузен-Вивермонт.
— Ты перебрался в Управление Аусланд ОКВ Абвер-2?
— Да. Тебе знакомо имя моего нового шефа?
— Кое-что слышал. Он австриец. В прошлом году получил оберста. Умен, проницателен. Профессиональный разведчик. Служил в австрийской армии. Затем перешел в вермахт. О нем мне рассказывал Андрей Константинович. Они знакомы. Их познакомил Гелен. Здесь, в Смоленске.
Позже Радовский узнал и другие подробности из биографии своего шефа.
Родился в 1897 году в Вене. Блестяще окончил Военную академию Марии-Тересии в Виннер-Нойштадте. В 1915 году получил свой первый офицерский чин — лейтенанта от инфантерии. Летом 1936 года в чине оберст-лейтенанта получил перевод в австрийский Генеральный штаб.
— Ты знаешь, что такое Абвер-2?
— Да, конечно. Диверсионно-разведывательная работа. Звучит красиво, почти романтично. Но заниматься придется зачисткой деревень и лесов по эту сторону фронта от партизан. Приказано формировать роту для абвергруппы Schwarz Nebel — Черный туман. Разумеется, под присмотром инструкторов. Конечно же, немцев. Но не остзейцев. С нашими хоть можно договориться. А с этими… Сразу после отпуска предписано начать работу по подбору личного состава для двух взводов. Буду готовить диверсантов. Из всякого отребья. Набирать придется в концлагерях. Добровольцев. Ты слышишь, Вадим, — до-бро-воль-цев. Звучит по меньшей мере издевательски. В перспективе — развертывание роты до трехвзводной.
— Что ж тут плохого? Ты будешь командовать русскими. В лагерях… Что творится в лагерях, Георгий! А у тебя есть возможность спасти хоть несколько десятков. Так что тебе все же предстоит командовать русскими солдатами.
— Русскими солдатами… Последний раз, Вадим, мы с тобой командовали русскими солдатами под Ново-Алексеевкой.
— На той стороне тоже были русские.
— Когда обращаешься к ним с предложением вступить в русское формирование на стороне вермахта, из строя выходят, как правило, люди совершенно определенного сорта. Иногда — такие хари… И работать приходится именно с ними. И они потом задают тон в подразделении. Волевые, наглые, эгоистичные, без предрассудков. Абсолютно свободные от условностей десяти заповедей.
Однажды Зимин спросил:
— Георгий, все забываю тебя спросить, помнишь, ты часто вспоминал о какой-то родственнице, не то племяннице, не то троюродной сестре? Она была отправлена из Новороссийска еще весной того же двадцатого. Что с ней? Ты разыскал ее? Она жива?
— Нет, я не нашел ее.
— Жаль, жаль. — Он похлопал его по плечу. — Но это ничего не значит. Она наверняка жива. И ждет тебя. — И Зимин улыбнулся.
Радовский молча кивнул.
— А не навестить ли нам девочек, дружище? — предложил вдруг Зимин. — Чтобы тебе через эдак пару месяцев, когда будешь колесить со своими молодцами по деревням где-нибудь в окрестностях Вязьмы или Спас-Деменска в поисках партизан, было что вспомнить. Хоть что-то приятное. Не один треп подвыпивших чудаков, которые все еще не избавились от величайшей иллюзии — великой и неделимой…
— За эту иллюзию стоит умереть.
— Умереть? — Зимин посмотрел в глаза Радовскому. — Без этой иллюзии трудно жить. Но умирать за нее… Подождем умирать, дружище.
В тот же вечер они пустились в недолгое пешее путешествие по одной из центральных улиц города. Пройдя несколько кварталов, свернули в темный переулок и вскоре оказались перед парадным небольшого двухэтажного дома, отремонтированного, как видно, совсем недавно.
— Заведение фрау Эльзы. Только для офицеров. Первоклассный товар. Никакого сравнения со шлюхами грязных тараканников Константинополя. Помнишь? Клиенты стояли в очередь. Особенно к русским дамам. Турки, французские матросы, греки, итальянцы, евреи, армяне, сирийцы. Дамы не успевали сделать после очередного клиента самое необходимое… Дикие драки в очереди к какой-нибудь мадам Тане. Что молчишь, Георгий? Ты ведь все помнишь. Такое не забывается.
— Мы были молоды, Вадим, и это нам помогло многое пережить. В том числе и тот ужас. Который, кстати, пережили не все. Особенно те, у кого на родине остались семьи. А вот теперь мы уже не так молоды и выносливы.
— Да. Но попробуем пережить и это.
— А где желтый фонарь? — усмехнулся Радовский, указывая на белый фронтон парадного. Все же хотелось отвлечь и себя, и друга от мрачных мыслей.
— Война. Светомаскировка, — развел руками Зимин.
— Неужели большевики залетают и сюда?
— Залетают. Ты ни разу не попадал под их бомбежку?
— Попадал. И под налеты «петляковых» сталинских соколов, и под налеты «штук» соколов Геринга. Разница небольшая. Потери в личном составе примерно одинаковые.
Возле парадного они остановились и закурили. Торопиться было некуда. Хотелось еще поговорить. Вспоминали то Крым, то Кутепию, то скитания по «европам». Радовский снова подумал об Анне. И все-таки хорошо, что он отправил ее на тот глухой хутор. По крайней мере, если случится катастрофа, она останется в России. А после такой войны Россия, конечно же, будет другой. Большевики разрешили богослужения, говорят, вводят погоны. Интересно, какими будут офицерские погоны? Неужто золотыми? Очень может быть. И он, Радовский, без Анны наконец-то получил то, чего ему всегда не хватало, — свободу. Солдат на войне не должен быть связан ничем и никем, кроме приказов и командиров. Рано или поздно придется отступать. Быть может, бежать. А бежать вместе с Анной и ребенком… К тому же англичане вряд ли простят немцам все, что они натворили. И в Африке, и на островах. Союзники выпотрошат Германию до основания. Вытряхнут из нее все. Как солдаты вытряхивают «сидора» пленных…
Когда они уже поднимались по ступеням к высоким черным дверям, скудно освещенным тусклым светом, проникающим откуда-то сверху, из-под фронтона, их окликнули по-немецки. Это был ночной патруль. Зимин тут же отозвался, тоже по-немецки. Радовский вытащил свое офицерское удостоверение.
— Когда вы отбываете в свою часть, господин майор? — спросил его пожилой оберфельдфебель, внимательно изучая под лучом карманного фонарика документы Радовского.
— Через четыре дня, как сказано в командировочном удостоверении, господин оберфельдфебель, — ответил Радовский тем же спокойным тоном, каким был задан вопрос, и не удержался от короткого комментария: — Но это не имеет никакого значения, не так ли?
— Для вас — имеет, — услышал он тот же равнодушно-спокойный голос начальника патруля.
— И какое же?
— Вы отбываете на передовую?
— Да.
— Я был на передовой с июня по декабрь, пока не обморозил ноги под Медынью. Там, говорят, уже русские.
— Да, Медынь и Юхнов оставлены.
— Так вот пуля с той стороны прилетает всего за какие-то секунды. Хлоп — и в каске дырка. Так что советую вам задержаться здесь на эти несколько секунд, чтобы ваша пуля пролетела мимо.
Они рассмеялись. И немец, как бы между прочим, заметил:
— А вы разговариваете с акцентом. Как это понимать, господин майор?
— Господин оберфельдфебель, мой акцент очень легко объясним: я — русский.
— Ах вот как! Понятно. — И немец кивнул на дверь. — Впрочем, сюда действительно ходят в основном русские.
— И поэтому вы так пристально контролируете этот район? — вмешался в их беседу Зимин.
— Да, господин оберштурмфюрер. А ваш акцент почти незаметен. Всего вам доброго. Хайль Гитлер.
— Хайль, — ответили они патрулю.
И уже за дверью парадного Зимин вспомнил той же двадцатилетней давности историю, о которой знали все галлиполийцы и вся русская колония Константинополя:
— Помнишь, Георгий, когда мы пошли полным каре на комендатуру и разогнали сенегальцев?
Это случилось вскоре после того, как они обосновались в Галлиполи. Все войска, благополучно добравшиеся до турецкого берега, были сведены в 1-й русский армейский корпус под командованием генерала Кутепова. Галлиполи — маленький городок, вроде Юхнова, сильно к тому же разрушенный недавним землетрясением и артобстрелами англичан. Корпусу отвели небольшой участок земли вокруг старинной четырехугольной башни, оставшейся еще со времен генуэзцев. Говорят, в этой башне когда-то содержались пленные запорожские казаки, а потом солдаты русско-турецкой войны за освобождение Болгарии. Французы забрали у корпуса все: и корабли, и грузы, среди которых были тюки с продовольствием, ящики с боеприпасами, оружие. Взамен обязались поставлять корпусу необходимое и достаточное количество продовольствия. Но, вопреки договоренностям, поставки сокращали почти ежедневно. Приходилось искать средства для пропитания самим. Городок постепенно превратился в одну сплошную толкучку, где торговали буквально всем. Часы, обручальные кольца, револьверы, шинели обменивались на продукты. Все уходило по дешевке, за горсть фасоли отдавали мундир Дроздовского полка, за кисет табаку — серебряную ложку из фамильного сервиза. Порядок поддерживался благодаря строжайшей дисциплине. Иначе бы корпус превратился в неуправляемую орду, дикое, голодное, обозленное поражением стадо. Кутепов издал приказ, по которому запрещалось употребление бранных слов, но разрешил дуэли как способ разрешения конфликтов между офицерами. Однажды патруль сенегальских гвардейцев арестовал двух русских офицеров за то, что они, подвыпив на последние гроши, шли по базару и горланили: «Соловей, соловей — пташечка…» Патрулю офицеры не подчинились. Тогда их скрутили силой, избили прикладами. О происшествии тут же доложили в штаб корпуса. Начальник штаба генерал Штейфон тут же отправился к французскому коменданту и потребовал освобождения своих подчиненных. Комендант Галлиполи майор Валер категорически отверг требование русского генерала и вызвал караул. Тогда Штейфон, в свою очередь, вызвал две роты юнкеров Константиновского военного училища, к которым примкнули также многие офицеры. Роты построились в боевой порядок и двинулись на комендатуру. Сенегальцы разбежались. Бросили пулеметы и охраняемые помещения. После этого случая майор Валер больше не посылал свой патруль в город. Среди офицеров, присоединившихся к юнкерам-константиновцам, оказались и Радовский с Зиминым.
В довольно просторном фойе, освещенном приглушенным светом и обставленном дорогой, но обшарпанной мебелью, видимо, наспех свезенной сюда по приказу какого-нибудь интенданта, пахло празднично — то ли дорогой парфюмерией, то ли фруктами. Радовский давно отвык и от того, и от другого. Вверх вела белая лестница с серыми, глубоко вытертыми ступенями. И там стукнула дверь, и тут же радостный женский голос окликнул их:
— О! Кто к нам пожаловал! Вадим Дмитриевич! Вадичка!
— Лизонька! — театрально кинулся к лестнице Зимин. — Вы все хорошеете, прелесть вы наша!
Радовский невольно поморщился. Благо, в темноте этого, видимо, никто не заметил.
Хозяйке на вид было лет сорок пять. Вторая молодость располневшей женщины, к тому же, видимо, одинокой. Это Радовский определил сразу, по взгляду больших карих глаз, с любопытством скользнувших по его лицу и на мгновение задержавшихся в притворной нерешительности. Она тоже изучала его. Интересно, что она подумала о нем? Потрепанная всеми вселенскими ветрами физиономия незадачливого искателя фортуны здесь, в Смоленске, где русские в тылу у немецкой армии торопливо строили столицу новой России, новой, очередной своей утопии, была, конечно же, не диковинкой. Кого она в нем видела, эта женщина, у которой тоже было свое прошлое? Усталого человека, опирающегося на самодельную трость и всячески старающегося скрыть, что без нее ему не обойтись? Авантюриста, которому безразлично, с какой армией искать свою фортуну? Жестокого фанатика офицерской чести?
— Радовский Георгий Алексеевич, мой боевой товарищ, — с тою же театральностью, но уже не так восторженно представил его Зимин.
— Фрау Эльза.
— Вадичка, ради бога, перестаньте. Для друзей — просто Лиза.
Радовский поцеловал ее руку, которая оказалась маленькой и прелестной, как у курсистки. Пальчики Лизы были теплыми, немного влажными, видимо, от волнения, и пахли французскими духами.
— У вас прекрасные духи, мадам, — сказал он, улыбаясь в усы. — Но ручка еще прелестней.
— Духи из Парижа, — засмеялась Лиза, явно взволнованная второй частью комплимента. — Вадичка нас не забывает.
— Вадим, ты занимаешься коммерцией? — Радовский обернулся к Зимину.
— Дружище, сейчас все занимаются коммерцией. Если мы хотим построить новую Россию, то главные механизмы экономики должны быть в наших руках. В том числе и вот в этих прелестных ручках! — И Зимин ловко перехватил руку растерявшейся Лизы и энергично расцеловал ее.
— Господа, вы меня смущаете прямо в прихожей, — наконец, нашлась и она.
Они рассмеялись и пошли по белой лестнице вверх, где в комнатах уже слышались приглушенные женские голоса.
— Сашенька сегодня свободна? — услышал Радовский полушепот Зимина.
— Да. Я ее сейчас позову.
— Не для меня…
— Хорошо, хорошо, Вадичка… Я все поняла. Предупрежу…
— Какая ты умничка. Нам пару шампанского и коньяк. И еще, как всегда, шоколад и фрукты.
— Хорошо, хорошо, Вадичка. А кого позвать для тебя?
— Эту ночь, дорогая Елизавета Павловна, я хотел бы провести с вами!
— Ах ты, испорченный мальчишка!
Радовский услышал возню, притворное рычание Зимина и восторженные всхлипы Лизы.
Да, неплохо они тут устроились. Тихие ночи без обстрелов и бомбежки. Тихое заведение. Шампанское, фрукты, французские духи… Не оборачиваясь, Радовский продекламировал:
И всю ночь звучит зловещий хохот В коридорах гулких и во храме Песни, танцы и тяжелый грохот Сапогов, подкованных гвоздями.Он шагнул в распахнутую дверь и оказался в просторной зале, драпированной зеленым бархатом и тяжелыми портьерами до самого пола. Паркет был навощен. Пахло так, как пахнет в старом платяном шкафу, из которого только что убрали всю одежду. Одежда всегда хранит запах человека, носившего ее. Вот и эта просторная комната, загроможденная вдоль стен тяжелыми складками зеленого бархата и просторными кожаными диванами, пахла людьми, в разное время бывавшими здесь. Это был запах женщин и мужчин в минуты их откровения, подавленного страдания и притворной любви, которая в какое-то мгновение могла стать настоящей.
Они подошли к столу, на котором уже стояли бутылки, фужеры и фарфоровая ваза с фруктами. Зимин налил коньяку. Они выпили. Радовский продолжал принюхиваться к позабытым запахам забытой жизни. Зимин заметил это и сказал:
— Ты и ее будешь обнюхивать? Смотри, не испугай.
— Кого?
— Сашеньку. Сейчас увидишь ее.
Вскоре в комнату вошли две девушки. Простучали каблучки, послышался смех, в котором Радовский сразу поймал фальшивые ноты все той же театральности и человеческой порочности, слегка замаскированной показной профессиональной развязностью.
— Меня зовут Сашей, — сказала блондинка и оперлась на его плечо, обдавая запахом дешевых духов и здорового молодого тела.
Радовский поймал ее руку и поцеловал прохладные пальцы, которые мелко дрожали, словно от холода. И в чаду не страстей, а угара…
— Что с тобой, милая? — наклонился он к ней и снова мысленно повторил: …И в чаду не страстей, а угара…
— Ничего, — улыбнулась она, неумело скрывая напряжение.
— Ты вся дрожишь.
— Это сейчас пройдет.
Через две недели на старенькой трофейной полуторке Радовский мчался по Варшавскому шоссе в сторону Рославля. Ему предстояло набрать партию добровольцев для формирования новой боевой группы. Там, в Рославле, он действительно вспомнил дни, счастливо проведенные в Смоленске. Запах духов, а может, фруктов, блондинку, ее мимолетную дрожь. И разговоры за столом. Пустые, нелепые разговоры, которые на фоне действительности рассыпались и втаптывались в заплеванную землю, как стреляные гильзы под ногами солдат.
А еще неделю спустя «Черный туман» получил первое свое задание: проникнуть в ближайший тыл русских, установить наблюдение за участком Варшавского шоссе, установить, сколько и какой транспорт движется в сторону фронта и обратно; тяжелую бронетехнику и артиллерийские орудия зафиксировать с точностью до единицы; на обратном пути оставить в тайнике в условленном месте, указанном на карте, комплект батарей питания для рации. В группу он включил ветеранов из остатков боевой группы первого формирования: Старика, Лесника и радиста Синенко по прозвищу Синий. Другим он не доверял так, как этим. Пока отлеживался в госпитале и ездил в Смоленск, две группы из его роты были заброшены через линию фронта в полосе русских 43-й и 33-й армий. Шесть и одиннадцать человек. Первая — с разведывательной целью. Вторая, состоявшая в основном из специалистов-саперов, имевшая задачу взорвать несколько мостов близ Варшавского шоссе, ни сразу, ни дня два спустя, в контрольное время, не вышла на связь и не вернулась в назначенное время. Однако вскоре радиопередатчик второй группы появился в эфире в своей частоте. Позывные давал правильно. Но радисты в штабе корпуса обнаружили, что работа радиопередатчика ведется под контролем. Из штаба корпуса, из отдела Один-Ц — разведка, прибыл офицер с переводчиком. Задал несколько вопросов ему, Радовскому, командирам взводов, добровольцам. Уехал. А через два дня нагрянула проверка. В казармах и в домах, где квартировали офицеры, все перевернули вверх дном. Ничего не нашли. Рота тем временем по приказу проверяющего офицера занималась на плацу строевой подготовкой. Без оружия. И слава богу.
Проверяющие ничего не нашли. Немцы уехали ни с чем. На следующий день последовал приказ сдать оружие в ближайший немецкий гарнизон, передачу оформить документально, а личному составу роты приступить к строительству моста, разрушенного налетом авиации противника, и предмостной насыпи; для несения гарнизонной и караульной службы старшим наряда из числа сержантского состава разрешалось ношение на поясном ремне холодного оружия — кинжального ножа. Винтовки и пулеметы из роты вывезли при полном молчании застывшей на плацу роты. Но когда немцы предложили сдать свои табельные пистолеты и офицерам, произошла короткая заминка, едва не закончившаяся рукопашной схваткой. Офицеры отказались сдавать оружие, а солдаты покинули строй и двинулись к грузовику, в кузове которого лежали их винтовки, автоматы и пулеметы.
Через несколько дней после этого инцидента из Смоленска вернулся Радовский.
— За кого нас тут держат? — возмущались взводные и офицеры штаба.
— Им нужны наемники, а не союзники.
— В штабе дивизии нам не доверяют. Мы как были для них хиви, так хиви и остались.
— Рабы… Быдло… Этого мы и под райкомами нахлебались…
— Солдаты не хотят выполнять приказы, — жаловались взводные подпоручики.
— Говорят, немцам земля наша нужна. К нам, мол, и к нашим семьям они относятся как к рабочему скоту. Что творится в оккупированных районах… В лагерях…
В тот же день Радовский выехал в штаб 5-й танковой дивизии под Вязьму. Его принял адъютант командира дивизии, вежливый капитан, внимательно выслушал, тут же по телефону доложил о его прибытии генералу. Через несколько минут Радовский уже стоял перед командиром дивизии генерал-майором Фейном. Тот жестом руки прервал его доклад и сказал:
— Я все знаю. Читал доклад. Поясните мне вот что. Одна из ваших групп, заброшенных в тыл Сорок третьей русской армии, не вернулась. Передатчик работает под контролем русских. Как вы думаете, что там могло произойти?
Голос генерала Фейна был спокойным. Идея создания при 5-й танковой дивизии русской вспомогательной роты принадлежала именно ему. Теперь в дивизии две такие роты. Одной командует капитан Эверт фон Рентельн, прибалтийский немец. А в другой, где командует этнический русский, слишком много проблем. В апреле рота Радовского не справилась с задачей взять живым командующего окруженной русской 33-й армии. Правда, тогда, в той сумятице, когда кочующий «котел» пошел на прорыв, слишком много интересов и амбиций сгрудилось вокруг штабной колонны русского генерала Ефремова. Абвер, СС, СД, рота полка особого назначения «Бранденбург-800». Все хотели отличиться и выхватить из-под носа соседа лакомый кусок, чтобы блеснуть в донесениях. Гелен, похоже, дело свое сделал. А теперь его сменил Лахузен… Разведчика сменил диверсант. Но именно диверсионная группа провалилась на этот раз.
— Людей отбирал я лично. И в первую, и во вторую группы. За каждого могу поручиться.
— Вот как? — Генерал Фейн встал, прошелся по полу, застланному пестрыми ткаными русскими половиками, посмотрел в окно. — Нельзя ручаться ни за кого. Скажите, вы не испытываете каких-либо трудностей, командуя своей боевой группой?
— Нет, господин генерал.
— Поясню, почему я задал этот вопрос. Почти двадцать лет вы прожили вне России. Здесь выросло новое поколение. Поколение, воспитанное большевиками. Они дышали другим воздухом. У них другой состав крови. Вы понимаете, о чем я говорю?
— Да, вполне. Я учитываю это. И никаких преград в общении ни с рядовыми добровольцами, ни с офицерами не чувствую. Мои подчиненные вполне доверяют мне. Я стараюсь доверять им. На самые сложные задания я хожу с ними лично.
— Да, я слышал о ваших подвигах. Но, хочу сразу заметить, я этого не одобряю. Не дело майора вермахта резать на нейтральной полосе колючую проволоку. Для этого есть солдаты и младшие командиры. Так что же могло произойти с группой? И, прошу вас, не оправдывайтесь. Это не к лицу офицеру. Мы, здесь, на передовой, должны иначе и проще понимать друг друга.
— Все, что угодно, господин генерал. Задание было не из легких. Большевики усилили охрану важных объектов, в том числе и коммуникаций в своем тылу. Все изменилось.
— Что это значит? Разве вы не предусматривали возможные варианты развития событий?
— Предусматривали, господин генерал. В том числе и возможное неадекватное поведение части диверсионной группы. Одного, двух или троих добровольцев…
— Добровольцев… Вы так, господин майор, называете своих солдат?
— Да. Это наиболее точное название. Оно выражает суть. Суть должна быть понятной всем. Звание «доброволец» хорошо воспринимает личный состав. Они добровольно вступили в нашу роту для борьбы с большевизмом, с режимом Сталина, который они считают бесчеловечным. Это необходимо учитывать. Потому что главным мотивом перехода на нашу сторону для большинства добровольцев является именно желание с оружием в руках бороться против ненавистного режима.
— И вы, господин майор, тоже разделяете со своими солдатами этот пафос? — И генерал, на мгновение оторвавшись от окна, внимательно посмотрел на Радовского.
— Так точно, разделяю, господин генерал.
— Хорошо. Завтра утром оружие вам будет возвращено, — сказал Фейн все тем же спокойным голосом. Напряжение, которое командир дивизии умел создавать во время разговоров с глазу на глаз, стало еще сильнее. — Пришел приказ о вашем новом назначении. Рота переподчиняется непосредственно штабу группы армий. Отделу Один-Ц. Вот приказ. Ознакомьтесь. И поздравляю вас с повышением. Теперь вы подчиняетесь нам чисто номинально. Но, я думаю, новый статус вашей боевой группы не помешает нашим личным отношениям. Не так ли, господин майор?
— Я никогда не забывал о том, что рота добровольцев создана согласно вашему приказу, господин генерал. Что из вспомогательного подразделения развернута в полнокровную боевую группу. Как не забыл и о том, что, прибыв в ваше распоряжение в качестве военного переводчика, вернул статус и положение боевого офицера. И это обстоятельство не позволяет мне забывать и о личной вам признательности, господин генерал.
— Читайте, читайте свой приказ… — И Фейн благосклонно покачал головой. Слова майора были искренними. Он это чувствовал. Конечно, есть в этом русском и то, чего он не понимает и чего тот не открывает никому, не зря ведь его переманили в абвер. Но есть и то, что можно расценивать как искренность и сердечность. Но самое ценное в этом русском то, что он — солдат, и хороший солдат. Не тупой болван с передовой, готовый выслужиться на костях своих подчиненных, а умный и дальновидный офицер. Такие не служат ради почестей, званий и наград. У таких, как правило, существуют высшие цели. Зачастую безумные. Но это уже другая тема. И о ней генерал Фейн думать не хотел.
Генерал невольно любовался своим бывшим подчиненным. Да, к сожалению, бывшим.
Радовский прочитал приказ, взглянул на генерала. Тот стоял у окна и курил сигару. Синеватый вязкий дымок вился вокруг седой головы с глубокими блестящими залысинами. Фейн курил дорогие сигары. И, вопреки обыкновению заядлых курильщиков гасить табаком раздражение, закуривал в минуты покоя. Добрый знак, подумал Радовский, когда увидел, что генерал потянулся к кипарисовому футляру.
— А скажите, господин майор, эта наша война… вы действительно верите в ее победный исход? Вы думаете, можно покорить эти пространства, населенные… Нет-нет, я не нацист. Я — солдат. И то, что происходит вокруг, многое из этого, противно моей натуре и убеждениям. Мои солдаты устали. Дивизия понесла огромные потери. И кажется, что не только Германия, но и Европа уже не в состоянии восполнить их. Пятая мотопехотная бригада выбита почти наполовину. Немногим лучше положение в Пятой танковой бригаде. Эти две бригады — костяк дивизии. Без них дивизии не существует.
— Господин генерал, германская армия свою освободительную миссию блестяще выполнила еще летом прошлого года. И поход на Москву был уже безумием. Бессмысленным и жестоким. И вы это прекрасно понимаете. Начиная с сентября, да-да, уже тогда, нужно было открыть ворота концлагерей, обмундировать и вооружить добровольцев. И миллионная русская армия освободила бы от большевизма не только Москву и Петербург. Почему вы, немцы, так слепы к урокам истории? Россию могут победить только русские. Только русские, господин генерал.
Фейн пристально смотрел на Радовского. Он услышал то, что готов был услышать. Но слова русского не могли не смутить его. Он невольно выглянул в окно и, убедившись, что часовой далеко и не слышит их, качнул сигарой:
— Только русские… Эти слова принадлежат вашему новому вождю? Генералу Власову? Кажется, именно он сейчас претендует на роль командующего новой армией. Так называемой Русской освободительной армией.
— Эти слова принадлежат Шиллеру. Фридриху Шиллеру, господин генерал. Эти слова произнесены давно. Этой истине уже много лет. Как и добрым взаимоотношениям между немцами и русскими.
Генерал курил сигару. Он снова смотрел в окно. Там, над свежим штакетником, ветер играл березовой листвой. Форточка была открыта, и шум листвы слышался здесь, в штабном доме, как отзвук другой, минувшей жизни, которая прошла здесь, среди этих берез, но которая никогда не повторится. Радовскому вдруг показалось, что этот тихий шум волнует не только его, но и генерала.
— Странный вы человек, господин Радовский. Эта ваша откровенность… Такие мысли иметь опасно. Даже здесь, на передовой. Хотя, по всей вероятности, вы все же правы. И я разделяю некоторые ваши мысли. Но скажу вам больше: то, что мы переживаем, еще не кульминация безумия. Кульминация нас ждет впереди.
— Еще не поздно. Еще все можно поправить.
— Вряд ли. Фюрера окружают недалекие и недобросовестные люди. И они рассуждают иначе. К нашему несчастью и к несчастью всей Германии. — Фейн внимательно посмотрел на Радовского и неожиданно спросил: — Говорят, где-то здесь, недалеко, ваше родовое поместье?
— От поместья ничего не осталось. Руины усадьбы. Мерзость запустения.
— Все, что разрушено, можно восстановить. Проблема в другом. Все это, — и генерал сделал жест в сторону развешенной на стене карты, — нужно теперь удержать. А русские усиливаются буквально с каждым днем. Вы случайно не охотник?
— Когда-то покойный батюшка имел хорошую охоту. Свору гончих. Содержал двоих собачников. Сьезжались соседи. Охоты устраивали пышные. Было ружье и у меня.
— Пригласите как-нибудь меня на охоту. К себе в поместье.
Последняя фраза генерала многого стоила. Радовский почувствовал ком в горле, но тут же справился с собой, заговорил спокойно, словно и не придав никакого значения тому, что только что услышал:
— Что ж, наши места стоят того. Впереди осень. Скоро наступит самая пора. Утки готовятся к отлету. Тетеревиные выводки подросли. А там скоро и чернотроп. Или вы любите другую охоту, по крупному зверю? Лось, думаю, ушел на восток. Распугали лосей.
— Нет, я люблю побродить со своим дратхаром. Вы ведь видели моего Барса.
— Видел.
— Как он вам?
— Хороший пес. Чувствуется, что прекрасно вышколен. Остальное скажет порода.
— О, да, порода! — снова с легкой улыбкой качнул сигарой Фейн. — Она многое определяет. Он прекрасно берет птицу. Вы увидите, как он это делает! Приносит утку. Бросается в воду и приносит. Хорошо натасканный, вышколенный. Ах, как же ему хочется в лес! И мне, признаться, тоже. — Генерал засмеялся, и глаза его молодо блеснули. — Обдумайте, Георгий Алексеевич, как это лучше устроить. И сообщите мне тут же. Только не оттягивайте. И чтобы об этом — ни одна душа. Тем более, ваше новое начальство.
— Вы хотите выбраться в лес без охраны?
— Со мной будут три-четыре человека. С пулеметом. На отдельном транспорте. Возьмите и вы двоих, самых надежных. Об этой поездке информация не должна уйти никуда.
— Лес небезопасен. Партизанские группы бродят всюду.
— Вы хотите сказать, что все это время плохо выполняли свою работу?
Радовский вздохнул.
— Хорошо, я отдам приказ прочесать этот район. Пусть Рентельн со своими казаками проведет плановые мероприятия. У него это получается хорошо. Он, похоже, меньше русский, чем вы. Или… как бы это точнее выразить… очень старается быть настоящим немцем. И, конечно же, перебарщивает. Хотя вряд ли об этом догадывается сам. В этом все дело.
— Он очень старается, господин генерал.
Глава четвертая
В лесу было тихо. Где-то, в стороне Монахова Мыса, как на хуторе называли полоску ельника, густо перемешанную с березняком, где стояла, укромно сторонясь праздного глаза, Нилова келья, постукивал, позванивал, оскальзывался на тугом матером бревне топор. Отшельник снова поправлял, свою крошечную келейку. Пришла пора подумать о предстоящей зимовке. Келья, срубленная из сосновых бревен, была поставлена здесь более двухсот лет назад. Срублена ладно, человеком крепким не только духом, но и мастеровитостью. Каждое бревно здесь напоминало об основательности того первого плотника, который обосновал здесь эту глухую пустынь. Крыша, крытая плотно связанными длинными камышовыми снопами в три ряда наперехват, не пропускала ни дождей, ни ветров, ни холода. Но венцы, особенно с северо-восточной стороны, все же изнашивались, и их приходилось менять почти каждому поколению живших здесь отшельников. Лето придвинулось к своему пределу. Август истекал. Вода в озере засинелась. А небо над ним стало выцветать, как будто застиранное. И утки на озере уже сбивались в большие стаи.
Воронцов некоторое время прислушивался к стуку топора, к комариному гуду над головой. Никакие посторонние звуки не тревожили окрестность. Хутор притих. Воронцов предупредил Зинаиду, и, когда выходил из шула, видел, как женщины побежали к погребу, унося детей. Старуха-хозяйка вела младшего Пелагеиного сына. Старшие, обгоняя друг друга, юркнули в погреб первыми.
— Если что, уходите в лес, к вырубкам. Иван Степаныч там вас будет ждать, — приказал он Зинаиде.
Топор монаха Нила тюкнул не в такт и затих. Воронцов замер за сосной в густом высоком черничнике и приготовил автомат.
Ждать пришлось недолго. В соснах замаячила высокая тень в камуфляже. Тень мягко, невесомо перебегала от дерева к дереву, медленно приближаясь к тропе, которая вела от леса на хутор. Возле этой тропы и залег Воронцов час назад. Теперь тень в камуфляже плавала в размытом колечке намушника. И тут он снова услышал топор монаха Нила. Значит, узнал отшельник кого-то знакомого и подавал им на хутор весточку, чтобы не боялись. Человек в камуфляжной накидке вышел на тропу. Оружия при нем не было. В осанке и походке его Воронцову показалось что-то знакомое. Неужто Старшина? Тот самый, из-под Вязьмы?
— Старшина! — окликнул Воронцов горбатую тень в камуфляже.
Старшина-Радовский остановился, медленно засунул обратно за ремень «парабеллум».
— Здорово, Курсант. — И подал руку.
— Что, поменяли форму, господин… как вас там?.. — Воронцов усмехнулся, закинул автомат за спину и пошел было все той же стежкой к хутору.
Но Радовский его окликнул:
— Погоди, Курсант. Ты мне лучше скажи, как она?
— Родила. — Воронцов оглянулся. — Сын у тебя. Анна Витальевна уже и имя ему дала. Нил Алексеем окрестил. А я вашему сыну, Алексею Георгиевичу, крестный отец.
Радовский шагнул к Воронцову и обнял его, и Воронцов почувствовал, как тот затрясся всем телом. Что ж, и этот, как видно, не из железа сделан, тоже матерью рожден…
— А ну-ка, братец, повтори, что ты только что мне сказал. Неужто и правду сын у меня родился на родной земле?
— Сын, Георгий Алексеевич. Пойдемте. Анна Витальевна вас ждет. Вот уже рада будет! Да и нам тоже радость: не чужой пришел. Можно сказать, свой.
Они некоторое время шли молча, прислушиваясь к шагам друг друга, словно в них можно было услышать те мысли, которые сейчас клубились в голове каждого из них. Радовский оглянулся на Монахов Мыс и спросил:
— На кладбище могилка свежая… Кто?
— Пелагея.
— Как Пелагея? — Радовский остановился, опустил голову и перекрестился.
— А так, — не оборачиваясь, ответил Воронцов. — Она тоже мальчонку родила.
Снова шли молча.
— Ты-то тут давно? По службе или как?
— После расскажу.
Радовский долго на хуторе не задержался. Выложил из вещмешка какие-то гостинцы. Посидел у озера с Анной Витальевной, подержал на руках сына, поцеловал их, попрощался с остальными, пожелал тишины и покоя и ушел. Уходил он той же стежкой, в сторону Монахова Мыса.
Воронцов пошел проводить его. Дорогой успели о многом переговорить.
— Девчонку ту, которую твой солдат сахаром подкармливал, вынесли? — спросил Радовский, когда подошли к кладбищу.
— Вынесли. Она потом работала в госпитале. В мае в госпиталь попал и я. А тут как раз пришел приказ на выход. Кто ушел, кто как… В село нагрянули каратели. Я кое-как ушел. В самый последний момент. По госпиталю уже стреляли зажигательными пулями. Ушла ли Тоня, не знаю. Я ее в тот день не видел.
— Когда это произошло?
— Что?
— Когда каратели в деревню пришли?
— В мае. Числа десятого или двенадцатого.
— Как называлась деревня?
— Дебри. А что, знакомое место?
— Мне там все места знакомые, — уклончиво ответил Радовский.
— Вот в той самой Дебри, в школе, и размещался наш госпиталь. Охрану несли партизаны. Они то ли ушли в лес, то ли их по-тихому сняли. Сразу поднялась стрельба. В деревню со стороны большака заскочил бронетранспортер и тут же начал поливать из пулемета по домам, по госпиталю… Раненые кинулись кто куда… Расползались вокруг госпиталя, как муравьи. Я уже мог ходить и ушел в лес.
О своем плене, и первом, и втором, Воронцов Радовскому не сказал ни слова. Но по глазам его понял, что Анна Витальевна ему что-то успела рассказать.
— Ты сюда надолго? — спросил Радовский.
— Нет. Нога подживет и уйду.
— Куда?
— К своим. Куда ж еще.
— Ну да, куда ж еще… А тебя там ждут? В Особом отделе…
— Никуда не денешься. Не с вами же идти.
— А ты подумай. Подумай хорошенько.
— Вы надеетесь, ваша возьмет?
— А ты?
— Я думаю так, что присягу один раз дают. Много разных разговоров за это время я наслушался. Если бы не война, я сейчас учился бы в своем институте, получал высшее образование. А там бы и сестры школу окончили, и тоже дальше бы учиться пошли. Нам наша власть дорогу в жизнь не закрывала. Был у меня в отряде один, говорил: вот, мол, немцы большевиков перебьют, со Сталиным разберутся, а там, дескать, новое правительство назначат, и заживет Россия без большевиков и тюрем. А что получается на деле? Немцы нас за людей не считают. Я, когда шел сюда, две ночи ночевал в одном селе. Там, за шоссе. Две старушки, две сестры. Бывшие учительницы, дочери бывшего местного батюшки. Такие же вот, как и вы, Георгий Алексеевич, верующие. День и ночь у них в углу под божницей лампадка горит. Рассказывали, как у них на постое была артиллерийская часть. Заставили их баню топить. А потом — мыть их. Одна из них мне и говорит: я, мол, мужа своего никогда голым не видела. А тут — голые мужики… И сад потом весь загадили. Поедят, выйдут в сад и тут же, с сигаретами в зубах, присаживаются под яблонями. Мальчика, шестилетнего, сына соседки, офицер плетью до смерти запорол. За то, что тот из его сумки плитку шоколада стащил. Сумка лежала на лавке, открытая. Мальчик забежал в дом, увидел и взял. Женщину, местную библиотекаршу, беременную, возле школы вниз головой повесили — за то, что раненого офицера прятала. Снять разрешили, только когда уже запах пошел. Культурная нация, потомки Канта и Гёте… Я еще не знаю, что с моими. А вы меня еще спрашиваете, куда я пойду. Мне теперь одна дорога — туда, на войну. — И Воронцов махнул в сторону шоссе.
— Странное дело, Курсант. Мы с тобой оба русские люди. Оба любим Россию. А жизни нам, двоим, в своей стране, на своей земле, нет. И наши противоречия настолько сильны, что мы, в определенных обстоятельствах, готовы стрелять друг в друга. Ты никогда об этом не задумывался?
— Нет, не задумывался.
— А я постоянно только об этом и думаю.
— Это потому, что вы, Георгий Алексеевич, должно быть, в понятие «моя Россия» и «моя земля» вкладываете несколько иной смысл.
— Не думаю. Но об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз. Когда ты уходишь?
— На днях. Помогу им по хозяйству и пойду. Надо успеть дров наготовить, сена коровам накосить, картошку выкопать. Дядя Ваня уже сдает, слабеть стал. Прудки сожжены. Зимовать им придется здесь. Всем вместе.
— Курсант, у меня к тебе просьба. Видимо, я долго теперь не появлюсь. Позаботься о моей жене и сыне.
— Что я могу для них сделать?
— Не навреди. Ты же понимаешь, что Особого отдела тебе не миновать. А когда попадешь к ним, тут же и возникнет вопрос: где скрывался? чем кормился? кто рану перевязывал? что видел? маршрут выхода и прочее…
— Боитесь, что я выдам Анну Витальевну? Она мне зла не сделала. Ты сам ей не навреди, если хочешь, чтобы она здесь спокойно войну пережила. Сколько бы она, проклятая, ни длилась. А я скоро в отряд уйду.
— Снова — через линию фронта?
— А куда деваться? Некуда мне деваться, кроме партизанского отряда. Может, найду кого из своих. Владимир Максимович жив?
— Жив.
— Он теперь с вами?
— Со мной.
Вот тебе и судьба. Война человека то в бараний рог скрутит, то в струнку выпрямит, то снова — в бараний рог, да потуже прежнего, что и ни крякнуть, ни вздохнуть.
— Что-нибудь передать ему?
— Ничего. Мне с ним детей не крестить.
— Ты, Курсант, и со мной детей крестить не собирался. А пришлось, как видишь…
— А об этом не жалею. Твоего сына Зинаида принимала. Знаете об этом?
— Знаю. Все я знаю. Знаю и то, как тебя она искать ушла. И как нашла и сюда привела.
— Она святая, Зинаида. И Пелагея такая же была.
— Ты прав. Мы им, и Пелагее, и Зинаиде, обязаны по гроб жизни. Тяжело им тут будет зимой.
— Тяжело. Но лишь бы спокойно.
Перед уходом, уже возле могил, Радовский спросил Воронцова:
— Александр Григорьич, тут где-то, недалеко, слыхал я, твоя деревня?
— Да. На той стороне. Подлесная. Километров сорок-пятьдесят. Недалеко от шоссе. Она на все карты нанесена. И на наши, и на ваши.
— Недалеко. — И подумал: и мое ведь родное село недалеко. И тоже на той стороне.
Август уже заплетал в березовые косы золотые ленточки. Воздух стал прозрачнее, а тени на полянах резче и темнее. Захолодели обильные росы по зорям.
В одну из таких зорь Воронцов уходил с хутора в сторону фронта. Не нужно было компаса, чтобы определить направление движения, фронт рокотал, ухал тяжелой артиллерией, гудел моторами, лязгал железом о железо, вытаптывая и выжигая вокруг себя окрестность за окрестностью. И к нему с обеих сторон по воле штабов и людей с маршальскими и генеральскими лампасами двигались новые и новые маршевые роты и батальоны, на ближайших железнодорожных станциях и полустанках спешно разгружались с платформ новые и уже побывавшие в боях, но основательно отремонтированные танки и бронетранспортеры, выкатывались на позиции орудия, взлетали с аэродромов подскока самолеты с полным комплектом бомб и нанесенными на карты целями. Противоборствующие колонны сходились на каком-нибудь безымянном поле или на лесной опушке и приступали к своей кровавой работе, стараясь сделать ее основательно, чтобы поскорее с нею покончить и хоть немного отдохнуть в братских могилах и тыловых госпиталях.
— Прощай, Зиночка. — И Воронцов потянул ее к себе за руку и почувствовал, как вся она сразу и хлынула к нему, всем своим теплом и доверчивой нежностью. — Не знаю, доведется ли… Улю береги, ребят… Автомат я оставил в сарае, под сеном. Но лучше, если что, сразу — в лес. С Анной Витальевной держитесь вместе. Она женщина хорошая, добрая. Пока ты с ней, люди Старшины вам никакого зла не сделают. Она и сама к тебе льнет, ни на шаг не отходит. Вместе держитесь. И Тоню с Настенькой не бросайте. Старики уже старые стали, скоро валиться начнут…
— Молока у нее много. Улюшку подкармливает. Сразу двоих и кладет на колени, Леньку к левой груди, а Улю к правой.
Зинаида обхватила его за шею и стала целовать в губы. Он перехватил ее за талию и прижал крепче, так что она откинулась назад и засмеялась. Смеялась она тихо, будто боясь, что их могут услышать.
— Где искать нас, знаешь. — И она резко оттолкнула его, высвободилась и принялась поправлять волосы и платок, сбившийся набок.
— Знаю.
— И помни, что ты теперь для нас роднее всех родных.
— И вы для меня.
Так они и объяснились в любви. Потому что это и были самые дорогие, самые нежные и главные слова. В других нужды не оказалось.
Воронцов зашагал в сторону леса. Сосны чернели непроницаемыми предрассветными сумерками. Точно такие же сумерки стояли и в душе Воронцова. Вот с ними справиться было труднее. Он смотрел вперед, высматривал стежку. Скоро она кончится, и он пойдет по лесной дебри. Чем ближе он подходил к соснам, тем гуще становились сумерки. В такую глухую пору кажется, что все вокруг еще спит и проснется не скоро. Он шел и чувствовал, что та, тепло и запах губ которой еще пылали на его губах, смотрит ему вслед.
В лесу было еще совсем темно. Но птицы уже перепархивали где-то вверху, под черными куполами сосен, и посвистывали, позванивали, торопили сонный рассвет. Ноги сами понесли Воронцова к кладбищу. По знакомой, едва различимой в зарослях черничника тропе он вскоре вышел к березняку. Пелагеин холмик осел и начал зарастать редкой травкой. Воронцов сел на край.
— Ну, здравствуй, Пелагея Петровна. И прощай. Ухожу. Жив буду, детей не брошу. А что еще сказать тебе, я и не знаю. Слышишь ли ты меня? А, Пелагея? Дочь у нас с тобою родилась. Растет. — И он вздохнул тяжким и долгим вздохом.
До полудня он добрался до шоссе. Вышел на просеку, осмотрелся. Редкие грузовики проносились то на восток, то на запад, протягивая за собой шлейфы серой известняковой пыли. Фронт отсюда слышался уже совсем близко. И можно было отчетливо различить удары крупнокалиберных снарядов. Он подождал с полчаса и перешел шоссе. Углубился на полкилометра, нашел место поукромнее, надергал моха, лег, укрывшись от комаров шинелью. Уснул он мгновенно. А проснулся, когда солнце высоким малиновым столбом стояло на закатной стороне неба, просвечивая сквозь ветви деревьев уже неживым и прохладным светом. Он быстро встал, закинул за спину вещмешок, прислушался к дальнему гулу и пошел, держась все время на него.
Шел всю ночь. Утром остановился на краю поля и сразу узнал его. Это было то самое поле, которое в октябре прошлого года он перебегал дважды. Один раз под обстрелом минометов, когда их Шестая курсантская рота понесла особенно большие потери. Именно в том бою убило Краснова и многих других ребят. Тогда они шли на Юхнов. Дошли до Угры. Там их встретили немцы. А здесь, в этом поле, произошел потом еще один бой. Перед боем, когда уже окопались и изготовились, выяснилось, что у них совсем мало патронов, и Воронцов пошел искать пулеметные коробки. Вон там лежал вестовой старшины Нелюбина. А возле него валялись, присыпанные землей, пулеметные коробки. Воронцов сразу определил ту небольшую впадинку, где все еще угадывались заросшие сорняками воронки. Оттуда бежали немцы. Дорога левее, и ее надо обойти, в поле не высовываться. Трупы убитых, видимо, уже зарыли. Тем более, здесь были и немцы. А они своих не бросают.
Воронцов постоял на опушке еще с минуту, погрел в кармане медную пластинку складня и, вернувшись в лес, стал обходить поле, забирая правее, чтобы его не могли заметить от дороги. Шоссе здесь выскакивало на взлобок, и с него внимательный глаз далеко просматривал окрестность. Именно там год назад капитан Базыленко установил свое орудие, и расчет курсантов артиллерийского училища сразу же, первыми снарядами, подбил несколько танков. А они с окруженцами расстреляли почти в упор целое отделение немецких пехотинцев. Вот это была война, вспомнил Воронцов октябрь прошлого года. Где-то там, западнее, вспомнил он, должен быть мост. Артиллеристы подожгли несколько танков на спуске к мосту. А это значит, что там может находиться охрана. Вскоре он действительно почувствовал запах костра и услышал редкие голоса людей. Так и есть, охрана. И Воронцов начал забирать еще правее и вышел к оврагу. Спустился в овраг. Овраг начался в лесу и уходил извилистым рукавом куда-то вниз, видимо, к ручью или к речке. Вскоре орешник кончился, пошли ольхи, почва под ногами захлюпала. Потянуло болотиной. Сапоги у него были надежные, он их отыскал в сарае на хуторе и отремонтировал, подбил новую подошву, смазал дегтем. В таких сапогах и по воде можно ходить, не промокнешь. Запах болотины стал как-то резко и неестественно густеть. Воронцов остановился, присел и испуганно огляделся. Как всегда, все происходило неожиданно и быстро, почти мгновенно. Этот запах он знал. Кто им подышал однажды, то уже не ошибется. Пахло трупом. Этот сладковатый, густой и прилипчивый, как смола, тошнотворный запах ни с чем не спутаешь. Кругом тихо. Ни шороха, ни движения. Откуда здесь трупный запах? И он осторожно пошел вперед и, чувствуя, что запах усиливается с каждым шагом, понял, что идет правильно.
У самого ручья, на замшелых зеленых камнях лежал убитый. Форма на нем была красноармейская, но сапоги немецкие и немецкая камуфляжная плащ-накидка. Голова убитого наполовину погружена в воду. Шея посинела и вокруг нее с металлическим звоном злобно и деловито летали мухи. На той части лица и шеи, которая оказалась под водой, как угли, висели улитки. Труп уже начало разносить. Пролежал он здесь не больше двух дней. Но по грязным бинтам, которыми были перехвачены прямо поверх брюк обе ноги, можно было предположить, что ранило его на день-два раньше. Видимо, сюда он приполз. Захотелось пить, вот и пополз к воде. Никакого оружия при нем не оказалось. Воронцов, давясь от приступов тошноты, обшарил его карманы. В них нечего не оказалось. Ни документов, ничего. Он прошел несколько шагов навстречу течению, помыл руки и тут увидел в траве фляжку. Фляжка немецкая, стеклянная, в каучуковой оболочке, обшитой материей. Это была хорошая офицерская фляжка. Она тоже оказалась пустой. Воронцов подобрал ее, понюхал и принялся мыть. Он засунул внутрь пучок крапивы и начал старательно драить свою находку. Фляжка ему была нужна. Тщательно оттерев и промыв ее с песком, он наполнил ее водой и сразу же, чтобы подавить в себе приступ тошноты, сделал несколько глотков. За год своих скитаний по лесам он привык ко многому. То, что в иных обстоятельствах казалось немыслимым, отвратительным, здесь, на войне, стало обыденным. На раздутый труп он все же старался не глядеть. Вернулся в овраг и пошел по следу. Раненый полз тяжело, и след оставил такой, что Воронцов удивился, как он не заметил его сразу, ведь прошел в трех-четырех шагах от него. Заросли крапивы становились гуще. И там, за корнем поваленной ольхи, Воронцов обнаружил лежанку, наподобие той, какую он сам себе всегда сооружал для ночевки. Только здесь она была выстлана не мохом, а папоротником. Мухи, словно провожая его, с тем же злым металлическим звоном кружились над примятой и вялой травой, ползали по заскорузлой бурой тряпке, оторванной, видимо, от исподней рубахи. Тряпка тоже издавала тяжелый запах и вся буквально шевелилась от облепивших ее мух.
Человек здесь явно провел несколько суток. На подвядших лапках папоротника валялись обрывки упаковки от индивидуального медицинского пакета. Воронцов поднял их — немецкий, пакет тоже был немецкий. Но самое главное, что Воронцов надеялся найти здесь, он увидел немного в стороне, на вытянутую руку от лежанки. Это была не просто винтовка, а карабин системы «Маузер» с отличным, можно сказать, лучшим в мире оптическим прицелом. Такую он однажды видел у десантников на Извери. Оптический прицел был аккуратно закрыт самодельным чехольчиком, снизу задернутым тесемкой. Тут же лежал ремень с подсумками. Воронцов схватил карабин, смахнул со ствола землю, протер рукавом затвор и аккуратно отвел его. В глубине патронника блеснул желтой латунью патрон. Он потянул затвор еще немного, и, убедившись в том, что в патроннике не стреляная гильза, а патрон с пулей, толкнул затвор на место. Руки его дрожали. К ручью возвращаться не хотелось. Он затаился, прислушался, держа винтовку наготове. Со стороны моста послышался гул мотора и лязг гусениц. Гудело долго. Видимо, там шла танковая колонна. Или тракторы тащили тяжелые гаубицы. До моста отсюда было не меньше километра. Кто же он, этот снайпер? Своего бы охрана моста унесла и похоронила где-нибудь там, у дороги. Да и карабин не оставили бы. «Маузер» с таким прицелом — и на войне вещь редкая и потому ценная. Кто же это? И зачем ему было прятаться в этом овраге, именно здесь, в километре от моста, с перебитыми ногами, и тихо ждать смерти от потери крови? Или он кого-то ждал, кто должен был прийти за ним? Но не пришел. Или пришел, но слишком поздно. Но если бы пришел, то забрал бы карабин. А если и сам был нагружен под завязку? И может, тоже ранен? Воронцов ощупал подсумки. Два оказались пустыми, но в четырех других плотно лежали обоймы, придавленные клапанами с медными застежками. Он перекинул ремень с подсумками через голову, болтавшиеся концы пристегнул карабинчиками к ремню. Но вдруг понял, что уйти просто так не сможет. Тело лежавшего в ручье нужно было похоронить. Он осторожно пошел по протоптанной стежке вниз. Запах, исходивший от трупа, уже не так бил в голову. Воронцов расстегнул камуфляжную накидку, отбросил ее в сторону. Перевернул распухшее тело на спину и увидел на поясном ремне нож в самодельных деревянных ножнах. Он вытащил его и машинально сунул за голенище. Оттащил тяжелое тело на берег. Потом осторожно, чтобы не проткнуть кожу, срезал ремень, освободил чехол саперной лопаты.
Яму он отрыл быстро. Неглубокую. Затащил в нее тело снайпера. Так же торопливо закопал. Остатки земли разбросал вокруг. Помыл в ручье лопату, сунул ее в чехол, чехол пристегнул к ремню. Теперь он почувствовал себя увереннее. Вспомнилось: как обрадовались они, курсанты Шестой роты, когда их где-то здесь, на Извери, усилили пулеметным взводом ДШК и привезли несколько ящиков ручных гранат.
Через несколько минут Воронцов уже стоял на опушке леса, откуда хорошо виднелся край шоссе, белесая запыленная насыпь и выкрашенные, видать, еще до войны белой краской столбики моста. Он лег на дерево, расчехлил прицел, вскинул винтовку и посмотрел через поле. Двое охранников сидели на корточках возле костерка и подкладывали под гирлянду котелков дрова. В окопе, возле пулемета маячили еще две головы в круглых красноармейских касках. Воронцов насчитал пять котелков. Значит, где-то находился и пятый. Выйти к ним? В лучшем случае разоружат и отведут потом в Особый отдел. В худшем — полоснут очередью издали. А вот и пятый, разглядел-таки Воронцов еще одного охранника, сидевшего на ящике под ивовым кустом и пристально смотревшего в бинокль вдоль лощины. Он медленно опустил винтовку и такими же медленными движениями стал отползать в глубину березняка.
Куда идти теперь? Дальше? Но куда? Партизанский отряд майора Жабо действовал где-то в лесах возле Всходов. Только там его знали, там его могли принять как своего. Но туда еще нужно пройти. Карты у него не было. Но карту он помнил. И представлял примерно линию расположения немецкой и своей обороны. Запомнил и то, что его родная Подлесная находилась на немецкой территории. Все чаще и больнее он думал о своей деревне. Что там сейчас? Стоят ли немцы? Или хозяйничают полицейские? А может, квартирует такая же казачья сотня? Или нет уже Подлесной… Что с матерью и сестрами? Линия фронта, помеченная на карте синим и красным карандашом, проходила в стороне от его деревни, и это немного успокаивало. Запомнил и некоторые населенные пункты, через которые ползли эти карандашные полосы. Но с тех пор фронт мог передвинуться куда угодно. На запад. На восток. И линии, красная и синяя, наверняка изменили свою конфигурацию. А это означало, что деревни и дороги, которые вчера были отбиты, сегодня снова заняты немцами и полицаями или — наоборот.
То вдруг вставала перед ним Пелагея. Так и заступала дорогу, и он даже останавливался и растерянно смотрел по сторонам. Проходило мгновение, и все исчезало так же внезапно, как и появлялось. И Воронцов догадывался, что это просто усталость. Усталость всего, не только тела. Усталость, на которую накладывалась еще и неопределенность и нынешнего его положения, и будущего. Запас продуктов, собранных ему в дорогу Зинаидой, тоже оказался не бесконечным. Если не удастся перейти линию фронта в ближайшие день-два, придется голодать или пытаться разжиться съестным где-нибудь в деревне. Но здесь, вблизи передовой, деревни все обобраны и разграблены. Оставалась надежда на то, что еще не убран с огородов картофель и другие овощи. На рассвете, перед очередной дневкой, он вышел к первой, попавшейся на его пути деревне, пробрался в ближайший огород, выдернул несколько веток картофеля, ножом разрыл землю. Клубни рассовал по карманам, за пазуху, и торопливо ушел из деревни, стараясь до восхода солнца подальше уйти в лес, чтобы не оставить нигде приметного следа. Однажды он уже поплатился за то, что уснул на лугу. Тогда милиционеры Захара Северьяныча быстро отыскали его по следу, оставленному ночью на траве: сбитая роса указала им путь и выдала его. Второй раз он попал и вовсе глупо.
Второй раз Воронцова взял патруль егерей. Он и к линии фронта еще не подошел. Оставался один переход. Днем лег на отдых в лесу. Пошел дождь. И он проснулся оттого, что по лицу шлепали крупные холодные капли. Сразу захотелось есть. Он решил сходить в ближайшую деревню. Винтовку оставил в лесу. Забросал ее сверху мохом и пошел через поле к дворам. В деревне кричали петухи. И это означало, что деревня не ограблена и здесь можно разжиться съестным. С собою, может, и не дадут, но хотя бы накормят. За огородами по краю поля бродило небольшое стадо коров. Старуха с длинной хворостиной стояла под одинокой ракитой. Она сразу заметила его и, видимо, поняв, что он, прежде чем войти в деревню, подойдет вначале к ней, стояла как вкопанная. Она, конечно, сразу догадалась, кто он. И теперь, вспоминая ее и тот нелепый разговор, который и решил его судьбу, он проклинал и ту тетку, и себя, и свою беспечность. Еще сутки без еды он вполне мог бы протянуть. Старуха, когда он подошел к ней, оказалась вовсе и не старухой. Лет сорока пяти, стояла, испуганно кусала семечки. Он спросил:
— Немцы в деревне есть?
— А у меня ничего нет, — тут же торопливо, как настигнутая, ответила она и спрятала в карман кулак с семечками.
Он пристально посмотрел ей в глаза. Да нет, глаза вполне нормального человека. И снова спросил:
— Фронт далеко? — И указал в сторону поймы.
— Самим давно есть нечего, — опять настигнуто забормотала та. — Дети голодные. Ваши уже давно все забрали.
После тех ее слов надо было тут же уходить. Назад, в лес. Бежать через поле, а там — в лес, в чащобу. И затаиться до вечера. Ведь он сразу обратил внимание, как сжала она в кулаке семечки и сунула кулак в карман. Этот жест надо было оценить по достоинству и, не медля, — в лес. Сходил пожрать… Накормили, землячки…
Тетка, конечно, была не глухонемая, и вполне в своем уме. И отвечала она не его словам, а его глазам. В глазах уже блестел голод. Этот блеск ни с чем спутать нельзя. Люди в этой деревне уже год жили в оккупации и знали и цену куска хлеба, и цену человеческой жизни. Как же он не сообразил сразу, что тетка бормочет несуразное, может, как раз потому, что хотела предупредить его. Черта с два она хотела предупредить. Если бы хотела отвести от него беду, так бы и сказала: беги, мол, солдат, в деревне немцы. Тем более что он и спросил ее в самом начале именно об этом. И вместо того, чтобы бежать прочь от той злосчастной деревни, он сказал тетке что-то обидное, плюнул под ноги и пошел мимо огородов ко дворам. До них, до крайнего, оставалось всего-то шагов шестьдесят-семьдесят. Оглянулся: пастушка стояла все там же, под ракитой, и смотрела на него из-под руки. Даже кулак с семечками из кармана не вытащила. И в тот момент, когда он повернул к крайнему дому, из-под горы, от переезда, выехали трое конных. Одежда на них была такая, что он сперва принял их за беловцев. Те тоже носили и немецкие шинели, и пилотки, и сапоги, и даже серо-зеленые френчи с погонами и всеми нашивками, даже свастику не всегда спарывали. Так же пестро были экипированы и эти трое. Один в красноармейской офицерской гимнастерке и рыжих кавалерийских ремнях, на груди новенький ППШ. Но первое же слово, которое он услышал, опрокинуло его надежды:
— О, rus! Komm!
Немцы с любопытством разглядывали его. Один из них, тот, с автоматом ППШ на груди, покрутил над головой черенком казацкой плети и громко засмеялся, что-то говоря своим товарищам. Они пришпорили гнедых, лоснящихся от хорошего корма коней и с гиканьем и хохотом стали кружить вокруг него. И все тот же, в командирской гимнастерке и кавалерийских ремнях, ловко перегнулся в седле и вдруг вытянул Воронцова плетью. Немец метил по голове, и, если бы Воронцов не вскинул руки, пуля, вплетенная в кончик ногайки, хлестнула бы не по пальцам, а по лицу.
О том ударе ему теперь напоминала кривая фаланга безымянного пальца. Рана давно зажила, но кость срослась неправильно. Держать винтовку и стрелять это не мешало, и Воронцов вскоре забыл о своем увечье. Но в холод палец начинал ныть.
На этот раз он решил не останавливаться на дневку. Фронт гудел совсем рядом. По всем проселкам сновали мотоциклы и грузовики. В основном одиночные. Он посмотрел в прицел: так и есть — немецкие! Мотоциклисты были одеты в плащи и каски. В глубоком тылу на дорогах они обычно ездили в пилотках или в носатых кепи. Теперь стало понятно, почему над лесом несколько раз пролетали и разворачивались косяки «петляковых» и штурмовиков. Немцы начали наступление. Или отходили наши. А значит, линия фронта меняла свою конфигурацию. И авиация прикрывала отход, бомбила немецкие колонны на подходе к передовой, чтобы противник не мог ввести в дело свежие части и развить наступление. Или ночью он, сам того не зная, перешел линию фронта на каком-то тихом участке.
Вечером Воронцов вышел к переправе через небольшую реку. И в это время на нее налетели «илы». Впереди виднелась дорога и понтонный мост, наведенный в два ряда, забитый грузовиками и танками. И когда из-за леса вынырнули три пары штурмовиков, тут же с обеих сторон моста захлопали эрликоны. Иссиня-белые пульсирующие трассы мелкокалиберных снарядов уходили в небо, пытаясь перехватить стремительный полет самолетов. На втором заходе пара «илов» изменила траекторию полета и накинулась на ближайшую установку. В одно мгновение площадка, с которой яростно стрелял ближний эрликон, была очень точно накрыта серией снарядов, все потонуло в разрывах, в багрово-черном дыму и облаках тяжелой пыли. Когда пыль осела, Воронцов увидел в прицел снайперской винтовки искореженный остов установки с висящими на них телами зенитчиков. «Илы» тем временем начали свой очередной маневр: перестроились, образовав в небе гигантский косой круг, прикрывая хвост друг друга. Круг приблизился к переправе, завис над ней, и уже через минуту, заходя поочередно, «илы» приступили к методичной бомбардировке переправы. После каждой атаки вверх поднимались высокие фонтаны черной воды, взлетали искромсанные части грузовиков, обломки понтонов и куски бревен. Машины, оказавшиеся в момент налета по эту или ту сторону переправы, начали расползаться по пойме. Водители, поняв, что реальная возможность спастись самим и спасти груз — как можно скорее оказаться подальше от переправы, погнали свои машины вдоль реки или повернули назад и газовали по всему лугу, пытаясь забраться на гору. Опыт им подсказывал: штурмовики не улетят до тех пор, пока не израсходуют весь боекомплект. А пара, ловко подавившая один из эрликонов, тем временем делала заход для выполнения очередного противозенитного маневра. Снова облако огня и пыли поднялось вверх. Но сиреневые струи зенитной установки продолжали выплескиваться вверх, и ведомый штурмовик, мгновенно потеряв пластичность и стремительность полета, начал отставать от своего ведущего, и вскоре узкий шлейф дыма потянулся за ним. «Ил» стал уходить к лесу с набором высоты, задымил еще гуще.
Воронцов пытался поймать подбитый самолет в оптический прицел, но лишь успел увидеть, что над лесом штурмовик резко потерял скорость и его начало заваливать на левое крыло. Далеко он не улетит, понял Воронцов и, не дожидаясь конца атаки «илов», побежал в лес. Мотор штурмовика работал с перебоями и через мгновение умолк. А еще через мгновение в глубине леса послышался треск и глухой удар.
Еловые лапки хлестали по лицу и рукам Воронцова. Наконец он отыскал коровью стежку и побежал по ней.
Штурмовик срубил верхушки нескольких сосен и торчал в земле, нелепо задрав вверх обтрепанный фюзеляж. Обе плоскости лежали неподалеку. Мотор ушел в землю и, видимо, поэтому ни пожара, ни взрыва не произошло. Пахло авиационным керосином и свежей хвоей. Шагах в десяти от рухнувшего самолета лежали бронестекло и человек в кожаной куртке и летном шлеме. Лежал он неподвижно. Лицо залито кровью. В задней части кабины, под колпаком, быстро наполнявшимся бурым дымом, кто-то судорожно шарил по стеклу окровавленными руками. Воронцов подбежал к самолету и отодвинул заклинившее стекло. Вытащил из кабины стрелка. Тот мотал головой, задышливо кашлял и повторял одно и то же слово:
— Лейтенант… лейтенант… лейтенант…
— Там твой лейтенант, — толкнул его Воронцов вперед. — Выбросило его из кабины. Вон, вроде ковыряется. Живой.
Они подбежали к летчику, перевернули его на спину. Стрелок перехватил руку с пистолетом и начал разжимать его окаменевшие в мертвой хватке пальцы.
— Живой твой лейтенант. Видишь, как крепко за пистолет ухватился.
— А ты кто такой? — Стрелок сунул пистолет своего командира за пазуху, расстегнул «молнию» летной куртки и ощупал грудь, осмотрел бока. — Вроде нигде ничего нет.
— Контузило его, видать. Ударило. Головой вон стекло какое вышиб.
— Стекло вылетело от удара. Иначе бы…
— Давай-ка, сержант, поскорее отсюда… Сейчас немцы придут. Вы на виду у них падали. Пока ваши «горбатые» не улетели, успеем в лес уйти. Улетят, немцы быстро очухаются, искать вас начнут.
В это время со стороны переправы послышался нарастающий рокот мотора и через мгновение над соснами легко скользнул силуэт штурмовика.
— Лейтенант Мякишев! Нас ищет! — закричал сержант. — Мякишев! Мы тут, Мякишев!
— Услышит он, твой Мякишев. — Воронцов перекинул ремень винтовки через голову и подхватил летчика под мышки. — Бери, давай. А то попадем сейчас, все трое.
— Пулемет бы надо взять…
— Какой тебе пулемет! Ты что, своего лейтенанта хочешь бросить?
— Нет, лейтенанта я не брошу. Он мой командир. У нас строгий приказ: командира не бросать ни при каких обстоятельствах.
— Тогда давай, тащи!
Побежали, треща кустами, по коровьей стежке.
— Стой, — сказал Воронцов. — Надо — туда. Если они будут искать, то начнут именно отсюда. Так что уходить лучше не в глубину леса, а — опушкой. В лес пойдем километра через два-три, не раньше. Так что давай, бегом.
Снова над местом падения пролетел самолет, скользя широкими плоскостями над самыми верхушками сосен.
— Это Мякишев кружит. Ведущий наш, — уже безнадежно проводил сержант улетающий самолет.
— Негде ему тут сесть.
— И что, нигде поблизости поля нет?
— Только там, в пойме, возле переправы.
Они побежали дальше. Спустя некоторое время, когда грохот на переправе утих и гул самолетных моторов уполз на восток, остановились, чтобы отдышаться. Воронцов вытащил из-за голенища нож, присмотрел подходящую орешину и начал вырезать ручки для носилок. Сдернул с плеч плащ-накидку.
— Держи-ка палки, — приказал он стрелку и принялся привязывать к орешинам концы камуфляжа.
Через час они снова остановились на отдых. Опустили носилки возле ручья. Бегущая по камням в тени смородинных кустов прозрачная вода завораживала. Хотелось упасть прямо в ручей, лечь грудью на камни и — пить, пить, пить. Так они и поступили. А когда напились и немного отдышались, стали решать, что делать дальше.
— Надо перевязать твоего лейтенанта. Есть чем? А то мухи вон лезут…
Стрелок достал индивидуальный пакет. Рану на лбу тут же промыли. Когда начали бинтовать, лейтенант открыл глаза и спросил:
— Калюжный, ты рацию забрал?
Тот даже вздрогнул. И сказал:
— Разбило ее вдребезги, нашу рацию, товарищ лейтенант. Так что нечего там снимать было. Самолет — в лепешку.
— Машину надо было взорвать. Или сжечь. Почему ты этого не сделал, Калюжный?
Лейтенанту помогли сесть. Но его еще болтало со стороны в сторону. Воронцов посмотрел на него и махнул рукой:
— Ложись, ложись, лейтенант. Тебе лежать надо. Головой все же ударился.
— Сжечь надо было машину, — не унимался лейтенант. — Ты, Калюжный, приказ нарушил. Воспользовался тем, что я находился в бессознательном состоянии.
— Эх, товарищ лейтенант… Тут насилу сами ноги унесли. Вон, если бы не он, и я бы из самолета не вылез. Колпак заклинило. А он открыл. Мякишев над нами летал. Видать, немцы искать нас кинулись. Хотел отогнать. Или сесть. Негде там садиться. Лес кругом. Нашему «горбатому» плоскости так и обрубило. Одна «сигара» осталась. До кабины в землю вошла. И как мы, лейтенант, живые остались? — Стрелок невесело засмеялся, завязывая на затылке раненого конец бинта. — Пять смертей нас сегодня миновало, лейтенант. Первая: нас не убило тем гадским снарядом из эрликона, он попал в мотор, а не в кабину. Вторая: мы не загорелись в воздухе. Третья: мы не упали сразу, там, возле переправы. Четвертая: мы не взорвались при падении. Пятая… А пятая, видать, еще ходит по нашим следам.
— Кто он? Откуда он здесь взялся? Это же немецкая территория. — Лейтенант лег ничком на носилки и, пока снова не впал в забытье, не отводил взгляда от Воронцова. — Немного полежу и своим ходом пойду.
— Ложись, ложись, лейтенант. Своим ходом…
Воронцов прикрыл раненого своей шинелью. Тот закрыл глаза. Вскоре его начал бить озноб.
— Жар у него. Надо отвар сделать. Но тут костер разжигать нельзя.
— Петлицы у тебя курсантские, — кивнул стрелок на шинель Воронцова. — Ты что, курсант?
— Курсант.
— Значит, лейтенанта не успел получить.
— Не успел.
— Я тоже. Нас на летчиков-истребителей учили. Потом вдруг в срочном порядке начали переучивать на штурмовиков. Ускоренный выпуск. А тут полковник в училище приехал, построили наш курс: на фронтовых аэродромах не хватает техников и техников-оружейников, что если есть, мол, добровольцы, — шаг вперед. Мне мой земляк и говорит: Лешка, давай пойдем техниками, летчиков скоро убивают. Это точно. Начальник курса наш до ранения летал на «Ил-2». Так он сказал, что у штурмовиков на фронте самый короткий век. Пять-шесть вылетов, и сбивают. Мы и вышли из строя. И служил я почти полгода в полку оружейником. Мое дело, чтобы все, что стреляет и взрывается, работало и действовало исправно. А месяц назад такая ерунда в полку пошла: летчики стали возвращаться домой с убитыми стрелками. «Мессеры» появились, эскадрилья клятая, очень опытные. Асы. Выбирают такой угол атаки, что стрелку его не достать. Турель не позволяет. А то еще что делают. Бросаются неожиданно, из-за облаков или со стороны солнца. «Мессеру», чтобы «илюху» завалить, в первую очередь надо стрелка убить. Так что стрелки на штурмовиках — это смертники. А тут приказ: армия в наступление пошла. И — пошло. По два-три вылета в день. То эскадрильями, то сразу всем полком. Потери — большие. Раз так начали выруливать на взлетку, а из машины моего лейтенанта стрелок, прямо на ходу, выпрыгнул и катается по земле, кричит благим матом. Комполка — к нему. Воспитками его да матюгами. А тот: не могу, мол, не полечу, меня, кричит, убьют в этот раз. Что делать? Такого стрелка, понятное дело, посылать в бой нельзя. До этого летал, ничего такого с ним не случалось. Видать, парень почувствовал что-то. И тут комполка и говорит мне: а ты чего, мол, рот разинул, бери парашют и — марш в машину! Так я, говорю, оружейник, товарищ подполковник. А он: вот и хорошо, что оружейник, значит, пулемет хорошо знаешь. Кинул я на дно колпака парашют, залез, пристегнулся. Полетели. И в первом же бою «мессера» срубил. Командиру — орден Красного Знамени, а мне — Красную Звезду. Боялся в летчики попасть, а попал еще хуже, в стрелки.
Вот это война, думал Воронцов, слушая стрелка. Он видел, как «илы» заходили на штурмовку, как все на земле после их атаки становилось дыбом. И теперь он стоял рядом с экипажем одной из этих машин и слушал рассказ стрелка. Лучше бы он два года назад, когда только-только окончил школу и поступил в институт, сразу, как другие ребята, приехавшие в Москву из деревень, записался в аэроклуб. Тогда бы не попал в пехотное училище, а летал бы на таком же штурмовике. Или на истребителе. За один удачный бой — по ордену.
— Ты до войны в аэроклубе занимался? — спросил он стрелка.
— Нет. Не было у нас аэроклуба. Я из Ельца. Маленький городок. А вот лейтенант, считай, на фронт из аэроклуба прибыл. Трехмесячные курсы в учебном полку и — сюда.
— Наблюдал я за вами, как вы там, на переправе…
— Видел, как мы зенитку накрыли! Вот атака получилась так атака! Эрэсами! Ими попасть трудно. Командир попал. А потом — они нас…
— Я все видел. Здорово вы воюете.
Воронцов огляделся по сторонам. Лес тихо шумел вокруг. Ветер гулял по верхушкам осин и берез. В стороне переправы еще погромыхивало. Там, видимо, догорали транспорты, рвались в кузовах боеприпасы. Но ничего похожего на звуки погони Воронцов не услышал.
— Ну, что, отдохнул? — сказал он стрелку и снова перекинул через голову ремень снайперской винтовки. — Пошли, что ли?
— Погоди. — И стрелок спустился к ручью, стал на колени и умылся. Потом какое-то время разглядывал свои руки. Руки его дрожали.
На носилках тащить раненого было куда легче и удобнее. Правда, приходилось все же обходить заросли кустарника. Вскоре начались сосновые посадки, и они пошли по просеке. Здесь почти бежали. Даже появилась возможность поговорить.
— Винтовка у тебя немецкая. И подсумки тоже. — Стрелок говорил медленно, задышливо кашляя почти после каждого слова. Видать, наглотался-таки дыма, отравил что-то внутри. Но после всего пережитого поговорить ему очень хотелось. — Ты что, в разведке, что ли?
— Да вроде бы, — уклончиво ответил Воронцов.
— Это как понимать?
— А так. В разведке… Почти уже год…
— Не понял…
— Потом как-нибудь расскажу. Когда лейтенант очухается. А сейчас вот что скажи: кто наступает, мы или немцы?
— Никто не наступает. — Стрелок закашлялся. Быстрая ходьба влияла на его бронхи плохо: чем глубже он дышал, тем сильнее его душил кашель. — Мы сегодня утром вылетели на штурмовку колонны, которая двигалась к фронту. На обратном пути должны были ударить по переправе. Но колонну застали как раз на переправе. Так получилось. А неделю назад наступали. Но сейчас наступление заглохло. Немцы начали жать. Видал, сколько техники к передовой гонят?
Значит, ночью он все-таки миновал и своих, и немцев. Прошел обе-две линии и ничего не заметил. Вот тебе и разведчик. Обычно незанятые участки обороны контролируются хорошо укрепленными опорными пунктами. Так делают и наши, и немцы. Но незанятое войсками пространство в этом случае тщательно минируется. Значит, ночью он пошел по минному полю. А может, и по двум сразу. От этой мысли Воронцов вспотел.
— Так кто ты, курсант или разведчик? — снова начал допытываться стрелок. Видимо, его начала беспокоить неопределенность положения, в которое попали они с лейтенантом.
— И то, и другое, — снова отмахнулся Воронцов неопределенностью.
Стрелок пристально смотрел ему в спину. Воронцов это почувствовал. И понял, что дальше, тем более если очнется лейтенант, такие ответы не пройдут и надо будет летчикам говорить что-то определенное. Но как им расскажешь правду? Кто в нее поверит? Они здесь, по эту сторону фронта, всего несколько часов, а он… Они и войну знают разную. У них она — одна. У него — другая. И он решил молчать, пока не очнется лейтенант. Все-таки старшим по званию среди них был летчик, и уже если кому-то докладывать, то только ему. А сержант-стрелок, которого распирало любопытство и одновременно донимала тревога, подождет.
— Ты бы потише кашлял, сержант, — предупредил его Воронцов.
— Не могу. Мутит. Внутри будто гарь стоит. Как будто ожог внутри. Дыма наглотался.
— Хочешь воды?
Они остановились. Лейтенант застонал. Воронцов помог ему повернуться на бок.
— И фляжка у тебя, курсант, не нашенская…
— А вода? — усмехнулся Воронцов, не сводя со стрелка пристального и холодного взгляда.
— Вода-то в норме, — напряженно засмеялся стрелок. — Наша водичка. Но ее, как известно, и немцы пьют.
Что ж, разговор зашел в тупик.
— Все. Привал. Надо разжечь костер. Лейтенанта колотит. Жар не спадает. Да и ты бохаешь… — Воронцов осмотрел голову лейтенанта, осторожно поддел пальцем бинты. — Рану еще раз промыть надо. Отваром. Иначе загубим твоего командира.
— А ты, курсант, нас не сдашь? — спросил вдруг стрелок, и в голосе его Воронцов почувствовал страх.
— Сейчас я беспокоюсь только об одном: как бы не попасться вместе с вами. Я, пока шел, костра ни разу не разжигал. А теперь, у немцев под самым носом, — надо.
— Тогда, может, и обойдемся без костра?
— А лейтенант?
— Лейтенанту, если ничем ему не поможем, лучше не станет. Только хуже. Но сделаем давай так когда костер разгорится, ты заступаешь в охранение. И еще: больше ни о чем не расспрашивай. А то уйду. Понял?
— Нет, курсант, ты только не уходи. Не бросай нас. Командира надо вынести. Один я с ним не справлюсь. Тяжелый. Не донесу.
— Ты лучше с ним договорись, чтобы он тебя в Особый отдел не сдал на выходе.
— Не сдаст. Это он бредит.
— Смотри… Как бы потом его бред в протоколе не оказался.
И они пошли собирать хворост.
Глава пятая
Стрельба в стороне траншеи стала постепенно затихать. Григорьев то привставал на корточках, то снова садился, прислушивался. Там, за деревьями, прогрохотали танки, лоскоча гусеницами. Похоже было, будто трактора возвращались с пахоты. Нелюбин даже прикрыл глаза от внезапных сладких воспоминаний, когда все в окружающем мире происходило правильно, без особой обиды для людей, когда люди не гонялись друг за другом, чтобы поймать на мушку или всадить в живот штык. Было ж и такое хорошее время. Эх, какое хорошее время было! Ушло. Разом обрезало. В одно утро.
— Григорьев, ты, ектыть, голову убери. Пока не прошли. А то заметят…
— А видать, поздно, взводный. — Голос сержанта Григорьева разом задеревенел, осип. — Идут… Вон они…
Нелюбин приподнялся на локте и посмотрел туда, куда неподвижным истуканом глядел сержант Григорьев.
И правда, по коровьей стежке, держа как раз на их осину, под которой они залегли в надежде переждать контратаку, шли трое немцев. Один с автоматом, двое с винтовками. В солнечных бликах поблескивали гофрированные коробки противогазов, мелькали каски, обтянутые камуфляжной материей и утыканные березовыми веточками.
— Если не поднимем руки, перебьют нас. А, Кондратушка?
Никто во взводе не звал его по имени. Отделенные иногда звали по имени и отчеству. И это «Кондратушка» так резануло по сердцу, что Нелюбина сдавило мгновенной жалостью не только к своему лучшему во взводе сержанту, но и к самому себе. В голове замутилось: что делать, господи?! И в это мгновение немцы, видать, заметили их.
— Halt! — послышалось от стежки, и короткая очередь осадила листву над головами, рвануло осиновую кору.
Григорьев уже стоял с поднятыми руками. А Нелюбин, понимая, что ничего уже сделать нельзя, рванул зубами чеку гранаты.
— Не надо, Кондратушка, — услышал он жалобный голос своего отделенного, и сердце его снова зашлось смутной надеждой, и он не разжал пальцев, чтобы отпустить скобу взрывателя.
Немцы приближались. Теперь они шли не гуськом, а охватывали их полукольцом.
— Steht! Steht! — кричали они, вскидывая стволы винтовок, откуда в любое мгновение могло плеснуть огнем и прекратить все мучения.
Ну, стреляйте же, стреляйте… Душу не выматывайте… Нелюбин так и не встал. Он сидел, привалившись потной спиной к дереву, будто пристыл к шершавой коре, и крепко сжимал в руках ребристое округлое тельце гранаты — свою последнюю надежду. Уж она-то не выдаст.
Немцы долго не подходили, стояли за деревьями шагах в десяти и переговаривались, курили, что-то решали. Никто их не торопил, ни стрельба, ни командиры.
— Кошт! — позвал один из них и махнул автоматом Григорьеву.
Тот послушно побежал к ним, держа над головой винтовку и ремень с подсумками. В плену ни разу не был, а сдаваться умеет, с запоздалой злостью подумал о сержанте Нелюбин и крикнул ему:
— Стой, Григорьев! Вернись!
Сержант Григорьев замедлил шаг, оглянулся и, свесив голову и опустив плечи, поплелся к стоявшим за деревьями немцам. Нелюбин видел, как автоматчик взял у него из рук винтовку и отбросил ее в кусты. Туда же полетел и ремень с подсумками. Немцы что-то говорили Григорьеву. Тот послушно кивал, оглядывался на взводного. На что-то ж моего Григорьева подбивают, злодеи чертовы, подумал Нелюбин. Он все ждал оттуда пули, но немцы почему-то не стреляли.
— Кондрат, — вскоре позвал Григорьев, — кинь ты ее в кусты. Отвоевались.
— Не могу, — чужим голосом сказал Нелюбин, — пальцы свело. Не пойду я в плен, Григорьев. А ты как хочешь…
— Не дури, взводный. Что зазря умирать?
Немец с автоматом толкнул Григорьева к Нелюбину, что-то показал рукой.
— Погоди, взводный, я тебе помогу! Погоди, Кондрат!
Григорьев прижал скобу и разжал пальцы младшего лейтенанта. Теперь граната была в его руке.
— Ну, что теперь будешь делать? — Нелюбин смотрел на сержанта Григорьева злыми глазами.
— Ты мне теперь не командир, младший лейтенант, — сказал он, тоже не узнавая своего голоса, и отшвырнул гранату в кусты.
Осколки зашлепали по березам, обрывая листву и сбивая к ногам ветки ивняка. Как жаль, что ни один из них не влепил ему в лоб, вздохнул Нелюбин и отвернулся от Григорьева. Ему не хотелось больше смотреть на бывшего своего отделенного. А ведь считал его хорошим младшим командиром.
— Пойдем, Кондратушка, — услышал он сквозь звон в ушах голос сержанта. — Держись за меня. — Это был снова голос сержанта Григорьева, лучшего отделенного третьего взвода.
И Григорьев подхватил младшего лейтенанта Нелюбина под руку и помог подняться на ноги. Нет, Григорьев его все же не бросал. И Нелюбин оперся на его руку.
Их повели той же коровьей стежкой, по которой полчаса назад они пытались уйти в лес и затаиться, переждать контратаку. Немцы шли следом, курили и тихо переговаривались. Вот, Кондрат, и опять опрокинулась твоя фронтовая жизнь, корил себя за малодушие младший лейтенант Нелюбин. Ну что тебе стоило разжать пальцы? Сейчас бы летела душа в рай. И не мучился бы, не мучил бы ни Григорьева, ни себя. Как все неладно вышло… Господи, как неладно… Сходили, называется, в атаку…
Лес кончился. По чистине их погнали бегом. Немец в кепи с длинным козырьком подтолкнул Григорьева прикладом:
— Schnell, Iwan! Schnell!
Вот и началось, подумал Нелюбин. И сказал Григорьеву:
— А ты думал, нас тут баранками кормить будут…
Григорьев ничего не ответил, а только крепче перехватил взводного под руку и потащил через луговину. Ноги у Нелюбина все еще заплетались.
Вскоре спрыгнули в пыльную, разбитую минами траншею, укрепленную изнутри прутяными матами. По отводному ходу их повели в глубину, к вершине холма. Нелюбин угрюмо смотрел по сторонам и, видя, как основательно, в несколько линий, укрепились немцы на этой проклятой Зайцевой Горе, подумал: а мы, дураки, ротой хотели прорвать на всю глубину… Вон сколько пулеметов у них во всех местах порасставлено. Запасные позиции отрыты. Блиндажи. Судя по ступеням, глубокие. Не то что у нас, там, внизу, в болоте — только на карачках и влезешь на нары, а под жердями в черной воде тритоны плавают. Половину взвода малярия катает от сырости и ночных холодов. Другая половина чирьями покрылась. А вон у них и минометы спрятаны. Умно, в лощинке, снизу и в бинокль не разглядишь. Но воронок и у них полно. Видно, наши артиллеристы все же научились засекать их огневые. Тоже небось много кишок по олешкам развешено…
Их втолкнули в темную землянку, по всей видимости, штабную. И Нелюбин с удивлением обнаружил, что стены внутри землянки обшиты тесом. Да еще и струганым. И потолок тесом забран. Ну прямо вагон-ресторан. За столом возле керосиновой лампы сидел пожилой немец. В углу молодой солдат — телефонист, совсем мальчишка. Связист с любопытством разглядывал их. Нелюбин тоже смотрел на него и думал: видать, и у них детей стали в армию забирать. Взгляды их встретились. Немец отвернулся. Следом за ними вошли еще двое, судя по шитью на погонах, тоже офицеры, но рангом, видать, пониже пожилого. Один из вошедших что-то спросил немца, который их конвоировал. Тот долго рассказывал. Потом указал на младшего лейтенанта Нелюбина, дернул его за петлицу. Немцы некоторое время молча смотрели на его руки. Видать, конвоир рассказал им про гранату, догадался Нелюбин.
— Ну что, младший лейтенант, закурим? — вдруг заговорил один из офицеров и вытащил портсигар.
Нелюбин успел разглядеть тот портсигар. Узкий, вполовину меньше обычного солдатского и, должно быть, серебряный. На крышке, которую не то этот самый немец, не то русский ловко открыл перед ним, была выгравирована Спасская башня Кремля и надпись: «Москва». Что ж, раз дают покурить, надо воспользоваться, подумал Нелюбин. Содержимое их карманов, в том числе и кисеты с табаком, немцы очистили еще в лесу. Он собрал все свои силы, прицелился и, удерживая дрожь в руке, взял не одну, а сразу две сигареты. Одну тут же передал сержанту Григорьеву, стоявшему рядом.
— Курите, курите, младший лейтенант. — Офицер снял фуражку, бросил ее на топчан, застланный красноармейскими шинелями. — И приготовьтесь ответить на некоторые вопросы, которые вам задаст господин полковник. Отвечать советую точно, по возможности кратко.
После допроса их погнали дальше в тыл. Уже вечерело, когда они увидели впереди наполовину выгоревшую деревню. Печные трубы, как аисты, стояли вдоль дороги. Другая сторона уцелела. В огородах, прикрытые нарубленными березами, стояли танки, средние T-IV и несколько бронетранспортеров. Возле «гробов» ходил часовой. Вот бы куда закинуть несколько тяжелых снарядов, подумал Нелюбин, оглядывая огороды, забитые техникой. Он вспомнил офицера, его безупречно подогнанную форму, тщательно начищенные сапоги и узкий серебряный портсигар. Видать, из господ. Русский. Говорит без акцента. Но и по-немецки лопочет без запинки. Обещал, что нас сразу же после допроса накормят. Где там, хорошо хоть не расстреляли. А то шлепнули бы где-нибудь в дальней траншее, чтобы через пару часов не завоняли.
Их загнали в приземистый сарай на краю деревни. В сарае пахло овечьим пометом и известкой.
— Видать, овчарня до войны была, — сказал сержант Григорьев. Это были первые его слова после леса.
И Нелюбин покосился в его сторону и кивнул:
— Овчарня она и есть овчарня. Для таких баранов, как мы.
В сарае, на соломе, сваленной в углу, лежали другие пленные, всего человек шесть.
— Смотри-ка, взводный, и Гальченко с Савчуком тут. А мы думали, их убило во время бомбежки, — Григорьев посмотрел на него так, будто хотел сказать еще что-то, но понял, что и этого довольно. И Нелюбин все понял: не зря сержант опять начал называть его взводным. Видать, в себя пришел. Страх в плену держит человека только в первые минуты, а потом все постепенно проходит.
— Ты ж вроде от меня отказался. А, Григорьев? — покосился на сержанта Нелюбин.
— Да струхнул я малость, товарищ младший лейтенант. Прости уж за ради Христа.
— Что, прошло?
— Да нет, еще трясет.
Гальченко и Савчук еще три дня назад числились в его взводе.
Теперь они стояли в стороне от других пленных и о чем-то разговаривали, настороженно глядя на вновь прибывших. Своего взводного они узнали сразу. Но виду не подавали и наблюдали за происходящим издали.
Эти два бойца исчезли из его взвода во время ночной бомбежки. Других потерь в роте не было. Утром немцы, как всегда, контратаковали. Поэтому в суматохе некогда было искать исчезнувший расчет ПТР. Григорьев доложил, что — прямое попадание. Бомба действительно разворочала кусок траншеи. Нашли искореженную бронебойку и лопнувшую пополам каску. Но, видать, рано списали Савчука и Гальченко по списку безвозвратных потерь. Живые. Стоят, покуривают. Настороженно поглядывают в их сторону. Глаз не опускают, смотрят бодро, даже с нахалинкой.
Григорьев помог взводному добраться до соломы, а сам сел на корточки рядом, привалившись к шершавым бревнам, обгрызенным овцами и пахнущим овчарней.
— Ну что, Григорьев, — наконец не выдержал один из бронебойщиков, — и ты со взводным — хенде хох?
Григорьев отвернулся. Бронебойщики сдержанно засмеялись.
— Живой-то хоть кто остался? Или весь взвод положили? — снова махнул в их сторону цигаркой Савчук. Первым номером расчета ПТР был он. Но и младший лейтенант Нелюбин, и сержант Григорьев знали, что горластый и задиристый Савчук послушно ходит под рукой тщедушного и внешне неприметного Гальченко. Взводный знал, что до войны Гальченко работал бухгалтером в какой-то организации по заготовкам. Такие жизнь понимают глубоко. А Савчук — колхозник, такой же, как и большинство бойцов их роты. Вот и теперь Гальченко напряженно молчал, слушал треп своего первого номера и наблюдал за младшим лейтенантом и сержантом.
— Что это со взводным? — наконец спросил он Григорьева. — Он вроде как не в себе. Глаза вон заводит.
— Оконтузило малость. Полежать ему надо.
— Да он с рожденья, видать, контуженый, — зло ухмыльнулся Савчук. — В атаку нас гонял по два раза на дню.
Нелюбин шевельнулся, поднял тяжелую голову. Лица Савчука и Гальченко расплывались, терялись в сумеречном пространстве овчарни, но он все равно узнавал их. Как же их не узнаешь. Больше двух недель в одной траншее. Своего бойца и в аду узнаешь.
— Эй, бронебои, — позвал он, и те сразу затихли. — Я ж вас по форме бэ пэ списал. А вы вон, ектыть, живые. И табачок курите. Неужто фрицы вам кисеты оставили? Нас вон сразу обобрали. А вам оставили. За какие ж такие заслуги? — Нелюбин, говоря это, пристально смотрел на Гальченко. Все он сразу понял.
— Навоевались, — заговорил вдруг Гальченко, задетый словами своего бывшего взводного, особенно тем, что Нелюбин говорил с ним, как со своим бойцом. — Хватит червей кормить. Комбат на сухом острове со своей блядью из медсанбата спирт жрет и тушенкой закусывает, а нас — под пули?.. Небось ни разу с нами в атаку не сходил.
— Мой паек от твоего, Гальченко, мало чем отличался. И в бою мы рядом были. А что до комбата, так я за него не ответчик. И ты сейчас не перед ним стоишь.
— А я про тебя, взводный, ничего такого и не говорю. Ты свой командирский котелок втихаря не жрал. И от пули не прятался. Это верно. Тебя самого вперед гнали. А ты нас подгонял. Медальку-то вон тоже имеешь. Тебе ее начальнички, видать, именно за это и дали.
— Медаль? Мне мою медаль не начальники дали. Медали не начальники выдают, а родина. Начальники только приказы отдают. Но и эти приказы, какими бы они ни были, тоже исполнять надобно. Я их и исполнял. И вам приказывал исполнять. На то мы и солдаты. А скажи ты мне, Гальченко, ученый человек, тебе-то с Савчуком кто медали выдаст? Или вас пока, за ваши заслуги, только кисетами наградили? Чего ж вы тогда в рукав курите? Угостите братву табачком!
— Я тебя сейчас, сволочь краснопетая, угощу! — И Савчук, схватив обломок жердины, которой, видать, когда-то, в колхозные времена, закладывались изнутри ворота, кинулся к Нелюбину.
Но его тут же перехватили, сбили на затоптанный пол и некоторое время держали так, пока не нахлебался оскаленным ртом вонючей пыли. Гальченко все это время, припертый к столбу двумя танкистами в изодранных на локтях и прожженных комбинезонах, стоял, вытянув худую шею, и не произнес ни слова.
— Отпустите, сволочи! Ну, я вам завтра!.. — вопил Савчук, собирая раздутыми ноздрями рыжую пыль поскотины.
Утром их вывели из овчарни и построили на луговине перед воротами.
Нелюбин уже надежно держался на ногах. Он шагнул за ворота. После прогорклого спертого воздуха замкнутого пространства под низким, набранным из осиновых жердей потолком, заросшим серой паутиной, утренний простор, даже в неволе, показался благодатью. Он с жадным любопытством разглядывал открывшееся перед ним божье утро, как будто стараясь запомнить все лучшее, что его окружало и что судьба посылала увидеть еще раз. Сержант Григорьев шел следом. За ним плелись танкисты и несколько бойцов. Ночью Нелюбин успел поговорить и с ними — все из соседнего батальона, в плен попали два дня назад во время очередной атаки полка. Они были из недавнего пополнения, из маршевой роты, сформированной в Калуге. Такие роты приходили из тыла почти каждый день. И каждый день их посылали на Зайцеву Гору, на колючую проволоку, на минные поля. И каждый день санитарный обоз увозил туда же, в Калугу, в тыл тех, кому повезло выжить, — с перебитыми ногами и осколками под ребрами.
— Что-то ж, братцы, и сегодня жратвой не пахнет, — вздохнул один из бойцов.
— Сейчас они тебя накормят, — стиснул зубы танкист.
Нелюбин еще с вечера заприметил его: лет тридцати, широкоскулый, немногословный, ходил по овчарне, будто кот перед прыжком. Танк их был подбит во время позавчерашней атаки. Попали в болото. Механик-водитель дал задний ход, но в это время гусеницу сорвало болванкой. Выскочили, начали выбивать искореженное звено и натягивать гусеницу, а тут — контратака. Пехота откатилась. Окружили, навалились… Механик-водитель кинулся было к автомату, но его тут же закололи штыком. Танкисты держались вместе. Верховодил среди них широкоскулый. Под комбинезоном на гимнастерке виднелись петлицы младшего сержанта. На лбу над левым глазом подсохшая ссадина. Во взгляде его старшина не увидел тоски, которая уже заполнила глаза бойцов. Той же решительной злобой, видать, светились и глаза самого Нелюбина.
В воротах они переглянулись. Танкист кивнул, и крылья его ноздрей заострились, стали тоньше и будто внимательнее. Танкист принюхивался к воле. Но воли за воротами не было.
— Тут, браток, нельзя, — с пониманием шепнул ему Нелюбин. — Видишь, некуда…
— Ладно, подождем, — ответил тот и пошел вперед развалистой широкой походкой человека, в котором чувствовалась та внутренняя сила, которая скорее толкнет на плаху, чем позволит унижение.
Снова появился холеный офицер и снова заговорил по-русски. Голос его звенел — бодрый, как в театре. Он говорил и в такт своим рубленым, видать, хорошо заученным фразам, похлопывал загорелой ладонью с узким обручальным кольцом по черной массивной кобуре. Кобура оттягивала ремень, и переводчика, видимо, это возбуждало, придавало азарта. Другая его рука была в перчатке.
— Обращаюсь к вам как русский к русским! Смоленский комитет предлагает вам, добровольно сдавшимся в плен германской армии, вступить в русскую роту. Рота формируется для борьбы с большевистскими бандитскими элементами по эту сторону фронта. Гарантируется хорошее питание. Каждый доброволец будет получать ежедневно мяса, жиров, сахара и табака не меньше, чем германский солдат. Кроме того, предусмотрено ежемесячное денежное довольствие и прочие выплаты в зависимости от дисциплинированности, исполнительности и доблести каждого из добровольцев. В самое ближайшее время каждый из вас, кто изъявит желание служить делу новой России, получит оружие. Все будут обмундированы в новую форму со знаками различия Русской освободительной армии. Всем вам будут сохранены звания, которые вы имели в Красной Армии. Вчера во время собеседования некоторые из вас уже выразили желание пойти на службу в русскую роту будущей Русской освободительной армии. Ефрейтор Савчук! Рядовой Гальченко! Вы подтверждаете свое первоначальное решение?
— Так точно! — выкрикнули из шеренги.
— Можете выйти из строя и встать вот здесь, рядом со мной.
И тотчас оба бывших бронебойщика третьего взвода вышли из строя.
— Надеюсь, вашему примеру последуют другие?
Шеренга шевельнулась и замерла.
— Ну, кто еще? Деньги, которые будут регулярно зачисляться на ваши личные счета, вы сможете пересылать вашим семьям. Если, конечно, они находятся на освобожденной германской армией территории. Остальные территории будущей новой России освободите вы сами с оружием в руках. Там ждут вас ваши семьи, жены и дети.
Шеренга стояла, будто окаменев. Офицер хлопнул ладонью по кобуре и выкрикнул:
— Остальные будут отправлены этапом в лагерь для военнопленных в город Рославль, где вам тоже будет хорошо!
И шеренга вновь колыхнулась, загудела разноголосо. Вышли еще двое — из соседнего батальона. Они затравленно оглядывались то на немецкий конвой, то на офицера-переводчика, то на своих товарищей, оставшихся позади.
— Слыхал, взводный? В лагерь погонят. Хана нам там. Слышь? — Григорьев теребил плечо Нелюбина, вздыхал оторопело и мучительно.
— Иди, если хочешь. Я тебя не держу. Тут — каждый за себя.
— И там — неволя, и тут — неволя. А там хоть поживем. Слыхал, даже платить будут?
— За что? За что платить, ты подумал?
— Оружие получим. А там и рванем к своим. В первом же бою перейдем.
— При такой мене дурака в придачу берут. Про такое ты, Григорьев, слыхал?
— Оно так. Но и другая мена не наша. А в Рославле — пропадем.
— Не пропадем. До Рославля еще дорога будет. Несколько дней, несколько ночей. — И Нелюбин крепко сдавил руку Григорьева. — Держись меня и слушайся беспрекословно. Что скажу, то и делай. Как в бою. Понял?
Переводчик начал обходить строй. Остановился возле танкистов.
— Вы! — И он толкнул пальцем в грудь младшего сержанта.
— Младший сержант Петров.
— Где ваш четвертый член экипажа, младший сержант?
— Погиб смертью храбрых в бою за родину.
— Похвально, похвально. Я вижу, и вы человек смелый.
— Я жив остался, а механик мой погиб…
— Это хорошо, что вы сохранили свой экипаж. Разрешаю вам переговорить со своими товарищами и персонально предлагаю всем экипажем вступить добровольцами в русскую роту. Вы ведь русские люди, младший сержант?
— Я — русский. Малашенко — украинец. А Николаев — мордвин. Лукашик был белорус. А все мы вместе, конечно же, русские.
Переводчик дернул бровями. Хотел что-то возразить, но передумал, сдержался и кивнул:
— Вот и хорошо. Подумайте.
— Мы всю ночь думали. Присяга один раз дается. Вы — офицер. Вы это лучше нас должны знать.
Переводчик усмехнулся и пошел дальше. Остановился напротив Нелюбина.
— Вы!
— Командир стрелкового взвода младший лейтенант Нелюбин.
— У нас вы получите чин подпоручика и хорошее жалованье.
— Благодарствую. Я — офицер.
— И у нас офицером будете.
— Эх, ваше благородие! Когда в одно ухо два ветра дуют… Ветрам-то, им что? Дуют и дуют себе. А голове — беда.
Когда добровольцам скомандовали «направо», старшина сказал бронебойщикам:
— Ну, ребята, теперь у вас уж точно пайка сытнее моей будет!
— Сталин теперь тебя накормит!.. — услышал он в спину. Кричал Савчук. Гальченко, конечно же, промолчал.
Их перестроили в колонну по три и погнали по проселку на юго-запад. Солнце поднималось, напаривало. Хотелось пить. Снова заныло в затылке. Нелюбин вспомнил слова Маковицкой: контузия быстро не проходит и может сказаться месяцы, а то и годы спустя. Эх, какие уж тут месяцы?.. Часа через полтора вышли к шоссе и повернули на запад.
— Варшавка, — сказал скуластый танкист, с которым Нелюбин и Григорьев попали в одну шеренгу.
И Нелюбин посмотрел на него, потому что слова танкиста должны были означать больше, чем тот сказал.
Конвоиров было двое. Один шел впереди, другой замыкающим. Вскоре, когда они проходили какую-то полуразбитую деревню, к их колонне присоединили еще шестерых пленных. Выглядели они совсем неважно. Обросшие, грязные, бледные, оголодавшие. Одеты в тряпье, в котором почти не угадывалась красноармейская форма. Вместо сапог и ботинок обуты они были кто в опорки из шинельного сукна, кто в обрезанные красноармейские валенки, подвязанные проволокой. И где они раздобыли те валенки? Нелюбин и танкист снова переглянулись, когда поняли, что конвой с увеличением колонны остался прежним. В той же деревне конвоирам передали повозку. Гнедой конь, как видно, кавалерийской выучки, тащил широкую телегу на железных осях. В телеге лежали двое раненых. Нелюбин успел разглядеть лежавшего спереди — пожилой артиллерист, вроде капитан. А может, даже и майор. В петлицах — шпалы. Сколько, не разглядел.
Один из пленных жестами начал уговаривать конвоира, чтобы тот позволил ему сесть на телегу.
— Nein, — сказал конвоир и оттолкнул пленного от повозки.
Тот снова подошел и указал на ногу. Грязная повязка виднелась под разодранной штаниной. Из-под повязки багровыми сгустками сочилась сукровица. Пленный, конечно, понимал, что в таком состоянии он до Рославля не дойдет. О том, что будет с отстающими, их уже предупредили.
— Пан солдат, разреши ему ехать, — начали просить за раненого его товарищи.
— Плохой он, пан солдат.
— Кранк. Посмотрите на его ногу.
— Не дойдет же…
Конвоир, видимо, понимал немного по-русски.
— Никт дойдет? Никт дойдет? — закричал он и сдернул с плеча винтовку. — Дойдет! Карашо дойдет!
— Дойдет, дойдет, — замахали руками пленные и затолкали раненого в середину колонны.
Шли медленно. Впереди похрустывали на камнях железные обода телеги. Конвоиры через каждый километр менялись. При этом один из них всегда шел замыкающим и видел все, что происходило на дороге.
Однажды им встретилась войсковая колонна. Она двигалась к фронту. Кони, запряженные парами, тащили просторные фуры, выкрашенные в болотно-зеленый цвет. Конвой снова начал окриками и прикладами теснить пленных к обочине. Немецкие пехотинцы с любопытством смотрели на них из-под запыленных кепи. Некоторые, привстав в телегах, прицеливались в пленных, выбирая то одного из них, то другого.
— Пуф, Иван! Пуф!
Немцы весело гоготали. Горячий пыльный воздух над дорогой так и колыхало здоровыми, не знающими еще никакого горя голосами. А другая колонна тем временем молчала, провожая встречных угрюмыми взглядами.
— Под Зайцеву Гору пошли, — заговорили в колонне, оглядываясь на последнюю фуру, на которой лежали пулеметы и какие-то ящики, тоже выкрашенные в зеленый цвет.
— На усиление.
— Маршевые…
— Ишь, веселые какие.
— Ничего, под Зайцевой и им лапти сплетут…
— Мы туда, к той проклятой горе, тоже веселые шли, с гармошкой.
А Нелюбин подумал вот о чем: немцы едут на телегах, значит, не может Гитлер все свои войска обеспечить машинами. И танков у них поменьше стало, чем зимой. Тогда вон какой силой перли! И где теперь их танки? Он-то знал — под Иневкой. Под Иневкой да под Вязьмой. Вот где они свои танки растеряли.
В другой раз их догнал санитарный обоз. Тоже на телегах. Немцы вывозили в тыл своих раненых. Вот тут повеселело на душе и у Нелюбина, и у других пленных. А танкист, проводив цепким взглядом холодных голубых глаз очередную подводу, подхохотнул зло и тихо процедил сквозь стиснутые зубы:
— Это, братцы, называется: сходили на танцы в чужую деревню…
Понял ли что конвоир, или понял по-своему, но ехавший впереди немец вдруг соскочил с телеги и пошел гулять прикладом — по головам, по плечам, по выброшенным вперед рукам. Не понравилось.
— Тебя как зовут, танкист?
— Демьяном, — ответил тот, трогая свою засохшую ссадину над глазом. — А ты разве не слышал, как меня мои ребята окликают?
— Слышал. А теперь от тебя самого услышал. А меня — Кондратом.
— Ну и что, Кондрат, ты мне хорошего скажешь? — скосил цепкий взгляд Демьян.
— Да ничего пока.
— То-то и оно-то, что половина колонны уже никуда не побежит. А некоторые действительно верят, что в Рославле их гречкой с маслом сливочным кормить будут. А что мы им, Кондрат, можем предложить против котелка горячей гречки на сливочном масле?
— Да я бы и сам сейчас хорошенько присел возле такого котелка.
— Какая ж живая душа такому не возрадуется?
Прошли еще километр. Километры Нелюбин считал по сменам конвоиров на телеге.
Солнце палило над дорогой, мучило жаждой и без того выбившуюся из сил колонну. И когда впереди, в лощине, в ольхах, блеснул ручей, пленные, сгрудившись и сбивая шаг, инстинктивно шатнулись всей своей зыбучей массой к обочине. Конвоиры сразу все поняли.
— Steht! Стоять! — скомандовал старший конвоир.
Немцы о чем-то переговорили. Второй конвоир взял у старшего фляжку, отстегнул от ремня свою и спустился с насыпи вниз, к ручью.
— Ну, Григорьев, приготовься.
— Давай, взводный, сперва напьемся. А так сил никаких нет.
Но к ручью их отпускали по три человека. Второй конвоир жестом командовал очередной шеренге, вскидывал винтовку и внимательно следил за тем, чтобы никто из пленных не переходил на сторону ручья и не заступал дальше затоптанного берега. По всему было видно, что здесь, через этот лесной ручей, прошли уже тысячи людей. И технология водопоя у охраны уже была хорошо отработана. Старший конвоир тем временем сидел на фуре и курил. Винтовка лежала у него на коленях. Нет, понял Нелюбин, здесь бежать нельзя. Дальше, там, за ручьем, болотина, быстро не побежишь. Пристрелят. Вот если бы кто-то бросился на того, который сидит на телеге, мы бы с Григорьевым со вторым как-нибудь справились. Демьян тоже крутил головой, хмуро посвечивал своим холодным взглядом. И, когда наконец подошла их очередь, тихо обронил:
— Тут нельзя.
Вода в ручье была холодной и такой желанной, что Нелюбин припал к ней иссохшими губами и начал с такой жадной силой захватывать ее вместе с сором и мутным дымком илистого дна. Кто-то из лежавших здесь до него, видать, неосторожно ступил в ручей ногой. Но мутная вода была все же водой. Хотя и попахивала илом. Вот бы такой, мутненькой, после каждого километра…
— Хороша водичка, — утер свой небритый рот Демьян.
— Григорьев, давай котелки, — приказал Нелюбин.
Сержант мигом развязал «сидор», выхватил оттуда котелки. Они возвращались в строй с котелками, наполненными водой. Многие потом по их примеру делали то же. Черпали воду кто в консервную банку, кто в каску, а кто просто в ладони. Что ж, и из ладоней, если крепко их держать, можно было сделать еще полтора-два хороших глотка.
И тут произошло вот что. Раненый, которого все время вели его товарищи в середине колонны, тоже спустился с насыпи. Он лег прямо в воду и пил не переставая. Блестел на солнце его потный, в грязных потеках стриженый затылок, судорожно дергалась жила на напряженной шее. Двое красноармейцев из его тройки, напившись, стали поднимать своего раненого товарища. Но он оттолкнул их. Второй конвоир, внимательно следивший за очередностью и все время поторапливавший пленных, крикнул:
— Steht!
Но раненый не вставал. Казалось, уже ничто, никакие окрики и угрозы не смогут разлучить этого невыносимо измученного жаждой и недомоганием человека с тем, желанным, что возвращало ему жизнь. Товарищи снова начали тормошить его. Но конвоир сделал жест, чтобы они отошли в сторону.
— Застрелит… Он же сейчас его застрелит.
— Что же он делает!
— Эх, сволочь! — загудела колонна угрюмыми голосами.
Конвоир подошел к обрывистому краю насыпи, вскинул винтовку. Раненый устало повернул голову и, щурясь, посмотрел на него. Все он, видимо, сразу понял. И снова прильнул к воде. Судорожно двигались его бледные, заросшие грязной щетиной скулы.
Выстрел в одно мгновение прервал все сомнения и надежды. Пуля ударила прямо в стриженый затылок и, пройдя навылет, разбросала по затоптанным кочкам берега брызги серого ила. Через мгновение подбежала очередная тройка. Хрипя от жажды, они перетащили тело своего товарища в заросли таволги и принялись пить из бочажины, в которой еще не осела розовая муть.
В колонне кто-то вздохнул то ли с жалостью, то ли с облегчением:
— Только зря тащили…
До ближайшей деревни, где колонну застал вечер, шли молча. Второй конвоир, тот, который расстрелял раненого, сменив на повозке своего товарища, пиликал на губной гармошке какую-то незамысловатую веселенькую мелодийку. Ни о чем он уже, видать, не думал.
— Вот сволочь, ему хоть бы что…
— Да они нас за людей не считают.
— Людей от нас, ребятки, сразу отделили, — подхватил настроение колонны Нелюбин. — А мы… Кто мы для них? Пыль дорожная.
Нелюбин, пользуясь тем, что конвоиры были сравнительно далеко, и еще хотел сказать что-то, чтобы подбодрить идущих рядом, а заодно и прощупать, кого бы еще можно подбить на побег, но Демьян толкнул его в бок, сказал тихо:
— Не надо, Кондрат, не хлопочи. Тут половина добровольно к немцам перешли.
— А что ж они из строя не вышли, когда их в роту, на хороший харч, поманули?
— А ты не понял? Не хотят они воевать. Ни за белых, ни за красных. Рассчитывают, что войне скоро конец. А там — новая власть. Все всем спишется. А им — в первую очередь. Потому как винтовки добровольно покидали. Так что ты тут со своей агитацией поосторожней. Впятером пойдем.
А танкист малый тертый, подумал Нелюбин, глядя на серые, унылые поляны вокруг, и, пожалуй что, прав. Его надо держаться. Его и его ребят.
За полянами, выжженными солнцем, пошли болота, потянулись заросшие бурым хвощем бесконечные кочкарники с полыньями, затянутыми нежно-зеленой ряской. И вот наконец за болотами показалась деревня.
Когда они подходили к деревне, солнце уже провалилось за дальний лесной окоем. Сразу захолодало. Осень все же сказывалась. Днем стояла августовская жара, как будто лето, уходя, торопливо растрачивало свои нерастраченные запасы. А по ночам, в низинах, уже прихватывало белым. Взводу младшего лейтенанта Нелюбина буквально на днях выдали ватники. Правда, не всем. У кого были еще годные, не особо изношенные шинели, ватников не досталось. Но в атаку, через сухой ручей, большинство пошли налегке, побросав в окопах и скатки, телогрейки. Оставил свой новенький ватник и Нелюбин. Теперь горевал: кто-нибудь, должно быть, уже прихватил его одежку. Жалко. Сейчас бы вон как сгодилась.
— Жратвой бы где разжиться…
— Неужто и тут не покормят…
— Покормят… прикладом…
В голосах измученных голодом и тоской людей не было уже ни злости, ни надежды. Тупая, вялая, как скошенная трава, покорность. Руки подняли, а теперь — будь что будет.
— Слыхал? — снова блеснул глазами Демьян. — Такие уже не побегут. Разве что за куском хлеба. В Рославле им похлебку пообещали. Вот туда они и чапают.
— А пожрать и правда надо бы. Куда мы годимся, такие? Ноги не понесут.
На ночь их загнали в конюшню, закрыли ворота и заложили их тяжелой завалкой снаружи. Немного погодя немец, застреливший возле ручья раненого, просунул им в окно полмешка ржи. Плохо вымолоченная, напополам с мякинами и остьем, она, эта скудная ржаная пайка, оказалась такой нечаянной радостью, что Нелюбин, слизывая с ладоней пахучие зерна, втайне благодарил конвоира. Он понимал, что эти полмешка несортового фуражного зерна — не их пайка. Зерно предназначалось, скорее всего, для лошади. Стало быть, их немец кормил из жалости.
Окно, сизо поблескивавшее в ночи и пропускавшее вовнутрь свет звездного неба, вскоре забили досками. Забивавшие окно ругались по-русски. Гвозди им попались гнутые, и они ими никак не могли пробить березовые горбыли, видать, засохшие за лето до костяной твердости. Охраняли конюшню местные полицейские. Рушились надежды и на ночной побег.
Глава шестая
Диверсионной группой, имевшей задачу взорвать несколько мостов и важных объектов в тылу противостоящих 5-му армейскому корпусу частей Красной Армии, командовал поручик Самарин, бывший старший лейтенант одной из дивизий 1-го гвардейского кавкорпуса. Радиопередатчик еще несколько дней выходил на связь, давая условный сигнал работы под контролем, а потом резко умолк. Никто из группы не вернулся. Перебежчики были отмечены в нескольких донесениях танкового полка, занимавшего оборону по фронту в районе переброски группы, но никого из группы Самарина среди них не оказалось. Все перебежавшие — из разных частей 43-й и 50-й армий.
И тогда, для проверки, Радовский направил в тот же район новую группу, которую составили двое надежных: Подольский и Гордон.
Ночью два парашюта раскрылись над лесным массивом южнее Варшавского шоссе. Ветер благополучно вынес их на опушку, и через минуту оба диверсанта приземлились на краю поля. Быстро собрали парашюты и, немного углубившись в лес, прикопали их в овраге, для надежности сверху привалив хворостом.
И Подольский, и Гордон были одеты в красноармейские х/б и ватники. Оба имели револьверы. В вещмешке Гордона лежала взрывчатка. На тот случай, если группу Самарина все же удастся разыскать. Но даже если Самарин погиб или сдался, один из мостов на Варшавском шоссе диверсанты должны были взорвать сразу после проведения разведки и выяснения обстоятельств исчезновения группы, заброшенной сюда месяц назад. Этой мелкой диверсией они должны были обозначить свою активизицию в заданном квадрате. Своего рода проверка. Карту нес с собою Подольский. На карте был помечен маршрут группы Самарина, а красным кружочком обведен мост, который предстояло взорвать им.
— Подольский, — окликнул своего напарника и командира группы Гордон, когда они снова выбрались из леса на чистое поле и пошли в сторону деревни, — скажи честно, Старшина приказал за мною присматривать?
Курсант некоторое время шел молча.
— А с чего ты взял, что он тебе не доверяет? Ты, Гордончик, у него на хорошем счету. Так что этот вопрос должен был задать тебе я. Но, как видишь, не задал.
— Неправда. Он подозревает во мне еврея и недолюбливает. — Вторую часть вопроса Гордон пропустил. Это была его манера.
— Ну, кавказского акцента у тебя действительно нет. И хитер ты, Гордончик… Может, ты и правда еврей? А?
— А разве это имеет значение?
— Для меня имеет значение, как ты будешь выполнять то, что нам поручено.
— А что нам поручено? Искать поручика Самарина? Взорвать мост? Чтобы нам там охрана головы продырявила? А если Самарин сдался? Самарин не дурак…
— Чего это ты, Гордон, такую песенку запел? Заунывную…
— Да так..
— Так… Так язык за зубами держат. Я — твой командир и обо всех шатаниях подчиненных обязан буду по возвращении доложить, подробно отметить в рапорте на имя майора Радовского. Так что давай-ка договоримся: я ничего не слышал, и ты мне ничего такого не говорил.
— Тогда ответь мне на один вопрос и — по рукам.
— Спрашивай.
— Ты действительно хочешь вернуться назад?
— Посмотрим. Еще вопросы есть?
— Нет.
— Давай руку. Чего дрожишь? — поймав руку напарника, засмеялся Подольский. — Наше задание пустяковое. В бой не ввязываться. И мост рванем только в том случае, если нет охраны.
— Я этого не знал.
— Теперь знай.
— А чего я еще не знаю?
— Коридор на выход. Но тебе его и не надо знать.
— Он на карте помечен?
— Нет. — Подольский остановился и подождал, когда Гордон догонит его. — Так что не вздумай выстрелить мне в спину. — И снова засмеялся своим жестким смехом, который не выражал никакой радости.
Накрапывал дождь. Ветер рванул из-под ног клоки соломы и понес по жнивью. В поле было холоднее, чем в лесу. Но на ходу было все же жарко. Гордон потрогал револьвер, лежавший за пазухой, и сказал:
— Ты думаешь, группа Самарина перестрелялась?
— Тише.
Они подошли к огородам, залегли в бурьяне, прислушались. Пахло полынью, росой и укропом. Дождь пошел сильнее. Ветер утих. Деревня будто вымерла.
— Подольский, — позвал Гордон, — если Самарин сдался или попал в плен и если карту с маршрутом он не успел уничтожить, то в деревни нам входить нельзя. Во всех деревнях, по всему маршруту могут быть засады.
— Эта деревня не входила в маршрут Самарина.
— А что нам в таком случае здесь делать?
— Ночевать. Ночевать мы будем в лесу или в стороне от маршрута группы Самарина. Эта деревня вполне подходит для ночлега. Если нам здесь не помешают.
Это было уже не первое задание Подольского за линией фронта. Но впервые он шел командиром группы. Вопросы Гордона насторожили: напарник что-то задумал. Но и сам он теперь боролся с нахлынувшим смятением: вот он наконец-то в расположении своих, без присмотра, сам себе командир, можно выйти к первому попавшемуся посту, все рассказать, ведь на нем нет крови. Не стрелял он ни пленных кавалеристов под Всходами, ни партизан во время зачисток лесов. Но зачтется ли там это? Зачтется, скорее всего, другое. То, что он дезертировал из Красной Армии, что добровольно вступил в казачью сотню, которая оказалась вовсе не сотней, а карательным отрядом, что теперь и вовсе служит в русской роте специального назначения, которая на самом деле является абвергруппой под названием «Scwarz Nebel» — «Черный туман». Группа пока в стадии формирования, и чем им прикажут заниматься, какую работу выполнять, еще не до конца ясно. Но, судя по первым заданиям и по тому, что включено в программу обучения, заниматься придется диверсиями, глубокой разведкой, проведением карательных акций в партизанских районах. Смирнов знал настроение добровольцев. Большинство из них действительно поверило тому, что пишут в листовках: сдавайтесь, штыки в землю, переходите на нашу сторону для борьбы с большевиками против райкомов и колхозов. Бей жида-большевика, морда просит кирпича… Но действительность оказалась иной. Никакой Русской освободительной армии нет. Немцы, которые формируют в ближнем тылу русские роты, к фронту их близко подводить и не думают. Всюду суют нос. Проводят регулярные проверки, иногда похожие на обыски. Используют как спецкоманду для выполнения всяких грязных дел. Легко сказать: перейти к своим… Один раз он уже пытался это сделать. Ничего не вышло. Полуживого в лесу подобрал немецкий патруль. Когда очнулся, увидел, что кругом лежат и стоят оборванные, заросшие многодневной щетиной люди в красноармейской форме. Вонь, смрад, стоны раненых. Когда погнали колонной дальше, окликнул переводчика. Тот сразу все понял. В дороге его отделили от колонны, посадили в телегу и повезли в другую сторону.
Кто я теперь, думал Подольский, слушая за спиной хруст шагов напарника. Когда-то, еще год назад, был курсантом Подольского пехотно-пулеметного училища Степаном Смирновым. А теперь? И кто он, этот бывший боец Красной Армии Галустян по кличке Гордон. Замашки-то не рядового солдата. Да и армянином от него не пахнет… Все мы тут со смутным прошлым, о котором никто никому не рассказывает. Большинство таких. Редко кто верит Радовскому. Господин майор, похоже, и сам не особо верит в то, что говорит перед строем и в учебных классах. Новая Россия… Без большевиков и немцев… Это каким же образом? Главное, что никто в роте не задает ему этих трудных вопросов. Значит, ответ у каждого свой. А то, что скажет Радовский, никого не волнует.
Они подошли к деревне. Рассветало медленно, как рассветает в непогоду. Но даль уже проступила: сонное сжатое поле, склоном уходившее в пойму небольшой речушки, на той стороне обрамленное хмурым лесом, ближе к дворам, за самыми огородами два стожка, между ними почерневший, придавленный узкими тележными колеями проселок в две колеи. Куда он ведет?
— Подождем здесь, — сказал Подольский и достал карту.
Нужно было сориентироваться, чтобы определить дальнейший маршрут.
— Ну что, Подольский, где мы? Правильно хоть нас выбросили?
— Правильно. Если эта деревня называется Малый Хутор, а речка Ржанка, то вон та дорога уходит как раз на Большой Хутор. Там — первый мост. Там — шоссе.
— Хорошо ориентируешься, Подольский.
— Чему учили…
— В Подольске, что ли? — кусая соломинку, как бы между прочим поинтересовался Гордон. — Или там?..
— И там, и там. А вот где, Гордончик, тебя учили?
— Там же, где и тебя, — усмехнулся Гордон.
— Меня? — Подольский достал бинокль и некоторое время смотрел на крыши деревенских дворов, на околицу, на сарай возле речки. — Меня учили в Подольске. А тебя?
Гордон вскочил на колени, сунул руку за пазуху. Но Подольский тут же сбил его на жнивье, придавил к земле, перехватил руку и до хруста выкрутил ее.
— Тихо.
В это время из глубины деревни раздался ровный стукоток мотора, и через мгновение на околице показался мотоцикл с коляской. Мотоциклистов было двое. Один, в танкистском шлеме и черном комбинезоне, сидел за рулем и о чем-то громко говорил своему товарищу. Тот болтался в люльке, видимо, еще хорошенько не проспавшись.
— К девкам ездили. Живет же, гвардия…
— Руку, с-сволочь, сломал… — скрипя зубами, стонал Гордон.
— Руку — не шею.
— Ты что имеешь в виду? — сразу насторожился Гордон.
— А ничего. Лежи тихо, отдыхай. Еще раз дернешься, придушу. И прикопаю. Понял? Понял, говорю? — И Подольский грубо толкнул Гордона.
— Понял, — ответил тот.
Подольский Гордону всегда казался подозрительным. Возможно, эту их взаимную неприязнь, которая, впрочем, ни разу не выплеснулась наружу, и учитывал командир роты майор Радовский, включая их в одну группу: оба будут следить друг за другом, не доверять, опекать. Оба потом сделают подробные доклады, не забыв упомянуть и об ошибках и промахах напарника. Да, господин майор — психолог неплохой. После гибели своей радистки стал замкнут. Уже реже заходил к ним в казарму. Не присаживался сыграть партию в шахматы. Почти ни о чем не расспрашивал. В его присутствии Гордон не мог отделаться от ощущения, что Радовский знает о его прошлом, догадывается, что его легендированное имя и есть настоящая фамилия бывшего младшего политрука стрелковой роты Гордона. В роте царили антисемитские настроения. Чего он только не услышал за это время о своих соотечественниках. Донимал своими пошлыми байками и Подольский. Вдобавок ко всему его не оставляла мысль о том, что Старшине он нужен для особой операции. В тыловом лазарете в одном из ближайших сел вновь появился Профессор. Его видели то в Слободке, где немцы похоронили тело командующего 33-й армией генерал-лейтенанта Ефремова, то в полицейской управе Климова Завода, то в компании офицеров танкового полка, который оборонял этот участок фронта. Значит, Профессор не ушел. Более того, как и прежде, когда эту местность контролировала Западная группировка 33-й армии, появлялся то в одном населенном пункте, то в другом. Встречаться с ним Гордону не хотелось. Он боялся этой встречи, которая, он это чувствовал, рано или поздно произойдет. Ему казалось, что встреча с Профессором снова перевернет его жизнь, и чем все это кончится, еще неизвестно. Значит, надо было делать так, чтобы задуманный сценарий Радовского-Старшины не состоялся, во всяком случае, чтобы он, Гордон, оказался выведенным из этого сценария. И вот судьба посылает ему случай. Судьба… Нет, не судьба, а сам господин Радовский. И теперь, когда линия фронта осталась позади, помеха у него всего лишь одна. Всего одна. Правда, довольно серьезная — Подольский. Так что господину майору в изобретательности не откажешь. Подольский, конечно же, уже напрягся. Но пусть думает, что то, что произошло, — это все, на что он, Гордон, способен. Ведь и его душу кошки скребут, и он сомневается. И в любой момент готов последовать инстинктивному порыву невольника — бежать. Какой он доброволец, Гордон понял давно. Давно бы пятки смазал. Да только вот случая подходящего не выпадало. Этот — первый. Хотя через линию фронта Подольский уже и летал, и ходил. Но всегда в составе групп не менее десяти человек. А в таких группах каждый приглядывает за каждым. Вдвоем с Подольским уходить нельзя. Помешает. Одному легче будет придумать новую легенду. Прикинуться больным. Как же называется эта болезнь, когда человек теряет память? Однажды они с Профессором разговаривали на эту тему. Парамнезия… Редупликация… Вспомнил, конечно, вспомнил. При этом заболевании человек не просто теряет память, но у него могут возникнуть так называемые ложные воспоминания. Симулировать такое состояние будет непросто. Конечно, непросто. А что сейчас просто? Просто только — умереть. Уходить надо одному. И как можно скорее. Пока Подольский не освоился в новой обстановке. Редупликация… Парамнезия… Ложные воспоминания… Вот верный выход. С этого момента Гордон жил только одной мыслью.
Дождь то немного затихал, то снова сыпал и сыпал на окрестность, отяжеляя кусты и травы и делая открытое пространство неприютным, опустошенным. Лето прошло. Начиналась осень, пора холодных, затяжных дождей. И Подольский вспомнил октябрь прошлого года. Тот же пейзаж вокруг, то же низкое, будто пригнутое, небо, такая же серая, стылая деревушка впереди, где тебя никто не ждет, то же ощущение внутренней неприкаянности и неопределенности. Один из мостов, который должна была взорвать группа поручика Самарина, судя по карте, находился именно там, где в прошлом году их Шестая курсантская рота спешно отрывала окопы и где оставила больше половины своего личного состава. В первой же деревне, куда они зашли, столкнулись с группой диверсантов в красноармейской форме. Это были «древесные лягушки». В апреле под Вязьмой действовала та же самая группа. Но там всем им, в том числе и группе Радовского, крупно не повезло. Танкисты и гренадеры испортили все. Они обстреливали кочующий «котел» из всего, чем располагали, и вместе с прорывающимися положили много людей из спецчастей, спецгрупп и прочих формирований, чьей задачей было взять в плен, живыми, не только генерала Ефремова, но и весь его штаб. Для будущей Русской освободительной армии нужно было добыть готовое армейское управление. И не из эмигрантов, не из бывших «ваше благородие», а из красных офицеров. Радовского это оскорбило, хотя виду господин майор не подавал и во время операции действовал с такой быстротой, ловкостью и храбростью, что они, молодые, едва поспевали за ним. Это потом, уже в лесу, все пошло не так, как было задумано вначале.
Где-то в этих местах год назад они, курсанты Подольского училища, схватились с бранденбуржцами из диверсионной роты. Теперь же и сами они — диверсанты. Все перевернулось. Правда, и тогда, год назад, в отряде «древесных лягушек» не все говорили по-немецки.
— Входить в деревню не будем. Подождем.
— Пока до костей не промокнем?
Смирнов пропустил мимо ушей последнюю фразу Гордона. В конце концов напарнику следовало платить той же монетой. Обычное солдатское нытье: не вовремя подвезли котел с горячей кашей, негде просушить портянки…
Но дождь действительно донимал. Холодные капли стекали с пилотки и заползали под ворот телогрейки. На ветру одеревенели руки.
И вот, наконец, на околице что-то задвигалось. Подольский вскинул бинокль. Девочка лет десяти погоняла хворостиной корову и теленка. За девочкой шел мальчик. За мальчиком коза, которую Подольский сперва принял за собачонку.
— Что там?
— Да сказка про репку, — усмехнулся Подольский.
— Хорошо, что не про попа и попову дочку…
Настроение Гордона Подольский не поддержал. Не ко времени тот с шутками.
— На, посмотри. — И Подольский передал Гордону бинокль.
— Будто и войны нет. — Гордон опустил бинокль. — Только пацанов на велосипедах не хватает.
— Велосипеды, Гордончик, деталь городского пейзажа. Я думаю, что здесь велосипеды впервые увидели в прошлом году, осенью, когда немцы наступали к Москве.
Девочка выгнала корову на луг, в зеленую отаву, подозвала к себе мальчика и ловко накрылась вместе с ним рыжей дерюжкой.
— Долго нам ждать придется.
— Сколько придется. — И Подольский снова поднял к глазам бинокль.
— Интересно, как им тут при немцах жилось? Новый порядок и все такое прочее…
— Как и везде. Спасибо товарищу Гитлеру за наше счастливое детство…
— Это да. Хотя корова вон, гляди, цела, теленок бока нагулял.
— Нашего главного ротного фуражира Куцаренки здесь не было. Остались бы от этого теленка только рожки да ножки. Хозяевам на холодец. В лучшем случае…
— Война выпускает из человека зверя. Вот он и гуляет, где ему вздумается.
— Да не где вздумается. Где этого зверя на цепи придерживают, а где действительно волю дают. Пережить-то они оккупацию пережили, но стадо, как видишь, невеликое.
— Ты думаешь, эта корова с теленком, да коза, — все деревенское стадо?
— А ты вначале смотри, а потом, когда что-то увидишь, думай. А не наоборот.
— Подожди. Сколько тут дворов? Десять-двенадцать?
— Восемь.
— Уже сосчитал?
— Сосчитал.
И, отвлекаясь от темы, Гордон вдруг сказал:
— Видишь, Подольский, как в твою голову легко входит наука господина майора. При таком усердии тебе скоро и подпоручика присвоят. Он тебе об этом еще не намекал?
— Не намекал. А знаешь, почему?
— Почему?
— Потому что господин Радовский со мною намеками не разговаривает. А вот ты, Гордончик, свое звание, видать, не скоро догонишь.
— Мое звание всегда при мне.
— Это точно. — И Подольский снова усмехнулся, одним уголком рта. И шрам на его лице, рассекавший щеку и подбородок, натянулся.
Дождь шлепал по листве, стекал с деревьев на траву, на одежду лежавших под ними людей, еще сильнее увеличивая их раздражение и неприязнь друг к другу.
— Ты прав, Подольский. Ротный наш очень тонкий психолог. Послал нас с тобой на задание в одной группе. А в группе — два человека…
Они пролежали под дождем еще часа полтора. Подпаски к ним так и не приблизились на расстояние, с которого с ними можно было разговаривать, не опасаясь, что их услышат в деревне.
— Ладно. Уходим. Обойдем деревню с другой стороны. Если и там никого не встретим, пойдем по маршруту Самарина. — Смирнов положил карту в непромокаемый пакет, сунул за пазуху. — Вперед, Гордон.
— Переночевали… Отдохнули… Просушили одежду… С таким командиром много не навоюешь.
— А тут и не надо воевать, Гордончик. Наблюдай, слушай. О том, что увидишь и услышишь, тут же докладывай по команде. Как нас учили? Большего пока не требуется. Когда надо лежать под дождем и мокнуть, должен лежать и мокнуть. Ferstehen?
Гордон поморщился. Видеть улыбку Подольского, изуродованную шрамом, ему уже стало невыносимо. Подольский, проследив за его реакцией, засмеялся и похлопал своего напарника по плечу. Попробуй пойми, что он подумал?
Они спустились в овраг, низиной вышли к полю и вскоре оказались на той же опушке, откуда на рассвете увидели деревню, еще не зная, что это за деревня и где они находятся. Подольский шел впереди. Гордон — замыкающим. Когда немного углубились в березняк, Гордон начал отставать.
— Не отставай! — окликнул его Подольский и начал спускаться в лощину.
Вот тут-то и грохнул револьверный выстрел. Пуля рванула клок телогрейки из подмышки, и Подольский, мгновенно поняв все, понял и то, что Гордон промахнулся, и что теперь, не дожидаясь второй пули, надо упасть и притвориться убитым. Вторая пуля может оказаться более точной. И, уже лежа на земле, он решил: если напарник начнет подходить, чтобы забрать вещмешок с продуктами, то шагов с двадцати он его снимет первым же выстрелом. Старик обучил его стрельбе из пистолета, так что с тридцати шагов он точно попадал в березовый лист. Но Гордон, будто чувствуя свою судьбу, побежал через поле к деревне. Подольский сел, расстегнул телогрейку, сунул руку под мышку и засмеялся. Давно он так не смеялся. Даже когда травил добровольцам свои байки. Немного погодя он встал, внимательно осмотрел место падения, не уронил ли чего. Разворошил примятую траву. Все было при нем. И пошел в лес. Вот теперь он почувствовал, что свободен. И пусть впереди его ждет неизвестность, может быть, новые страдания, но здесь, на своей земле, на этой стороне фронта, он готов был уже ко всему.
В кармане его гимнастерки лежала красноармейская книжка на имя Стукалина Степана Кузьмича, 1921 года рождения, русского, уроженца Гомельской области. Печать и фотография были подлинными. Размер одежды и обуви, указанный на одной из последних страничек книжки, тоже совпадал с его ростом и ногой. Так что вперед, Степан Кузьмич!
К полудню он отмахал по лесу километров двенадцать и остановился, чтобы перекусить. Дождь кончился. Солнце, освободившись от низких туч, пролилось на лес и землю такой нежной благодатью, что Смирнова поманило в сон. Он наломал еловых лапок, лег на них ничком и тут же уснул тем спокойным сном, каким спят в своем доме после долгих скитаний.
Глава седьмая
За год скитаний по лесам Воронцов привык к кострам. Привык и к тому, что ночевать чаще всего приходилось под открытым небом. Когда-то в детстве он два раза ночевал с дедом Евсеем в лесу, на глухариной охоте. Теперь нужно было привыкнуть в тому, что и следующая ночь ждет его под звездами, и другая, и та, которая придет за ней… Остановиться во время перехода, сделать в безопасном месте привал, выставить посты, и разжечь костер… Костер давал не только тепло и возможность приготовить в котелках немудреное солдатское варево, просушить одежду и обувь, но он еще дарил иллюзию дома. И тепло, и свет казались не просто теплом и светом — они были родными. Сколько он еще проскитается вот так, между двух воюющих сторон, неизвестно. Судьба то прибивала его к берегу, так что ему порой казалось, что, вот наконец он и ступил на твердое, свое, родное, то отрывала новой волной и утаскивала, несла по всем бурунам и стремнинам бурлящей пучины войны. Но он приспособился и к этой жизни. Если это можно было назвать жизнью. Но, с другой стороны, какая же это пучина, если среди ее вихрей почти всегда, даже в самых тяжелых обстоятельствах, находилась возможность разжечь костер. Правда, не всегда удавалось поставить на угли котелок. Потому что зачастую под руками не оказывалось самого котелка. Но костер оставался надежным другом и напарником в любых обстоятельствах. И Воронцов постепенно научился это ценить. Война научила его не думать о том, что будет завтра. Она научила его не сожалеть и по поводу того, что завтра вообще для него может не наступить. Потому что вся жизнь может вместиться в сегодня. Гибель товарищей в бою, вид их искромсанных тел, которые еще мгновение назад были живыми, восковые лица умерших от ран, иней на открытых глазах замерзших заживо в своих окопах, которые приказано было не покидать ни при каких обстоятельствах, научили его радоваться теплу костра как самой великой благодати.
И вот снова казалось, что прибивает, что впереди виден какой-то берег… Нет-нет, не спать, не спать… Воронцов вскинул голову и осмотрелся. Лейтенант лежал на носилках. Фигура стрелка маячила среди кустов жимолости. Похоже, он искал грибы, передвигался неосторожно. Если немцы все же решат преследовать их и если к погоне будет привлечена группа «древесных лягушек» или местные полицейские, им не уйти. В какой-то момент внутри у Воронцова ворохнулось холодное, расчетливое: зря я с ними связался, надо было уходить в лес одному, а они отвели бы погоню, и тогда он благополучно затерялся бы в чаще, замер, исчез, как туман. Ладно, вздохнул он, чему быть, тому не миновать. Да и раненого лейтенанта не бросишь. Лейтенант к тому же давал надежду, что с ним, если они его вынесут к своим, ему, бывшему курсанту, а потом партизану и командиру взвода особого назначения при Западной группировке 33-й армии, легче будет доказать, что он не немецкий диверсант и не дезертир. А доказывать придется. Никуда не денешься. Вот только вышел ли кто из группировки генерала Ефремова? К тому же мало кто вообще знал о действиях отряда Воронцова. Так что рассчитывать на подтверждение, что он, Воронцов, командир партизанской группы, действительно был отсечен вместе со своими людьми во время проведения немцами операции по ликвидации блокированного южнее Вязьмы кочующего «котла», по меньшей мере было бессмысленно. Кто поверит ему? Кто сможет за него поручиться? Военврач Маковицкая убита во время прорыва. Генерал застрелился. Те случайные люди, с которыми свела его лихорадка прорыва, вряд ли запомнили его. Да и живы ли они? Вышел оттуда вообще кто-нибудь?
Костер горел ровно, почти без дыма. Воронцов приладил к палке котелок, вылил в него из фляжки остаток воды, заварил листьями земляники и молодыми побегами малины. Так учил дед Евсей. Таким он отпаивал его от простуды, когда Санька возвращался с ледяной горки домой с примерзшими к коленкам штанами. Что там теперь, в его родной деревне? Фронт остановился, и населенные пункты перестали выжигать подчистую. Если зимой не тронули, то, может, и уцелеют дворы. А если сожгли… Не раз его уже охватывала эта мысль, и всегда он старался поскорее отделаться от нее, занять себя чем-нибудь, чтобы не угнетать себя неизвестным.
Вверху зашумел ветер, солнечные блики среди берез и сосен исчезли, и немного погодя пошел дождь. Что ж, лето осталось позади. Август, как всегда, был сухим и жарким. На хуторе они успели сделать почти все, чтобы спокойно пережить зиму. За Зинаиду и детей Воронцов был спокоен. О дочери он почти не думал. Не успел привыкнуть к тому, что это его дитя. Да и гибель Пелагеи, которая по какой-то неведомой прихоти судьбы совпала с рождением девочки… Вначале, когда принял из рук Зинаиды тепленький живой сверток, в нем все задрожало. Он не мог насмотреться на Улиту. А потом и дрожь, и жалость стали исчезать. Видимо, сердце задеревенело. Зинаида это тоже замечала. Но ни разу не сказала ни слова о дочери. Только однажды, когда он сидел над распеленатой Улитой и смотрел куда-то мимо, она подошла и погладила его по плечу. «Ничего, Сашенька. Ничего. Потом…» Потом… Что она имела в виду? Что все еще наладится? Когда — потом? После всего этого кошмара? Будет ли оно, это потом? Странно, что о Зинаиде он думал больше. Монах Нил как-то, когда он поделился с ним своими сомнениями и заговорил о Зинаиде, сказал ему: живым — живое, а мертвым надо оставить хоронить своих мертвых…
Дождь стал проникать и вниз, пробивая листву деревьев тяжелыми, накопившимися вверху каплями. Но Воронцов знал, где выбирать место для костра. Они обломали нижние ветки огромной ели и устроились под ее плотным непроницаемым пологом. Точно так же зимой в окруженной группировке они устраивали лежанки для раненых. Человек способен вынести многое, порой немыслимое… Вода в котелке уже вовсю кипела, и Воронцов снял его с палки и поставил на сизые мерцающие угли. Погодя, когда котелок начал вспухать красновато-бурой пеной, он снял его с углей и накрыл полотенцем. Полотенце, снизу расшитое красными нитками, сунула ему в дорогу Зинаида. Его она и вышивала. Он даже не знал, что там было вышито. Да и теперь вышивка оказалась внизу, и рассматривать ее было недосуг.
Лейтенант застонал и открыл глаза. Заговорил что-то бессвязное. Сейчас бы сюда Зинаиду, снова подумал Воронцов о той, которая все эти дни не выходила из головы. Может, мы неправильно обработали рану… Может, слишком туго забинтовали…
Он остудил содержимое котелка, приподнял лейтенанту голову и принялся его поить своим варевом. Лейтенант послушно проглатывал бурую пахучую юшку, скрипел зубами.
— Не знаю, что получилось, но хуже не будет, — приговаривал Воронцов и снова подносил котелок к обметанным, шершавым губам летчика.
Дождь с механическим звоном сек по ельнику и кустам жимолости, тяжелыми каплями падал на землю, шевеля коричневые еловые иголки. Лейтенант спал. Его стрелок терпеливо стоял под елью неподалеку и тоже дремал. Воронцов сидел возле костра, время от времени подбрасывал сухой хворост и слушал лес. Винтовка лежала рядом, и это успокаивало. От костра исходило тепло. И это уютное тепло, и спокойное дыхание лейтенанта, и тихий шорох дождя — все слилось в одно, стало теснить внутри каким-то внезапным, сильным чувством, от которого он отвык, и, чтобы избавиться от него или хотя бы обмануть его, Воронцов начал думать о Зинаиде и Уле, о Пелагеиных сыновьях и всех, кто остался на хуторе. Улиту он только в мыслях научился называть дочерью. Зинаида однажды сказала:
— Поговори с ней. Она ведь очень любит, когда с ней разговаривают. Вот попробуй, скажи ей что-нибудь.
— Она же ничего не понимает, — возразил он.
— А посмотри, как она радуется, когда слышит твой голос.
— Разве она меня узнает?
— Она тебя узнает даже по запаху.
Не надо ни о чем думать, остановил он себя, чувствуя, что мысли о родных меняют окраску и завладевают в нем тем, что должно принадлежать только ему одному, и только тому, кто он сейчас есть. Только его воле. Он смотрел, как капли дождя падают на угли, оставляя на них темные пятна, как они дрожат, мгновенно меняют цвета и вскоре исчезают вовсе. Вот так и жизнь человека на войне — не больше той дождевой капли в костре; иная хоть на угле померцает, а другая просто бесследно исчезает в пламени… Воронцов вдруг вспомнил, как год назад они хоронили Селиванова. Вспомнил и то, как его ранило, как вскрикнул он удивленно: «Ребята! Кажется, я ранен!» Теперь эти слова плыли в нем новым мучительным паводком, затоплявшим все. Первые убитые запомнились больше всего. Он вспомнил, как погиб генерал. Воронцов в тот момент боя оказался неподалеку и видел, как уползали от него, прячась за сосны, последние автоматчики, как командарм вытащил пистолет и тут же уронил руку на полу шинели, забрызганную мокрым грязным снегом и чем-то еще. Потом смерть Кудряшова на льдине…
Воронцов посмотрел на лицо лейтенанта. Испарина со лба и щек исчезла. Кожа побледнела, но румянец еще пылал неровными кругами. Он протер ему полотенцем лицо. Лейтенант открыл глаза и спросил уже внятно, уже своим голосом:
— Где мы? Почему в лесу? Где самолет? Где Калюжный?
Калюжный — это, видимо, стрелок, догадался Воронцов и сказал:
— Все хорошо. Стрелок твой здесь. Вон он, носом клюет. А самолет — вдребезги.
— Надо — к самолету. Надо…
— Там, товарищ лейтенант, теперь немцы. Сюда бы не нагрянули…
— Калюжный пулемет забрал?
— Калюжный вас забрал.
— А ты кто?
— Курсант Воронцов, — ответил Воронцов и, понимая, что перед ним старший по званию, прибавил: — Шестая рота Подольского пехотно-пулеметного училища.
— Какая еще рота?
— Шестая, — повторил Воронцов и швырнул в костер охапку сухих сучьев.
Черта с два такой за них заступится, подумал он и отвернулся. Пора было сменить Калюжного, пусть поспит у костра. Воронцов встал и потянулся за винтовкой. И в это время в глубине ельника, в противоположной стороне треснул сучок. Нет, это был не случайный звук. Так ломается придавленная ногой сушина. Воронцов медленно опустился на землю и залег за елью. Сдернул с оптического прицела парусиновый чехол и начал всматриваться в прогалы между стволами деревьев и зелеными наплывами кустарников. Вот качнулась ветка орешины, и человек в красноармейской телогрейке и надвинутой на уши пилотке перебежал от одного дерева к другому. Замер. Снова появился. Оружия в руках нет. За плечами вещмешок. Воронцов крепче придавил к плечу приклад и поймал в окружность прицела высокую фигуру. Да, оружия у него нет. Воронцов повел прицелом вначале влево, потом вправо. Никого. Значит, один. Он снова поймал его в прицел. В лице и осанке человека в зеленой телогрейке, который, должно быть, заметив их костер, теперь старался обойти его стороной и скрыться в орешнике, Воронцову показалось что-то очень знакомое, что он не просто вдруг узнал, а вспоминал. Это же Смирнов! Степка Смирнов! Что он здесь делает? И как его окликнуть? Сейчас ведь уйдет… И, словно тугой сучок в глаз, секанула мысль: а если он не один? И, если не один, то с кем? Если Степка выжил после Угры, то с кем он теперь? Если перешел через фронт, то понятно. Послан в разведку. Местность он здесь знает неплохо. А если не вышел?
Воронцов вскочил на ноги и, прячась за деревом, перебежал к часовому. Калюжный все так же дремал, привалившись плечом к дереву.
— Сержант, — окликнул его Воронцов, стараясь не выдать своего смятения, — иди к костру. Я подежурю.
Калюжный тут же побежал к костру, на ходу подхватывая сухие сучья.
А Воронцов пошел вдоль темной непроницаемой гряды старых елей, за которыми открывалась узкая поляна или лощина, заросшая таволгой и крушиной. Вскинул винтовку: голова в глубоко надвинутой пилотке какое-то время колыхалась над порыжевшими зонтиками таволги, а потом исчезла. Появилась снова, но уже правее. Оглянулась. Степка! Смирнов! Да он же! Он! Воронцов даже привстал и, не отрываясь от оптического прицела, сделал несколько шагов в заросли таволжника, когда увидел знакомый шрам на лице убегающего от него человека. Ошибки быть не могло. Там, в конце лощины, бежал, часто оглядываясь, его боевой товарищ, Степан Смирнов, командир третьего отделения их погибшего под Юхновом взвода.
— Степа-а-ан! — закричал он.
Через минуту голова в линялой пилотке, глубоко надвинутой на голову, выглянула из рыжего таволжника чуть левее, огляделась по сторонам и снова исчезла. И Воронцов понял, что Смирнов услышал его голос и возвращается.
— Степан! Иди к елкам и ничего не бойся! Это я! Воронцов!
— Санька? Как ты оказался здесь? — Шрам на подбородке Смирнова дергался, натягиваясь в судорожных движениях, как будто под тонкой, как намокшая папиросная бумага, кожицей пульсировал какой-то беспокойный нерв.
— А ты?
Когда они вернулись к костру, стрелок менял повязку на голове лейтенанта. Тот сидел уже не на носилках, а под елью, на охапке лапника, и встретил Воронцова и Подольского напряженным взглядом воспаленных глаз.
— То ты, курсант, один был, то вас уже двое… — Калюжный покосился на носилки, где лежал пистолет лейтенанта.
— Это мой напарник.
— Тоже курсант? — усмехнулся Калюжный.
— Тоже.
— Мутные вы ребята.
— Как лейтенант? — кивнул на забинтованную голову летчика Воронцов.
— В порядке. Жар, похоже, прошел. Вялый он какой-то, будто пьяный.
— Настой действует.
— Что, дальше пойдем? — спросил Калюжный, все так же настороженно поглядывая на Подольского. — Лейтенанта нести надо.
— Понесем. Теперь будет легче.
Воронцов и Подольский никак не могли привыкнуть к тому, что судьба снова свела их вместе. Они радовались этой встрече и в то же время оба понимали, что впереди их ждут нелегкие испытания. Там, возле темной гряды ельника, они успели рассказать друг другу многое. И дальше, что бы ни случилось, решили идти вместе.
Они разбросали костер, переложили лейтенанта на носилки и пошли вначале на юго-запад и, пройдя с километр, резко повернули на юго-восток. Теперь, если верить карте Подольского, они шли в сторону шоссе, держа направление немного под углом. Юхнов находился левее. Впереди — Мосальск. Фронт порыкивал и справа, и слева, и впереди. Двое несли носилки, третий шел замыкающим.
— Степ, — позвал Воронцов Подольского, когда стрелок ушел в дозор, — а отсюда до моей деревни совсем ничего. Если вот так, за уходящим солнцем, то километров тридцать-сорок.
— За день можно дойти.
— Можно и за день. Если идти не останавливаясь.
— Днем будем останавливаться на отдых. Идти — ночью.
— Кто там сейчас? Наши? Немцы?
— Не знаю. Может, уже наши. А может, еще и немцы.
— Помнишь, ты хотел вывести нас к партизанской базе? Но тебя тогда не послушались. Буза пошла. Поперлись через линию фронта. А могли бы еще тогда спокойно выйти к партизанам.
— Теперь я не знаю, где отряд Жабо. Может, в этом лесу, а может, северо-западнее, где-нибудь под Дорогобужем или Ельней. Конечно, если бы мы их разыскали, все для нас решилось бы там. Жабо меня должен помнить. Там бы, в отряде, и прошли проверку.
Воронцов теперь окликал Подольского по имени. К новой его фамилии надо было еще привыкнуть. А прежнюю, настоящую — забыть. Встретились в лесу. Случайно. Потом снова расстались. После падения самолета снова сошлись в одну группу. Чтобы легче было перейти линию фронта. Легенда, конечно, слабая. Любой мало-мальски опытный особняк тут же засомневается, начнет докапываться. Впрочем, особняк не поверит и правде. На новое имя легенда у Подольского была заготовлена основательная, хотя и простая: попал в плен во время боя, затем бежал, скитался по лесам, случайно прибился к группе…
Ночи в сентябре долгие, мглистые, с серым непроницаемым туманом. Росы ложатся на травы сплошной простыней. Ступил на поляну, прошелся немного, и в сапогах уже зачавкало. Поэтому всегда держали вдоль просек, но сами просеки обходили стороной. Следа за собой старались не оставлять. Уже стало белеть в верхушках деревьев, и рассветный ветерок заволновал листву на осинах, когда впереди, уже неподалеку, они услышали рокот моторов. Опустили носилки. Лейтенант открыл глаза.
— Тихо. — Воронцов приложил к губам палец. — Дорога. Ни звука.
Они подождали стрелка, и Воронцов тут же приказал ему разведать впереди местность, углубиться шагов на сто и тут же — назад.
Калюжный вскоре вернулся и доложил:
— Дорога! Шоссе! Немцев нет.
— А наших? — спросил Воронцов.
— Откуда там наши? Мы ж линию фронта не переходили…
— Линия фронта сегодня здесь, завтра там. Грохот вон какой стоит. Днем и ночью. Надо было подождать, понаблюдать. Разведчик…
— Нет там никого, — снова оглянулся в сторону дороги Калюжный.
— Так, Калюжный, остаешься с лейтенантом. Мы со Стукалиным пойдем поищем, где лучше перейти.
Лицо стрелка напряглось. И когда они отошли в сторону дороги с десяток шагов, он окликнул Воронцова:
— Курсант, что, бросаете нас? Я же один его не вынесу.
— Ты что, Калюжный, сдурел? Сиди тут тихо, карауль своего лейтенанта и жди нас.
Кустарник и даже часть березняка вдоль шоссе были вырублены. Дорога просматривалась хорошо. Правее они приметили небольшой нетронутый обмысок — пять или шесть старых елей неподвижно нависали над дорогой, вплотную прижимаясь к обочине. Они вышли к ним и сразу же решили, что лучшего места для перехода не найти. Им потребуется две-три минуты, чтобы перебежать обочину, дорогу и вырубку на той стороне и скрыться в лесу. Всего лишь мгновение. Только не выскочить на патруль.
Вернувшись назад, они с удивлением обнаружили, что лейтенант стоит на своих ногах и держится за березу.
— Калюжный мне сказал, что вы ушли, — сказал он и сунул свой ТТ в расстегнутую кобуру.
— Спокойно, лейтенант. Никто никого не бросит. Это мой приказ. Вас понесем на носилках. Стукалин — впереди, Калюжный — сзади. Я буду прикрывать переход и перейду дорогу последним, когда уже окажетесь в безопасной зоне. Сами идти сможете?
— Вряд ли. — Голос лейтенант дрожал. Ходить он уже пробовал, и теперь, убедившись в своей беспомощности, видимо, решил повторить попытку.
— А стрелять в случае чего?
— Стрелять смогу.
— Тогда — вперед.
Они пробрались к обмыску и затаились, прижавшись к земле, пахнущей прелой еловой хвоей и грибницей. Паутины, унизанные бисером росы, висели над головой, дрожа и раскачиваясь от неуловимого движения воздуха, и мешали обзору вправо и влево. Но когда Воронцов расчехлил прицел и провел им слева направо по всему сектору, то все равно ничего, кроме серой мглы и редких темных пятен выступающих на той стороне дороги кустов, не увидел. Туман прогоняло по дорожной просеке как в трубу, рваные клоки тащило мимо берез, закручивало вокруг зарослей бурьяна. Вот-вот должно было встать солнце, и оно, быть может, уже стояло над дорожной просекой, но тяжелый туман, сгрудившийся над шоссе, мешал ему взглянуть на землю и на все, что здесь, внизу, происходило.
— Ну что, курсант? — ворохнулся на носилках лейтенант. — Что там? Видно что?
— Видно. Туман вокруг. Сейчас пойдем.
Смирнов и Калюжный уже взялись за ручки носилок, а Воронцов с винтовкой переместился левее, ближе к просеке, чтобы лучше контролировать дорогу, когда вдали послышались моторы. Шла колонна. Это сразу стало понятно по мощному однородному гулу. Когда в одном режиме работает больше десятка моторов, то всегда кажется, что слышишь звук одного, очень мощного.
— Тихо.
— Можно проскочить. Успеем, курсант!
— Лежать. Замереть.
И вот, буквально через мгновение, на дороге послышались голоса и шуршание легких шин. Из тумана, как из опрокинутой реки, выкатились велосипедисты. Пять или шесть, Воронцов даже не успел их сосчитать. Они ехали парами и беспечно болтали. У одних винтовки торчали над их пилотками, надвинутыми на уши. У других оружие болталось на ремнях спереди. Внезапное появление немецких велосипедистов, чужая речь, мгновенная мысль о том, что это — передовое охранение, которое шестью или семью парами глаз сейчас осматривает каждый придорожный куст, каждый бугорок и канавку, заставили Воронцова и всех, лежавших под елями, буквально вдавить свои тела в землю, раствориться среди россыпей еловой хвои и кочек, обросших лишайником и редкой долговязой травой. Велосипеды прошуршали мимо, оставив едва уловимый запах табачного дыма.
— Всем замереть. Будем пережидать колонну. — И Воронцов оглянулся назад. Из сумерек, царивших под еловыми лапками, на него смотрели напряженные глаза его боевого товарища. — Стукалин, Калюжный, отползите дальше, оттащите носилки за деревья и замрите. Калюжный, если лейтенант начнет бредить, зажми ему рот. Что хочешь делай, но чтобы не пикнул.
Колонна шла медленно, с потушенными фарами. Впереди, задрав вверх раструб тяжелого пулемета, мчалась танкетка. Из люка торчала голова в черной пилотке. Наблюдатель. На груди у танкиста висел бинокль. Немец держался за поручни и крутил головой. Следом за танкеткой прошла зенитная установка. За ней два средних танка. А потом — нескончаемым потоком грузовики.
Прошло уже около часа, а колонна все продолжала двигаться в сторону Юхнова. Брезенты некоторых грузовиков сзади были откинуты, и Воронцов видел ряды бледных, запыленных лиц солдат в глубоких касках, стволы винтовок, зажатых между колен. Вот так когда-то к фронту ехали и они, курсанты Шестой роты. И было это год назад. И ехали они тоже к Юхнову. Только с другой стороны. Наконец прогрохотал гусеницами замыкающий танк, и рокочущее, вибрирующее на басах эхо в лесу стало затихать. Но через несколько минут снова зашуршали по дорожному покрытию велосипедные шины, и новая группа велосипедистов молча проследовала тем же курсом. Туман уже рассеялся, как будто колонна грузовиков и бронетехники разрезала его вдоль, искромсала, разогнала по обочинам и ложбинам. Над лесом засияло солнце, разом озарив окрестность. Заблестела трава и паутины, растянутые по опушке леса. Стало явным то, чего в тумане невозможно было разглядеть и в двух шагах. Паутины изгибались под тяжестью нанизанного на них тумана, колыхались и время от времени взблескивали, как только что отлитые из серебра нити. Вид облитой молодым утренним солнцем опушки настолько напомнил им, лежавшим здесь в ожидании перехода, совсем недавнее довоенное прошлое, что они не могли оторвать от просеки глаз и зачарованно ждали, что будет дальше. Лежали, тяжело дыша и не глядя друг другу в глаза. Никто не решался встать на ноги. Как будто боялись, что колонна может вернуться.
Воронцов тоже отполз в лес.
Немного погодя он окликнул лежавших за деревьями:
— Ну что, подождем?
— Подождем.
Через полчаса со стороны Юхнова пронеслась дежурная танкетка. Немец-наблюдатель сидел на броне, видать, уже нагретой взошедшим солнцем, и пиликал на губной гармошке. Следом за танкеткой с интервалом в пятнадцать-двадцать минут прострекотали два мотоцикла. Промежуток между ними оказался мучительно долгим, и они вполне могли бы проскочить через дорогу и скрыться на той стороне в лесу. Но страх оказаться на открытой просеке, простреливаемой справа и слева не меньше чем на километр, сковывал их, заставляй выжидать еще. Так тянулись часы.
Теперь Воронцов хорошо мог просматривать дорогу в оптический прицел своей винтовки. Он снова выполз вперед и устроился за ореховым кустом. Заросли молодого орешника хорошо маскировали его.
— Ну, что там? А, Сань?
— Еще одна колонна.
— Да что они, весь день будут ездить? Вроде ж затихли…
— Пешая. Оттуда. — Воронцов даже привстал. — Пленных гонят. Иди, Степ, посмотри. Человек сорок. Одна подвода. И трое охранников. Нет, двое. Их всего двое.
Подполз Подольский, взял из рук Воронцова винтовку.
— Слушай-ка, Сань… Там, в середине колонны, крайний по нашему флангу, дядька идет… Вот, хорошо виден! Рядом с танкистом. На старшину Нелюбина похож.
— А ну-ка… Который?
Воронцов повел прицелом по колонне. Туман прикатал пыль, и теперь видимость на дороге была хорошей. В песчано-зеленой массе выгоревших гимнастерок отчетливо выделялись черные комбинезоны танкистов. Они шагали рядом, трое. А с ними, в крайней правой колонне, четвертым или пятым от направляющего тяжело передвигал усталые ноги пожилой боец с петлицами младшего лейтенанта. Худощавое загорелое лицо, несколько суток небритая щетина действительно напоминали бывшего бойца его взвода. С тех пор как они расстались, прошло полгода. Война меняет многое, не только людей. Но людей — в первую очередь. А вот старшина Нелюбин, кажется, не изменился совсем.
— Действительно, похож на нашего Кондратия Герасимовича, — осторожно заметил Воронцов. — Правда, этот — младший лейтенант.
— Помнишь, он рассказывал, что учился на курсах младших лейтенантов. Он дедок шустрый. Ты вспомни, как он на льдину вскочил! Ну что, он или не он?
Воронцов провел перекрестьем прицела в хвост колонны, где, обочиной, в сбитой на затылок кепи, шел замыкающим конвоир, потом снова вернулся в середину. Нелюбин. Конечно, он. Старшина. То, что вчера в лесу он вот точно так же, в прицел, разглядел своего боевого товарища и друга по курсу Степана Смирнова, было такой неожиданностью, что Воронцов еще никак не мог привыкнуть даже к мысли о том, что теперь они снова вместе. Но что там, на дороге, в колонне пленных, которых немецкий конвой гонит куда-нибудь в Спас-Деменск или Рославль, сейчас, в эту минуту идет и с каждым мгновением и шагом приближается к ним все ближе и ближе Кондратий Герасимович Нелюбин, их добрый и неунывающий старшина, в это поверить было еще труднее.
— Он. — И в горле у Воронцова в одно мгновение пересохло, как перед атакой. — Что будем делать?
— Пусть пройдут. Перенесем лейтенанта. А там посмотрим. Идут они медленно. Догоним. Только вот с одной винтовкой…
— Ничего. Охранников всего двое. Стреляешь ты хорошо…
Колонна шла с кашлем и стонами. Воронцов и Подольский, теперь уже не в прицел, внимательно разглядывали идущих. В пятой шеренге крайний справа шел Кондратий Герасимович Нелюбин. Теперь они уже не сомневались в этом. Рядом с Нелюбиным шли танкисты. Все они тоскливо поглядывали по сторонам. Пожилой младший лейтенант, в котором они признали Нелюбина, не отрывал взгляда от березняка. Березняк тянулся вдоль шоссе, он то отбегал в глубину просеки, то, будто дразня, подступал ближе к шоссе. Когда колонна поравнялась с еловым обмыском, Воронцову показалось, что взгляды их встретились.
— Ну, что?
— Он. Точно он. — Воронцов зачехлили прицел и кивнул на носилки. — Давай быстро. Я переходить не буду. Когда перенесете носилки, зайдите шагов на сто вглубь. А дальше так: оставь с ним Калюжного и — назад. Вдогон пойдем этой стороной. И уходить будем на север. Потом повернем. Роса уже сошла. Следа за нами не будет.
Как только колонна пропала за угором, Смирнов и Калюжный подхватили носилки с лейтенантом и побежали к дороге. Пересекли ее, спустились на другую сторону, перелезли через кювет. На дороге было тихо. Вскоре Подольский вернулся назад. Доложил:
— Лейтенант не отпускал, угрожал пистолетом. Пришлось его ТТ прихватить с собой. На дороге он поудобней будет, чем револьвер. Патронов — полная обойма.
— Ты их предупредил, чтобы ждали, никуда не уходили?
— Предупредил. Сказал: к вечеру вернемся. Ночью пойдем. А пока — отдыхать. Костер не разводить.
— Все правильно. А они что?
— Ты же знаешь, какой он, этот лейтенант.
— Я его знаю больше, чем ты, всего на несколько часов.
— Закричал: почему я, курсант, приказываю ему, лейтенанту? Схватился за кобуру.
— А ты что?
— А я что… Вот — его тэтэшник. И еще сказал, что, если будет орать, придушу.
— Правильно сказал. Ничего, посидит со своим сержантом в лесу, успокоится. Пошли.
И они побежали вдоль шоссе. Время от времени останавливались, замирали за деревьями, прислушивались и снова делали стремительный бросок вперед. Дорога солнечной, жаркой просекой все время мелькала и чувствовалась слева.
Глава восьмая
На хуторе жизнь будто остановилась. День сменял ночь, наступало очередное утро. Кричал, взлетев на жердь, петух, свидетельствуя о торжестве нового дня. Утки на озере сбились в стаю и вечерами улетали куда-то за лес, на кормежку. Озеро отцвело, водоросли осели на дно, вода стала чистой, и на глубине на многие метры были хорошо видны затопленные деревья. Огромные, в несколько обхватов стволы, сложенные там людьми или сваленные стихией, казалось, еще в прошлые века, когда повсюду здесь стоял лес, а потом что-то произошло и часть суши лункой будто провалилась в преисподнюю, образовав озеро. Зинаида однажды заплыла на середину и, убрав весло, посмотрела вниз. Голова закружилась, сердце кольнуло страхом, и она дрожащими руками стала торопливо загребать к берегу, на мель. В глазах потом долго стояли гигантские колонны бревен, черные, неподвижные и будто живые, но притворившиеся мертвыми. Некоторые из них стояли вертикально, торцами едва не достигая поверхности воды, как будто напряженно тянулись, чтобы глотнуть воздуха. Смотреть на них было особенно жутко. Но берега сияли песчаным покоем, зелеными луговинами. Везде был растворен тот покой, которого всего более и желает усталая душа. Лето медленно, почти незаметно, как августовский день в сумерки, перетекало в осень. Но ничего не менялось в буднях жителей хутора Сидоряты. И слава богу.
Зинаида за лето загорела и еще сильней похудела. Иногда, по утрам спускаясь к озеру за водой, она зачерпывала ведро и заносила его под навес. Там, в тени, вода в ведре становилась непроницаемой и прекрасно заменяла зеркало. Зинаида становилась на колени, развязывала платок и, не дыша, чтобы не смутить поверхности воды и не нарушить совершенства зеркала, смотрела на свое отражение. Смуглое лицо ее, обрамленное темно-русыми волосами, старательно собранными в толстую косу, казалось ей то красивым, так что и она им восхищалась, то почти уродливым. Тогда она расплескивала свое зеркало, и серебряные брызги разлетались из-под смуглой ладони по земляному полу, по ее платью, по белым березовым жердям. Она торопливо раздевалась до пояса и так же торопливо, пока во дворе никого не было, умывалась. Потом приносила еще одно ведро, заливала в умывальник и звала племянников. Первыми выбегали на крыльцо Федя и Колюшка. Старший, Прокопий, будто уже понимая свое старшинство, выходил немного погодя, когда братья, вволю наплескавшись и набаловавшись, уже утирались. Вначале Колюшка, а потом и Федя стали звать ее мамой. Прокопий сперва поправлял их, злился, убегал на озеро и подолгу оттуда не возвращался. Но шли дни. Ничего не менялось вокруг. И мальчик смирился, привык. Зинаида находила его то на кладбище, то возле кельи монаха Нила, то где-нибудь на берегу. Молча брала его за руку и так же молча уводила домой. Он тоже не говорил ни слова. Крепко держал ее руку, изредка пожимая. Может, непроизвольно, а может, чтобы она понимала, как он ей рад. Зинаида понимала, что Прокоша сильнее своих братьев переживает смерть матери, что он еще не может смириться, и эти его побеги в одиночество — это своего рода попытки отыскать мать, почувствовать ее хоть как-то, хоть в чем-то.
Анна Витальевна вполне справлялась с малышами. И Зинаида с утра до вечера вместе с теткой Вассой и Тоней хлопотала по хозяйству. Иван Степаныч стал прихварывать. Ему уже не под силу были некоторые работы, которые он еще год назад справлял с мужицкой легкостью и азартом, по-крестьянски понимая, что время не ждет и что оно принесет не отдых, а новые заботы. И Зинаида все чаще брала в сенцах топор, чтобы то подладить что-то в хлевах, то поправить изгородь, то подбить выступивший на пороге гвоздь.
Анна Витальевна занялась кухней. Из самого простого она умела приготовить очень вкусную еду. Придумывала самые разнообразные блюда. Прежде чем подать на стол, рассказывала о них такие диковинные истории, что все они, а в особенности дети, ждали не столько обеда или ужина, сколько очередного рассказа о жареной картошке с грибами, заправленной сметаной, или о тушеной моркови с мелко нарезанными кусочками баранины. В Прудках было голоднее и страшнее, и возвращаться туда дети не хотели.
Однажды, уже в октябре, когда окрестности присыпал первый снег, на хутор из Прудков пришел мальчик, передал письмо от Петра Федоровича. В письме сообщалось, что их местность снова занята немцами, что деревня живет страхом. «Так что прошу тебя слезно, дорогие сватья и соседи, Иван Степанович и Васса Андреевна, — обращался Петр Федорович к хозяевам хутора, — оставить Зинаиду со внуками у себя на хуторе до весны. Когда ляжет снег, доставлю вам картох и еще чего-нибудь». Для Зинаиды и внуков в письме была всего одна строчка, в самом конце: «Скучаю и плачу, милые мои, но в деревнях голодно и неспокойно…» Из письма Петра Федоровича стало понятно: старик не полагался на свои силы и боится, что Пелагеиных детей он не прокормит. Зинаида расстроилась, всплакнула. Но других обитателей хутора письмо Петра Федоровича обрадовало. Припасов в погребе и чуланах хватало, в зиму пустили бычка, к Рождеству наметили заколоть борова. Работы на хуторе непочатый край. Заняты были и дети. Так что никто здесь лишним ртом не был. К тому же, чувствуя немощь, Иван Степаныч сам боялся остаться без заботливых Зинаидиных рук и ее умения излечивать и старческую и детскую хворобу. Иван Степаныч наблюдал с печи за своими снохами, так он их всех называл, и с радостью и беспокойством думал: вон сколь наплодили, всех поднимать надо.
— Вот и хорошо, Зинаидушка, — подытожил он, еще раз перечитав послание из Прудков. — Вот и ладно. И Сашка твой, отец Улиты, знает, куда возвращаться. Вот кончится война, и, верь моему слову, он на крыльях сюда прилетит. А в деревнях — что? Голодно. То германцы подчистую обобрали, то свои. Теперь, вон видишь, опять вернулись… Опять им дай. Солдат всегда голодный. А когда человек голодный, он делается злым.
— Твой-то мужик, — кивал Анне Витальевне, — правильно размыслил: подальше сейчас надо держаться от людей. От зла подальше. А время, милые мои, всякое проходит. Пройдет и это. Вот тогда и сойдетесь. Жизнь свое возьмет. А молодости вам, чтобы пожить да порадоваться, еще на ваш век хватит.
Не хотела расставаться с Улитой и Анна Витальевна. Девочка жадно хватала грудь. Насытившись, вскоре засыпала прямо на руках. Она ее клала в зыбку рядом с Алешей. Так, рядом, как двойняшки, они и спали. Иван Степаныч сплел из ивовых прутьев новую, широкую зыбку, приладил ее к потолку на парашютных стропах. И так хорошо было им, Алеше и Улите, спать в теплом углу за печью под тихие нездешние песни Анны Витальевны, вроде бы и похожие на колыбельные, а вроде бы и нет.
Глава девятая
Колонну они догнали быстро. Зашли немного вперед, чтобы отдышаться, и залегли в кустах крушины.
— Сань, помни, у тебя два выстрела.
— Знаю.
— Помнишь, как ты срезал снайпера на Извери? Вся рота тебя готова была на руках носить.
— Как мне хотелось тогда заполучить его винтовку!
— Винтовка у тебя хорошая. Оптика — лучшая в мире.
— Винтовка-то хорошая. Только я из нее еще ни разу не стрелял. Не знаю даже, правильно ли выставлен прицел.
Они переглянулись и увидели в глазах друг друга то, что видят перед атакой, когда ничего уже изменить нельзя. Подольский вытащил из-за пазухи ТТ и дослал патрон в патронник. Воронцов снял с прицела чехол, аккуратно сложил его и сунул в карман. Его первый патрон был уже в патроннике. Стрелять надо тогда, когда колонна поравняется с ними. Оба конвоира окажутся в зоне его огня. Тогда и Степан сможет помочь ему, если после первого выстрела что-то пойдет не так. Хотя для пистолета расстояние до колонны все равно оставалось критическим.
Телегу тащил гнедой кавалерийский конь. Конь так же, как и пленные, порядком уже устал, бока его потемнели и западали. Немец дергал вожжами и покрикивал.
— Сань, — зашептал Смирнов, — ты посмотри, какой конь… Коня не задень.
Конь, что и говорить, был хорош. Конь им очень даже нужен. Тащить раненого лейтенанта… Если отобьют Старшину… Кондратий-то Герасимович едва ноги переставляет…
Когда давно не стреляешь, а потом снова наступает минута и вот ты, стрелок, выцеливаешь середину корпуса живого человека, испытываешь не то чтобы неуверенность, а какую-то смутную тревогу. Быть может, даже страх. Но не потому, что сейчас, через мгновение, твоя пуля поразит живую плоть и оборвет чью-то жизнь. Об этом можно подумать потом, когда дело будет сделано. Есть другой страх. Если ты промахнешься, то есть такая вероятность, не промахнется твой противник. Чтобы перезарядить винтовку и прицелиться, потребуется несколько секунд. Но те секунды наверняка будут сильно отличаться от мгновений, которые предшествуют первому выстрелу. Важно не допустить этого. И заполнить их одним действием. Только — действием. Быстрыми, отточенными движениями. Ни одного — лишнего. И — никаких мыслей и сомнений. Только — стремление. Точно поразить цель. Страх при этом все же не исчезает, он всего лишь замирает на время. И потом возвращается. И может возвратиться в любой момент. Как будто вместе с противником ты убиваешь и часть самого себя…
Воронцов придавил к плечу приклад «маузера», и все сомнения, которые только что одолевали его, отлетели прочь. Рука уже не дрожала. Левый висок конвоира плавал в его прицеле. Розовый, с синей веточкой вспухшей от жары вены, наполовину прикрытый пилоткой, обрамленной темной неровной полоской пота. Он сделал небольшое упреждение и надавил на спуск. Спуск у винтовки оказался плавным, и пуля, не отклонившись ни на сантиметр, вошла точно над ухом. Пилотка слетела с головы конвоира, а сам он сунулся под ноги коня, и тот, то ли почувствовав кровь, то ли удила больно врезались в его десны, шарахнулся в сторону, опрокинул телегу и понес вдоль кювета.
Второй конвоир тут же залег и начал лихорадочно высматривать, откуда стреляли. Но уже через мгновение хлестнул второй выстрел, и пробитая его пилотка сползла на затоптанную дорогу.
Колонна остановилась, и, когда уронил голову и второй конвоир, половина пленных тут же ринулась к лесу. Остальные попадали прямо на дороге, обхватив руками головы. Выстрелы Воронцова поделили колонну на две части. И теперь обе части решали свою судьбу сами.
Воронцов вскочил на колени, выбросил из патронника пустую гильзу и заметил, как группа, человек семь, в которой были танкисты и тот, ради которого они пришли сюда, перемахнули через придорожный кювет и рассыпались по просеке. Но вдруг двое из них остановились и кинулись к лошади.
Выстрел рассек тяжелые мысли младшего лейтенанта Нелюбина как раз в то мгновение, когда танкист сказал, что больше тянуть нельзя и что, если он сомневается, то они побегут одни. Нелюбин вдруг увидел, как шарахнулся с дороги конь и как поволоклось под телегой зацепившееся за передок тело старшего конвоира. Вначале ему показалось, что их обстрелял самолет и что звука мотора он просто не услышал из-за контузии. В ушах опять гудело и покалывало, как от простуды. Но потом увидел, как дымок еще одного выстрела плеснул из-за куста, и человек в красноармейской гимнастерке встал из травы и передернул затвор винтовки. В следующее мгновение его сбили с ног и один из танкистов подхватил его за воротник и потащил с дороги на обочину. Там они кубарем покатились вниз, под насыпь.
— Уходим! — закричали ему в самое ухо. Или это он сам кричал кому-то:
— Уходим, братцы!
— В лес!
Нелюбин бежал вместе со всеми, перепрыгивая через кочкарник и березовые пеньки, стараясь не упасть и не угодить кому-нибудь под ноги. Но чем ближе они подбегали к лесу, тем очевидней становилась мысль о том, что и там, в лесу, без оружия они все равно беглые бараны, а не бойцы. И он отыскал лихорадочным взглядом бегущего рядом Григорьева и крикнул ему:
— Сержант, к повозке! Винтовку надо!..
И они побежали к повозке, опрокинутой неподалеку. Раненые копошились в кювете. Немец неподвижно лежал под передком, зацепившись ремнем за крюк. Винтовка висела на его окровавленной шее.
Нелюбин ловко, по-кошачьи прыгнул под телегу, сдернул с убитого винтовку. Григорьев тем временем расстегнул ремень с подсумком и кинжальным штыком.
— Ранец возьми! — рявкнул Нелюбин и выхватил из рук Григорьева ремень.
В лес они бежали уже вчетвером. Следом за ними какие-то бойцы вели выпряженного коня. На пленных они похожи не были. И уже в березняке, когда можно было перевести дыхание, он спросил их:
— А вы, ребятушки, кто такие будете?
— А мы, Кондратий Герасимович, Шестой роты курсанты Смирнов и Воронцов! — радостно закричал ему в ответ Степан.
— Ох, ектыть! Это ж опять спаситель мой! Опять тебя бог прислал! Степушка ж ты мой родимый! Дай же я тебя обниму! — И Нелюбин повис на плече у Смирнова и некоторое время так и бежал, прилипнув к своему спасителю.
Ночью они сидели возле костра и разговаривали. Котелки уже были опустошены по нескольку раз. Все, что удалось прихватить у немцев, а также припасы Смирнова, было пущено по кругу. Лейтенант спал на носилках. Чтобы он не мерз, носилки поближе подтащили к костру. Танкисты и четверо бойцов спали вповалку на лапнике. Калюжный и Григорьев с винтовками ушли в охранение. Спать не ложились только трое: Воронцов, Смирнов и Нелюбин.
— И как же это вы нас, милыи вы мои, подкараулили! — мотал головой Нелюбин и тут же, с тем же внутренним ликованием продолжал: — А я всегда говорил, что товарищ на фронте для солдата — первая и самая близкая родня! Боевого испытанного товарища солдату на войне бог дает! А то, что богом дадено, вот так беряжить надобно! — И Нелюбин сжал кулаки и потряс ими.
Вскоре Нелюбин удивил их и вот чем: вытащил откуда-то из своих засаленных и пыльных лохмотьев медаль и повесил ее над клапаном гимнастерки.
— Как же они у тебя ее не отняли? — поинтересовался Воронцов.
— А так. Схоронил я ее, в надежное место. Мне эта медаль не так-то просто досталась, чтобы я ее немцу отдал.
— Ну, Кондратий Герасимович, вы и при звании, и с медалью — полный кавалер!
— Как есть! — согласился Нелюбин. — Эх, ребятушки мои, сейчас бы обмыть это наше дело! Что ж жизнь наша такая злодейская, что с такими-то хорошими ребятами, в такой-то милый час выпить нечего… — И вдруг спросил, глядя на винтовку с зачехленной трубой оптического прицела: — А кто ж из вас стрелял? Или сразу оба-два? Да нет, стреляли раз за разом…
— Санька стрелял, — сказал Смирнов.
За полуночью разговор стал тускнеть. Все, что шло от души, сказалось, а то, о чем все трое думали, но о чем пока молчали, угнетало. И вот Нелюбин, чувствуя, что подошли уже к краю, разорвал эту тягучую паутину:
— А куда ж, ребятушки, мы теперича пойдем?
Воронцов и Степан молча переглянулись.
— Я так думаю, что выходить нам надо где-то возле Зайцевой Горы. Хоть там и самая бойня, и войска все сгрудились, но там и полк мой. А ежели где в другом месте переходить, еще неизвестно, каким карим глазом на нас посмотрят.
— До Зайцевой Горы еще дойти надо. Сколько дотуда километров?
— Примерно, сорок — сорок пять.
— Два перехода. Если по прямой. Но таких дорог не бывает. Да и нельзя нам по дорогам идти. А у нас тяжелораненый. Да и кормить людей уже завтра утром чем-то надо.
— И то правда, и то, а идти, ребятушки, надо, — подытожил Нелюбин и хлопнул Воронцова по коленке. — Поведешь ты. У тебя уже опыт есть. Народ у нас подобрался надежный. Одни танкисты чего стоят. У них, имей в виду, младший сержант хороводит, Демьяном зовут.
Утром Воронцов построил свой отряд. Встал и лейтенант. Его еще пошатывало. Но он уже был полон решимости дальше идти своим ходом. В строю оказалось пятнадцать человек, с Воронцовым — шестнадцать. В боевых условиях — взвод. Потому что на передовой, Воронцов это знал, через неделю боев во взводе редко остается больше половины личного состава.
Лейтенант, летчик, отстегнул планшет и протянул Воронцову. Смирнов передал карту и компас. И Воронцов начал переписывать свой взвод по фамилиям. Документов почти ни у кого не оказалось.
Свой новый взвод Воронцов разбил на три отделения. Первым назначил командовать Нелюбина, вторым — сержанта Григорьева, третьим — младшего сержанта Петрова. Как только эта орава случайно спасшихся людей стала приобретать черты воинского подразделения, люди сразу стали собраннее. Исчезла расхлябанность. Шинели собрали в скатки. Гимнастерки подвязали кусками провода, найденного где-то в пути. Кому не хватило провода, надрали свежего лыка и сплели себе ремни не хуже штатных. Хуже оказалось с продовольствием и оружием. На грибах можно было протянуть сутки. Из оружия в наличии оказалось три винтовки, два револьвера и один ТТ. Патронов тоже негусто.
После короткого совещания решили действовать следующим образом: углубиться в лес правее шоссе, ближе к фронту, попытаться в пути разжиться продуктами и, по возможности, оружием. Направление держать постоянное — на Зайцеву Гору.
В тот же день они пересекли лесной проселок, который, судя по карте, соединял два крупных населенных пункта. Установили наблюдение. Через час наблюдатели сообщили: прошли две подводы и два мотоцикла, все — со стороны фронта.
— Пустые? — уточнил Воронцов.
— Пустые. В повозках по два солдата с винтовками и автоматами. На мотоциклах тоже по два человека. С пулеметами. Повозки ехали вместе. Мотоциклы — разрозненно, с интервалом в полчаса.
— Что ты скажешь, Кондратий Герасимович? — Воронцов внимательно посмотрел на младшего лейтенанта Нелюбина.
— А думаю я так: мотоциклисты, может, имеют свои какие-нибудь поручения, а вот конный обоз похож на фуражиров. Надобно устроить засаду. Их всего четверо? Назад, если загрузятся, они будут дуть пешком. Если не помешают мотоциклисты или еще кто-нибудь, то мы их возьмем как Мартына на гулянье.
Так и решили. Справа и слева выставили охранения с целью вести наблюдение за дорогой и, в случае обнаружения опасности, тут же предупредить основную группу. В основную группу включили Нелюбина, Подольского, Калюжного, Григорьева и танкистов.
Нашли удобное место. Небольшая поляна. Посредине болотина, заросшая рогозом и камышом. Дорога ветвилась на три, а местами и на четыре колеи. Воронцов обошел всю поляну. Болотина оказалась сухой.
— Степ, — окликнул он Подольского, — на тебя ляжет основная работа. Затаишься здесь. Стрелять будешь в первых. Начну я. Мои — последние. Как только услышишь первый выстрел, пали по своим, пока патроны есть. Но не перемещайся. Чтобы ребята тебя не задели. Даже если они окажутся в стороне или отстанут.
— Все понял, командир.
Залегли. Затаились. Стали ждать. Воронцов побаивался, что могут подвести боковые охранения. Народ случайный, непроверенный. Испугаются, уйдут в лес. Оставалось надеяться на хитрость Кондратия Герасимовича. Нелюбин, расставляя охранения, наставлял людей так: товарищи бойцы, наша задача — захватить немецкий обоз, охрана небольшая, два ездовых и два конвоира, обоз везет продовольствие, в основном сало и прочие продукты питания, после выполнения задания все получат полное довольствие. Воронцов слушал инструктаж Нелюбина молча.
— Голодного солдата уставом не проймешь, — после, когда охранения ушли, рассудил Нелюбин и подмигнул Воронцову. — Не бойся, Курсант, не уйдут. Они этот обоз теперь зубами остановят.
Шло время, а на дороге никто не появлялся. Солнце переместилось на другую сторону дороги, тени осин опрокинулись на поляну, расчерчивая дорогу косыми полосками и размытыми пятнами, делая ее похожей на камуфляж. Пара воронов с натужным свистом пролетела вдоль проселка. Долго потом слышались упругие звуки их тяжелых крыльев. Воронцов проводил их взглядом и подумал, что не зря вороны летают вдоль лесных дорог. Когда вчера лежал возле Варшавки, несколько пар вот таких же грузных птиц протянули вдоль просеки, внимательно осматривая окрестность. Что ж, война меняет повадки даже таких древних птиц.
— Видал? — кивнул вслед воронам Степан. — Тяжелые, прямо «юнкерсы» при полной боеукладке… Отъелись в лесах.
— Да, нынче для них время вольное, — покачал головой Нелюбин, лежавший неподалеку за корнем вывернутой березы; он слышал их разговор и радовался, что контузия стала проходить и шум в ушах начал потихоньку оседать, как тяжелая вечерняя пыль оседает на дорогу. — Вон сколько человечины кругом раскидано. И сколько ее война еще раскидает.
Несколько дней назад, еще до встречи с летчиками, Воронцов вышел к окопам. Кусок траншеи, отрытой на опушке березового леса, линии одиночных окопов, позиции пулеметных расчетов. Ветер откуда-то доносил смрадный запах. В поле, рядом с опушкой, виднелись края свежей воронки от авиабомбы. На комьях глины сидел ворон и что-то сосредоточенно и остервенело клевал. Удары его клюва были настолько сильными и резкими, что Воронцов услышал треск разрываемой плоти. Он схватил камень и швырнул его в ворона. Тот заклекотал, озлобленно посмотрел на человека, нехотя спрыгнул со своей добычи. Но не испугался, не взлетал. Ворон стоял, косо распустив крылья, и выжидающе смотрел на человека. Он-то знал, что это его поле и что человек, неожиданно появившийся на опушке, скоро уйдет. Воронцов швырнул в него еще несколько камней, и только тогда ворон тяжело взмахнул огромными крыльями и потянул низко над полем, над малинником на опушке, над траншеей. Время от времени он поворачивал свой мощный клюв и огненным взглядом безраздельного хозяина здешних мест окидывал все пространство внизу: и опушку леса, изрытую окопами и воронками, и яму со смердящей добычей, и одинокого человека, стоящего возле нее. Воронка почти до краев была заполнена телами убитых красноармейцев. Вот тогда-то, в том поле, он впервые увидел следы работы воронов. Головы некоторых трупов были очищены до черепов. Виднелись кости и позвонки.
— В первую очередь они выдирают глаза, — сказал Воронцов и оглянулся на Нелюбина. — Вы, Кондратий Герасимович, не знаете, почему это?
— А ты разве не знаешь, почему? — Нелюбин прислушался к шуму ветра в верхушках осин, но, не уловив ничего постороннего, сказал: — Ворон живет триста лет. И триста лет он должен кормить себя. А кроме крепкого клюва и мощных крыльев, ему нужен еще и зоркий глаз. Ворон не тело свое кормит — глаза. В глазах вся его сила и долголетие. А потом вот еще какое дело: не нравится ворону, когда на него глядят те, кем он кормится… Вот почему во время расстрела глаза завязывают. Правда, нам, на Извери тогда, — помните? — глаза не завязывали. А под автоматы уже поставили… Спас нас, десантник тот, капитан, Старчак Иван Георгиевич. Век его буду помнить. А вы говорите: вороны, ектыть… У них сейчас своя страда, у нас — своя.
— Красивая сказка, — горько усмехнулся Степан. — А главное, очень жизнеутверждающая.
— А ты, сказочник, что-то невесел стал, — заметил ему Нелюбин. — Раньше-то, помню…
— Тихо, — прервал их Воронцов.
И точно, со стороны западного поста послышались торопливые шаги. Среди берез замелькала линялая гимнастерка и стриженая голова. Это был один из бойцов правого дозора. Он бежал босиком, и сухие березовые листья брызгами разлетались из-под его быстрых ног.
— Товарищ командир! Едут! — доложил он еще за несколько шагов.
— Обоз?
— Он самый. Телеги чем-то нагружены. Вроде мешки. А самих немцев не видать. Только слышно — гогочут.
— Кто гогочет, Полевкин? — переспросил бойца Воронцов, глядя на его босые, покрасневшие и распухшие от холода ноги.
Полевкин был из тех, кого немцы присоединили к колонне уже в пути. Свои опорки, вырезанные из красноармейских валенок, он где-то бросил. Правда, бежать в них было бы куда большим мучением.
— Так они и гогочут, товарищ командир, немцы. Даже песни петь пробуют. Наши, русские.
— Пьяные, что ли, перепились? — И Нелюбин толкнул бойца: — Ну, Полевкин, докладывай рядом! А то шлепочешь ногами, как гусак на льду…
— Да навроде как и правда порядочно выпимши, товарищ младший лейтенант.
— А ты что, нюхал их? — спросил Степан.
— Зачем пьяного человека нюхать? Он и так виден, что не в себе. — И Полевкин снова посмотрел на Нелюбина, явно давая понять, что тот его непосредственный командир и именно ему он готов ответить на все вопросы.
Полевкин и еще трое «лапотников», как прозвали они бойцов, приставших к ним уже в лесу за их несуразную обувку, числились в отделении Нелюбина.
— Далеко? — спросил Нелюбин.
— Нет, товарищ младший лейтенант, через минуту здесь будут.
— Ладно, Полевкин. Молодец. Лежи тут тихо, лапы свои погрей. Вон, листьев нагреби… А мы с командиром пойдем обужу тебе добывать. — И Нелюбин положил винтовку на разлапистый корень березы и подтянул потуже немецкий ремень.
— Вы уж, товарищ младший лейтенант, не промахнитесь, не упустите их.
— Боишься, ектыть, что твои сапоги убегут? Да на твои ж несуразные лапы какой немец надобен! Сапоги обещаю, но вот касательно размера…
Смирнов перебежал через дорогу и залег в кугушнике. Затих, ни шолоха, и со стороны глянуть, будто никого там и нет.
Вскоре в глубине дороги послышались голоса и скрип упряжи. Повозки шли тяжело, под хорошей поклажей.
— Приготовиться, — скомандовал Воронцов и приложился к прицелу.
То, что он увидел и на первой повозке, и на второй, повергло его в изумление. Телеги были загружены мешками и корзинами. На мешках первой повозки лежал на спине немец. Из-под расстегнутой шинели виднелась белая нательная рубаха. Мундир почему-то лежал рядом. Возница тоже клевал носом, будто двое суток не спал, и его все время клонило на правый бок. Время от времени он резко вскидывал голову, что-то пытался напевать, но потом выкрикивал одну и ту же фразу и снова клонился набок. На другой повозке оба немца лежали на мешках. Вожжи предусмотрительно были завязаны за деревянный колок. И конь шел, предоставленный сам себе, однако послушно и от повозки, ехавшей впереди, не отставал.
— И правда, пьяные наши фрицы, — прошептал Нелюбин. — Что будем делать, командир?
— По-тихому надо брать. Без стрельбы.
— Тогда пошли, Сашок. Пора.
Воронцов вытащил из-за голенища нож и перебежал к можжевеловому кусту. Следом за ним — Нелюбин и двое танкистов. Демьян с винтовкой остался в прикрытии.
Когда вторая телега поравнялась с их засадой, а первая проезжала заросли камыша, Воронцов сделал знак рукой, и они, все четверо, одним прыжком преодолели пространство, отделявшее их от дороги. Воронцов ухватил под уздцы коня, а Нелюбин и танкисты уже скручивали сброшенных с мешков и прижатых к земле немцев. Тем временем Степан подскочил к вознице, правившему первой повозкой, и ударом рукоятки револьвера свалил его на землю. Перехватил вожжи. Конь захрапел и потянул было в кусты, но Подольский рванул на себя вожжи и остановил его. При этом краем глаза он следил за немцем, который спал, безмятежно раскинувшись на мешках. Немец так и не очнулся.
— Полевкин! — распорядился Нелюбин. — Хватит на него любоваться. Сымай сапоги, пока не проснулся. Проснется, не отдаст. Вроде твой размер.
В мешках оказалась мука и картофель. В корзинах куриные яйца, несколько кусков сала, ковриги хлеба.
— Видал! Полевкин! Сало захватили! Я ж вас не обманывал!
— Хорошо ж где-то разжились, фрицы чертовы! — негодовал сержант Григорьев. Он вытащил засунутую под солому и прижатую доской-боковушкой винтовку одного из ездовых, передернул затвор, подобрал с земли выброшенный патрон, аккуратно защелкнул его в магазин и по-хозяйски закинул ее за плечо. Трофей его обрадовал, и он принялся рыться в соломе. Но вскоре, обнаружив, что больше там ничего нет, подошел к немцу и указал на ремень с подсумком. Немец торопливо расстегнул ремень и, отступив на шаг, протянул его Григорьеву.
— Baden… — бормотал один из немцев, связанных возле второй повозки. — Baden…
— Что он хочет? — спросил Нелюбин. — Пить, что ли?
— В бане они были, — перевел как мог Степан. — Баден — это же по-нашему — купаться? Так? Говорит, что купались.
Воронцов между тем отдавал короткие распоряжения. Надо было скорее уходить с дороги. Убрать следы.
— Нелюбин! Петров! Коней уводите в лес. Быстро! Полевкин и Григорьев, снимайте охранения и — следом за нами.
— Курсант, а немцев куда? — спросил Воронцова танкист.
— Немцев тоже уводить с собой.
Танкист догнал Воронцова, переспросил.
— Я же сказал: с собой.
— Зачем они нам, Курсант? Лишняя обуза. Штыками их, по-тихому, и все дела…
— Прекратить разговоры! Если кто посмеет пальцем тронуть хоть одного пленного, расстреляю как не выполнившего приказ в боевой обстановке. Выполнять!
Немцев погнали следом за телегами. Они, мгновенно протрезвев, быстро бежали вместе со всеми. Только спавший на первой телеге все еще безмятежно лежал на мешках в расстегнутой шинели. Его трясло и подбрасывало, и, казалось, он вот-вот выпадет из повозки. Сапог на нем уже не было. Френч, лежавший под головой, тоже исчез.
— Полевкина обул? — спросил Воронцов Нелюбина и кивнул на разутого немца.
— Обул.
— А френч кто взял?
— Не знаю.
— Вам только волю дай. — И, повернувшись к обозу, крикнул: — Раздевать немцев запрещаю! Они — пленные! К пленным относиться с достоинством! Вы — бойцы Красной Армии! Не забывайте об этом!
И тут среди бойцов поднялся галдеж. Каждый из них уже присмотрел для себя обнову. Лишение трофея восприняли как несправедливость, вытерпеть которую было нельзя.
— Да придушить их тут, чтобы и патронов не тратить! — закричали в колонне.
— Таскай их еще с собой по лесу…
И тотчас по колонне вспыхнуло разом — будто к огню поднесли облитые бензином факелы, и они, охваченные единым пламенем, разгорались с каждым мгновением все сильнее и сильнее:
— Братцы! А правда, чего мы их ведем?
— Может, ты, Курсант, и кормить их прикажешь?
— Да какой он нам командир? Мы его и не знаем!
— Дави, братва, фрицев!
— Разбирай продукты! А то, похоже, командир нас и кормить не собирается!
Колонна остановилась. Немцы, сбившись в кучу, стояли возле повозок. Они затравленно смотрели по сторонам. Один из них что-то сказал, и они тотчас начали быстро раздеваться. Одежду и сапоги кидали под ноги. Одежда тут же с ожесточением расхватывалась.
Нелюбин толкнул Воронцова, шепнул:
— Надо что-то делать.
— Петров, — окликнул Воронцов танкиста, — отведи-ка своих. Вон туда, к березе, разверни шеренгой и возьми на изготовку.
— Но, командир…
— Я тебе приказываю.
Танкисты, Григорьев и стрелок Калюжный тут же выстроились на полянке и вскинули винтовки.
— Товарищи бойцы! — крикнул Воронцов. — Немедленно прекратить грабеж!
— Это не грабеж, командир. Видал бы ты, Курсант, как они нас обдирали.
— Чего ты их жалеешь? Провели бы тебя в колонне, по-другому бы заговорил.
— А я говорю — прекратить! Немедленно!
— Да пошел ты! — тут же отозвалась толпа злым, уверенным эхом.
— Ты нам не начальник! И не тебе нам правилку устраивать!
И тогда он, сделав полуоборот к шеренге танкистов, стоявших на изготовку, скомандовал:
— Отделение, заряжай!
Клацнули затворы. Толпа сразу затихла. Заводилы втянули головы в плечи. Те, кто успел чем-то разжиться, молча запихивали трофеи за пазуху.
— А теперь слушай мою команду! — Воронцов стоял против них, не снимая с плеча винтовки. Он знал, что Нелюбин и Смирнов рядом и что они готовы открыть огонь при первой же попытке приблизиться к нему. — В одну шеренгу — стройсь!
Бойцы быстро построились.
— Все награбленное сложить перед собой! Все до последней спички! Повторять не буду. Не выполнившие приказ будут расстреляны как мародеры, запятнавшие честь Красной Армии в боевой обстановке. Даю минуту!
На землю полетели кйтели, пилотки, штаны, разные мелкие предметы. Труднее всего расставались с сапогами.
— У кого нет сапог, выйти из строя.
Вышли двое, артиллерист и пехотинец. Обутые в опорки, они переминались с ноги на ногу, посматривали на ворох одежды и обуви, сваленной перед строем.
— Подберите себе по ноге. Свое отдайте пленным.
Воронцов внимательно осмотрел шеренгу.
— Вы и вы, — указал он на двоих бойцов. У одного из них гимнастерка была разорвана на спине, не хватало одного рукава, на другом, кроме замызганной нательной рубахи, ничего и вовсе не было.
— Возьмите себе то, что подойдет. Остальное — вернуть, — приказал он одному из них. — А вы зашейте свою гимнастерку. Ее еще можно носить. При первой же возможности что-нибудь вам подберем.
Когда обутые и одетые снова заняли место в строю и немцы разобрали остатки своей одежды и обуви, Воронцов сказал:
— Если кто не желает идти с отрядом или сомневается во мне и своих непосредственных командирах, выйти из строя! Не бойтесь, мстить вам никто не будет. Я не позволю. Выйти и сложить оружие. И можете идти куда хотите. Хоть снова в плен.
— Нет, командир, кто в плен хотел, там остались, на дороге, — отозвался один из бойцов, который больше всех кричал во время бузы.
— Ваша фамилия? — Воронцов посмотрел на бойца. Ростом тот был не ниже, но постарше и пошире в плечах. На голове грязная повязка. Взгляд решительный, нагловатый. Такие хорошо держатся в бою.
— Рядовой Дюбин, — представился тот и сделал шаг вперед.
— Рядовой Дюбин, вы своей несознательностью только что поставили весь отряд под угрозу гибели. Другого такого случая быть не должно. И не будет. С этой минуты мы — боевое подразделение. Под ружьем я вас через фронт не поведу. Назад теперь тоже дороги нет. У кого есть возражения или заявления?
— Есть заявление! — поднял руку боец небольшого роста. Он где-то еще в лесу, до стычки на дороге, подобрал каску и теперь ходил в ней. Каска казалась большой и сидела на голове бойца как гриб. Под ремешком торчал острый подбородок.
— Говорите.
— Когда кормежка будет?
— Будет кормежка, ребята. Будет. Углубимся в лес, найдем удобное место и остановимся. Нужно помыться, перевязать раненых и приготовить еду. Продукты у нас есть. Нет только подходящего котла.
— Я свою посудину отдаю. Для общества мне ничего не жалко. — И боец ловко, одним движением снял каску.
Шеренга засмеялась. Танкисты опустили винтовки.
— Ну вот, Курсант, взвод наш и сформирован. — И младший лейтенант Нелюбин похлопал Воронцова по плечу.
— Пора выступать?
— Пора. Пока не хватились, уйти надо подальше.
— Взвод! Слушай мою команду! Шагом марш!
И только что сформированный взвод курсанта Воронцова начал свой марш. Никто из них еще не знал, что ждет их впереди.
Глава десятая
Ранним утром в начале сентября командир 5-й танковой дивизии[1] 46-го танкового корпуса 4-й полевой армии группы армий «Центр» генерал-майор Фейн, воспользовавшись затишьем, установившимся на фронте, наконец-то выбрался в лес на охоту. Он отдал необходимые распоряжения, исполнение обязанностей командира дивизии на время своего отсутствия возложил на начальника штаба, в группу сопровождения приказал включить опытного радиста с рацией. Он оттолкнул от себя все обстоятельства, все возможные последствия своего решения, потому что только так на несколько часов можно было что-то изменить в своей жизни и стать не генералом и командиром нескольких тысяч своих солдат и офицеров, а просто господином Густавом Фейном, охотником в русском лесу. Которому хочется побродить по перелескам и лесным полянам и подстрелить парочку тетеревов. Кто знает, думал генерал, возможно, если дела так пойдут дальше, и русские, непрерывно атакуя, будут вводить в дело новые и новые дивизии, эти края придется вскоре покинуть. А туристом после войны он сюда уже вряд ли попадет.
Сопровождали генерала Фейна во время его прогулки по русскому лесу Радовский и здешний егерь Еким.
Когда-то, лет тридцать назад, когда все в этом мире было иным, отец Екима служил псарем у помещика Алексея Георгиевича Радовского и играл в «чижика» и лапту со своим сверстником и сыном того самого «пана Радовского», как звали старого усадебника здешние мужики, Георгием Радовским. Многое с тех пор изменилось. Особенно люди. Но одно осталось прежним — леса. Еким их знал как никто другой. Радовский отыскал его еще зимой. Еким жил в соседней с усадьбой деревне. Давно женился. Жену выбрал из здешних красавиц. Старшему его сыну было уже пятнадцать лет.
Фейн был одет специально для охоты. Однако его одежда и снаряжение походили больше на наряд, а не на экипировку. И это развеселило Радовского в первые минуты, когда он его увидел. Тирольская шляпа с изящным пером, лайковые галифе, короткая просторная темно-зеленая накидка из великолепной непромокаемой материи. Даже пуговицы на френче из светло-серого бобрикового драпа имели рисунок в виде оскаленной морды разъяренного вепря. Коричневая, уже повидавшая виды, кожаная сумка-ягдташ с двумя гирляндами плетешек для подвешивания дичи. Под накидкой виднелась патронная сумка из козловой кожи, с медными застежками. Но больше всего Радовского удивило ружье генерала. На плече у него висела одностволка центрального боя, по всей вероятности, французского производства. Что, впрочем, Фейн тут же и подтвердил, похлопав ладонью в лайковой перчатке по изящной ореховой ложе:
— Лепаж в Льеже, Георгий Алексеевич. Великолепный бой. Лепаж — триста сорок один. Сталь — букетный дамаск «Бостон». Вы удивлены, что — одностволка?
— Признаться, да.
— Двустволку возьмете вы. Там, в машине, все для вас приготовлено: ружье, патронташ, прочее… А я давно отказался от двуствольных ружей. Стрелять на охоте надо один раз. Есть у меня и еще одна одностволка — вашего, Тульского Императорского завода. Двенадцатый калибр. Великолепный бой. Незаменимая уточница. Но — тяжеловата. А мы сегодня будем много ходить. И я подумал, что Лепаж для такого случая будет самым подходящим ружьем.
Дратхар послушно сидел в машине и выглядывал в дверную щель, видимо, все же томясь закрытым пространством. Фейн придирчивым взглядом окинул Радовского и нашел, что одет он вполне «по-боевому». На Радовском были высокие сапоги, накидка и кепи «древесной лягушки». Обычно так он уходил на боевую операцию. Вот что имел в виду генерал.
Они подошли к серому «опелю». Дратхар сразу заволновался, забил лапами по стеклу, и генерал, с восторгом глядя на своего любимца, засмеялся. Радовский, оценив экипировку и снаряжение генерала, про себя отметил, что, похоже, для генерала охота уже началась. Генерал говорил громко, как если бы он принимал гостей где-нибудь в своем поместье, показывая им разные диковинные вещи, предметы его гордости и увлечения. Да, на войне, здесь, под Вязьмой, после того, что тут натворили осенью прошлого года и весной нынешнего, видеть немца, одетого в изысканный костюм охотника… Понимает ли генерал, что Россия — это не тирольский пейзаж. Впрочем, ему на это решительно наплевать. Сегодня — охота. Променад по лесу в сравнительно глубоком, в понимании фронтовика, тылу. А завтра — снова то, что было вчера и позавчера, и все эти безумные месяцы, которые уже начинают складываться в годы.
Ружье, которое лежало на заднем сиденье машины и которое предназначалось ему, восхитило Радовского. И Фейн сразу уловил этот взгляд и, довольный восторженной реакцией компаньона, улыбнулся улыбкой радушного и щедрого хозяина. Немцы, давно замечено, по природе своей народ довольно скупой. Но Радовскому судьба послала убедиться в обратном.
Стараясь быть сдержанным, он все же с жадностью разглядывал ружье. Точно такую курковую двустволку с гравировкой трех колец на левом патроннике и надписью «SPECIAL GEWER-LAUF STAL FRID. KRUPP A. G. ESSEN» он видел в самом начале четырнадцатого года в Москве, в магазине Биткова на Большой Лубянке. Он даже запомнил, сколько стоил тот прекрасный «Зауэр», в который сразу же, как только взял его в руки, влюбился. Сто двадцать пять рублей. Таких денег у Радовского тогда не оказалось. И он отложил покупку до весны. Но весной захворал отец. А летом в воздухе пахло уже не охотничьим порохом…
— Прекрасный экземпляр, не правда ли? — Глаза Фейна сияли от удовольствия. Что ж, он, старый солдат, тоже отдал бы многое, чтобы оказаться сейчас подальше от этой мясорубки, где-нибудь на озерах в Чехии или на побережье, под Данцигом или Кенигсбергом, где утка и гусь летают стаями и где за одну зорю он, случалось, расходовал до двух дюжин зарядов.
Побережье… Кенигсберг… Где это? И как далеко это далеко теперь! Как далеко!.. Вязьма спутала все расстояния. Вязьма, Вязьма… Непроходимые болота. Где тоже гнездится утка. Но ее здесь, конечно же, значительно меньше. Но тетеревиные тока здесь весной, должно быть, хороши.
Радовский взял ружье в руки.
— Это — Зауэр и Сын. Изготовлено в Зуле примерно в тысяча девятьсот восьмом — девятьсот четырнадцатом годах. Я не ошибся, господин генерал?
— Да, девятьсот одиннадцатый год. Вы знаете толк в оружии. Это видно по вашему взгляду. По тому, как вы взяли это ружье в руки и как держите его.
— А вы наблюдательный человек.
— Я охотник, господин Радовский. — И Фейн засмеялся. — Но эта полусадочная двустволка привезена с моей родины не теперь. Давно. Может, сразу после ее изготовления. Это — трофей.
Радовский вопросительно посмотрел на генерала.
— Да-да, мой друг, она взята летом прошлого года где-то под Каунасом. Мне ее подарили позже, уже под Москвой. А тогда, летом, мы еще транжирили свои последние счастливые дни во второй линии. Приводили себя в порядок после драки с новозеландцами в Греции. Задали мы им тогда трепку… — Фейн на мгновение потускнел, взгляд его подернулся тенью. Должно быть, какие-то не совсем приятные воспоминания внезапно захватили его. Но так же мгновенно он стряхнул с себя морок прошлого и, вновь сияя улыбкой, кивнул Радовскому: — Берите, мой друг, оно — ваше.
Радовский не поверил своим ушам. По всей вероятности, генерал оговорился. Он замер, невольно оцепенев. И Фейн это заметил и повторил, уже спокойно, как о давно решенном:
— Примите, Георгий Алексеевич, это ружье в качестве моего вам подарка. В знак благодарности за то, что вы согласились сопровождать меня по угодьям вашего имения. По сути дела, я у вас в гостях. — Генерал оглянулся, внимательно посмотрел на Радовского и, чтобы разрушить его оцепенение, сказал: — В моих словах есть какой-то изъян?
Радовский не знал, как на это реагировать. Вначале дорогой подарок. А теперь Фейн недвусмысленно заговорил об имении. Что это, игра искушенного в политике человека или искренние пожелания солдата?
— Если вы сумеете закрепиться в абвере, то карьера вам обеспечена. Звания, награды. Но к крестам, друг мой, неплохо было бы присовокупить хорошенький кусочек земли, заселенный трудолюбивыми людьми. — Генерал сделал паузу. — Тем более, вы знаете язык и обычаи этих людей, и они не воспринимают вас как чужого. Что очень важно. Настолько важно, что это, быть может, решает и все остальное. А если наши дела здесь пойдут блестяще, то, я думаю, возврат прежней собственности лично для вас не станет неразрешимой проблемой. Напротив, я уверен, что все решится просто и быстро.
Далее генерал рассказал Радовскому о неких списках, которые еще с лета сорок первого года существуют в каждой дивизии, в каждом корпусе, на основании которых после завершения восточного похода будут розданы имения не только высокопоставленным офицерам, но и рядовым солдатам, а также семьям погибших. Списки постоянно пополняются. Но иногда из них исчезают некоторые фамилии. Особенно много было изъято после зимнего контрудара русских. В этот список может, после некоторых усилий, попасть и он, майор вермахта Радовский.
— И мне, старику, будет куда приехать пострелять из своей одностволки. Выпить русской водки над могилами моих боевых товарищей. — И Фейн по-отечески похлопал Радовского по плечу. — Вы еще молоды. Молоды. А это, друг мой, всегда преимущество.
Мотор машины уже прогревался. Дратхар снова забил лапами по стеклу.
— Садитесь в машину, Георгий Алексеевич. Не будем начинать наш день с пустопорожней болтовни. Посвятим его охоте.
Листва на опушках уже начала желтеть. Одинокие березы в лугах поредели. Но ветви их не потеряли упругости и волновались на ветру молодо и весело. Пахло грибами. Даже здесь, в лугах. Место было знакомое, и Радовский, улучив минуту, когда генерал Фейн увлекся преследованием тетеревиного выводка и ушел довольно далеко, сел на серый камень, покрытый сизым лишаем, и стал смотреть на горизонт. Где-то там, за лесом, была усадьба. Дом и то, что осталось от храма. За храмом кладбище с дорогими могилами. Он сидел на холодном камне и смотрел вокруг. Кругом была родина. Он узнавал и не узнавал ее. А может, он просто еще не возвратился к себе домой? Берега, что мне обещаны, исчезают за туманами… Или же сюда вернулся не он, не Георгий Алексеевич Радовский, сын «пана Радовского», а кто-то уже другой? И тот, другой, тоскует по совершенству первого. Потому что именно тот, другой, был настоящим. И все, что он сейчас видит и вдыхает, принадлежит другому. А значит, и то, что там, за кромкой леса, тоже не его. Но как же быть с могилами родителей и рождением сына?
Видимо, именно так сходят с ума…
Генерал выстрелил еще несколько раз. Видимо, он решил истребить весь выводок. Его дратхар оказался отличным охотником. Он легко отыскивал наброды, потом делал стойку и ждал вылета тетерева, а затем выстрела хозяина. После выстрела он радостно взвизгивал, бросался вперед, отыскивал в траве еще живую птицу, пахнущую теплой кровью, легонько прикусывал ее. С этого мгновения птица становилась добычей, которую он должен был принести хозяину и положить к его ногам. Когда хозяин промахивался, дратхар это сразу понимал. Он взвизгивал, бросался вперед, пробегал несколько стремительных шагов в сторону улетающей птицы, быстро, чтобы тот не смог разглядеть упрека в его глазах, оглядывался на хозяина, и снова начинал работу. Хозяин промахнулся, но это не должно помешать ему отыскать другую птицу или даже целый выводок, и поднять его на верный выстрел.
Снова на опушке прогремел ружейный выстрел. И, не опало еще эхо в глубине леса, окаймлявшего луг, огромный тяжелый петух, планируя упругими крыльями, вылетел на Радовского. Он вскинул ружье, натренированным движением взведя оба курка, прицелился. Тетерев плавно лег на прицельную планку. Радовский мгновенно прикинул расстояние до цели — сорок шагов, не больше. Когда-то отец учил его: стрелять в птицу, которая летит на выстрел, нужно один раз, с упреждением, учитывая и угол сближения, и скорость полета, а другой патрон нужно приберечь на тот случай, если первый заряд пройдет мимо. Второй раз стрелять нужно вслед улетающей птице. И если прицел и упреждение взяты верно, то заряд ее догонит. Вот он, его петух, желанная добыча любого охотника. Увидев стрелка, тетерев шарахнулся в сторону и начал набирать высоту. Нет, он не хотел расставаться с жизнью и, как мог, боролся за нее. Это был старый косач, быть может, повидавший не одного охотника и даже переживший не один выстрел. Но на этот раз он все же допустил оплошность и вылетел прямо на стрелка. Радовский проводил его взглядом и опустил ружье. Я знаю, что деревьям, а не нам, дано величье совершенной жизни… В этом вечном лесу совершенна жизнь и этой птицы. Прервать ее праздным выстрелом показалось Радовскому не только нелепым, но и пошлым, и какое-то время, пока приступ держал его; он старался не смотреть ни в сторону Фейна и его танцующего в высокой траве дратхара, ни на свой прекрасный «зауэр».
— Почему вы не стреляли, Георгий Алексеевич? — спросил его Фейн, когда они снова сошлись в конце луга.
— Далековато.
— Далековато? Он пролетел прямо над вашей головой! Я уже представил, как этот огромный петух рухнет на землю!
Радовский махнул рукой и отвернулся.
— Странный вы народ, русские… — Генерал не думал его щадить. Видимо, не мог простить того, что Радовский упустил такую добычу. — В бою не щадите ни себя, ни своих солдат, а тут… Мне докладывали, как вы ведете себя во время операций. Здесь, в этих лесах и деревнях. Вас ведь здесь узнают?
— Вряд ли. Столько лет прошло.
— Годы памяти не помеха. Порой именно с годами прошлое начинаешь видеть более отчетливо.
— Там у меня нет выбора, господин генерал. Там я — солдат. А здесь — охотник. Здесь, на охоте, в лесу, я размышляю.
— А разве ружье не мешает вашим размышлениям?
— Нет, напротив, оно помогает.
— Да, это прекрасно. Отчасти я разделяю ваши чувства. Но не до конца. Я ведь тоже здесь, в России, уже стал немножко русским. Так вот я разделяю ваши чувства до того предела, до которого я русский. А дальше — немец. Не могу. Не получается. — Фейн засмеялся.
— А там… Там, в партизанских деревнях, — другое. И залитые кровью недели ослепительны и легки…
— Что?
— Я процитировал стихи.
— Стихи? Пушкина? Лермонтова?
— Нет, Гумилева.
— Гумилева? Когда он жил?
— Совсем недавно. Расстрелян двадцать лет назад большевиками.
— За что?
— За стихи.
— Почитайте еще что-нибудь.
— Та страна, что могла быть раем, стала логовищем огня, мы четвертый день наступаем, мы не ели четыре дня. Но не надо яства земного в этот страшный и светлый час, оттого, что Господне слово лучше хлеба питает нас. И залитые кровью недели ослепительны и легки…
— Это — о вашей войне?
— Нет, господин генерал, это — о нашей душе.
— Да, да… Русская глина. Пространства… Здесь все огромно. Расстояния, леса, дороги, которым нет конца, и бездорожье… Ни одно европейское колесо, даже германское, даже с клеймом великого рейха, не сможет одолеть эти глины в период дождей. Дожди могут идти неделями. Иногда мне кажется, что это совсем и не дожди, а сама Россия. Но какие вместе с тем пейзажи! — И Фейн сделал жест рукой в сторону опушки, куда уходил, теряясь в небольшой лощинке, луг, больше похожий на огромную поляну посреди такого же огромного леса. — Притом что здесь — равнина. И глазу, казалось бы, не за что ухватиться.
— Вы начинаете понимать русский пейзаж, господин генерал.
— Сюда бы этих заносчивых берлинских стратегов… Изучают передовую с самолета. Нет, я всегда твердил и буду твердить: генералы должны, хотя бы раз в неделю, маршировать в одной колонне вместе со своими солдатами. Почему русские нас бьют? Потому что у них много таких генералов, которые маршируют вместе со своими солдатами. Помните, того, которого хоронили около церкви возле шоссе? Как называлась та деревня?
— Слободка.
— Да, Слободка. Мы знали, что русские генералы в последний момент покидали свои войска, вылетали из «котлов» на самолетах, пробивались в танковых колоннах. Этот не вылетел. Хотя, как показали пленные, мог это сделать. Многие старшие офицеры вылетели. И он их провожал на полевом аэродроме. Как его фамилия?
— Генерал-лейтенант Ефремов Михаил Григорьевич. — И Радовский машинально прибавил: — Бывший прапорщик Русской армии.
— И у него были такие же хорошие солдаты. Мы потеряли много личного состава. Особенно Пятая мотопехотная бригада. Поступил приказ ее расформировать. Пополнение никак не может восполнить понесенные потери. Я пытался убедить командование разрешить доукомплектовывать бригаду русскими батальонами «хиви», но мне категорически запретили даже думать об этом! Вот почему вас сейчас стараются переподчинить другим, более влиятельным ведомствам, Георгий Алексеевич. Умные и дальновидные головы в рейхе понимают, что без русских в России нам с большевиками не справиться. Как это, в стихах: …не надо еды земной…
— Но не надо яства земного в этот страшный и светлый час, оттого, что Господне слово лучше хлеба питает нас.
— А ведь большевики закрыли церкви. Но эти слова в той же мере, что и вы, могут произносить и они! Вы не задумывались об этом? Такие, как генерал Ефремов. И пусть не Господне слово питает их волю. Вот этот пейзаж… Разве вы, русский человек, не испытываете волнения, стоя здесь, на родной земле? И как вы будете реагировать на опасность, что эту землю, этот пейзаж у вас хотят отнять?
В это время дратхар, подбежав к ивовому кусту шагах в тридцати от них, коротко взвизгнул и сделал стойку.
— А, к черту эту политику! К черту войну! — И Фейн быстро перезарядил ружье, выбросив на седую траву стреляную бумажную гильзу. — Вот видите, жизнь-то, оказывается, строится по иным законам. И дратхар может быть куда мудрее нас!
— У него лучше нюх, — усмехнулся Радовский.
— О, друг мой, по этой части многие офицеры рейха дадут моему Барсу сто очков вперед!
Генерал побежал к своей собаке. А Радовский снова оглянулся на край леса, за которым, в часе ходьбы, была его усадьба. Грохнул выстрел. Дратхар кинулся в кусты и вскоре вынес оттуда огромного черного петуха. Радовский подошел к генералу, поздравил с великолепным выстрелом. Фейн сиял от удовольствия. Собака положила тетерева к ногам хозяина, преданно посмотрела на него и отвернулась, словно не желая показаться назойливой.
— Обратите внимание, — сказал Фейн, — какой у него такт! Поразительное существо!
— Да уж, такой орденов просить не будет.
Фейн потрепал дратхара по холке.
— Когда крестьяне здесь засеют все поля, дичи будет куда больше. А, Георгий Алексеевич? Вы ведь будете хорошим хозяином своих земель?
Егерь Еким, который все время находился рядом, вслушивался в их разговоры и, видимо, кое-что уже понимал. Он слушал лес. Слушать лес было его обязанностью. Сюда, на эту поляну, где дратхар сразу нашел наброды тетеревиных выводков, их привел именно Еким. Хорошо, что Еким свободно не владеет немецким, подумал Радовский. Мужики здесь живут надеждой на скорое окончание войны и на то, что, когда все закончится и уцелевшие сыновья и братья вернутся домой, они получат свою землю. Эти поля и луга, леса и поймы. Угодья, которые будут их кормить. Они и не подозревают, что на эту землю уже составлены списки владельцев с немецкими фамилиями. Нет, бывший поручик Первого русского корпуса Георгий Алексеевич Радовский не хотел бы попасть в тот список. А майор вермахта пусть решает…
Обедать они уехали в усадьбу. На этом настоял генерал Фейн.
Осмотрели дом. В саду солдаты из охраны поставили найденный где-то стол. И вскоре на нем появилась и вареная свинина, и соленые грибочки, и какие-то консервы, и бутылка коньяка. Еким достал из своего «сидора» добрый кусок деревенского сала.
— Коньяк греческий. Превосходного качества, — отрекомендовал Фейн. — Старые запасы. Взяли у новозеландцев под Молосом, когда разделали их Вторую дивизию.
Они выпили. Радовский по старой армейской привычке не оставлять капель на потом закинул свою рюмку сразу, одним броском. Фейн — в несколько глотков, при этом причмокивая губами и будто прислушиваясь к тому, что происходило внутри. Каждый новый глоток, по всей вероятности, должен был усиливать эффект предыдущего.
— Видите, мы даже пьем по-разному. — Фейн тут же налил еще по одной. — И в этом ничего удивительного нет.
Радовский старался меньше закусывать. Ему хотелось поскорее захмелеть. Но коньяк не брал.
— Я думаю, что эта наша прогулка в столь прекрасных местах — последняя.
Радовский вскинул вопросительный взгляд.
— Коньяк развязывает язык только у несдержанных, — усмехнулся Фейн и погрозил Радовскому пальцем. — А вы, господин майор абвера, упорно неразговорчивы. Ну да, ну да, служба такая… Поменьше болтать, побольше слушать. А нам, солдатам, плевать на то, что о нас подумают там… Там… — И Фейн ткнул пальцем на восток. — А им… Им, в свою очередь, плевать на нас. Что мы, уже в свою очередь, тоже вынуждены принимать как должное. К примеру, выполнять невыполнимые приказы. В ноябре прошлого года, когда мы прибыли сюда, на Восточный фронт, из Африки, за пять дней боев моя дивизия потеряла семьдесят два танка. Танки были выкрашены в желтый цвет. Нам даже не выдали белой краски, чтобы изменить африканский камуфляж на русский. Говорят, русские бронебойщики называли наши панцеры зебрами. Они хорошо были видны на белом снегу. Зимой белая краска в вермахте была в дефиците. Легче было раздобыть дюжину хорошего французского или вот такого, греческого коньяка, чем банку белой краски. Никто из личного состава не получил зимнего обмундирования, за исключением танкистов. Им выдали шерстяные свитеры, перчатки и подшлемники. К первым числам декабря, когда русские контратаковали по всему фронту, мы имели в строю всего тридцать семь танков. Во время марша на Афины и под Молосом мы не имели безвозвратных потерь в бронетехнике. Весной на шоссе Вязьма — Юхнов при столкновениях с конниками генерала Белова и пехотинцами генерала Ефремова мы потеряли одиннадцать танков и семь бронетранспортеров. Шесть танков сгорели и взорвались вместе с экипажами. И вот, похоже, я дождался перевода. Приказ о присвоении мне очередного воинского звания «генерал-лейтенант» уже в пути. Приказ о переводе, должно быть, тоже. Только вот куда, неизвестно. Признаться, готов хоть к черту в пасть, но только подальше отсюда. Восточный фронт… Восточный фронт…
— Для меня Восточный фронт — родина.
— Фронт не может быть родиной. Даже учитывая ваши особые обстоятельства.
— Другой у меня нет.
— Почитайте еще что-нибудь, этого своего очень русского поэта.
— Еще один старинный долг, мой рок, еще один священный! Я не убийца, я не волк, я чести сторож неизменный.
— Вот за эти строки стоит выпить по полной рюмке. — И Фейн повторил: — …Я чести сторож неизменный. Так мы и кончим, очень плохо, сторожа свою честь. Я чести сторож неизменный… В оригинале это, должно быть, звучит куда сильнее. Иногда поэты восхищают даже таких черствых солдафонов, как я. Да, друг мой, волновать может не только коньяк. Но и женщина, и поэзия. Что, впрочем, почти одно и то же. Но всему свое время. И место — тоже. Я чести сторож неизменный… Эти слова написаны офицером. Только офицер мог это почувствовать. Он такой же, как тот генерал… Ефремов.
— Николай Степанович Гумилев был офицер. И умер как офицер. Но убит был как поэт.
— Россия… Россия… Россия… Глина, дожди… И офицеры, которые пишут роковые стихи. Удивительная страна.
Коньяк не брал. Бутылка уже опустела. Но тут же появилась вторая, точно такая же. Дратхар лежал под кустом сирени и самозабвенно то грыз, то лизал говяжью кость, откуда-то принесенную для него предусмотрительным Екимом. На яблоне на плетешках висели убитые тетерева. Дратхар несколько раз вставал, подходил к ним, осторожно нюхал и снова уходил под куст сирени, где ждала его недогрызенная кровавая кость.
Вскоре генерала Фейна увели на отдых в дом местного старосты. А Радовский решил, пока не стемнело, сходить на кладбище.
Когда он вышел за село, навстречу с поля шли две женщины. Одна из них еще издали пристально взглядывала на него. Что-то знакомое, из детства, мелькнуло в ее сдержанной, растерянной улыбке, в неутраченной осанке, в наклоне головы. Поравнявшись, женщины поздоровались с поклоном. Он ответил.
Кладбище открывалось левее. Он свернул. Дубовая аллея уже сомкнулась вверху над дорогой, вымощенной булыжником, собранным в окрестных полях. И дубы сажал, и дорогу мостил дед, отставной батальонный командир Белозерского полка 11-й пехотной дивизии генерала Чоглокова. Во время штурма Вязьмы в октябре 1812 года дед шел в одной колонне с генералом. Картечь их пощадила. В каминном зале на стене под портретом деда висела его сабля. В детстве он любил ее разглядывать. Вытаскивал из ножен тяжелый клинок с широким долом, отливавшим синевой хорошей стали. Рукоять, покрытая кожей, основательно потертой. На гарде и боковых витых дужках остатки позолоты. Головка рукояти, слегка изогнутой, была украшена растительным орнаментом и вензелем императора Александра I. Свой первый офицерский чин дед получил в 1810 году, в царствование Его императорского Величества Александра Павловича. Где теперь она, та дедова сабля, которая дошла до Парижа? Которая была в деле не только здесь, под Вязьмой и Малоярославцем, но и на льду Березины и под Вильно.
Дубы стояли двумя ровными шеренгами, образуя уютную аллею. Каждому из них было более сотни лет. Корни, выступая из земли мощными вздутыми жилами, так стеснили и без того узкую мощеную дорогу, что местами она уже терялась, выщербленная, вытесненная этой природной волей поглотить, растворить и превратить в прах все, кроме живого. Радовский шел по остаткам мощеной дороги и чувствовал под своим шагом, как корни дубов, переплетаясь, прочно удерживают свою территорию. Здесь все принадлежит им, этим дубам. Здесь жили они. В конце аллеи темнели очертания однокупольной церковки. Колокольня стояла отдельно, левее, и ее белую стройную свечу Радовский пока только угадывал. Дубы своими могучими ветвями с плотной листвой, еще по-летнему зеленой, не тронутой дыханием ранней осени, закрывали ее. Удивительное ощущение испытывал Радовский, проходя по этой старинной дедовской аллее. Как будто он шел по дому, через анфиладу комнат, вдыхал запахи родных углов, а там, где-то впереди, была главная дверь, которую предстояло отворить вот-вот, через мгновение. Он с силой закрыл глаза и остановился. Кровь шумела в висках ровными, густыми волнами. За церковной сторожкой стрекотали сороки. Глухие удары дальней канонады тонули в этой вязкой тишине забытой им родины, в ее извечных запахах и шорохах. Ему вдруг захотелось закричать, завыть, чтобы нарушить сомкнувшуюся над ним невыносимую тишину, чтобы и родина вспомнила о нем, рожденном и выросшем здесь, среди этих дубов и трав. Он тоже здесь жил! Радовский разомкнул стиснутые зубы, набрал воздуха, но ничего, кроме вздоха и стона, не получилось. Он постоял еще немного, огляделся, поправил под накидкой портупею и кобуру с тяжелым «парабеллумом» и зашагал в сторону кладбища. Легким размашистым шагом, который отличал всех мужчин рода Радовских.
Не стоит сокрушать свою душу тем, что родина его забыла. Родина — как те дубы, которые обнимают только то, что всегда рядом.
Глава одиннадцатая
Отряд все глубже уходил в лес. Шоссе уже не окликало их своими звуками, каждый из которых таил опасность, угрожал погоней или слепой пулеметной очередью. Воронцов вел взвод по компасу, время от времени сверяя маршрут по карте. Старая дорога, по которой они шли, на карте не значилась. Она уводила их все глубже в лесной массив, но что было там, в конце ее, никто не знал. Воронцов выслал вперед разведку: Степана и Полевкина. Через час те вернулись.
— Лучшего места для привала не придумаешь, — доложил Степан. — Километрах в двух отсюда — луга и брошенная усадьба. Видимо, до колхозов хутор был.
— Строения какие-нибудь остались?
— Сарай. Банька. И погреб. Дома нет. Видимо, перевезли.
— А дальше дорога куда уходит?
— Дороги дальше нет. Мы обошли хутор по всей окружности — другой дороги, кроме этой, не обнаружили. Может, и была, но заросла. Хутор заброшен давно.
Идти на заброшенный хутор и остановиться на отдых там — соблазн великий. Но Воронцов просчитывал и другое: они набрели на эту дорогу и этот хутор случайно, но в ближайшем селении наверняка знают о существовании и заброшенного хутора, и заброшенной дороги к нему.
— Вот что, Степан, бери еще с собой одного из танкистов и возвращайтесь назад. Пройдите по дороге и разведайте, куда она выводит. Что там за деревня, есть ли немцы или полицаи. В деревню заходите с противоположной стороны. На дороге следов не оставляйте. Двигайтесь по лесу, вдоль, параллельным маршрутом. Ну, словом, тебя не учить. В боестолкновение не вступать. Огонь открывать только в самом крайнем случае.
Разведка ушла. Обоз продолжал двигаться вперед, и вскоре Воронцов, шедший в головном дозоре, в расступившейся лесной просеке увидел простор довольно обширного луга. Точно так же год назад он вышел к Прудкам. Только тогда простор, вот так же внезапно распахнувшийся перед ним, был ослепительно-белым, ярким — всюду сиял снег. А здесь все казалось более скромным, меньшим по размерам. Но душа вздрогнула точно так же.
Все свидетельствовало о том, что здесь действительно лет девять назад существовал хутор. От дома остался лишь фундамент — прямоугольник дубовых стульев, выставленных вплотную друг к другу и замазанных в швах глиной. Поодаль от заросшего кипреем и пустырником фундамента стоял покосившийся набок сенной сарай с прирубом. В прирубе когда-то держали домашнюю скотину. Земляной пол, изрытый кротами, еще хранил запах перегнившего навоза. На стене висел расколотый хомут с изъеденным молью потником — единственный предмет, то ли забытый, то ли брошенный за ненадобностью хозяевами, давно покинувшими эти некогда обжитые места. Дальше, внизу, возле ручья и копани, в ракитах, чернела банька. Она хоть и вросла в землю, но стояла все же довольно бодрой старушкой. Время и заброшенность будто пронеслись мимо нее, не тронув ни стен, ни углов. Даже кровля, крытая еловым струганым гонтом, не протекала. И видимо, именно в этом и заключалась причина стойкости строения.
Воронцов приказал занимать прируб и баню. Коней распрягли и отогнали в лес, в лощину, пастись. А телеги, вывернув из них оглобли, закатили в сенник. Под ракитой возле бани развели костер и заварили в ведре густую мучную болтушку, сдобренную мелко нарезанными кусочками сала. Это был первый горячий обед. Кухню и лошадей Воронцов поручил Нелюбину. Демьяну — охрану пленных.
Немцев заперли в погребе. Выставили часового.
Лейтенанта перенесли в баню. Воронцов нагнулся к носилкам, спросил летчика:
— Горичкин, ну как ты? Держишься?
— Хреново. Знобит, — ответил тот нехотя и отвернулся.
— Ты держись. Немного осталось. Скоро перейдем. А там тебя сразу в госпиталь.
Конечно, лейтенант понимал, что без врачебной помощи ему с такой раной жить недолго. Срочно нужен врач. Лицо летчика распухло. Губы посинели. Врач. Хотя бы фельдшер. Но где его возьмешь? И тут Воронцов вспомнил, как в дороге один из немцев, тот, который во время захвата был мертвецки пьян и очнулся только в лесу, часто поглядывал на повозку с лейтенантом. Однажды подошел к нему и что-то сказал, указывая на повязку. Что-то его не устраивало либо в том, как была наложена повязка, либо он все же имел в виду состояние раненого. Но Калюжный оттолкнул немца, видимо, думая, что тот снова претендует на то, чтобы его везли на телеге. Немец покачал головой и снова дважды повторил незнакомое слово. Он сказал: «Eine Geschwulst». Гешвульст, гешвульст, повторял про себя Воронцов, пытаясь выловить из памяти перевод этого слова. Опухоль! Точно, немец сказал, что у лейтенанта начинается опухоль! Значит, он хотел их о чем-то предупредить. А может, он, тот проспавшийся пьяница, и есть фельдшер или даже врач?
Воронцов приказал танкисту, охранявшему дверь в погреб, вывести пленных.
— Wir haben Krank, — сказал он, тщательно подбирая слова. — Wir machten Arzt. Helfen Sie mir, bitte.
— Ich bin Arzt, — тут же ответил немец. Обут он был в опорки, которые оставил ему Полевкин после того, как стащил с него, спящего, сапоги.
— Gehen sie, bitte, — сказал Воронцов и кивнул ему на баню.
Калюжный сидел на порожке и тоскливо смотрел в овраг, который начинался сразу за баней, огибал луг и уходил в сосняк, поднимавшийся сплошной высокой стеной в полукилометре от хутора. По лицу стрелка было видно, что лейтенанту стало совсем худо.
— Вот, Калюжный, доктора привел.
— Да разве ж он доктор? Пьяница горький!
— Самые лучшие доктора всегда — пьяницы. Ты разве не знал? У нас в районе хирург до войны был. Так он без стакана спирта к больному не подходил. Вот так, Калюжный. Тоже, между прочим, имел немецкую фамилию.
Калюжный внимательно посмотрел на пленного.
— Думаете, он соображает?
— А посмотри на его руки. — И Воронцов кивнул немцу: — Der Arm… Zeigen Sie mir der Arm.
Немец протянул руки. Пальцы его дрожали.
— Да, — покачал головой Калюжный, наблюдая за тем, как ходили ходуном пальцы пленного немца, — сильно он там, в деревне, перебрал. Тут не одним стаканом пахнет.
— Не туда смотришь, Калюжный. Видишь? Желтые пятна на кончиках?
— Так это, может, от курева.
— Да нет, Калюжный, это следы йода. Будешь ему помогать. Делать все, что он скажет. Понял?
— Вас-то я понял, а как я его пойму? Он же ни бельмеса по-русски.
— А ты с ним по-немецки поговори. Кому врач нужен, нам или им? Ты в школе какой язык изучал?
— Немецкий.
— Ну вот и примени свои знания.
Калюжный помялся:
— Тройка у меня по-немецкому была. Но несколько фраз я помню точно.
— Например?
— Ви хайст ду? Их хайсе Федя. Ну, и так далее.
— Ну, этого, Федя, тебе будет вполне достаточно. Ты все поймешь. Хочешь, чтобы лейтенант выжил? Дюбин вас будет охранять. Посидит тут с винтовкой.
Бойцы уже сидели вокруг костра и хлебали из котелков и касок густое нелюбинское варево.
— Кондратий Герасимович, — окликнул Воронцов Нелюбина, хлопотавшего вокруг ведра, — ты сразу-то не перебарщивай. Не ели небось по нескольку суток. Понемногу им сейчас надо. Пусть поспят пару часов, а там снова покорми.
— Слыхали, что командир сказал? — Нелюбин поднял над головой кружку. — Вот ваша норма! И — ни ложки больше. Иначе заболеете смертельной болезнью.
— Как же эта болезнь называется, хвершал? — усмехнулся один из бойцов, приставших к обозу в лесу.
— Есть у этой болезни и научное название, только я его не помню. А по-народному она именуется заворот кишок.
— Так как же они, товарищ лейтенант, завернутся, если полные будут? Пустые скорее завернутся.
— Повторяю, кто еще не понял: кишки у голодного бойца заворачиваются не от голода, а от жадности и неосторожности при приеме пищи. Больше повторять не буду. Вон вам и командир то же самое сказал.
Воронцов, слушавший разговор Нелюбина с бойцами, сделал тому знак. Тот сразу прервал свою политбеседу.
— Я пойду обойду вокруг. Посмотрю. Если вернется Степан с людьми и если у него что-то важное, скажи ему, чтобы шел мне навстречу. Если там все спокойно, пусть кормит людей и отдыхает.
Осенью, даже ранней, пасмурный день в вечер переходит незаметно. На землю опускается какая-то тоска, ты поднимаешь усталый взгляд, чтобы посмотреть, что там виднеется, вдали, но уже смутны очертания впереди и тяжел шаг, и хочется сесть где-нибудь на пеньке или поваленном дереве и не думать ни о чем, кроме самого заветного, о чем не признаешься никому, даже самому себе, и то не всегда. Вот и Воронцова стали одолевать невеселые мысли. Он остановился и стал осматривать в прицел ближайшую лесную опушку, увидел поваленную березу и пошел к ней. Не доходя до березы шагов пяти, заметил остатки парашюта, уже проросшего травой, и длинный, метра полтора, металлический контейнер, выкрашенный болотно-зеленой краской. Внезапная находка развеяла его мысли. Он внимательно осмотрел контейнер. Сомнения быть не могло, он сброшен с самолета еще прошлым летом или зимой. Мыши посекли шелк парашюта и стропы. Но контейнер остался в полной сохранности.
Воронцов потрогал смятую гофру амортизатора, нащупал карабин парашютной застежки и отжал его. Примял ногами траву и нащупал торцевую ручку. Приподнял. Контейнер оказался довольно тяжелым, одному не дотащить. Он еще раз обошел его, забросал, на всякий случай, травой и быстро пошел в сторону хуторских построек, где отдыхал взвод и откуда тянуло сладковатым дымком нелюбинского костра.
Смирнов с разведчиками уже сидел возле ведра. Слышался довольный голос Нелюбина. Кондратий Герасимович, видать, делился с молодежью личным опытом:
— А я всегда, ребятушки мои, говорил и говорить буду: баба, она существо до того особенное, что тут тебе никакая наука не поможет. А уж художественная литература — подавно. Потому как если баба книжек умных начитается, то она ж, зараза эттакая, и дела по хозяйству забросит. Я знал такие случаи. Могу привести в качестве неопровержимого, так сказать, доказательства.
— Что-то я не понял, дядя Кондрат, — перебил младшего лейтенанта молодой голос, видимо, желая вернуть рассказчика к прежней теме, — ты что, сразу с двумя до войны жил?
Бойцы засмеялись.
— Вы вон лучше Степку попросите, он вам такую байку завернет, что всюю ночь, по молодости-то лет, за мотню будете держаться. А касательно того, что лично у меня до войны было — это мое. Я, ребятушки, в этих делах кобель опытный, можно даже сказать, немного престарелый, и управлюсь с ними сам. Жена — не полюбовница. Не невеста. И дурак тот мужик, который про свою жену чужим рассказывает.
Степан издали увидел Воронцова и встал навстречу.
— Пойдем-ка, — махнул ему Воронцов и повернул назад, к лесу.
Пока шли, Степан доложил: километрах в пяти отсюда есть деревня, небольшая, всего два двора, но живут только в одном доме, старик со старухой, они-то и рассказали, что еще прошлой осенью деревню сожгли, народ перебрался в соседнее село, оно в трех километрах, ближе к шоссе.
— О хуторе не расспросили?
— Как спросишь? Только след укажешь. Я только спросил, нет ли в той стороне каких деревень? Старик сказал, что был когда-то хутор, но давно заброшен и дорога туда, мол, давно заросла, даже сено там уже не косят — далеко.
— Место и правда глухое. Тихое.
— Я тоже так думаю. А зачем ты меня сюда привел?
— Сейчас увидишь. Ты в этих делах поопытней меня. Вон, видишь, ящик какой-то под березой лежит? Вроде немецкий.
Подольский опустился на колени, осторожно оборвал кругом траву, потыкал кинжальным штыком.
— Десантный контейнер. Я такие у бранденбуржцев видел. Они в них оружие и другие грузы с самолетов десантируют. А вон и остатки парашюта.
Они вернулись к костру, когда уже совсем стемнело. Нелюбин один сидел возле ведра и помешивал в нем ослепительно-белой липовой палочкой с лапкой бокового сучка на конце.
— Что это за гробок вы принесли? — спросил Нелюбин и налил варева для Воронцова. Поставил котелок на пенек, остывать. — Твоя пайка, командир. Ложка имеется?
— Есть.
Они пододвинули металлический ящик поближе к костру, откинули крышку. Три автомата, девять рожков, цинк с патронами, три саперные лопаты, три противогаза.
— Ох, ектыть! Гожий же сундучок вы, ребятушки, нашли. — Нелюбин открыл один из противогазов. — А тут, видать, лекарства. Бинты вот, порошки. Может, и для лейтенанта что гожее есть? А, командир?
— Гожее, гожее. Тащи-ка из подвала немца.
— Хвершал там, в бане, ночует. Рядом с лейтенантом. Там его Демьян держит.
Привели пленного. Тот схватил медикаменты и тут же побежал назад, к бане.
— Похоже, что и правда — настоящий доктор. Вон как старается.
— Он знает, за что старается. — И Воронцов окликнул часового, бегом поспешавшего за немцем: — Дюбин! Ты там не усни смотри. А то тебя немец будить не станет…
— У меня, командир, скорей он уснет, — отозвалась темень.
— Что будем делать с немцами, Курсант? — Нелюбин снял с палки ведро и прикрыл его сверху тряпицей.
— В костер больше не подбрасывай. Хватит. Демаскирует. — Воронцов встал, взял с пенька котелок, вытащил из-за голенища ложку и принялся хлебать нелюбинский кулеш. — Спасибо, Кондратий Герасимович. Продукты вы не попортили. А с голодухи очень даже вкусно.
— Ну, конечно, не ротный повар, но при котле, в наряде, бывать случалось.
— Главное, не отощаем. Может, так и доберемся до своих. Лесами. А там где-нибудь дырку найдем. Проскочим.
— Так что с немцами? Ребята на них косятся. Боюсь, ночью порежут.
— Немцев с собой поведем. Сдадим как пленных. Зачтут. За них Петров головой отвечает.
— Может, этот пьяница ихний лейтенанта нашего выходит.
На хуторе, вопреки первоначальному намерению выступить к фронту следующим же вечером, они простояли еще несколько дней. Назавтра в полдень лейтенант Горичкин встал на ноги и, держась за притолоку, выбрался из бани. За ним следом вышел немец. Ноги лейтенанта тряслись. Немец его поддерживал.
Вечером Воронцов приказал командирам отделений построить людей. Возле колодца взвод выстроился в одну шеренгу. Полевкин стоял в строю босиком.
— Рядовой Полевкин, выйти из строя. В чем дело? Где ваши сапоги?
Полевкин под смех взвода сделал шаг вперед. Боец понуро стоял перед Воронцовым, головы не поднимал.
— Да проиграл он свои сапоги в карты!
— Картежник, ектыть!
— Это правда, Полевкин? — Воронцов окинул взглядом шеренгу и тут же увидел сапоги Полевкина. — Я спрашиваю, это правда?
— Так точно, — пробормотал боец и снова опустил голову.
— Рядовой Золотарев, выйти из строя!
Немецкие сапоги Полевкина шагнули вперед. Золотарев был из группы присоединившихся в лесу. В штатском пиджаке в синюю полоску, в такой же штатской кепке, которую носил с шиком, как носят блатные. Держался он так, как будто только что услышал приказ о выдаче ему новых брюк в такую же искрящуюся полоску.
— Золотарев, чьи на вас сапоги? Полевкина?
— На нас мои сапоги, гражданин начальник. А чьи они были утром, я уже не помню. Желающих перекинуться в стирки было много.
— Ты, Золотарев, со мною-то в свою игру не играй. Снимай давай сапоги.
— Ты что, гражданин начальник, я их честно выиграл. Вот, все — свидетели.
— Золотарев, ты здесь не в воровской малине, а во взводе Красной Армии. И жить, и воевать, если придется, ты будешь по Уставу Рабоче-Крестьянской Красной Армии. А значит, законы здесь буду устанавливать я, ваш командир. За неисполнение приказа — по всей строгости военного времени…
— Сапоги я, конечно, сниму. Но это, имей, начальник, в виду, не по понятиям.
— Золотарев, у вас сейчас есть выбор: либо остаетесь во взводе, либо идете самостоятельно. Передайте командиру отделения винтовку и патроны и можете быть свободны.
Шеренга замерла. Золотарев оглянулся на свое отделение. Воронцов знал, что рискует. Золотарев, какой он ни есть, не остался на дороге. А ведь большинство остались. И в дозоре он сидел без оружия, не испугался, не ушел в лес. Если он сейчас бросит винтовку, то не исключено, что с ним пойдут и его дружки, а это означает, что отряд распадется. А если отряд распадется, неуверенность охватит и тех, кто останется с ним.
Золотарев крякнул, сел и быстро разулся.
— Забирай, фраерок, свои шкары. Они мне жмут в деснах, — с легкой ухмылкой сказал Золотарев и швырнул сапоги к ногам Полевкина.
— Ты, Золотарев, особо не блатуй. В бою свою удаль покажешь. Такие, как ты, знаешь чем под пулями пахнут?
— Мы, начальник, в бою еще не были. И под пулями друг друга еще понюхаем. Я ведь тоже не пальцем деланный. И зря ты, командир, мне такую правилку устроил. Могли бы и по-хорошему договориться.
— Мне с вами, Золотарев, договариваться не о чем.
— А как же мы дальше жить будем? А?
— По уставу, Золотарев. По уставу. А сейчас — кру-гом! Стать в строй! — И Воронцов тут же окликнул Нелюбина: — Кондратий Герасимович, у нас в обозе нет лишней пары обуви для рядового Золотарева?
— А куда он свою пару дел? — тут же отозвался Нелюбин. — Кулеш мы сегодня из кирзы не варили. А лишней обужи у нас нет. Пока не обзавелись.
— Слыхали, Золотарев?
— Так точно.
— А теперь слушайте все! Оружие, снаряжение и имущество, включая одежду и обувь, беречь как достояние всего взвода. Разутые и раздетые будут направляться в обоз для исполнения работ и обязательств, не связанных с выполнением боевых задач, и несения караульной службы. Оружие у таких бойцов будет изыматься и передаваться более дисциплинированным. Кондратий Герасимович, когда будет готова баня?
— Баня вытоплена, — доложил Нелюбин. — Вода нагрета. Через полчаса, когда выдохнется угар, можно будет заходить первой пятерке.
Взвод колыхнулся и загудел радостным гудом.
— Время помывки каждой смены — сорок минут, — объявил Нелюбин и начал по списку формировать смены.
— А немцев мыть будем? — спросил боец Куприков. Он снова нахлобучил на голову свою каску. Днем она использовалась в качестве котелка, следы использования боевого снаряжения не по назначению не были удалены. И это вызвало гнев командира отделения. Когда взводный дал команду «вольно-разойтись», младший лейтенант Нелюбин задержал свое отделение и с минуту грозным взглядом испепелял владельца каски.
— Рядовой Куприков, — наконец сказал Нелюбин, — сейчас же сымите с головы свой чугун и отдрайте его до девственной чистоты. Через полчаса проверю. Вначале проверю каску, а потом только, Куприков, получишь разрешение на баню.
— Эх, товарищ младший лейтенант, опять я виноватый. Винтовку мне не дали. Котелком тоже обнесли. Насчет девственности тоже…
Отделение потонуло в дружном хохоте.
— Исполняй приказ, Куприков. Не пререкайся, как последний разгильдяй. Не зли меня. Винтовку ему не дали… В бою возьмешь! Сам!
— В бою возьмешь… Возьми — голыми руками.
— А как же ты думал? Что, родина тебе оружие в торжественной обстановке, да под звуки марша, преподнесет?! Тебе уже один раз родина винтовку дала. Где ты ее бросил? А теперь наша родина, Куприков, сама в смертельной опасности. Ее выручать надо. Вот мы с тобой и будем ее выручать.
Куприков снял закопченную каску, шаркнул по ней рукавом и внимательно осмотрел результаты. Слова отделенного, видать, все же сильно пробрали его. И он сказал:
— Я свою винтовку не бросал, товарищ младший лейтенант. Потому как не было ее у меня.
— Не было? Как так не было?
— А так. Не было. Ротный такой же, как вот и вы, товарищ младший лейтенант, попался: в бою, мол… А винтовку нам одну на отделение дали. С другой сержант бежал. Когда в атаку подняли, я за сержантом третьим пристроился. Его вскоре ранило. Назад он пополз, в тыл. А винтовку боец один подхватил. Он рядом бежал. Потом и его скосило. Товарищ мой, земляк, Егоров, винтовку взял. Ну, думаю, скоро моя очередь. А тут мины начали рваться. Вы под минами хоть раз бывали?
— Бывал, Куприков, бывал.
— Ну, вот, значит, знаете, что это такое. Одна впереди — бах! Гляжу, ни Егорова, ни винтовки… А потом… Потом и непонятно, что произошло. Мы вперед бежим, а немцы уже сзади. Окружили. Увидели, что мы все без винтовок, штыки к своим карабинам начали прищелкивать. Выходит, что в плен к ним сами прибежали. И погнали нас штыками, как стадо баранов.
— Да, веселая у тебя война. Ладно, о винтовке не тужи. Будет у тебя винтовка.
Нелюбин распустил свое отделение и с удовлетворением подумал, что войско у него под началом собралось хоть и немногочисленное, но бывалое, и дух свой ни в плену, ни в лесу не растеряло. Шутят, смеются, значит, не упали духом. Вот помою вас, архаровцев, думал свою думу Нелюбин, а там и пойдем дальше, к фронту, щель в немецкой обороне искать, чтобы проскочить в нее хоть бы как, хоть тараканьим скоком, хоть ужом проползти. А Куприкову винтовку надо выдать. При первой же возможности. Боец-то он, по всему видать, хороший. И желает проявить себя.
Сам Нелюбин попал в баню в третью смену. Каменку еще не залили, она пылала лютым жаром. И бойцы, завесив окошко гимнастеркой и запалив сальную свечу, несколько блаженных минут стояли вокруг нее, щурясь и растирая по зудящей коже вальки грязного пота и стада платяных вшей. Худые, синие, они стояли, сгрудившись возле печного зева над пепельно-серой горкой раскаленных камней и думали каждый о своем.
— Братцы! — тихо сказал вдруг Куприков. — Как вы думаете, дошли они до Рославля?
— Кто?
— Да те, кто остался на дороге.
— Тьфу т-ты, ектыть, дурень! — в сердцах выругался Нелюбин. — Ихний Рославль — ближняя канава. Да за побитых конвоиров… — И Нелюбин осекся, махнул рукой.
— Может, тоже по лесу разбежались.
— Да ладно. Что их жалеть?
Когда пообвыклись в полутьме, в свете сальной свечи увидели все «ордена» и «медали» друг друга. Больше всех шрамов насчитали на теле командира отделения.
— Ох ты ж, ешки-матрешки! — мотнул стриженой головой Куприков. — Где ж это вас, товарищ младший лейтенант?!
— Так я ж, ребятушки, с прошлого лета воюю. Три раза в окружении был, два раза в плену. А ты, Золотарев, у нас как иконостас — весь в картинках!
Бойцы засмеялись и переключились на Золотарева.
— Золотарев, — спросил Нелюбин, глядя на наколки, густо украшавшие грудь, плечи и даже живот и ноги бойца, — а скажи ты мне вот что: ты из каких же чинов будешь? Скокарь, фармазон или карманник?
— А тебе это зачем, младший лейтенант?
— Интересуюсь.
— Как командир? Или как следователь? Чтобы права покачать?
— Да нет. Мы ж сейчас в бане. Какой я тебе командир, когда голый перед тобой стою? Я тебя спрашиваю как товарищ товарища.
— А ты мне, младшой, товарищ? — И на губе Золотарева окурком повисла ухмылка прежнего блатаря.
— Выходит, товарищ. Война ж не выбирает ни по росту, ни по масти кого с кем в окоп сунуть. С кем попал, того и нюхай. Тут уж так тем рогом чешись, которым достанешь.
Бойцы засмеялись.
— Моя лекция слишком дорого стоит, — кряхтел Золотарев, потряхивая над собой можжевеловым веником и поблескивая своими синими «латами». Парился он со знанием дела. Золотарев взглянул на Нелюбина, и глаза его потеплели.
— Давай, командир, я лучше тебя попарю хорошенько. А мое прошлое тебе ни к чему.
От такой услуги грех было отказываться. Нелюбин забрался под закопченный полок, лег на доски полка, растянулся.
Золотарев хлестал и припаривал его пахучим лесным веником, разгонял по бане горячий дух, так что от него шарахались стоявшие сзади, сам крякал от удовольствия и приговаривал:
— Командир-то у нас, братва, худой, как зимовалая лягушка. А злой! Не даст он нам спуску! Эх, повезло нам с командиром!
Но предыдущие слова Нелюбина, видать, все же задели Золотарева за живое. И артистическая натура блатаря, почувствовав благодатную атмосферу внезапно возникшей публики, не могла не отозваться. Выхлестав можжевеловым веником Нелюбина, Золотарев окатил его водой из ведра и, выждав минуту, кинулся рассказывать бойцам, как в тридцать шестом удачно «скоканул» в одну профессорскую квартирку в Ленинграде и как «шикарно» погулял в своем «кодле» с Любочкой, как потом попал на вокзале в Москве и три года «продавал кубометры» на лесоповале в Карелии.
— Где ж твоя Любка, скокарь? — посмеивался, слушая хвастливую и путаную повесть своего бойца, Нелюбин.
— Любка? — весело засмеялся Золотарев. — А кто ж ее знает, где она. С кем-нибудь из корешей. Она ж у меня была штатная.
— Как это? Она тебе что, не жена разве? — снова полюбопытствовал Нелюбин. Остальные бойцы помалкивали. Только слушали. Но слушали внимательно.
— Жена. Но — штатная. Я ж говорю.
— Штатная… Казенная, что ли?
— Если рассудить по-вашему, по фраерскому закону, то вроде того. — И Золотарев пропел вихляющимся голосом:
Скоро, скоро нас осудят, На Первомайский поведут, Девки штатные увидят, Передачку принесут…— Закон у нас, младшой, такой. Баба — не пайка. Это пайка священна и неприкосновенна. За чужую пайку на любой правилке приговор один — заточка под ребро. А баба… Сегодня она твоя, а завтра ею кореш твой владеет, как своей. А там, глядишь, ветер переменился, ты откинулся, кореш по новой пошел, и — опять она твоя, на все готовая…
— Тьфу! — выругался в сердцах Нелюбин. — Что ж это за закон такой!
— Наш закон.
— Воровской, что ль?
— По пыльной доро-огя, под строгим конво-оям…
Несколько дней спустя, когда обоз входил в лес, Нелюбин заметил, как к Золотареву подошел один из танкистов и завел разговор. Он догнал их, прислушался.
— Ты, Золотарев, особо тут не блатуй, — говорил танкист. — Тут тебе не воровской шалман. Курсант — человек суровый. Но справедливый. Если ты еще на него рыпнешься, получишь штык под ребра.
— Да что вы, ребята! Что вы! Вы меня неправильно поняли…
— Правильно мы тебя поняли. Правильно.
Некоторое время шли молча.
— Я тебя предупредил. — И танкист похлопал Золотарева по плечу. — Пиджак у тебя, Золотарев, стильный. У меня на гражданке такого не было.
— А кем ты был на гражданке? — делая вид, что принимает шутку танкиста за чистую монету, спросил Золотарев.
— Следователем прокуратуры. По особо важным делам.
— Ой, паря, туфту лепишь! Ой, лепила! Если б ты был следователем, то в танке бы простым стрелком не сидел. В других бы войсках припухал. Где тушенку в кашу погуще кладут и марухами в землянках пахнет, а не портянками Дюбина. Ой, за фраера меня покнацал!
Танкист посмеялся вместе с Золотаревым, потер подбородок и сказал:
— Так ты, я думаю, понял, что и мы тут все фраера битые.
— Ну да!
Летчик некоторое время шел, держась бледной рукой за тележную лестницу. Но вскоре рука его стала соскальзывать вниз, и Воронцов подхватил его и окликнул Степана, чтобы тот помог ему положить лейтенанта на повозку.
— Где Калюжный? — спросил лейтенант.
— Калюжный в охранении.
— Он должен быть здесь. Кто отдал приказ послать его в охранение?
— Я. — Воронцов подоткнул под ноги лейтенанта край серо-зеленой немецкой шинели, которой был укрыт летчик. — Во взводе приказы отдаю я. Предлагаю вам усвоить это обстоятельство как необходимую неизбежность и больше к этому не возвращаться.
Лейтенант устало прикрыл глаза, и вскоре голова его в плотном кожаном шлеме, из-под которого виднелась белая полоска бинта, заколыхалась, как у ребенка, уснувшего на родительском плече. Летчик не доверял им. Ни ему, Воронцову, ни младшему лейтенанту Нелюбину, ни даже своему стрелку. Ну и черт с ним. Не бросать же его теперь.
К вечеру они миновали стороной небольшую деревушку, обогнули обширное болото и заночевали в сухом сосняке, заросшем черничником. Нелюбин снова заварил кулеш. Немцев больше не связывали. Днем они вместе с бойцами выталкивали из болотины повозки, и, когда переправлялись вброд через речку, переносили на себе мешки. А когда остановились на ночлег, вместе со всеми собирали хворост и потом уселись на корточках под сосной и задремали.
Воронцов поставил возле сосны Дюбина и приказал ему:
— Не вздумай уснуть. Они не просто уйдут. Они вначале задушат тебя. Через два часа тебя сменит Полевкин.
Глава двенадцатая
К началу октября Радовский завершил подготовительную стадию работы по формированию роты специального назначения, которой где-то вверху, в штабах, уже было дано название — «Черный туман». Начались занятия. Но как раз в эти дни немецкая разведка донесла о том, что в ближайшую неделю-две русские начнут масштабную наступательную операцию под кодовым названием «Марс», в которой будет участвовать несколько армий и соединений общей численностью более полумиллиона солдат и для которой сосредоточена огромная танковая группировка — около полутора тысяч единиц бронетехники. Цель операции все та же, что и зимой: ликвидация Ржевско-Вяземского выступа, уничтожение частей группы армий «Центр», находящихся в районе выступа. Русские не могли смириться с тем, что в непосредственной близости к Москве, занимая главнейшие коммуникации, находится глубокий выступ, насыщенный войсками и тактически выгодный для нового наступления на столицу. Ощущение постоянной угрозы усугублялось недостатком разведданных. Видимо, разведка русских работала действительно слабо, и их Генштаб не понимал очевидного: для нового броска на Москву сил у вермахта просто не было. К тому же Гитлер осуществлял грандиозное наступление на юге, и именно туда, под Сталинград и на Крымский полуостров, были направлены основные ударные группировки, которые рейх имел на Восточном фронте. Однако сила, которая могла решить судьбу противостояния двух армий, раскинувших свои фронты от Баренцева до Черного морей, существовала. И она находилась рядом с передовой. Целые гектары полей и пригородных пустошей были обнесены колючей проволокой в два кола, с пулеметными вышками по углам. Там томились пленные, вчерашние бойцы и командиры Красной Армии. Пехотинцы, артиллеристы, танкисты, летчики, связисты, техники и специалисты различных служб, которые делают армию управляемой, маневренной, послушной воле своих штабов и способной выполнять боевые задачи. На затоптанной, унавоженной испражнениями смрадной земле, больше похожей на загоны для дикого скота, которого не удержать простыми пряслами в две-три жерди, томились десятки, сотни тысяч, миллионы людей. И не просто людей, а солдат, умеющих держать в руках оружие.
Спустя некоторое время пришла новая секретная информация: наступление русских задерживается, но не отменяется. Появилось время для более тщательной подготовки личного состава к выполнению предстоящих операций.
Из своих поездок в Рославльский, Издешковский и Вяземские лагеря, где Радовскому приходилось перелистывать сотни личных дел, учетных карточек и опросных листов пленных, из личных разговоров с бывшими военнослужащими РККА он знал, что в немецкий плен попадали разными путями.
Первый и самый, пожалуй, многочисленный поток составляли те, кто был захвачен во время боя, в основном в период немецкого наступления. В свою очередь этот поток делился на несколько ручейков и речек. Те, кто сдался при первой же угрозе их жизни. Бросил оружие и поднял руки, как только услышал, что немец уже в тылу и что командиры разбежались. Те, кто сложил оружие, когда кончились боеприпасы и стало понятно, что не отбиться и не уйти. Те, кто оказался в плену в бессознательном состоянии, раненые и контуженые.
Второй поток составляли бойцы и командиры окруженных частей. Некоторые из них ни разу не видели противника, даже издали. Они не произвели ни единого выстрела, на пунктах сбора складывали в штабеля подсумки, в которых хранилось штатное число патронов, а каналы стволов винтовок и пулеметов имели еще довоенную смазку. Они неделями, месяцами плутали по лесам и только потом, потеряв всякую надежду на соединение со своими частями, выходили на дороги, на посты, в гарнизоны германских войск. Их захватывали патрули и одиночные военнослужащие вермахта, иногда штабные писари и повара.
Третий, и только третий поток составляли перебежчики. Но и они не являлись однородной массой. Одни перебегали через нейтральную полосу действительно по идейным соображениям. Другие — из нежелания воевать, от усталости, которую уже невыносимо стало переносить, от безысходности. Среди этих были и просто малодушные и трусы.
Но был и еще один поток, четвертый. Эти попадали в плен, миновав в своем пути такие зигзаги, что рассказы об этих злоключениях казались просто неправдоподобными. И потому они, как правило, придумывали более простые легенды, которым во время допросов верили легче и которые затем попадали в личные дела и карточки. При необходимости эти люди могли причислить себя к любой из трех вышеперечисленных категорий.
В свою роту Радовский набирал из разных потоков. Он уже знал, что лучшими становились только что попавшие в плен или перешедшие линию фронта добровольно, не истощенные лагерями и пересылками, не раздавленные жестокой машиной другой войны люди. За некоторыми он приезжал и дважды, и трижды. Внимательно изучая документы пленных, он вдруг наталкивался на нужную кандидатуру, но личная беседа оказывалась неудачной. Либо он видел не того, о ком читал в карточке, либо тот слушал его с угрюмой недоверчивостью и ничего толком от него нельзя было добиться. Как правило, с такими потом происходила повторная беседа. Их помещали в бараки со сносными условиями, переводили в команды, не предназначенные для ликвидации. Роте, для полного штата, нужны были связисты, саперы, водители машин и тракторов, хорошие лыжники, снайперы, оружейники, медицинские работники, просто физически крепкие люди, способные совершать длительные марши без отдыха и пищи.
Из тех, кого завтра и послезавтра железными крюками уволокут в переполненные санитарные ямы, можно было сформировать роты, дивизии, танковые корпуса и эскадрильи. Но для этого в высших эшелонах германского командования должны найтись люди, способные реально смотреть на реальную обстановку и отдавать себе отчет и в том, чем чревато такое пренебрежение реальностью, и в том, что, к несчастью для рейха, есть вещи, неподвластные ему. Как бы велик он ни был. Россия оказалась именно такой категорией, в которой слились в единый непокорный клубок и огромная территория, и суровая природа, и фанатизм ее солдат и генералов, и ненависть населения, и неиссякаемые источники ее силы в виде новых и новых дивизий, лыжных батальонов и маршевых рот, которые нескончаемым потоком прибывали и прибывали из неоккупированных областей и территорий.
Радовский вспомнил недавнюю охоту в компании генерал-лейтенанта Густава Фейна, его хмельную, мечтательную улыбку и рассмеялся:
— Усадьба… Имение… Какое к чертям собачьим имение, когда нас завтра отсюда погонят за Десну и Днепр тяжелыми танками и реактивной артиллерией!
Он презирал теперь и себя, и генерала, и все те напыщенные слова, которые они тогда произнесли. Но прежде всего себя. Свои чувства, которые были просто слабостью.
Немцы начали спешную перегруппировку. Ржевско-Вяземский выступ, на самом его фасе, должен был прикрывать 39-й танковый корпус в составе 5-й танковой, 78-й и 102-й пехотных дивизий. Позади них располагались резервы — 9-я танковая и 95-я пехотная дивизии.
В начале октября в 5-ю танковую прибыл новый командир — генерал-майор танковых войск Эдуард Метц. В отличие от убывшего на новое место службы генерал-лейтенанта танковых войск Густава Фейна, человек жесткий, убежденный нацист. Что касалось проблемы русских формирований, то на них он смотрел как на неизбежное зло. Слава богу, знакомиться с ним Радовскому уже не пришлось. Из штата дивизии рота была выведена еще два месяца назад.
Казачья сотня фон Рентельна уходила на север вместе с тылами и службами 5-й танковой дивизии, по-прежнему оставаясь в ее штате в качестве вспомогательного подразделения. Но часть ее оставалась здесь. По приказанию генерала Метца развертывалась новая сотня. Партизаны продолжали досаждать тылам, и их нужно было постоянно отлавливать, уничтожать, загонять в леса и болота, подальше от коммуникаций и важных охраняемых объектов.
«Черный туман» оставался здесь, близ Варшавского шоссе. Ничего хорошего Радовский уже не ждал.
Его роте приказано было, не меняя района дислокации, срочно прервать учебные занятия, сформировать из курсантов два усиленных взвода и приступить к прочесыванию лесов с целью ликвидации партизанских формирований и диверсионных групп противника. Последние, видимо, в связи с предстоящим наступлением, заметно активизировались. Радиопередатчики работали в нескольких квадратах. В основном это были лесные массивы и районы, пассивно контролируемые партизанскими группами и отрядами. После ухода кавалерийского корпуса к Кирову партизаны несколько притихли. Основные отряды и формирования, не ушедшие вместе с корпусом, были уничтожены еще в начале лета. Но теперь, похоже, все возвращалось. А Радовский хорошо знал, что то, что возвращается, возвращается иным.
Итак, все снова летело к черту. Его курсанты, будущие разведчики, подрывники, диверсанты, которых он тщательно отбирал все эти месяцы в концлагерях и пунктах сбора военнопленных, в ближайшее время должны выполнить самую банальную и грязную работу, какая может быть на такой войне, как Восточный фронт. Предстояла обычная карательная операция. Уж он-то, командир боевой группы, которую составляли русские, знал, кем возвращаются его солдаты из подобных операций. Как отличить простого крестьянина от партизана? Он видел лица своих солдат, когда они вытаскивали из дома простого деревенского мужика, местного жителя, а на нем повисали жена и трое-четверо детей. Осведомители и полицейские, по чьим спискам они работали, указывали, что это и есть партизан. Но кто он в действительности, ни Радовский, ни его люди не знали. Получалась довольно странная, нелепая ситуация, в которой им, русской роте под командованием майора вермахта Радовского, отводилась роль слепой и жестокой машины, которой мог воспользоваться любой недобросовестный осведомитель и обозленный кем-то из соседей полицейский, которому судьба посылала случай поквитаться со своим недругом чужими руками. Послушной, безотказной машины, не раздумывающей перед тем, как нажать на курок.
— Что ж, Георгий Алексеевич, — сказал ему его начальник штаба, бывший подполковник РККА, а ныне поручик РОА Владимир Максимович Турчин, — все верно: туман-то — черный. Помните, вы размышляли по поводу магии слова? Что слово, произнесенное не единожды, имеет способность материализовываться. Как материализуется заклинание, проклятие и тому подобное. Похоже, вы правы.
— Просто их фюрер — болван! Самонадеянный болван! Чего, кстати, не скажешь о Сталине. Только болван и только самонадеянный немец умудрится сделать из одного фронта два. Как будто специально для того, чтобы погубить и своих солдат, и великую идею, и еще миллионы ни в чем не повинных. Которые в это время просто оказались рядом. Он решил воевать одновременно с большевизмом и с русским народом! Болван! Налейте мне еще! Лейте, лейте полный, я все равно сегодня не опьянею.
Но Турчин замирал с бутылкой в руке.
— А Белая гвардия, господин поручик, — говорил он, глядя Радовскому прямо в глаза, — разве не воевала на два фронта? С большевиками и с народом одновременно. Из-за чего и продула Россию!
— Подождите, подождите… Владимир Максимович, я не хочу с вами ссориться по поводу того, что уже прошло прахом. Но должен заметить следующее: когда наши генералы поняли, что ведем войну против собственного народа, мы начали отступать, терять инициативу и так далее.
— Черта с два вы сами прекратили! Вас просто вышвырнули из Крыма и Сибири!
Они сидели в просторной опрятной горнице, которую занимал Радовский и его связист, пили самогонку и закусывали солеными огурцами, хлебом и салом. Дважды пожилая хозяйка появлялась из другой половины, задернутой ситцевой занавеской, с какою-то снедью в руках и дважды Радовский ее прогонял.
— И никогда! Я теперь понял это. Никогда они не позволят нам сформировать что-либо числом более батальона! Ни-ког-да! Кроме азиатчины, они ничего в нас не видят. Они даже своих фольксдойче подозревают в приобретенной азиатчине и русском национализме. И числят их по второй категории. И фон Рентельн, и Сиверс, и Штрик для них немцы второй категории.
Вот с этим Турчин вполне соглашался, кивал Радовскому и подливал в стакан майора.
— Ост-батальон — это максимально, — бормотал он, уже порядочно захмелев. — Вы правы. Ост-батальон. Этим все и завершится. А полки, дивизии, армия… Это — иллюзия. И напрасно мы с вами поддерживаем ее. Особенно вы, Георгий Алексеевич. Я-то всего лишь при вас. Я в этой машине винтик маленький. А вот вы…
— Ну, мне об этом нахрюкали в уши в Смоленске. Я им поверил, потому что хотел поверить. Потому что в их словах был смысл. Великий смысл! В котором было место и мне, и вам. В той величайшей подлости, которую мы имеем… и я, и вы, Владимир Максимович, и каждый доброволец нашей роты… должен существовать какой-то высший смысл. Иначе это останется банальной подлостью. И тогда уж совесть будет вставать с пистолетом у виска каждый раз, когда ты, сударь мой, переберешь лишку…
Днем они составляли список взводов. Турчин сразу спросил, надо ли включать курсантов?
— Придется. Первый взвод пусть будет курсантский. Во второй включайте все отребье. Из хозвзвода, из других служб. Пусть протрясут свои сытые задницы в лесах.
На следующий день в роту прибыл офицер отдела 1Ц штаба 4-й полевой армии и ознакомил Радовского и Турчина с приказом: совместно с батальоном егерей необходимо было провести операцию по очистке от партизан и советских диверсантов района, прилегающего непосредственно к линии фронта. В приказе так и было сказано: «… от партизан и советских диверсантов». Радовский сразу отметил про себя: фразеология приказов, а значит, и всех исходящих документов изменилась. Красную Армию в штабах уже не называли большевистской. Радовскому приказано было к концу недели согласовать действия боевой группы со штабом егерского батальона. Там, как пояснил офицер, он и получит приказ о сроках и порядке выдвижения роты в заданный район, который тоже пока был неизвестен. Но, располагая данными собственной разведки, Радовский знал, что самые крупные партизанские базы находятся в Богородицких лесах, в заболоченных и труднопроходимых местах, где дороги проезжими становились только летом, в период продолжительной засухи, и зимой, когда землю сковывал мороз. Именно там служба перехвата засекала работу новых передатчиков с неизвестными позывными. Сейчас стоял октябрь. Начинались дожди. Развозило даже песчаные проселки. Но, видимо, кому-то вверху необходимо было срочно доложить о ликвидации последних партизанских банд. Или на фронте действительно готовилось что-то такое, что требовало чистоты тылов.
Глава тринадцатая
Жизнь на хуторе шла своим неторопливым, давно определившимся порядком. Утро начиналось с обхода хлевов и закутов. Коровы уже заметно сбавили молока, остатки отдавали туго. И Зинаида бранила их.
— Ничего, ничего, — прерывал ее беспокойство Иван Степаныч. — Скоро яловка растелется. Будет, будет у нас молочко, Зинаидушка. Не пропадем. Сена нам Курсант много натаскал. Вон, весь лес выкосил! Эх, хороший жених тебе будет!
— Да ну вас, дядя Ваня!
— Будет тебе таиться. Дело-то молодое, житейское. Нужное дело. — Иван Степаныч со свистом сосал толстую, как заморская сигара, рыхлую самокрутку — такие он любил — и любовался работой Зинаиды. — Видел я, какими глазами ты на него погладывала.
— Ой, дядь Вань! Это ж когда ты видел? — всплескивала руками и смеялась Зинаида, а сама чувствовала, что шея и лицо заливаются краской. Наклонялась за очередной охапкой сена, а сама себе думала: значит же, где-то заметил за ними Иван Степаныч, высмотрел, что его не касается…
— А я так думаю, Зина, — все продолжал Иван Степаныч свою песенку, — что и ты ему на душу легла. Вернется он за тобой. И за дитем своим. Если живой останется. Эх, скорее бы война закончилась!
Зинаида слушала старика, и сердце ее то вздрагивало, то замирало, как перепуганный зайчонок. Она-то понимала, что Иван Степаныч хоть и говорил о Саше, а сам все думает о Стене. О ком же ему думать, как не о сыне? А о Саше он ей вспомнил, чтобы пожалеть и ее. Да и почувствовать самому, что он в своих тревожных думах-ожиданиях, в своей хрупкой надежде не один.
— Ты уж, Зинаидушка, не серчай на меня, что многие мои заботы в твои руки перешли. Ослаб я нынче что-то. Может, болезнь какая завелась. Ночами не сплю. Думаю все, думаю… Надысь… Слышь меня?
— Слышу, дядя Ваня, слышу.
— Ребенком себя увидел. — Иван Степаныч засмеялся и голос его задрожал. — И вроде как у матери на коленях. А колени материны — теплые-теплые…
Зинаида распихала сено по кормушкам, распрямила спину и посмотрела на старика. Тот стоял в дверном проеме и утирал щеки трясущимися шершавыми, как неструтаные доски, ладонями.
— Вот бы, доченька, умереть так, — сказал он хлюпающим шепотом. — У матери на коленях…
Она стояла, окаменев. Вспомнила об отце, о матери. Ведь и они там плачут по ним. Что там, в Прудках? Все небось в землянках спасаются…
Старик тем временем высморкался, пришел в себя и замахал руками:
— Не обращай внимания, Зинаидушка, что я тут тебе наговорил. Это я так… Так… Васютке, смотри, ничего… Ни-ни… У ней и так день и ночь одно перед глазами — Стеня. Сердце на лепушке… Об этом лучше молчать.
Лучше молчать, поняла она и свою тоску. Лучше молчать. Тася тоже о своем думает. Анна Витальевна — о своем. А сойдутся вместе, сядут где-нибудь на бревнышке у воды или на широкой лавке у теплой печи и заведут старинную песню, в которой все-то друг дружке и выскажут, все-то выплачут. Глядишь, и легче на душе становится, вроде как светлее. Надежде больше места становится. А то вдруг Анна Витальевна начнет рассказывать о разных странах. И так здорово, с такими подробностями, что кажется, что сама она там побывала, а теперь им просто пересказывает то, что видела да слышала, да где своей ногой ступала. То вдруг с детьми заведет какую-нибудь веселую игру, так что в доме все кувырком. То вдруг притихнет и о чем-то задумается, и в глазах такая мука, что лучше в них и не глядеть.
Тася намного проще и понятнее. Душа у нее светлее. Когда печалится, все песни свои поет. На своем родном языке, на белорусском. Зинаида любила ее слушать. В тех песнях есть такие слова, что от них душа замирает и плакать хочется.
Анна Витальевна таких песен не знает. Тасины песни ее беспокоят.
Однажды она спросила Ивана Степаныча, нет ли где в доме географической карты? Старик нашел где-то на чердаке старый, еще дореволюционный атлас мира.
— Вот, Стенина какая-то книжка. Он в школу с ней ходил…
И она долго листала ее, водила пальцем, что-то думала, думала, думала… Атлас потом положила под подушку и время от времени доставала его и снова смотрела, и думала.
В тот год грибы пошли поздно, в октябре, после первого ночного захвата. Утром Зинаида пошла на озера, а стежка под ногами хрустит, и ледок возле камней, на которых лежали широкие плахи пральни — забереги. Она зачерпнула воды. Лед зазвенел печальным звоном, как будто она выронила стеклянную посудину и та легко разбилась на валунах, исчезла в прозрачной воде. Поймала в ведре тонкую ледышку, положила ее в рот. Та скоро растаяла, даже не остудив губ. Тут увидела монаха Нила. Тот шел краем берега с небольшой корзиной и, часто наклоняясь, что-то собирал в свое лукошко.
Вернувшись домой, она сказала старшему:
— Прокоша, сынок, сбегай-ка в Пенушки, посмотри, не пошли ль опенки. Везде смотри: и в траве, и на деревьях.
Пенушки — старые вырубки, лесная елань. Сосновые и березовые пни уже покрылись мохом. Лес там свели еще до Сидорят. Когда-то здесь, при старой власти и других, еще царских законах, обживались первые хуторяне. Удивительно, но усадьба не зарастала. Лес словно уступил это место солнцу и лугу. Летом на луг забредали коровы. Трава в елани росла буйная. Но покос был негодный из-за обилия пней. Похоже, сводя лес, сучья сжигали тут же, видимо, пытаясь заодно уничтожить и пни. Но только обуглили их, и они будто окаменели и уже не поддавались гниению. Торчали из земли там и тут серыми гранитными пирамидками. Вот и прозвали то место Пенушками.
Прокопий вскоре вернулся, еще издали крича:
— Опенки пошли! Все усыпано! И на земле, и на деревьях! Ой, сколько много!
Она остановилась. Прокопий с разбегу сунулся в ее руки, уронил шапку, затих. Она гладила его вихрастую голову, нюхала волосы и все крепче прижимала к себе. Так продолжалось, пока он не вырвался и, глядя на нее настороженно, не спросил:
— Ты чего, ма?
Она хотела его снова обнять, но он отстранил ее руки и побежал к дому, на ходу крича:
— Федька! Колька! Айда за грибами!
Опят они в ту осень насолили целую бочку.
— Соли поменьше сыпьте, — следил за женскими хлопотами Иван Степаныч. — Скоро морозы ударят, в сенцах и так не закиснут. А до весны все приберется.
Соль они берегли. Радовский, когда привез на хутор Анну Витальевну, передал Ивану Степанычу полмешка крупного помола довоенной соли. Приносил и потом. Но с тех пор прошло уже порядочно времени, и соль подходила к концу. Картошку они варили без соли. Без соли на первых порах шла и похлебка. Но однажды Анна Витальевна, проглотив ложку, тут же выскочила в сени и долго не появлялась. Хлопала умывальником. Иван Степаныч, видя такое дело, приказал солить похлебку хотя бы через день.
— Прокош, — вспомнила Зинаида, — а помнишь, как мы с тобой склады солдатские нашли? Вот где соли было!
О тех складах они на хуторе заговаривали не раз. Много там было всякого добра, которое пригодилось бы им сейчас.
— Там, видать, уже ваши, прудковские, все растащили, — махнул рукой Иван Степаныч. — Такое добро под елкой не пропадет. Но я вот чему удивляюсь! Сколько годов тут Нил живет, а ни разу, ни крупинки соли не попросил. Как-то ж обходится. Не святым духом живет. Корешки, да травки, если из них суп варить, тоже ведь присолить надо.
— Да как же без соли-то, Иван Степаныч? — не поверила Анна Витальевна.
— А вот так и живет! И постарше меня годами-то. А все что-то тюкает там… Я уж свой топор Зинаидушке уступил. Все, уездился мой коник. Уже и на ровной дороге спотыкается, а уж в гору…
— Схожу я, дядя Ваня, в Прудки. Может, там чего раздобуду.
— И не думай. Пропадешь в лесу одна.
— А я не одна. Со мной вон Прокоша пойдет, — сказала Зинаида как о давно решенном. — Что нам, день — туда, день — обратно. Пока подморозило и снег не выпал, в самый раз сходить в деревню. Соли разживусь. Или еще чего.
— Зимой-то, на лыжах, может, и легче было бы.
— Зимой след оставим. А что там, в Прудках, мы ж не знаем.
И Зинаида настояла на своем. Может, и не соль вовсе гнала ее в Прудки. Хотелось глянуть хоть одним глазком на родную деревню. Может, и не на что там глядеть. Может, правду говорит дядя Ваня — уголья там одни и не разгребли их еще, потому как некогда было и некому. Но все равно там был дом. Или то, что от него осталось. Туда и тянуло неодолимо. Хотя бы на головешки посмотреть.
И вот в самом конце октября, уже запорхали белые мухи, Зинаида и Прокопий пустились в дорогу. Прокопий сказал:
— Мам, давай возьмем автомат. С ним не страшно.
— Не будем его брать. Тяжелый он.
— Я понесу! — обрадовался мальчик. — Мне это совсем не тяжело.
— Не будем, Прокоша. Мало ли что…
В деревню шли с гостинцем. Анна Витальевна запекла в чесноке баранью ножку. Взяли еще несколько ковриг хлеба. И себе кое-что подкрепиться, чтобы не отдыхать в пути на голодный желудок.
Когда уже обогнули по мерзлой забытой тропе озеро и пошли вдоль речки, увидели монаха Нила. Тот шел навстречу. Посторонился, уступая им стежку, хотя просека была широкая и они без труда разошлись бы и так. Но Зинаида сразу поняла, что Нил в этот ранний час вышел на их путь неспроста.
— По дороге не ходите. Лесом скорее дойдете. — И монах обмахнул их крестом.
— Так дорогой же ближе, — растерянно отмолвила Зинаида.
— Лесом ступайте. Лесом. Не заплутаете. Нужную тропу и время Бог укажет. Дойдете.
Так и разошлись. Встреча с монахом Нилом смутила Зинаиду. Вышел проводить, хотя о том, что они в Прудки собрались, никто, кроме хуторских, не знал. А теперь вот предупредил, чтобы по дороге не ходили…
Быстро истаяли среди березовых и дубовых ветвей с остатками пожухлой от морозов листвы короткие, как нечаянный сон, утренние сумерки. Справа, в будто остановившихся высоких облаках, стало набухать сияние — всходило солнце. К этому времени Зинаида и Прокопий отмахали уже километра три и углубились в сосняк. Дорога оставалась правее. Зинаида все время чувствовала ее. Так и тянуло свернуть туда и пойти по просеке, по знакомой колее. И легче, и быстрее, и не так страшно. Но слова монаха Нила не выходили из головы.
Похрустывала под ногами взявшаяся инеем трава. Лопался ледок в коровьих следах. Но вскоре, в соснах, пошел сплошной черничник, и шаги их потонули в топком мху. Шли тихо, изредка полушепотом переговариваясь.
— Мам, — тихо окликал Зинаиду Прокопий, — а почему ты шепотом разговариваешь?
— А ты почему? — отвечала она, улыбаясь, чтобы подбодрить мальчика, нельзя было показывать, что и она боится, что и ей страшно в чужом незнакомом лесу. — Это лес нам так велит разговаривать. Лес не любит, когда люди в нем шумят.
Прокопий молча кивнул. Глаза его, внимательно смотревшие из-под шапки, расширились.
— Да ты не бойся.
— Зря мы автомат не взяли, — вздохнул он.
Она-то понимала, что Прокопию очень хотелось взять с собой автомат еще и потому, что этот автомат принадлежал его матери и что, возьми они его в дорогу, мальчику было бы не так страшно, и он, конечно же, терпеливо нес бы его. Но автомат они не взяли. И теперь об этом горевать поздно. Пелагея, конечно, была не такая трусиха, как она. Она и с парнями обходилась смелее. Вот и Сашу окрутила так, что он души в ней не чаял и полюбил, как видно, сильно, по-настоящему. И до сих пор еще любит. Любит. Забыть не может. Не может смириться с тем, что произошло. Уж она-то видела, как он по кладбищу ходил и на могилке сидел. И какие глаза у него были, когда на хутор возвращался.
Снова он встал перед глазами, не давал пути. Куда она ни взглянет, везде он. То по просеке выйдет вдруг навстречу в своей изношенной шинели с вылинявшими курсантскими петлицами. То за деревом стоит, выглядывает. Зачем он от нее прячется? То вслед смотрит…
— Прокошенька, давай, миленький, отдохнем малость. Что-то я уморилась. — Она прислонилась плечом к сосне, ослабила тугой узел шали.
— Тихо, ма. — И Прокопий вытянул птичью шею, прислушался, как коростель из травы.
— Ты что? — огляделась она испуганно.
— Тише, — ухватил он ее за руку и потянул в заросли можжевельника.
Они присели в густом вельнике, припорошенном березовой листвой и сухими желтыми парочками опавшей сосновой хвои. Замерли, как куропатки, пригнув к коленям головы.
Теперь и Зинаида поняла, что они в сосняке не одни. Она услышала разговор. Разговаривали двое, вернее, один, ему отвечал второй. Но потом к ним присоединились еще двое или трое. Они шли по дороге. Или стояли там, в отдалении, что-то решали. Ой, не напрасно Нил вышел предупредить их. Дорога-то и правда занята. Неужто опять эти лютые звери, казаки? Зинаида затаила дыхание, прислушалась. Нет, слава богу, не они, не казаки. Говорят по-немецки. Значит, немцы! Откуда здесь немцы? Фронт вроде на запад ушел. Там, за лесом, за шоссе, гремит ночами и полыхает зарницами небо. Ушел, не ушел, а немцы вон здесь, в лесу, на дороге. И отсюда до их хутора всего-то, может, каких-нибудь пять-семь километров. Что они здесь делают? Хутор ищут? Зинаида дрожащими руками обнимала голову Прокопия. Она слышала, как дрожит и западает его дыхание.
И вдруг на дороге заговорили по-русски.
— …господин поручик..
— Поднимайте людей…
— …здесь уже близко…
— …das Feugwetter…
И вдруг совершенно отчетливо:
— Мы что, заблудились?
Кто же эти люди, думала Зинаида. Если они блудят, то, значит, нездешние и в нашем лесу впервые. Что же они ищут?
— Первый и второй взводы прошли правее. Рентельн их ведет вдоль дороги.
— Значит, мы должны идти туда.
— Дорога как раз туда и ведет.
— Где-то здесь, недалеко, аэродром русских? — Это было произнесено с сильным акцентом.
— Да, недалеко. Отсюда километров шесть, не больше, — ответили по-русски.
Погодя послышались шаги. Шли по дороге. Зинаида приподнялась на корточках, выглянула из-за вельника: по дороге, шагах в десяти от них, шли люди, одетые в маскировочные куртки и плащи, с немецкими автоматами, с тяжелыми рюкзаками. У одного вместо рюкзака квадратный металлический ящик. Рация, поняла Зинаида. Всего их было двенадцать человек. Она машинально, сама не зная, зачем, сосчитала их. За деревьями мелькали их бледные лица с одинаковым выражением сосредоточенности и усталости. Двое или трое были одеты в красноармейскую форму и вооружены русскими автоматами. Один из них и нес рацию.
— Никаких следов, господин поручик.
— Они отсюда давно убрались, даже если и были.
— Партизаны хорошо маскируются…
— Я вас предупреждал.
— У них свои люди в каждой деревне, на каждом хуторе, господин поручик.
Значит, фронт снова отодвинулся на восток, догадалась Зинаида. Когда услышала о хуторе, сердце ее сжалось. Она понимала, что говорили не об их хуторе, не о Сидорятах, но вдруг они и дальше пойдут по этой дороге и выйдут к озеру?
— Говорил тебе, надо было взять автомат, — зашептал Прокопий, когда дорога опустела и они, обессиленные напряженным ожиданием, повалились в черничник, радостно прижимаясь друг к другу, что все обошлось, что их не заметили, что они живы.
— Молчи, глупенький. Автомат…
— Сейчас бы так и покосили их, — не унимался Прокопий. — Мамка умела стрелять. Она вот так палила — та-та-та! А ты — трусиха.
— Трусиха, миленький, трусиха, — засмеялась Зинаида, целуя Прокопия в щеки, в глаза, в брови.
— Ладно, пойдем, — погодя сказал Прокопий, встал и начал отряхиваться от сосновой хвои, прилипшей к телогрейке.
Так и пошли дальше, держась солнца и делая поправку на то, что оно с каждым часом все дальше перемещается на запад. Вскоре оно светило им в затылок. А потом и вовсе замелькало по левую руку.
— Мам, — спросил Прокопий, когда впереди уже засинелось вечерними сумерками, — мы что, в лесу ночевать будем?
— Да нет, Прокош, думаю, успеем до ночи до дома дойти, — обнадежила мальчика Зинаида, а у самой на душе было неспокойно.
Места кругом незнакомые. Чащоба и буреломы. Вперед продвигались медленно. Иногда Зинаиде казалось, что они заблудились, что они уже никогда не выдерутся из этой чащобы. И тогда она украдкой оглядывалась на Прокопия, на его раскрасневшееся спокойное лицо и понимала, что мальчик не должен знать, что они кружат по лесу. Солнце ушло, его поглотила та же чащоба, в которой теперь плутали и они. От дороги они отклонились, должно быть, на порядочное расстояние. Зинаида боялась дороги. Теперь она знала, зачем монах Нил вышел на их путь и что означали его слова. И этот страх подспудно гнал ее подальше от знакомой просеки. Просека осталась с прошлой зимы, когда деревня уходила в лес от казаков атамана Щербакова.
— Где мы тут будем ночевать? — Прокопий оглянулся на Зинаиду. В его глазах была мука.
Вопрос Прокопия снова всколыхнул в ней беспокойство, которое мгновенно стало перерастать в страх. Но она тут же начала заклинать себя: нет-нет, нельзя допустить, чтобы паника завладела мной. Тогда и Прокопий поймет, что произошло и что им до ночи не выйти, что только завтра утром они смогут продолжить путь. И то, если взойдет солнце, хотя бы на час, чтобы они могли взять правильный ориентир. Голос мальчика и выражение его лица были спокойными. Это успокаивало и Зинаиду.
— Сынок, ты уморился? — спросила она и взяла Прокопия за руку.
— Уморился, — тем же спокойным голосом ответил он. — Давай костер разведем. Помнишь, как дед Ваня сказал? Если заблудитесь, разожгите костер.
— А мы не заблудились. С чего ты взял?
И вспомнила, что сказал монах Нил: нужную тропу и время Бог укажет… Значит, надо ночевать здесь, в лесу. И ничего страшного. Надо только отыскать удобное место, где лучше развести костер.
— Заблудились. — Прокопий снова оглянулся, но в глазах его Зинаида не увидела ни страха, ни укора. — Но ты, мам, не бойся. Мы выйдем. Лес не может быть бесконечным. Главное, не ходить по кругу. Потому что, когда блукаешь, всегда идешь по кругу.
— Это тоже тебе сказал дед Ваня?
— Нет, я об этом читал в книжке. А мы ходим по кругу.
— Откуда ты знаешь?
— Вон, видишь березу со сломанной макушкой?
— Вижу. Это ее молнией разбило.
— Может, молнией. Может, снарядом. Мы ее уже проходили. Час назад. Только с той стороны. Вон оттуда.
— Да, Прокоша, я ее тоже помню. — Зинаида испуганно огляделась. Да, теперь совершенно определенно ясно, они заблудились, местность крутом незнакомая, куда идти, тоже неизвестно. И она поняла, что другого выхода, как заночевать в лесу, у них нет. И лучше остановиться прямо здесь, попусту не тратить силы.
Они свернули к березе со срубленной верхушкой. Листья вверху тихо шелестели, поскрипывали на холодном ветру. Но в тот самый момент, когда они подошли к ней и Зинаида уже освободила одну из лямок мешка, который все время оттягивал плечи и казался тяжелее каменного, Прокопий кинулся к ней и вскрикнул:
— Ма! Смотри! Самолет!
Глава четырнадцатая
Фронт был рядом. По звукам, доносившимся из селений, которые они из предосторожности обходили стороной, по редким взрывам шальных снарядов, прилетавших с той стороны, из-за Варшавки, стало понятно, что они вышли в ближний тыл, что через два-три километра, а может, и меньше, начнутся немецкие линии. И здесь нужна была особая осторожность. Шли молча. Воронцов даже курить запретил. Хотя махорки давно уже ни у кого не было. Выкурили последние трофейные сигареты. Однако бойцы приспособились изготавливать табак из старого моха, листьев и травы. Курево, конечно, получалось слабым, а дым то невыносимо вонючим и приторным, то слишком кислым, то прогорклым. Но народ не унывал. Нелюбин посмеивался:
— Старики говорили: из бороньего зуба щей не сваришь. А ведь неправда! Кустарный-то табачок очень даже питательный, порою, у иных умельцев, вроде моего Куприкова, очень даже духовитый. — И вздыхал. — А что, товарищ курсант, как говорят: хлеба нету, так пей вино!
Кустарным Нелюбин называл этот самодельный табак потому, что он рос на кустах. Так как кустарник рос повсюду, то для бойцов, когда взвод шел нескончаемыми лесами, было настоящим наслаждением и забавой искать лучший рецепт кустарного табака, смешивая то те, то другие листья, добавляя в них, «для духу», то перетертого моха, то листьев донника или другой какой пряной травы.
Когда вышли из леса на луга, заросшие кустарником и редкими березовыми куртинами, Воронцов, пропуская вперед обоз с намерением проверить тыльный дозор, услышал такой разговор. Разговаривали бойцы младшего лейтенанта Нелюбина — Куприков, Полевкин и Золотарев. Шедший за ними замыкающим, позади прикрепленной к его отделению повозки Нелюбин только слушал свое войско и посмеивался.
— Вообще-то, братва, о курехе для личного состава должно начальство заботиться, — философствовал Золотарев, искоса поглядывая на Нелюбина. — Я правильно говорю, товарищ младший лейтенант?
Нелюбин вначале только усмехнулся. Но Золотарев повторил свой вопрос. И тогда Нелюбин, видя, что от блатаря, который, видать, что-то задумал, так просто не отмотаешься, сказал следующее:
— Это правило, товарищ боец, применимо в том случае, когда подразделение, к примеру, находится в глубокой позиционной обороне. Тылы налажены, снабжение не запаздывает, и старшина и каптенармус добросовестно исполняют свои служебные обязанности снабжения личного состава всем необходимым. К данной обстановке ваше напрасное замечание неприменимо. Более того, если это ваше замечание выходит за границы обыкновенной солдатской шутки, то оно идейно вредно. А стало быть, я, как ваш непосредственный командир, должен этот неуместный и несдержанный вред немедленно пресечь.
— Но что же это тогда получается, товарищ младший лейтенант? Я, к примеру, человек некурящий, в последнее время редко пьющий, и должен дышать этой гадостью? Табак из чужой пасти я еще кое-как переношу, но вы ж понюхайте, какую парашу курит, к примеру, рядовой Полевкин!
— Полевкин! — окликнул Нелюбин идущего рядом с Золотаревым бойца; Полевкин шел в трофейных сапогах и улыбался. — Сапоги не жмут?
— Никак нет, товарищ младший лейтенант! В самый раз пришлись. Никаких претензий к службе тыла не имею.
— А что ты куришь?
— Что все, — пожал плечами боец.
— Все курят листья, мох и донник. А от тебя чем воняет? Ты понимаешь, что твои извержения могут привлечь внимание противника? Сейчас же выбрось свою «торпеду»!
— Это, братцы, у нас в городе на нижней слободе, возле самой Оки, жил один дед. Валенки носил зимой и летом. Дед ветхий, и валенки тоже. Все уже молью проточены. И вонища от них! То ли старческой мочой, то ли еще чем-то. У Дюбина вон как ноги пахнут, когда он их проветривать разоблакает! На привале рядом не садись! Но Дюбин-то мужчина молодой, тридцати еще нет. А как могут пахнуть ноги у столетнего старика? Дед тот в последний раз ноги мыл, наверно, когда из армии пришел. Николаевский солдат. Двадцать пять лет служил. А человек он был все же заслуженный и медаль имел за оборону Севастополя. И вот раз местные купцы купили тому николаевскому ветерану новые валенки. Приносят ему этот подарок и говорят: сымай, дедушка, свои проеденные да изношенные и изволь наши новые обуть. Подарок ветерану пришелся по душе. Снял он свои изношенные да вонючие, как вон у Дюбина портянки, и говорит: а куда ж мне их девать, старые-то. Жалко, мол, все же. Не жалей, говорят ему, дедушка, ходи в новых, а износишь их, общество тебе очередные справит. Видят, что дедок мечется, не знает, куда старые свои валенки деть, и, чтобы он их в избе не оставил и не припрятал такую рухлядь, говорят ему: а вон, мол, кидай в огонь, они и сгорят. А дети как раз «весну грели». Это у нас в городе праздник такой есть, «Жаворонки» называется. Когда появляются первые проталины и уже пригревает хорошенько, дети жгут костры, а матери пекут из теста жаворонков. В кострах тех сжигают всякий хлам, особенно обувку ненужную. И вот тот заслуженный дед бросил в костер свои валенки. Загорелись. И что ж тут было! Газовая атака по всему фронту! Народ с нижней слободы начал на горку перебираться. Вот как дедовы валенки воняли.
Посмеялись бойцы рассказу Куприкова. А Дюбин вдруг вздохнул:
— Да, пекли и в нашей деревне жаворонков. Это ж на Сороки. Сороки — это девятое число марта. Если по старому стилю. Сороки святые — колобаны золотые. В каждом дворе пекли по сорока таких колобанов-жаворонков. И ели мы их от пуза. Бывало, мать говорила: сколько проталинок на горке, да в пойме, на полях вокруг деревни, да по опушкам, столько и жаворонков на Русь прилетело. Эх, до чего ж вкусные колобаны мать пекла! — И Дюбин, обычно молчаливый, вдруг тихонько запел. И его все слушали молча. Никто не проронил ни слова. Даже идти старались тихо.
Ты, воспой, воспой, жавороненочек, На крутой горе, на проталинке. Ты воспой, воспой, пташечка малая, Пташка ль малая, да голосистая. Про тое ль про ту да теплу сторонушку, Что про те ли те, да земли заморския, Земли заморския да чужедальняя, Где заря со зоренькой вместя сходятся…Дюбин обеими руками держал ремень винтовки и, глядя под ноги, тихо гудел своим нутряным рокочущим басом. Он так и не довел песню до конца, сошел на дрожащий шепот. А погодя, когда легче стало дышать и встречный ветер высушил расплющенную на щеке слезу, сказал:
— Эх, братцы, сейчас бы тех материных колобанчиков! Хотя бы по парочке на брата.
Но вот подошли к немецкой обороне, и все вольности разом прекратились.
Пекли жаворонков и в Подлесной… Но что о них вспоминать в октябре? И в Прудках их, конечно же, тоже пекли. Пелагея — своим сыновьям. Старший, Прокопий, быть может, залезал в крышу и поднимал жаворонка выше трубы. Так в детстве делали они. Теперь Пелагеиным сыновьям жаворонков будет печь Зинаида. И сыновьям, и его дочери тоже.
Когда он рассказал Степану и Кондратию Герасимовичу о том, что у него, пока он жил в примаках в деревне, родилась дочь, те некоторое время молчали. Ему хотелось услышать от них, единственных оставшихся в живых и самых близких товарищей, что думают они о нем и обо всем, что с ним произошло. Первым нарушил молчание Степан:
— Я у немцев послужил. Кондратий Герасимович два раза в плену побывал, получил медаль и кубари в петлицы. А тебе, брат, повезло больше всех. У тебя ребенок родился. И не просто ребенок, а девочка. А девочки, говорят, рождаются к миру.
— Вот-вот, — поддержал его настроение и Нелюбин, — мы уже больше года только и делаем, что убиваем да прячемся от пули. А ты, Сашка, человека родил! Это ж что означает? Это означает то, что ты теперь должен живым вернуться с этой войны. Желательно, сильно не покалеченным. Чтобы девочку свою смог выходить, на ножонки поднять. Эх, ребятушки, когда бы распроклятая эта война кончилась, да я бы живой-здоровый домой вернулся, я бы сразу всем своим бабам, обеим-двум, ребят позаделал! Пусть рожают! А сам бы с утра до ночи работал. Вон сколько народу побито, покромсано, по лесам да оврагам раскидано. Улитой, говоришь, назвали? Хорошее имя. Природное. Лесом от него веет, и лугом, и пашней. Пашня весной пахнет, как дитя распеленутое.
Воронцов присел на муравьиную кочку, снял с прицела чехол и начал всматриваться через прозрачные кусты в глубину луга, где вот-вот должно было появиться тыльное охранение. Пролетела сорока, мелькнула в прицеле черно-белым ворохом своих крыльев и пропала в осиннике. Кто-то ее вспугнул. Должно быть, охранение и вспугнуло. Когда проходили этот пологий луг, обрамленный с одной стороны стройным высоким ельником, а с другой таким же взгонистым зрелым березняком. Вот и летает теперь заполошная птица, не может никак успокоиться, что потревожили ее покой, нарушили одиночество, принадлежащее только ей одной. Как, должно быть, счастливо одинокое существо в этом мире, подумал Воронцов. Ему не с кем враждовать. Собирай себе букашек и семена трав. Вон их тут сколько. Но сорока — хищница. И одиночество ей ни к чему. Это Воронцов знал.
Танкисты вышли из ельника одновременно. Они быстро пересекли луговину, и, если бы не черные комбинезоны, Воронцов вряд ли бы проконтролировал их появление. Ивовые заросли, еще сохранившие на молодых побегах остатки бурой листвы, на некоторое время скрыли танкистов. Прицел был заполнен другими предметами. Танкисты вышли левее. Они часто оглядывались куда-то в дальний угол луга, где темнели мокрые валуны, обросшие сизым лишайником. Пригнувшись, тут же побежали к нему. Мгновенно сразу все поняв, Воронцов залег и перевел прицел в дальний угол луга, туда, где зеленела изумрудной отавой болотистая лощина. Нет, никого там не было. Сорока вновь появилась в прицеле. Она стремительно ныряла в ольховые заросли, то исчезая в них, то вновь появляясь в сизой сырой дымке над лощиной. Слышался такой же нервный ее стрекот. Там кто-то ходил. Так сороки могут реагировать только на крупного зверя. Или на человека. Но вряд ли здесь, в нескольких километрах от фронта, остались кабаны или лоси. Даже более мелкая живность наверняка давно откочевала подальше от грохота канонады и людей с оружием, заполнивших лес.
По хрусту травы и хриплому дыханию Воронцов понял: танкисты залегли где-то рядом.
— Демьян! — окликнул он младшего сержанта. — Кто там?
— Кто-то — за лощиной. С той стороны. Идут все время параллельно нашему следу. На след не выходят. Дистанцию не сокращают.
— Вы их наблюдали?
— Нет. Думаю, и они нас тоже. Мы сразу сменили маршрут.
— Уходите живее. Я найду вас по следу. Передай Нелюбину — пусть свернет в лес. Затаитесь там где-нибудь в лощине и выставите часовых.
Танкисты отползли к березняку и вскоре исчезли в лесу. Воронцов остался один. Надо было понять, кто там ходит? Погоня? Случайная встреча? Тогда — с кем? Полицаи? Немцы? А может, партизаны? Или кто-нибудь из местных жителей?
Он продолжал осматривать опушку дальнего березняка за лощиной, гать левее, видимо, давно заброшенную, заросшую камышом и какими-то толстыми будыльями, высохшими и повалившимися на черную колею. Хорошо, что они не поехали по той дороге, не воспользовались бродом и не оставили там следа. Обозу он приказал двигаться по лесу. Но след за ними все равно оставался. Если идут по нашему следу, то, скорее всего, местные полицаи. Эти не отстанут. Выследят и будут брать. А может, кто-нибудь и похуже.
Сорока вновь нырнула в березняк и больше не показывалась. Это означало только одно: те, кто ее так раздражал, были совсем рядом. Оставалось ждать.
Качнулась ивовая ветка, роняя рыжий лист, который мгновенно вспыхнул в окуляре прицела, как вспышка выстрела, и исчез в бурой траве. Человек в немецком камуфляже появился в глубине просеки. Остановился. Не оглядываясь, делал знак рукой. И тотчас еще трое в таких же камуфляжных накидках и кепи с длинными козырьками вышли из-за ольхи, на бегу перестраиваясь в цепочку, направились прямиком к броду. Трое. Четвертый, опустившись на корточки, сидел на просеке и осматривал в бинокль луг и противоположную опушку. Блеснули окуляры его оптики. Нет, не заметил. Главное, теперь не двигаться. Хуже, если их больше. Четверо… Четверо… Четверо — тоже много. Нет, видимо, больше все же никого. Четверо. Но если их только четверо… И если они идут по следу их обоза… Главное, не шевелиться. Сидевший на корточках встал, сунул за пазуху бинокль и тоже пошел к броду. Во все время, пока он сидел на просеке на четвереньках и смотрел в бинокль, ни с кем другим, кроме троих, перебегавших брод, он не перекинулся ни словом, ни жестом. Значит, четверо. Их было всего четверо. Вооружены немецкими автоматами. Приклады откинуты для прицельной стрельбы.
Через минуту автоматчики в камуфляжах перебрались по гати через болотину и скрылись за ивняком в лощине.
Если они теперь, за гатью, уйдут правее, то след обоза останется правее, они его не заметят. А значит, пусть уходят своей дорогой. Пусть спокойно уходят. Они — своей. Мы — своей.
Но «древесные лягушки» появились точно там же, откуда полчаса назад выскочили танкисты. Значит, тележный след они все-таки нашли и идут по нему. Пробежали шагов двадцать, присели. Видимо, совещались. Старший привстал и поднял к глазам бинокль. Опустился. И тотчас один из группы побежал назад, к броду.
Воронцов, все это время лихорадочно метавшийся между надеждой, что все обойдется, что у «древесных лягушек», скорее всего, другая задача, а не преследование обоза, и необходимостью действовать, мгновенно понял: если хотя бы один из четверых уйдет, через несколько часов по их следу сюда прибудет взвод с пулеметами и минометами, они окружат обоз и всех расстреляют. Кому-то повезет меньше — их захватят живыми. Он просунул винтовку в развилку молоденькой березки и взял в прицел бегущего к броду.
Выстрел прозвучал так громко, что тишина лесного луга, счастливо затерявшегося в прифронтовой полосе и чаявшего не увидеть ни человеческой крови и не услышать ни близкой стрельбы, ни стона смертельно раненных, оказалась разнесенной в клочья. У Воронцова оставался еще один шанс и еще один более или менее верный выстрел в том случае, если «древесные лягушки» не успели проконтролировать вспышки его выстрела. Хотя это противоречило одной из главных заповедей снайпера: не стрелять с одной позиции, какой бы удобной и выгодной она ни была, более одного раза. Воронцов рискнул. Он остался в прежней позе: стоящим на колене, с винтовкой на сучке молоденькой березы. Березка еще шелестела, хлопала на ветру неопавшей листвой и неплохо его маскировала. Оставалось надеяться на то, что ветер мгновенно рассеял пороховой дым и его они тоже не заметили. Упасть в траву и откатиться в сторону, чтобы поменять позицию на случай прицельного ответного выстрела, означало увеличить реальность того, что его заметят именно во время выполнения этого маневра. Если это немцы, то — егеря. Если спецподразделение, то тем более следует опасаться их.
Воронцов наблюдал одним глазом — в окуляр прицела, — как неподвижно лежал в траве, упав ничком, вперед, и немного развернувшись, так что одна рука была с размаху откинута назад, связник, а другим — как крутили козырьками длинных, как утиные клювы, кепи залегшие в траве. Они пока не стреляли. И Воронцов понял, что он все же заполучил у судьбы и второй выстрел. Связник признаков жизни не подавал. К нему никто не бросился на помощь. Значит, он не стонал и не издавал других звуков, которые всегда заставляют находящихся рядом подбежать или подползти к раненому для оказания помощи. Но стрелять в первую же попавшуюся в прицел кепи или самую удобную цель было нельзя. Следующий выстрел он должен сделать только в одного из них. Только в одного. Но его Воронцов пока еще не видел.
Воронцов осторожно перевел ствол винтовки левее. Прицел заскользил по бурым разводам травы и вскоре остановился. Вот они… Лежат… Все трое… От напряжения скрипнули шейные позвонки. Который из них? Кепи приподнимались из травы и исчезали. Двигались плавно, словно в воде. В их движениях чувствовалась уверенность, опыт. Один начал отползать левее. Воронцов увидел стриженый затылок и белую подкладку капюшона. За спиной вещмешок. Но не красноармейского образца. Узел затянул не лямкой, а шнурком, который завязан петлей и свисает вниз. Нет, не этот… Этот выполняет приказ. Командир таскать мешок не будет. У немцев это соблюдается строго. Значит, один из этих… Вон он. Лежавший правее шевельнулся и медленно приподнялся. Он наблюдал в бинокль. Движения его были медленны, как у хищника, готовившегося к атаке. Он вел биноклем в сторону Воронцова. Вот остановился, замер, вытянул шею, бинокль в его руке вздрогнул, то ли он что-то успел сказать своим подчиненным, то ли не успел ничего, а просто пуля, вылетевшая из ствола «маузера», мгновенно описав короткую, в полтораста метров, траекторию над прогорклой осенней травой невыкошенного луга, пробила ему кадык, и камуфляж рухнул в ту самую траву, которую только что обжил — примял, нагрел своим телом.
То, что произошло в следующие минуты, Воронцов отчасти предугадал заранее. Человек на войне приобретает многое. И если ты не пропал в одной из первых атак, не сгинул во время выхода из окружения, когда никому ни до кого, если научился спать вполглаза и при этом слышать не вполуха, а абсолютно все, что происходит вокруг, то это означает, что ты научился жить на войне. Ты стал частью войны. Ты даже менее уязвим, чем еловый кол, стоящий в двадцати пяти шагах от твоего бруствера с обрывками колючей проволоки. И вот теперь, не искушая судьбу, Воронцов медленно опустился в траву. Автоматы уже грохотали длинными очередями, и пули рубили верхушки сухостоя и кору деревьев вокруг. Но это была неприцельная, слепая стрельба. Так ведут огонь испуганные и неуверенные стрелки, желая, в первую очередь, психологически подавить противника, вынудить его сделать ошибку, торопливое движение — машинальный жест самосохранения или такой же торопливый ответный выстрел. Тогда станет ясно, где затаился противник и куда надо бросать гранаты, куда стрелять. По характеру стрельбы Воронцов понял, что «древесные лягушки» до сих пор не обнаружили его. Позиция могла послужить еще одному верному выстрелу. А значит, незачем пока менять ее. Надо лежать и ждать. Терпеливо выжидать удобного момента и наверняка поражать цель, как сказано в уставе. Что ж, эта маленькая книжка в красных матерчатых обложках действительно написана кровью, как о том сказал их первый преподаватель в Подольске. И ему, если он сейчас выживет на этой опушке под автоматным огнем «древесных лягушек» и не подпустит их на бросок гранаты, пожалуй, нечего будет добавить в главу тридцать девятую[2].
Вот один автомат умолк. Кончились патроны. На то, чтобы перезарядить новый рожок даже самому опытному солдату потребуется около десяти секунд: подтянуть автомат к себе, отщелкнуть пустой рожок, вытащить из магазинной сумки или из голенища сапога полный, защелкнуть его на место, взвести затвор, чтобы дослать патрон в патронник. При этом стрелок вряд ли будет отвлекаться на наблюдение за противником. А этого вполне достаточно, чтобы произвести очередной выстрел. Но стрелять надо не в него. Хотя Воронцов его хорошо видел в прогал между двумя кустами ивняка: кепи торчала из травы, как манекен на стрельбище. И всадить пулю под обрез этой кепи, в висок или переносицу, не составляло для такого стрелка, каким был Воронцов, особого труда. Но именно это и было бы роковой ошибкой, после которой он бы остался с последним автоматчиком на равных. Впрочем, преимущество у него все же было, и пока существенное: расстояние, которое делало стрельбу из автоматов малоэффективной.
Второй автомат тем временем продолжал молотить по площади, сосредоточив огонь в основном на зарослях ельника правее Воронцова. Именно там он хотел залечь в начале боя. Но, как оказалось, именно заросли можжевеловых кустов больше всего настораживали и привлекали внимание «древесных лягушек». Воронцов медленно начал привставать на колено, так же медленно просунул между ветвей винтовку. Прицел заскользил по бурым разводам травы и редких кустарников, остановился, замер. Воронцов сделал небольшую поправку на ветер и плавно надавил на спуск. Послышался стон и крик испуганного внезапной опасностью человека. Значит, промахнулся, понял Воронцов и тут же залег, отполз на несколько шагов в сторону. Отсюда он уже не видел второго автоматчика, того закрывали кусты. Но кусты закрывали и его, Воронцова, от автоматчика, который наверняка его уже заметил. Стрельба прекратилась. Раненый продолжал стонать. А второй автоматчик молчал. Затаился и тоже ждал. Начался поединок.
Когда-то в детстве Воронцов услышал от деда Евсея такое поучение: если ты не видишь зверя или птицу, но слышишь ее на расстоянии выстрела или точно знаешь, что она здесь, наберись терпения и жди. Не крути головой, не переступай с ноги на ногу, не шевели ружьем и ни в коем случае не пытайся найти ее. Шевелить можешь только ноздрями. Не издавай ни звука. Растворись в тишине. Превратись в зверя или птицу. Стань такой же осторожной и мудрой, как она. Но помни, что ты — человек, и у тебя больше терпения и хитрости. Слушай, принюхивайся к воздуху и жди.
Глава пятнадцатая
По плану, разработанному в штабе корпуса, группа Радовского должна была взаимодействовать с ротой егерей. Другие две егерские роты перебрасывались севернее, к Вязьме и Белому, где должна была также действовать сотня фон Рентельна. Таким образом предстояло охватить довольно обширный район. Действовали по схеме, которая была отработана еще в зимних боях в Подмосковье: разведгруппы выясняли у местных, есть ли в окрестных лесах партизаны и где расположены их базы. Добровольным помощникам и проводникам в качестве уплаты за услугу предлагали весь запас продовольствия и одежду уничтоженных и захваченных в плен партизан и диверсантов. Схема срабатывала на восемьдесят-девяносто процентов. Добровольные помощники находились почти всегда. Люди в деревнях голодали. Цена хлебного сухаря стала так высока, что некоторые курсанты умудрялись за шапку этих черных сухарей или за пачку немецких галет выменять где-нибудь в деревне, у женщины, которой нечем кормить детей, обручальное кольцо. За полведра картошки — золотые сережки. Этот золотой промысел особенно был развит в хозвзводе. Бороться с этим видом мародерства стало почти невозможно. Да и бессмысленно.
Пока проводили перегруппировку и развертывание, командир роты егерей по рации сообщил Радовскому: на Варшавском шоссе, на таком-то километре, между населенными пунктами такими-то совершено нападение на колонну военнопленных, двигавшуюся в сторону Рославля; конвой из двух военнослужащих вермахта расстрелян, предположительно, снайпером, одетым в шинель с курсантскими петлицами старого образца. Дополнительная информация, полученная из опроса пленных, отказавшихся уйти в лес вместе с нападавшими: нападавших было несколько, вооружены винтовками, автоматического оружия не имеют, захватили повозку конвоя. В тот же день из штаба 1Ц пехотной дивизии, прикрывавшей этот участок фронта, была получена радиограмма следующего содержания: в квадрате таком-то, между населенными пунктами таким-то и таким-то, такого-то числа октября исчез обоз с продовольствием. Тел четверых военнослужащих вермахта, пропавших вместе с обозом, не обнаружено, скорее всего, их увели в качестве пленных. Русские увели также повозки. След вначале вел на север, в лесной массив. Затем был потерян. Для преследования послано несколько групп из специальной команды по борьбе с партизанами. Предположительно, нападение произведено разведгруппой русских с целью захвата «языка». Возможно, совместно с местным партизанским отрядом. Повозки, скорее всего, захвачены для того, чтобы отвести преследование от маршрута движения группы, в которой идут плененные военнослужащие вермахта, а также для пополнения продовольственных запасов базы местного партизанского отряда.
Изучив эти два сообщения, Радовский сразу понял, что оба нападения совершены одной и той же группой. Но, казалось бы, незначительная информация о русском снайпере в шинели с курсантскими петлицами старого образца насторожила его больше всего.
В один из дней, на марше, Радовского разыскал посыльный мотоциклист из штаба Двенадцатой егерской роты, вручил ему пакет. Распоряжение было подписано гауптманом Гартманом. Хотя ни в приказе по корпусу, ни в других документах, касавшихся проведения этой операции, не говорилось о том, что он, майор вермахта Радовский, а следовательно, и его боевая группа «Черный туман» подчиняются капитану вермахта Гартману, весь ход событий свидетельствовал о том, что их абвергруппе назначалась роль вспомогательного подразделения, возможно, с особыми задачами, но эти задачи будет ставить не кто иной, как капитан Гартман. И инструкции на этот счет он уже наверняка получил.
Сейчас Радовский должен был развернуть колонну назад, пройти несколько километров по тому же проселку, который только что был успешно преодолен, потом, от населенного пункта Сенное, повернуть влево, к Варшавскому шоссе, там развернуть взводы в цепь и, правым флангом выходя на просеку шоссе, начать движение на восток до населенного пункта Богданов Колодезь. В Богдановом Колодезе переночевать. Утром возобновить движение в том же направлении до населенного пункта Макарики. На связь выходить каждые три часа, а в случае столкновения с противником — каждые полчаса. Во время боя связь поддерживать постоянно. В деревнях действовать в штатном режиме. Левый фланг группы Радовского должен был смыкаться с правым флангом роты егерей.
Итак, из приказа следовало, что их абвергруппу использовали как обычное охранное или полицейское подразделение. Цель операции — карательная. При малейшем сопротивлении противника предписывалось уничтожать его на месте. В населенных пунктах — стрелять на поражение в случае малейшего неповиновения со стороны местных жителей. Рекомендовались также показательные расстрелы партизан, пойманных в окрестных лесах. В том случае, разумеется, если их удастся поймать.
Через два с половиной часа обоз втянулся в Сенную. Радовский построил группу на футбольном поле возле школьного здания, где размещался местный полицейский участок. Он поставил боевую задачу, определил интервал движения в цепи. Предостерег от излишней жестокости в деревнях.
— Помните, что это ваши соотечественники! Идет война. И в первую очередь от нее страдают гражданские лица. Здесь фронт прошел уже дважды. Это обстоятельство наложило свой отпечаток на местных жителей, изменило их психологию. Разумеется, не в лучшую сторону. И последнее! — Радовский сделал паузу, окинув взглядом ровные шеренги курсантов и казаков. — За малейший проступок, похожий на мародерство и насилие, расстрел на месте! Младший командир, если он знал о таком случае, но не пресек его вовремя, тоже будет расстрелян. Командиры взводов — разжалованы в рядовые с соответственным понижением жалованья.
Казачья шеренга сразу заколыхалась, загудела.
— То, что считалось допустимым прежде, теперь должно быть исключено и забыто. Вы — первые солдаты Русской Армии. Пусть пока мы еще существуем в виде подразделений до роты и батальона. Завтра наши роты и батальоны будут развернуты в полки, дивизии и корпуса. Вопросы есть?
— Есть! — тут же отозвался курсантский взвод. Из строя шагнул ефрейтор, бывший артиллерист. — Если мы, как вы говорите, Русская Армия, то почему нас не отправляют на фронт?
Вопрос надо было понимать несколько иначе: почему приказывают воевать против гражданских? Если они солдаты Освободительной армии, то почему их используют как карателей против собственного народа? Вот о чем спрашивал артиллерист.
— Приказы не обсуждаются. Сегодня необходимо выполнить ту задачу, которая поставлена командованием германской армии. Завтра задача будет иной. — Радовский сделал паузу. Он чувствовал, что то, что он сказал, — неубедительно. Но что сказать им еще? Он посмотрел на шеренгу. В глазах курсантов — ожидание. — Основную миссию по освобождению России от большевизма сегодня выполняют германские войска. И вам это прекрасно известно. Если бы не победы вермахта, то ни о каком появлении Русской освободительной армии не могло быть и речи. Следовательно, вы бы не стояли сейчас в этой шеренге. Не было бы нашего подразделения как части РОА.
Ответил ли он на вопрос ефрейтора артиллериста? Вряд ли. Это поняли все. В том числе и он сам. Но надежду он им все-таки оставил. Она, та крохотная надежда, жила, теплилась в каждой русской душе. В том числе и в его, Радовского, душе. С таким настроением они развернули взводы в цепь. Обоз шел следом, выбирая подходящие проселки и большаки.
Радовский шел в цепи. Солдатская работа его не тяготила. Напротив, она, как и охота, его возбуждала. Он шел по мерзлым комьям вспаханного поля, время от времени останавливался, поднимал к глазам бинокль, всматривался в кромку дальнего леса и снова догонял цепь. Из головы не выходило сообщение из штаба дивизии по поводу расстрела конвоя и бегства группы военнопленных. Снайпер, одетый в курсантскую шинель… Богданов Колодезь был впереди. Судя по карте, именно там, в двух километрах от деревни Богданов Колодезь, на шоссе, все и произошло. Второе нападение — в восьми километрах северо-восточнее. Если это советская разведгруппа, то почему она двигалась не к фронту, а в обратном направлении? Минувшим вечером он долго сидел над картой. Думал, сопоставлял. Вспоминал. Снова просчитывал варианты. От Богданова Колодезя до передовой гораздо дальше, чем от того проселка, где произошел захват немецких солдат. Значит, разведгруппа, если это была она, двигалась все же к фронту. Но тогда почему она идет к участку, который наиболее мощно укреплен и имеет сплошную линию? Здесь, вдали от Зайцевой Горы, перейти через немецкую оборону гораздо легче. А они движутся туда. Неужели их там ждут? Неужели разведка большевиков настолько сильна, что пренебрегает очевидной опасностью? Как они собираются перейти линию фронта? По головам немецких пехотинцев? Через пулеметы, которые на этом участке обороны стоят через каждые тридцать-сорок метров? Или тут что-то другое? Что?
К вечеру, когда взводы втянулись в Богданов Колодезь, где уже дымила трубой походная кухня, днем обогнавшая их на проселке, по рации из штаба пехотной дивизии, из отдела 1Ц, пришло новое сообщение: в районе лесного массива восточнее населенного пункта Дровни близ проселочной дороги уничтожена, предположительно огнем одиночного снайпера, группа (четыре человека, включая командира группы унтер-фельдфебеля Гарпе) из состава спецподразделения, накануне проводившего в этом районе антидиверсионные мероприятия.
Радовский развернул карту. Маршрут «одиночного снайпера», имея весьма незначительные отклонения, прямехонько лежал в район Зайцевой Горы.
— Говорят, там настоящая бойня, — сказал командир курсантского взвода поручик Самохин.
Самохин перешел к немцам под Юхновом, во время мартовских боев. Был сильно обморожен. Лежал в лазарете. С тех пор носил, даже летом, шерстяные носки и часто вспоминал какого-то профессора, который, как он говорил, вернул ему не только ноги, но и способность держать оружие. Самохин командовал ротой, сформированной из бывших московских ополченцев, в РККА имел звание капитан. В плен сдался по идейным мотивам. Из кадровых военных. Имел способности к штабной работе.
— Судя по тому, что канонада там не умолкает ни днем, ни ночью — да. — И спросил Самохина, кивнув на текст шифровки: — Как вы думаете, почему он… или они, я склонен думать, что они, идут именно сюда, к Зайцевой Горе?
— Мотивов может быть несколько. Например, их здесь ждут. Или: здесь налажен коридор.
— Вот это весьма сомнительно. Немцы держат здесь оборону довольно мощно, подразделения сомкнуты плотно. Мышь не проскочит.
— Там, где мышь не проскочит, русский солдат на пузе проползет.
— Сомневаюсь я в этой способности русского солдата. Потому как немец стоит уж больно плотно.
— Знаете, Георгий Алексеевич, мне кажется, это не разведгруппа.
— Так, так, говорите, говорите…
— Легко вступают в боестолкновение. После захвата «языков» снова отметились теми же снайперскими выстрелами, что и на шоссе. Как там, в шифровке, точный выстрел в горло?
— Два. Точно так же был застрелен и один из конвоиров. А двое застрелены в горло. Так сказано в шифровке. Уточнение. Штрих, так сказать.
— Я думаю, что «языки» либо уже зарыты где-нибудь в лесу, либо они действительно их ведут с собой. Но для другой цели. Зачем, скажите мне, на другом участке фронта нужны «языки», если они как минимум не командиры полков или дивизий?
— Нужны-то нужны. Все равно. Хоть и с другого участка фронта. Их допросят в штабе армии или фронта и всю необходимую информацию тут же направят в нижестоящие штабы. Заодно подстегнут дивизионную и полковую разведку. Но то, что они тащат их за несколько десятков километров от участка обороны их подразделения, это, конечно же, вызывает некоторое недоумение. А если немцев ведут как доказательство своей преданности и надежности? Как живой пропуск назад, через фронт? Через Особый отдел?
Поручик пожал плечами и сказал:
— Слишком сложная комбинация. Но возможная. Если командует группой парень не промах и, судя по всему, далеко не простак. Или все гораздо проще. Ему — или им — просто везет!
— То, что не промах, вы сами читали. — И Радовский, усмехнувшись в усы, бросил карандаш на стопку шифровок, придавленных керосиновой лампой. — Но, я думаю, скоро мы убедимся, что он и не простак.
Тихую деревенскую ночь расколол одиночный выстрел.
— Загасите лампу, — приказал Радовский и снял с гвоздя немецкий автомат. — Что за черт?
Они вышли во двор. Пахнуло морозной свежестью и теплым хлевным духом, которым пахнет давно и основательно налаженное крестьянское хозяйство. Хозяева дома, в котором остановились Радовский и командиры взводов, были люди зажиточные. Несколько коров, стадо овец, свиньи, гуси… И как сюда не добрались немцы, удивился Радовский, когда вечером разговаривал с хозяином, местным старостой, который с удовольствием учтиво уступил им светлую горницу, а сам с женой и детьми перебрался в летнюю хатушу, срубленную в саду. Хатуша, впрочем, тоже отапливалась, и вскоре из трубы в саду закурился дымок. Хозяин принес квашеной капусты, кусок вареной говядины, чашку холодца, соленых грибов и тонко, ровно нарезанного, видать, женской рукой, сала. Выставил из навесного шкапчика бутылку первача. Откланялся и ушел, деликатно сославшись на дела по хозяйству.
Где-то в глубине деревни, за оврагом, за ручьем, послышались голоса.
— Тащите его к штабу! — послышался голос Турчина.
Владимир Максимович Турчин в боевой группе Радовского исполнял обязанности начальника штаба. Но на время операции был назначен командиром взвода казаков. Прежнего взводного, подпоручика Франкевича, Радовский временно отстранил, воспользовавшись тем, что Франкевич дважды был замечен в пьяном виде в расположении учебных казарм и на плацу. Дисциплина в подразделении обеспечения всегда хромала. Мелкие вольности легко сходили с рук и рядовым солдатам, и младшим командирам. Во время ликвидации кочующего «котла» 33-й армии Радовский растерял почти весь личный состав своей боевой группы. Лучших людей. Специалистов. Разведчиков, диверсантов, подрывников. Потом, когда началась антипартизанская операция в лесах между Дорогобужем и станцией Угра, в строй пришлось поставить всех, в том числе и казачью сотню, расквартированную десятками по многим деревням. Казаки в первые же дни операции показали себя с лучшей стороны. Но потом, когда генерал Белов увел через Варшавское шоссе, к Кирову, свой кавалерийский корпус, когда сопротивление ослабло, а в деревнях, в которые они входили, остались одни местные жители да раненые беловцы и ефремовцы, казаки озверели. Раненых рубили саблями и кололи штыками прямо в домах. Местных, приютивших красноармейцев, тоже не щадили. И Радовский их не останавливал. Турчин тогда в первый раз рухнул в глубокий запой.
— Кого-то волокут, господин майор, — сказал Самохин и повесил автомат на плечо.
Внизу зашлепали по воде. Слышалась брань, глухие удары. И рокочущий голос унтер-офицера Донца. Донец был из терских казаков. В плен попал раненым и контуженым. Радовский вызволил его из лазарета Рославльского концлагеря, где тот уже доходил. «Дашь коня и саблю, буду служить хоть черту!» — сказал Донец Радовскому, когда охранник привел его в кабинет коменданта лагеря. Терские казаки были надежными, стойкими воинами. Их Радовский знал по донскому делу. И теперь Донец, командир первого отделения и одновременно заместитель командира казачьего взвода, ехал в цепи верхом на прекрасной серой кобыле, добытой им в бою под Всходами, с тяжелой старинной драгунской саблей на боку. При необходимости исполнял обязанности командира разведвзвода. Именно на разведвзвод и хотел поставить Радовский терского казака. Но взвод еще не довели до полного штата, когда поступил приказ об антипартизанских мероприятиях.
— Иди, иди, поганец! — рокотал Донец, подпихивая кого-то коленом и одновременно держа его за ворот белой исподней рубахи. — Была б моя воля, я б тебя еще там, на месте…
— Что произошло? — спросил Радовский, когда Донец и Турчин толкнули к его ногам полураздетого казака.
— Да вот, Георгий Алексеевич, девчушку, внучку хозяина чуть не снасильничал. Хорошо, закричала, да часовой услышал… — Донца трясло. Он ходил вокруг стоявшего на коленях казака, но ударить его уже больше не посмел. — Решайте, Георгий Алексеевич, господин майор. А я бы такого сукина сына до утра жить не оставлял.
— Кто? — коротко спросил Радовский.
— Проценко.
— Хлеборез, — уточнил Турчин.
Подошли еще несколько человек. Среди них был старик.
— Что случилось, отец? — спросил его Радовский. — Говорите все как есть. Ничего не скрывайте.
— А то есть, господин охфицер, что солдат твой — паскудник. Я его, как человека, накормил, на кровать определил. Другие спать легли, а этот все бродил по хате, все чего-то искал. А потом к Стеше, унучке моей, на печку полез. Куды ты, говорю, она ж ребенок… Он меня, за мои слова, — кулаком. Хорошо, солдат с улицы прибег. Отрятовал.
Вышли из сада хозяева дома. Стояли поодаль, всей семьей, слушали старика. Староста подошел к старику и повел его к крыльцу, усадил там на лавку.
— Что ж он, мерин сивый… — услышал Радовский дрожащий негодующий голос старосты. — Нешто такое можно… Мы ж вас приветили. Честь по чести. Ах ты, боже ж ты мой!.. Она ведь сирота. Отец еще прошлым летом… А матку бомбой в поле убило. Немцы того не делали.
Радовский толкнул стволом автомата стоявшего перед ним на коленях казака:
— Встать. Это правда? Отвечай, Проценко, это правда, что говорит старик? Или есть необходимость допросить в твоем присутствии пострадавшую?
— Господин майор! Господин майор! Да они ж тут все — партизаны! Попробуй, разбери. А девчонка, может, связная! Точно связная! Такая злая сучонка. Руку вон прокусила, — Проценко вдруг осмелел, вольно задышал самогонным духом. — Да и не пострадали она. Какая она пострадавшая? Да я ее пальцем не тронул! Кому вы верите, господин майор? Этому старику? Да он тут первый партизан! От него за версту лесом пахнет!
— Да ты еще пьян, скотина!
— Может, оно и так, — скрипнул зубами Проценко. — Да что вы, ваше благородие, нас о том не спрашивали, когда весной по партизанским деревням нас вели? А то и подливали еще. Давайте, ребята, дайте им жару! Весной мы баб не жалели. И вы об этом хорошо знали. Помалкивали, когда дело надо было сделать. Покажите мне, у кого из наших руки чистые. После всего этого…
— Молчать! — И Радовский замахнулся автоматом. Но не ударил.
Донец снова заходил, заплясал, рыча и тряся кулаками.
— Донец, отведите его в какой-нибудь сарай. Закройте до утра. Выставьте охрану. Утром все решим.
— Охрану… — зарычал Донец и дернул Проценку за воротник.
Не отвел он арестованного и десяти шагов, как послышался крик, глухие удары и топот.
— Стой! — рявкнул Донец.
Мелькнула, прыгнув куда-то в черный куст сирени, белая рубаха Проценки. И тут же короткий свист тугого металла полоснул, рассекая надвое плотное пространство ночи, сливаясь с гортанным хрипом Донца:
— Х-хак!
И все затихло.
Все произошло так быстро, что стоявшие возле штакетника не сразу поверили в то, что все уже произошло.
— Донец! — окликнул густую оцепеневшую темень Радовский, сжимая рукоятку автомата. — Ну что там, Донец?
— А что… Все уже… Кранты… — ответила темень голосом Донца. — Рубанул я его, Георгий Алексеевич, господин майор. И наверно, насовсем. Теперь решай, что со мной делать.
Все молчали. Ждали, что будет дальше.
— Вот что, — распорядился Радовский. — Тело отнесите на околицу. На пост. Из деревни его надо вынести. Пусть до утра полежит возле часового. Командиры взводов, проверьте личный состав. Обойдите все дворы. И впредь на ночлег будем останавливаться повзводно. В свободные дома. Дома от гражданских лиц будем освобождать. — Он повернулся и пошел к крыльцу, на ходу повторяя: — Русская армия… Русская армия…
Глава шестнадцатая
Зинаида так крепко ухватилась за плечо Прокопия, что тот, почувствовав боль, стал вырываться. Ей стало страшно. Только теперь, увидев наполовину разбитый, а наполовину сгоревший самолет, она испугалась. Ей казалось, что те, чужие, с автоматами и рацией, несколько часов назад встретившиеся им на дороге, все еще здесь. Они просто прячутся. Ловко маскируются и наблюдают за ними. И про этот самолет, рухнувший с неба, как видно, в начале лета, или даже зимой, они тоже знают. Знают и то, что они с Прокопием, как бы ни кружили по лесу, а придут непременно сюда, к самолету. Потому что лучшего ночлега сейчас в лесу не найти.
Прокопий наконец вырвался и побежал вперед. Она хотела окликнуть его, предостеречь, чтобы был осторожен, но побоялась и этого — голос слишком громко прозвучит в вечерней тишине леса, и его могут услышать те, кого она продолжала бояться больше всего.
Самолет был немецкий. На фюзеляже и единственной уцелевшей плоскости виднелись бело-черные кресты. Корпус, видимо, при падении раскололся пополам. Шасси, похожие на лапы хищной птицы, вошли глубоко в землю. Часть уцелевшей плоскости то ли обгорела, то ли была ободрана. Зиял внутренний каркас. Но и он был изрублен и искорежен.
— Ну, что там? — шепотом окликнула Зинаида Прокопия, который уже протиснулся в разлом корпуса самолета и пытался разглядеть его изнутри.
— Керосином пахнет, — отозвался Прокопий.
Вечер опускался на лес быстро. Казалось, что кто-то небрежной рукой рассыпал повсюду чернильный порошок, и он теперь, попав на заиндевелую, заснеженную траву и покрытые изморосью кусты и деревья, начал расплываться, заполнять пространство, уменьшая его в размерах.
Рука Прокопия вскоре исчезла. С минуту он возился внутри самолета, и вскоре Зинаида снова увидела его в проломе. Он лез назад, пятясь и волоча за собой что-то тяжелое. Зинаида подбежала, ухватилась за брезентовую лямку и тоже потащила.
— Что это, Прокош? Какие-то мешки?
— Парашюты. Там, внутри, один летчик лежит…
— Мертвый?
— Конечно, мертвый. От него почти ничего не осталось. Один скелет. Он даже не воняет.
Они выволокли парашюты.
— Давай факел сделаем.
— Нельзя тут зажигать. Бензин. Может взорваться.
— Самолеты заправляются не бензином, а керосином. Керосин не взрывается.
— Зачем нам туда лезть? — снова испугалась Зинаида. — Давай заночуем здесь. Разведем костер. Укутаемся парашютами и будем спать возле костра.
— Не бойся.
— Нет, не ходи больше туда. Завтра утром, когда рассветет, посмотрим. — И, помедлив, спросила: — Он там один?
— Кто? Мертвяк? Я видел одного.
Они развели костер возле фюзеляжа, рухнувшего на землю и уже обросшего травой самолета, нагребли листвы, натаскали лапника. Когда пламя стало одолевать наваленный кучей хворост и озарило корпус самолета, они принялись разбирать парашюты. Серебристо-белый парашютный шелк казался влажным, холодным, как дюраль корпуса самой машины. Но костер делал свое дело. Пламя играло на поленьях, охватывало сухой хворост и разбрасывало вокруг тепло. Вскоре их лежанка нагрелась. Зинаида подоткнула шелк, чтобы он случайно не загорелся от углей, стреляющих из костра. Прокопий, свернувшись калачиком, вскоре засопел. А она еще долго не смыкала глаз. Прислушивалась к обступившей их со всех сторон ночи, к лесу, привставала на локте и оглядывалась по сторонам. Она знала, что если уснет и она, то они станут совсем беззащитными. Это ее доводило до ужаса, и она решила изо всех сил крепиться, не спать. Но никто не собирался беспокоить их сон и нарушать одиночество. Эта мысль пришла вскоре, и она приняла ее с тем внутренним спокойствием, с каким принимают неизбежное. Тепло обнимало ее усталое тело, и, уже не в силах сопротивляться, она положила голову рядом с головой Прокопия, чтобы чувствовать его дыхание, и мгновенно уснула.
Ночью Зинаида несколько раз просыпалась. То ей казалось, что кто-то подошел к ним, наклонился и смотрит, пытаясь разглядеть их лица. То будто слышала чьи-то шаги. Что их ночлег со всех сторон обступили волки и жадно нюхают воздух и вот-вот набросятся. Всякий раз она с трудом разрывала болезненную пелену тревожного сна и со страхом прислушивалась к ночи, которая то вздыхала, то потрескивала вокруг, то надолго замирала, словно ей и не было никакого дела до того, что здесь, посреди леса, под березой со срубленной макушкой, рядом с упавшим самолетом ночуют двое заблудившихся и выбившихся из сил путников. Зинаида пересиливала себя и успокоенно понимала, что и в действительности никого здесь, кроме них, нет, что просто прогорел костер, и холод забирается под парашютный шелк и будит ее. Она вылезала из теплой «берлоги», бросала на мерцающие угли охапку хвороста, придавливала его сверху березовыми палками, которых они с Прокопием натаскали с вечера, и, дождавшись, когда яркий красноватый свет пламени снова овладевал принадлежащим ему пространством, залезала обратно к Прокопию, осторожно обнимала его и тихо засыпала, чувствуя на щеке его ровное, теплое дыхание.
Утром, еще в сумерках, они встали, разворошили угли и поставили котелок с водой. Неподалеку, в ольхах, зеленело, курилось туманом нетронутое захватами небольшое болотце. Подпитывал его родник. В нем и набрали воды. А котелок Прокопий еще вечером нашел в самолете вместе с коробкой медицинской аптечки.
Рассветало быстро. Небо сияло, румянилось с восточной стороны, и звезды с каждой минутой становились все более тусклыми и невыразительными. День обещался быть солнечным. И Зинаида, хлопоча возле костра, уже сообразила, какую они вчера впотьмах сделали ошибку: они отклонились слишком влево, испугавшись дороги, после встречи с тем загадочным отрядом, стали кружить и в конце концов оказались здесь. Дорога лежала правее. Теперь Зинаида точно знала, как идти. Прямо на восход солнца. Так они вначале найдут дорогу, а потом пойдут вдоль нее к Прудкам.
— Мам, — позвал ее Прокопий, который тем временем, несколько раз обойдя самолет вокруг, снова протиснулся в пролом, — а тут их двое.
— Не трогай ничего, — сказала она. — Там могут быть бомбы.
— Нет тут никаких бомб. Но кое-что я нашел.
Зинаида так и не осмелилась заглянуть в самолет. Беспокойно прислушивалась к возне Прокопия, ждала. Чуть погодя Прокопий выбросил в пролом на траву еще один плоский котелок, фляжку, обшитую серо-зеленой материей, планшет с зеленой картой, на которой были сделаны карандашные пометки — красные ломаные линии и заштрихованные кружки. Вскоре появился и сам, держа в руках тяжелую кобуру из черной кожи.
— Вот, пистолет. Хочешь посмотреть?
— Зачем он нам? Брось его в болото, — сказала Зинаида, когда Прокопий, присев на корточки, расстегнул петельку кобуры и вытащил из нее черный пистолет с длинной косой рукояткой и тонким стволом. И, видя, что мальчик не послушает ее, что он, как зачарованный, любуется своей находкой, подошла к нему: — Ничего не нажимай. А то стрельнет.
— Он на предохранителе. Мам, давай возьмем его.
— Зачем? Мы ведь стрелять не умеем.
— Разве дядя Саша тебя не научил?
— Он научил стрелять из автомата.
— Из пистолета проще. Я умею. Видел. Дядя Саша показывал. Правда, у него был наган.
Они сложили все найденное в самолете добро в вещмешок. Пистолет Зинаида сунула за пазуху. Решила держать его при себе.
Но перед тем, как пуститься в путь, они собрали парашюты и затащили их в самолет. Прокопий предложил:
— Давай разок стрельнем.
Зинаида достала пистолет. Прокопий показал ей, что делать, как взводить, как ставить и снимать с предохранителя, как целиться.
— Как целиться, я сама знаю. — И Зинаида прицелилась в бело-черную свастику на фюзеляже, в самую ее середину.
— Смотри, держи крепче, — наставлял ее Прокопий.
Сухо и раскатисто треснул выстрел, и пуля пробила дюраль, ударилась во что-то внутри, и самолет загудел своим пустым чревом.
— Получилось, — одобрительно покачал головой Прокопий. — А теперь дай я разок пальну. Поставь на предохранитель. Я сам сниму. Я все умею.
Бахнул еще один выстрел, и еще одно отверстие появилось в фюзеляже рядом с первым.
— Ничего сложного, — деловито сказал Прокопий, поставил пистолет на предохранитель и, перехватив его за ствол, протянул Зинаиде. — Теперь мы вооружены, и нам ничего не страшно.
Хорошенько поев у костра и попив кипятку с блинами, они обошли самолет и направились краем поляны прямо на солнце. Солнце уже взошло. Давно погасли последние звезды. На другой стороне неба, на западе, обтаявшей, хрупкой льдинкой белела прозрачная луна. Ночью она стояла где-то за деревьями, и Зинаида ее не видела. Негаданная и страшная ночь была позади.
Вскоре они спугнули стаю тетеревов, и те, торопливо хлопая тугими крыльями, потянули между деревьев. Зинаида сразу догадалась — там просека. Они свернули, продрались через заросли жимолости и действительно выбрались на просеку.
— Дорога, — облегченно вздохнула Зинаида и начала перевязывать сползший с головы платок.
— Мам, а следов тут нет. Никого тут не было. Может, пойдем по дороге?
— Пойдем, — кивнула она и огляделась. — Только осторожно. Разговаривать — шепотом. Если что — сразу беги в лес. Я — за тобой. Беги и не оглядывайся. Если потеряемся, сиди и молчи. Не бойся. Мы потом друг друга найдем.
Еду утром она разделила на две части. На всякий случай. Пистолет, который теперь оттягивал пазуху, беспокоил ее. Она согласилась взять его только потому, что в лесу появились стаи диких собак. Несколько раз они появлялись и возле хутора. Иван Степаныч отпугивал их. Но они уже не оставляли в загоне без присмотра овец. Ближе привязывали коров. Не выпускали из хлевов телят. Собаки кормились вблизи фронта и дорог трупами лошадей и людей. Иногда, в поисках добычи, забегали в леса и вытравливали на своем пути все живое. Такую стаю прошлой зимой встретила Пелагея. Хорошо, что у нее оказался автомат и она не испугалась…
Дорога уже начала зарастать молодыми побегами. Расчищали просеку зимой, деревья рубили прямо в снегу, и пни теперь торчали высоко. Следов действительно нигде никаких не было. Только однажды из боковой лощины на просеку вышел широкий лосиный след, потоптался и потянулся по колее, но вскоре свернул в такую же укромную, заросшую ивняком лощинку и исчез. Иван Степаныч говорил, что до войны лоси часто выходили к озеру, на водопой, а теперь ушли. Куда они могли уйти, если война гремит повсюду? Куда-нибудь далеко, в другие леса, где войны нет, думала Зинаида.
Впереди показались знакомые места. Чернел обвалившийся навес с пожелтевшими еловыми лапками. Широкий дощатый стол под огромной елью и жердевые лавки, заструганные грубо топором. Они вышли к складам, где в прошлую зиму прятался отряд Курсанта. Зинаида смотрела по сторонам, с радостью узнавая все и мгновенно вспоминая и лица, и голоса тех, о ком скучало ее сердце. Но увидит ли она их вновь, услышит ли когда-нибудь эти дорогие ей голоса? Некоторых уже — никогда. Она сдержанно, с дрожью в горле вздохнула и посмотрела на Прокопия. Тот тоже внимательно смотрел по сторонам и вдруг сказал:
— Мам, помнишь, мы с тобой тут опенки собирали? И я в подземелье провалился…
Они рассмеялись. Обнялись. И пошли в сторону вырубок. До Прудков оставалось всего ничего.
— А за солью? — спросил Прокопий Зинаиду.
— Соли, может, в деревне раздобудем. Вход там засыпан. Ты же видел.
— Раскопать можно.
— Если в деревне соли нет, то будем копать.
Глава семнадцатая
Если они одни, то ждать можно спокойно. И минуту, и час. Тот, последний, которому Воронцов еще не подарил свою пулю, тоже замер и тоже ждет. Но он ждет другого. И надежды у него другие. Потому что он не видит ничего, кроме леса впереди, редких кустов, заросших травой, с первыми морозами превратившейся в солому и будылья, да своих товарищей, которые истекали кровью вокруг него. Это, конечно, не прибавляло ни сил, ни смелости. Но, самое главное и самое опасное для него, он не видел стрелка, который тремя выстрелами выбил почти всю группу и теперь охотился за ним. Правда, его могла достать одна из автоматных очередей. Но расстояние… Расстояние, которое разделяло их, уменьшало шансы того, у кого в этот момент оказалось оружие ближнего боя, и увеличивало шансы того, у кого была винтовка.
Воронцов неподвижно стоял между двух кустов, упершись локтем в колено и держа на мушке узкий коридор луга и зарослей кустарника. Где-то за теми ивами замер последний автоматчик из группы «древесных лягушек». Он успеет взять его на мушку, даже если тот сейчас появится не там, где Воронцов его ждет. Главное, не шевелиться. Первое, что может подумать последняя «лягушка»: стрелок убит автоматной очередью. Второе: ушел, тихо уполз в лес и ушел. Но оставалось и третье, самое опасное. Но «лягушка» не уверена ни в одном, ни в другом, ни в третьем. А Воронцов знает точно: немец жив, лежит где-то там, в сотне шагах от него, за кустами, и тоже ждет.
Снова застонал раненый. Но уже тихо. Стоны раздавались через одинаковые промежутки времени, но все тише и тише. Надо ждать… Ждать… Не двигаться… Окаменеть… Воронцов почувствовал, как от напряжения поскрипывают шейные позвонки. Шевельнул пальцами — нет, все в порядке, руки не затекли, не онемели, вполне послушны и готовы мгновенно исполнить любую его волю.
Раненый наконец затих. Только ветер гулко гулял по верхушкам сухих трав, теребил остатки листвы на ивах. Сорока вновь зачекотала в лесу. А может, Воронцов просто не обращал на нее внимания, весь поглощенный схваткой. Краем уха он прислушался. Он-то знал, что именно теперь сорочий гам тоже мог стать частью схватки, которая еще не закончилась. Сорока явно кого-то заметила и сопровождала. Но на этот раз она подняла переполох не в лощине, откуда пришли «древесные лягушки», а слева и немного позади него, почти там, куда ушли танкисты. Воронцов замер, прислушался. Если четвертый немец успел отползти и теперь обходит его, он это услышит. Но ничто, ни единый звук не нарушал гулкого шороха травы, придавленной ветром. Казалось, что никого, кроме ветра, и не было здесь в эти сдавленные ожиданием мгновения. Даже его, Воронцова, с винтовкой, вскинутой к плечу, тоже здесь не существовало. Только ветер, трава и кустарник с необлетевшей листвой. Даже сорока затихла. И Воронцов, не выдержав напряжения, начал медленно поворачивать голову. Там, левее, в березняке, мелькали фигуры танкистов. Видимо, услышав стрельбу, охранение вернулось. Воронцова охватило беспокойство: танкисты бегут гурьбой, возможно, прямо на выстрел и затаившегося автоматчика. Но останавливать их было уже поздно, да и себя он мгновенно бы выдал. И тогда, понимая, что все произойдет в ближайшую минуту-две, а может, и гораздо быстрее, Воронцов принял мгновенное решение: он начал медленно вставать, держа винтовку наготове. Глаза его ощупывали каждый бугорок впереди, каждую ветку зарослей густого кустарника, где несколько минут назад он потерял из виду четвертого немца. Танкисты тем временем приближались, охватывая луг слева своей короткой цепью. С ними был и младший сержант — его голос Воронцов услышал отчетливо: Демьян спрашивал танкистов, где они выходили, а потом скомандовал: в цепь. Воронцов распрямил спину и уже стоял во весь свой рост. Левая рука, поддерживающая холодное цевье винтовки, начала дрожать, и бурые наплывы луговой травы, приближенные сильной оптикой прицела, задрожали еще сильнее.
— Обходи левее! — послышался голос Демьяна.
И тотчас из-за куста привстал и замер со вскинутым автоматом осторожный, как рысь, человек. Он выжидал, когда танкисты, явно не видевшие его, подойдут на расстояние верной очереди. Приклад автомата был откинут. Немец рисковал. Но это выдавало в нем опытного и хладнокровного воина.
Воронцов подвел уголки прицела под обрез кепи, потом опустил еще немного и плавно нажал на спуск. Немец вскинул над головой автомат и опрокинулся на спину.
Танкисты один за другим попадали в траву. Замерли. Но вскоре Воронцов услышал их радостные голоса:
— Командир! Живой!
— Двоих завалил!
— Троих! Ну, ворошиловский стрелок!
Они подбежали к нему, запыхавшиеся, улыбающиеся.
— Николаев, — тут же распорядился Воронцов, — займи позицию вон там. Следи за лощиной. Демьян и ты, Штыренко, давайте быстрей их уберем отсюда. В лес. Их надо спрятать.
— Командир, ты займись оружием, а мы со Штырем сами управимся. Скажи только, куда носить.
Воронцов собрал автоматы, отстегнул магазинные подсумки, снял ранцы.
— Там, дальше, четвертый, — указал он Демьяну в сторону лощины.
— Ну, командир, навалил ты гансов! Четверо!
Минуту спустя, когда они отошли в лес, оставив на опушке Михайлова, он услышал такой разговор Демьяна и Штыренки:
— Обрати внимание, Штырь, все трое убиты в шею или в горло.
— У этих двоих — пуля вон куда вошла, под ухо. А у этого кадык оторвало. И где наш командир так стрелять научился?
— Курсант. Там их основательно учили.
— Поросят так бьют.
— Каких поросят? — переспросил своего командира Штыренко.
— Когда, к примеру, откормили большого поросенка и резак не осмеливается к нему подойти, то стреляют из ружья. Бьют как раз вот сюда, под ухо. Тогда точно — наповал.
— Понятно. Слышь, Демьян, а ты не знаешь, почему наш командир в курсантах ходит? Почему не лейтенант? Вон как воюет! И командует толково.
— А ты сам его спроси.
— Да неудобно как-то.
— Неудобно знаешь что?
— Да знаю, — засмеялся Штыренко. — Как говорил наш мехвод Васек Китаев, неудобно только через смотровую щель…
Демьян покачал головой и посмотрел на своего заряжающего:
— А ты, Штырь, наверно, все же пробовал…
Они рассмеялись.
Воронцов подошел к ним, когда они уже сняли дерн и начали углубляться в сырую землю.
— Глубоко не копайте. Надо спешить. — Он вытащил из-за голенища нож, спустился в лощину и нарезал ивовых веток.
— Потом сверху набросать… Если будут искать, то, конечно, найдут. Но если им не до того, то и так сойдет.
Демьян торопливо выбрасывал из ровика землю. Вскоре его сменил Штыренко. А Демьян обошел немцев вокруг и кивнул лопатой:
— Обужа на них исправная. А, командир? А у нас половина отряда — разутые. И куртки у них хорошие. Сюда бы Золотарева. Он бы быстро инвентаризацию произвел.
— Вот что, Демьян, давайте быстро снимайте с них всю амуницию. Тела — в яму, а форму свяжите ремнями, по комплектам. Она нам еще очень может пригодиться.
— Бинокль-то возьмите, товарищ командир. Это ваш трофей, законный. — И Демьян протянул Воронцову бинокль. — Видать, офицер. Вон у него какие нашивки.
— Обер-ефрейтор, — определил Воронцов.
— Это что же, старший ефрейтор, что ли?
— Скорее, младший сержант. А петлицы, видите, какие? Руны. СС.
— А я думал, связисты или что-то в этом роде. Может, думаю, электрики какие-нибудь… — И Штыренко снова налег на лопату.
— Ну да, Штырь, — тут же усмехнулся Демьян, — строители Днепрогэса.
— Младший сержант, а с биноклем. У нас во всем танковом батальоне всего три бинокля. А в пехотном батальоне, наверное, только у одного комбата.
Воронцов взял бинокль и пошел к опушке, где сидел на корточках за кустом крушины часовой.
— Михайлов, ну что?
— Все спокойно. Даже сороки не трещат. Напугали вы их своей стрельбой, товарищ командир.
— Стрельбы было много. Это верно. Но я стрелял мало.
— Всего четыре раза, — засмеялся танкист и смерил расстояние отлежавших в траве тел до позиции Воронцова.
— Иди, помоги ребятам. А я пока тут подежурю.
Отсюда хорошо просматривалась противоположная опушка, косяк ельника, выходившего к лощине и гати, сама гать с торчащими вверх обломками березовых жердей. В бинокль Воронцов увидел даже черные султаны кугушника и зеленые закраины болотины, до которых еще не добрались октябрьские ночные морозы.
Ветер затих. И только тугой каленый сквозняк протягивал вдоль опушки, колебля на окрестных осинах последние пятачки красновато-желтой меди. Разом потемнело, как перед сумерками, и посыпала снежная крупа. Она со звоном секла по траве и березовым ветвям, сыпалась вниз, заполняя ложбинки и канавки, оставленные пробежавшими здесь людьми и временем. Быстро же эта осень перешла в зиму, подумал Воронцов.
Вскоре за ним прибежал Штыренко и доложил:
— Все исполнено, товарищ командир.
Воронцов подобрал с земли винтовку, положил ее на колени и хотел было встать, но вскинул к глазам бинокль и решил еще раз осмотреть противоположную опушку и гать. И тут же сказал танкисту:
— Штыренко, замри. А теперь тихо, без резких движений, — на землю.
— Что там, товарищ командир? Опять немцы?
— Может, и не немцы, но то, что по нашу душу, — это точно. Ползи к ребятам, скажи, чтобы заканчивали. Через пять минут уходим.
Снежная крупа перешла в густые хлопья. Снова дернул и помчался по лугу ветер, захватывая остатки листвы на ивах и березах. Линзы бинокля залепляло белым, мутным, так что приходилось то и дело прочищать их. Сквозь молочную пелену снежных зарядов Воронцов все же разглядел цепь, которая медленно выбиралась из леса и выравнивалась в лощине перед гатью, всадника на сером коне в казачьей папахе, группу людей, стоявших на опушке. Он протер линзы и еще раз всмотрелся в стоявших на опушке: один смотрел в бинокль, двое о чем-то разговаривали, одеты странно — двое в красноармейские офицерские шинели, перетянутые портупеями, один в куртке «древесной лягушки» и немецкой офицерской фуражке.
Спустя несколько минут они уже бежали по лесу, держась глубоко прорезанной во мху тележной колеи. Воронцов шел замыкающим, время от времени останавливался, прислушивался. Погони он не слышал. Однажды во время очередной остановки он внимательно осмотрел свои руки, поднес их к глазам. Нет, они не дрожали. На кончики пальцев падали снежинки и тут же таяли, прозрачными струйками стекая вниз, в ладони. Он подождал, когда в ладонях соберутся лужицы, и жадно схлебнул их и не почувствовал ничего — ни жажды, ни избавления от нее. Внутри, будто стальной стержень, стояла та же твердость и холодная мысль о том, как действовать в следующую минуту.
Примерно через час они догнали свой обоз.
Нелюбин вел его лесной дорогой, выслав вперед усиленный дозор.
Остановились. Стали решать, что делать дальше.
— Распрягай коней, Кондратий Герасимович! Живо! — распорядился Воронцов. — Телеги загнать в лес, замаскировать. Лейтенанта посадите на коня. Петров, раздайте одежду и обувь всем, кто разут и плохо одет. Оружие я раздам сам. Гранаты — только тем, кто умеет ими пользоваться. Действуйте. — Затем он окликнул Степана. Развернул карту.
Дорога шла, по всей вероятности, через ту самую гать, которую они миновали стороной, и вела в село Маковец, которое было обозначено на карте как крупный населенный пункт.
— Там наверняка сильный гарнизон. До фронта — километра три-четыре. Если они нас прижмут к этому селу, то…
— Надо изменить маршрут, — предложил Степан и показал пальцем на север.
— Глубже в их тыл? — Воронцов задумался. — Конечно, они, если даже потеряют след, будут искать нас здесь, в ближнем тылу. Да, Степ, ты, пожалуй, прав — поворачиваем резко на север. Здесь больше возможности затеряться, оторваться от погони.
Но вначале они несколько километров прошли по дороге, потом часть отряда свернула на юг, к фронту, а другая часть продолжала идти по дороге. Затем они соединились, свернули на юг, прошли с полкилометра и так же резко повернули на север. Арьергардное охранение тащило за собой срубленные молодые березки. Листва легко скрывала тропу отряда. Шли след в след, аккуратно и тщательно затаптывая глубокие лунки лошадиных копыт. Снег сыпал до самой ночи и прятал то последнее и незначительное, что оставляли люди.
Глава восемнадцатая
Но по их следу тоже шли люди. Небольшая группа в семь человек. Вел их опытный полесовщик, здешний егерь Еким. Но командовал разведкой другой человек, одетый в офицерскую шинель и казачью папаху. Обращались к нему не по званию, а по фамилии. Хотя, возможно, это была вовсе и не фамилия, а прозвище — Донец.
Когда они нашли брошенные телеги, стало ясно, что партизаны, или разведка, а может, те и другие, везли раненых. Под соломенной подстилкой на одной из телег нашли заскорузлые, грязные бинты, срезанные через край и, по всей видимости, с головы. Раненые — это всегда обуза, которая замедляет скорость движения, толкает на риск сократить путь, заставляет пренебрегать осторожностью. Лошадей они уводили с собой. Видимо, на них и везли раненых. Отряд небольшой, судя по оставленным следам, до двадцати человек. Вскоре, как и предполагал Донец, повернули к фронту. Но не все. Часть группы продолжала идти по лесному проселку. Пройдя несколько километров, отделившаяся группа вновь вернулась на проселок. Кружили. Видимо, искали проход. Потом след вдруг исчез. И, если бы не Еким, пожалуй, пришлось бы возвращаться назад и докладывать майору Радовскому, что след они потеряли. Донец представил лицо майора, его холодный взгляд. Все это сопровождалось бы какой-нибудь неуставной язвительной фразой, после которой хоть клинок о голову ломай… Лучше бы матом обругал. Но майор Радовский даже голос не повышал, и крепкое слово от него можно было услышать только в бою.
Теперь они шли медленно. Тропа, оставленная партизанами, петляла. К тому же свой след и след лошадиных копыт они затаптывали, маскировали. Снег, поваливший хлопьями, присыпал листья, и порой уже невозможно было понять, где нетронутая листва, а где придавленная армейским ботинком и перевернутая волокушей. То, что партизаны маскировали свой след волокушей, Еким тоже понял сразу. В какое-то мгновение он колебался, говорить или не говорить Донцу, что он нашел потерянный след партизан? Отряд пересек проселок, потом снова вернулся, снова пересек и некоторое время, с полкилометра, шел вдоль проселка параллельной просекой, проделанной лет десять назад лесниками. Потом куда-то свернул. Они шарили вокруг, обтаптывали каждый метр, шарили руками в мокрой листве, перемешанной со снегом, матерились, ругая и партизан, и погоду, и еще кого-то, кого не называли по имени но о ком постоянно думали. Еким начал обходить полянку и вдруг увидел свежий березовый пенек толщиной в руку. Рубили, судя по неглубоким зарубам, кинжальным ножом или саперной лопаткой. А вот и след… Еким нащупал лунки, оставленные лошадиными копытами. Разгреб листву. Лунки затаптывались, присыпались листвой, но чем дальше он шел по этой спрятанной тропе, тем отчетливее виднелись следы, оставленные не только лошадьми, но и людьми. Отряд уходил торопливо, и все следы спрятать было просто невозможно. А что, если вернуться и сказать Донцу, что и он ничего пока не нашел? Георгий Алексеевич, конечно, очень надеется именно на него, на Екима. Для того и вызвал в роту, прислал коня с возницей и солдата для охраны. Но ему-то, Екиму, зачем это все? Слава богу, летом и в начале осени, когда многих мужиков повестками призвали в армию, его военкоматская бумажка миновала. Потом пришли немцы. С ними — господин Радовский. Лес кормил семью Екима. Появились партизаны. Еким знал, где их база. Но помалкивал. Они тоже знали о Екиме многое. И тоже помалкивали. Однажды Еким предупредил их о том, что на станцию прибыл батальон егерей и несколько рот полицейских, что в ближайшие день-два будут прочесаны все ближайшие леса. И партизаны ушли, уничтожив базу. А эти были не местные. Таких Еким опасался. И лучше было бы, чтобы они исчезли из этого леса. Но они и уходят… А если не уходят? Если только пришли и ищут место для базы? Если обоснуются где-нибудь поблизости и начнут ночами ходить по деревням, уводить скот на пропитание?
— Донец, — позвал он казака, — кажись, нашел. Вот он, ихний след. Ходи сюда.
Приказ Радовского был следующим: идти по следу партизан, ни в коем случае не сближаться во время движения, и, когда те остановятся на отдых или на ночлег, точно определить их местонахождение и тут же сообщить в штаб. Для выполнения задания Донец отобрал лучших курсантов.
Теперь они шли гораздо медленнее. Но, судя по всему, и партизаны уходили не быстрее. Так что рано или поздно они их настигнут.
— Донец, — спросил Еким командира, — ребята рассказывают, что ты вчера человека зарубил. Своего. Правда, что ли?
Казак ответил не сразу. Некоторое время шел молча, хмурил брови. И, когда поднял голову, Еким заметил, как потемнели его глаза.
— Правда. — Голос казака был спокойным. — Только это уже не человек был.
— Всяк человек — человек…
— А вот не всяк! — переходя на полушепот, видимо, боясь рокота своего голоса, прервал Донец размышления Екима. — Ты мне, егерь, еще поучения апостола Павла прочитай. О том, как надо любить ближнего своего.
— Я в ваши дела не лезу, — спохватился Еким.
— А вот и правильно. — Донец остановился, широко расставив ноги, обутые в высокие яловые сапоги. И в его осанке, и твердо расставленных ногах, и в манере говорить кратко и ясно чувствовались такая сила и убежденность, такая внутренняя пружина, что Еким пожалел, начавши этот разговор. — Веди лучше живее. Знай свое дело.
Свое… Еким отвернулся и усмехнулся в бороду. Поправил за плечом двустволку и зашагал дальше. Они с Донцом шли впереди. Остальная группа — следом, шагах в двадцати. Двое — замыкающими. Донец устав знал. Люди его слушались беспрекословно. А после вчерашнего случая еще и побаивались. Екиму он был не командир. В лесу Еким всегда чувствовал себя человеком свободным. За что и любил лес. И когда Донец напомнил ему о том, что он в их разведгруппе вроде как за гончака на кабаньей тропе… Это больно задело его вольный нрав. Уйду, решил Еким. При первой же возможности. Но казак, будто заглянув в его душу, тем же спокойным полушепотом вдруг упредил:
— По сторонам не смотри. Посмеешь деру дать, первая же очередь — твоя. У меня, сам знаешь, рука клятая…
Внутри у Екима похолодело: черт, а не человек, как все равно почувствовал…
Снег стал редеть и таять. Листья под ногами заблестели, словно только что упали с осин и орешин, улеглись ровным плотным ковром. И теперь на этом пестром узоре хорошо стала заметна темная полоса тропы.
— У тебя, Еким, дети есть? — неожиданно спросил Донец, не поднимая от тропы головы.
— Есть. Трое.
— Кто? Сыны? Казаки? Иль девки?
— Два сына и дочь.
— Сколько им?
— Старшему сыну пятнадцать. Младшему — шесть. Дочери — двенадцать.
— Вот и той девчушке, на которую этот боров полез, тоже годов двенадцать. Если бы не часовой, совродовал бы. Душу бы истоптал. Такому не надо больше жить. Так-то, Еким. А у меня, браток, четверо. И все — девки. Одна другой краше. — И Донец оглянулся на егеря. Лицо его преобразила едва заметная улыбка: дрогнули губы и потеплели глаза. — Радовский хотел меня под арест посадить. А я теперь думаю: если бы все назад повернуть, я бы того кнура заднепровского еще страшнее зарубил. А с другой стороны… С другой стороны, Еким, какая мы армия? Тоже сброд. Похуже партизан. Это еще господин майор в руках держит… Идейных-то мало. В основном — так, лишь бы от войны подальше… Сегодня перекантовались, а завтра, глядишь, еще что-то подвернется… Опять шкура жива и пузо набито.
— А это что, разве не война?
— За партизанами по лесам бегать? Тоже собачья работа. Сам видишь. Вот сейчас догоним их. Обложим. Если не сдадутся, положим всех из минометов. Я уже говорил господину майору, что такая война только разлагает людей. Душа травмируется. Своих ведь убиваем. Какая ж это война? Ходить по деревням, где нас ненавидят…
Они шли весь день. Вечером, когда сгустилась тяжелая осенняя тьма, слегка подсиненная снегом, они опять потеряли след. Партизаны, скорее всего, снова резко свернули, поменяв курс. Они ведь тоже не дураки, знают, что если начнется преследование, то оно будет вестись по следу. Так что след они не только маскировали, но и умело запутывали.
— Что, егерь, обдурили они нас? — Донец сбросил с плеча автомат, потом «сидор» и, присев на корточки, начал его развязывать. — Привал, ребята. Разрешаю развести костер и сварить кулеш. У кого что есть, давайте, выгребайте.
Через полчаса, выставив часовых, разведгруппа Донца уже сидела возле костра. В котелках побулькивало, выплескиваясь на угли, и дразнящий запах тушеного мяса разносился вокруг. Тихо переговаривались. Снова стала просачиваться в реплики курсантов старая и больная тема. Донец слышать об этом не мог. И не потому, что был не согласен с тем, что говорили курсанты, а как раз потому, что и сам думал то же. Но если и он, командир разведвзвода, начнет поддакивать личному составу, то начнется самая настоящая буза. И в первую очередь развинтится дисциплина.
— Вот тебе и Русская освободительная армия, — вздохнул курсант Буханкин. — Бегаем вот по лесам, как свора борзых.
— Это точно, — поддержал его бывший механик МТС Козлов. — Гоняемся вот за своими. За что боролись, на то и напоролись…
— А за что ты боролся? Вот ты, Козлов, скажи, за что ты боролся? — Донец знал, что можно было прицыкнуть на курсантов, чтобы прижали языки и поговорили бы лучше о своих бабах. Но после рубки в Богдановом Колодезе и эта тема вызывала в нем смесь тоски и ненависти. И прежде всего к себе самому.
Какое-то время, как оказалось, совсем непродолжительное, Донец радовался своему избавлению от лагеря, от тех мук и страданий, когда кажется, что лучше вышагнуть из строя и получить пулю в спину, чем терпеть унижения, побои, вонь и смрад лагеря, тоску колючей проволоки, густо окутавшую огромный загон с пулеметными вышками по периметру и бараками в середине. И когда его вызвали к начальнику лагеря и поволокли, еще не окрепшего после ранения, двое охранников из вспомогательной роты, он вдруг понял, что сейчас что-то произойдет. Что именно? А вот что: жизнь его, Донца, с этого часа пойдет по другому, не гибельному руслу. Правда, за это придется заплатить. Но черт с ней, с платой, лишь бы выбраться отсюда, выпутаться из железной паутины колючей проволоки, вдохнуть свежего воздуха, в котором не будет ни трупного запаха, ни запаха ужаса, ни стонов обреченных и воя сошедших с ума. В кабинете начальника лагеря, кроме полковника, которого знал каждый военнопленный, сидел средних лет человек, хорошо выбритый, в тщательно подогнанном мундире пехотного офицера, и листал какие-то бумаги. Когда офицер оторвал от бумаг взгляд и посмотрел на Донца, тот сразу понял — русский. Офицер в форме пехотного майора вермахта был русским. В глазах, в лице, в очертаниях лба и подбородка было что-то родное, славянское. И когда тот предложил ему служить в новой армии, Донец сразу встрепенулся: вот оно!..
В плен он попал в начале лета. Здесь, неподалеку. 1-й гвардейский кавкорпус с остатками 4-го воздушно-десантного и полком 329-й стрелковой дивизии 33-й армии уже перевалил через Варшавское шоссе и сосредоточился в партизанском районе для последнего броска к Кирову, где занимала оборону 10-я армия. 2-я гвардейская кавдивизия, как наиболее боеспособная, в начале операции пробивала коридор, затем вместе с партизанами удерживала его. 10 или 12 июня сотню, в которой старший сержант Донец командовал третьим взводом, направили на усиление арьергарда. Вел их старший лейтенант Лучко. Снарядили их хорошо. Все понимали, куда поведет Лучко свою сотню. Подобрали лучших коней. Два взвода вооружили автоматами ППШ. Третий, взвод Донца, имел кавалерийские карабины. Подсумки набили патронами, «сидора» — сухим пайком. Поскакали. Двигались по карте. Проселками. Миновали одну деревню. Другую. В третьей встретили повозку, которой управлял пожилой санитар. В повозке раненые. «Откуда?» — «Из Подлесного. Там наших добивают. Сейчас, может, уже немцы вошли. А вы куда?» — «В Подлесную». — «Не ходите туда. Уже поздно. Только себя погубите». Приказ никто не отменял. Пошли дальше. Встретили еще двоих раненых. Из 2-й гвардейской. Два сержанта ехали на одной низкорослой монгольской кобылке, без седла. У одного голова завязана. У другого нога. Они нахлестывали чересседельником свою кобылку и молча, не отвечая на их окрики и вопросы, объехали взводы стороной, полем, и скрылись в лесу. Что делать? До Подлесного уже не больше километра. Там стоит стрельба. Старший лейтенант Лучко развернул коня: «Третий взвод! Выдвинуться вперед! Донец, выслать в деревню разведку!» Разведка ускакала к деревне и не вернулась. Тогда Донец отобрал четверых надежных бойцов и поскакал с ними сам. Выехали в поле: впереди дворы, ракиты, впадина, видимо, деревня стоит на реке, за впадиной начинается сосняк с редкими полянами, сосняк постепенно переходит в сплошной лес. Оттуда можно подобраться к деревне скрытно. А здесь, в поле, их разъезд — как на ладони. Но вскоре и так стало ясно, что в деревне идет бой. А это означало следующее: немцы сжимают коридор, ликвидируют заставы второго эшелона. Вернулись в сотню, доложили. «В бой мы ввязываться не будем, но займем оборону здесь, справа и слева от большака. С задачей — не допустить прорыва немцев в восточном и юго-восточном направлениях», — приказал старший лейтенант Лучко. Начали окапываться. Коноводы отвели коней в тыл, в овраг. Через час с небольшим по большаку прострекотал мотоцикл. Мотоциклист, видать, заметил, что дорога несвободна, что справа и слева от обочин копошатся какие-то люди. Дал длинную очередь из пулемета, лихо, на пятачке, развернулся и умчался через поле назад, откуда приехал. И вот, спустя полчаса, на большаке зарокотали моторы, залязгали гусеницы. «Танки! Приготовить гранаты!» Гранаты — тоже артиллерия. Но против танков — хреновая. Первую атаку они все же отбили. Подожгли два танка. Один танк наступал на третий взвод, и его забросали бутылками с КС уже позади окопов. А пехоту отсекли пулеметным и винтовочным огнем. Оставшиеся три танка начали пятиться. Выползли на горбовину поля, рассредоточились и начали методично крушить из своих орудий окопы взводов, вышвыривать из ячеек изуродованные тела кавалеристов, дырявить из пулеметов каски, которые торчали над брустверами. Один из снарядов угодил и в угол ячейки Донца. Донец сидел во время обстрела, прижавшись спиной к стенке окопа и обняв свой карабин. Под ногами валялись стреляные гильзы. Две обоймы расстрелял командир взвода, руководя боем на своем участке. И, видимо, плохо он замаскировал песчаный отвал, или немец оказался таким зорким, засек вспышки одиночных выстрелов, а потом разглядел и бруствер окопа. Прилетел снаряд, вспорол угол ячейки и разорвался в земле. Донец не услышал взрыва, не увидел вспышки огня, не почувствовал ни боли, ничего. Все произошло мгновенно. Очнулся от того, что кто-то, совсем рядом, заговорил по-немецки. Он открыл глаза: двое немцев ходили вдоль окопов и воронок, что-то собирали. Рядом, на дороге, тарахтел мотор грузовика. Немцы подошли к нему, о чем-то переговорили, взяли его за гимнастерку и за ремень и поволокли к машине. Когда закрывали задний борт, Донец увидел коня. Это был его Буян, под седлом, с притороченной саблей и походным мешком, в котором всегда было, кроме всего прочего, что нужно казаку вдали от дома, сумочка с сухарями да с десяток горстей овса…
— Я боролся за то, чтобы меня никакая райкомовская сволочь не обирала до нитки. Мне эти комиссары, все эти штатные болтуны с трибун, — вот здесь!..
— Да ладно тебе, Козлов, вену на лбу надувать, — прервал бывшего механика его земляк Игнаткин. — Ты злишься, что твоя жена к инструктору райкома ушла, пока ты по колхозам на тракторе колесил. Ну? Разве не так? А сам ты разве не шарил по деревням? По вдовушкам да разведенкам?
Курсанты засмеялись. Нерадостно ухмыльнулся и Козлов. И вдруг уперся взглядом в земляка:
— Ну, а ты чего сдался? Активист хренов…
— Да сдуру, — спокойно ответил Игнаткин и подбросил в костер несколько веточек, внимательно следя за тем, чтобы котелки особо не выкипали, но и не охлаждались. — Ты ж помнишь, как дело было. Ротного убило, взводного ранило, а кто-то из соседей заорал, что нас обошли… А надо было сидеть в окопах и стрелять до последнего. Глядишь, и отбились бы. Как первая рота.
Вокруг костра после слов Игнаткина установилась долгая тишина. Сидели, кто на корточках, кто на коленях, подстелив елового лапника, смотрели на угли остановившимися и опустевшими глазами, и огонь, будто жалея в них самое главное, что в каждом из них еще жило, озарял и согревал их осунувшиеся и окаменевшие лица.
Ночью, когда Донец встал проверить посты, обнаружилось, что пропали двое курсантов и егерь Еким. Один из часовых сказал, что Екима видел час назад, тот пошел в овраг по надобности и вроде бы вскоре возвратился, но по другой стежке. И Донец сразу понял, что по другой стежке в это время уходили курсанты Санников и Гуртов. Он приказал построиться, снял посты и объявил, что принял решение о возвращении назад.
— След мы потеряли. Завтра утром, если будет приказ продолжите преследование, вернемся сюда и найдем след без егеря. Направ-во! Козлов, ты — замыкающий. Шагом марш, — скомандовал он. Даже в лесу надо было держать в людях дисциплину, а в подразделении порядок. Это он любил и умел. Это, как он считал, ему удавалось. За это его ценили и в РККА, и здесь в РОА.
Но на самом деле Донец боялся, что к утру у костра он останется один. Более того, уходя, кто-нибудь ему сунет, по старой памяти, кинжальный штык под ребро. А вспомнить ему курсантам было что. Гонял их до седьмого пота. И в морду мог дать, если замечал, что кто-то отлынивает или отстает.
Глава девятнадцатая
Родная деревня встретила путников тишиной, запахом дыма и печеного теста, серыми полями, наполовину засыпанными снегом, который вдруг обвалился на землю, укрывая, упрятывая от человеческого глаза не только поле, дальний лес и овраги, заросшие кустарником, но и небо. Идя мерзлой полевой дорогой, откуда всегда открывался вольный вид на все Прудки, на все ее концы и, конечно же, на главную улицу, Зинаида и Прокопий смогли насчитать только четыре постройки. Они невольно остановились и начали всматриваться в очертания родных мест, стараясь понять, что произошло здесь прошлой зимой. О многом они уже знали из рассказов. Но увиденное оказалось куда горше всех их ожиданий. У Зинаиды вдруг начали подкашиваться ноги, а в груди сдавило, так что стало трудно дышать. Прокопий крутил головой и ничего, казалось, не понимал. Он смаргивал слезы, растирал их по щекам, снова смотрел через лес. Случись такое год назад, он заревел бы в голос. Но теперь он понимал, что это можно перетерпеть.
— Где наша хата? — вскрикнул он и тут же поник: — Тоже сгорела! Мам, нашего дома больше нет!
— Подожди, Прокоша, — Зинаида сжала его руку. — Не кричи громко. Дай отдышаться.
Ей хотелось присесть где-нибудь, отдохнуть. Ноги не держали, и все тело охватила неимоверная усталость, которую она не чувствовала во всю дорогу от хутора до этого поля. Такое она уже испытывала однажды — во время похорон Пелагеи.
Но чем ближе они подходили к околице, тем спокойнее становилось на душе. В овраге копошились люди. Там были вырыты землянки. К землянкам протоптаны тропинки. Двери некоторых землянок были распахнуты. Из труб, вставленных в песчаные холмики, уже схватившиеся за лето реденькой дерниной, виднелись закопченные трубы. Правее, на горке, торчали черные, казавшиеся неимоверно высокими трубы печей. Там Зинаида разглядела одну, с высоким плечом. Ее она знала. Там когда-то нянчилась с Пелагеиными детьми. Поила их из соски, укладывала спать. А выше, за садом, наполовину уцелевшим, виднелись две постройки. Значит, риги тоже уцелели. И над ними тоже курились голубые дымки. Когда спустились ниже, стал виден пруд. Там стучали топоры, часто, будто впереймы один другому били тугую, как колонна, древесину. Зинаида и Прокопий свернули туда. За обгоревшими ракитами виднелся край сруба. На углу сидел Петр Федорович и старательно зарубал торец бревна, при этом что-то говоря своим напарникам, деду Кире и Ивану Лукичу. Старики засмеялись. Но смеялись они над кем-то другим, возившимся внутри сруба.
— Дядь Петь! — послышался из глубины белого сруба возмущенный знакомый голос. — Уйду я из вашей бригады. Вот последний венец положим и уйду.
— А куда ж ты, Иванок, пойдешь? — засмеялся Иван Лукич, прихватывая углом топора бревно и подкатывая поближе. — Бригада-то у нас в Прудках всего одна.
— На войну уйду. Надоело мне тут с вами, стариками.
— А кто ж матери хату рубить будет? Мы, старики? Отнюдь. Плотницкая работа, Иванок, — дело молодецкое! Так что Прудки придется отстраивать не кому-то, а тебе. — И Иван Лукич смачно всадил свой добела натруженный топор в негожий обрезок бревна, валявшийся около.
Иванок поднял на леса торец короткого венца, который он ладил, чтобы положить от угла к оконному проему, ловко толкнул его вверх. Петр Федорович поймал его топором и, как багром, потянул к себе, перекатил и ладно положил на место.
— Мужики! А Иванок у нас мастер что надо! Гляди, как ловко потемок рубит! И не сколол нигде, и верзеек не наделал! — И Петр Федорович, улыбаясь, стукнул обухом по бревну. — Киря, настилай мох, да погуще, поровнее. Лишнее потом топориком обрубим. Так что, парень, быть тебе мастером по плотницкому делу. А что? Работа прибыльная. Девки опять же любить будут. Старики — уважать. Что еще мужику в деревне надо?
Иванок выглянул из-за гладко выструганного дверного косяка, улыбнулся, сияя отколотым зубом, и громко, радостно закричал, так что старики чуть не попадали со сруба:
— Дядь Петь! Зинка пришла!
Жили прудковцы в четырех уцелевших хатах, двух овинах и землянках, вырытых в склоне оврага. Дома в середине деревни уцелели только потому, что в них размещался штаб и казармы немецких артиллеристов. Все остальное сожгли.
Вечером Зинаида сидела у железной печи, вырубленной из немецкой бочки, слушала рассказ родителей о том, как они перебедовали тут лето и осень. Как принялись было отстраиваться. Как снова пришли немцы, батарея тяжелых гаубиц. Орудия стояли в лощине за деревней. Там немцы отрыли для них окопы, замаскировали. Батарея почти каждый день вела огонь в сторону Варшавского шоссе. Снаряды и провиант возили из Андреенок. Чтобы доставить снаряды к орудиям, через лощину вымостили лежневку.
— Вот и замостили они себе дорогу нашими иструбами, — вздохнул Петр Федорович. — Все лето день и ночь на углах сидели. Торопились. К зиме народ в тепло переселить. — Он с шипением дотянул сырой кончик самокрутки, кинул его в сияющую клубящимся пламенем щель железной дверочки, вздохнул: — Все прахом пошло. Все наши труды. Обрезали углы и — в болото. Так наши хаты теперь там и лежат.
— Ничего, тятя, — положила на отцовское плечо свою голову Зинаида. — Ничего. Все устроится. Зиму бы перезимовать, а там…
Младшая всегда была строже Пелагеи. Та, бывало, и поцелует ни с того ни с сего, и обнимет под настроение, и слово ласковое скажет. То-то над ней никогда ни тучки не клубилось, ни облачка. Война, ведьма, все спутала. И теперь Петр Федорович прижал теплой шершавой ладонью ее голову и почувствовал, что слезы жалости клокочут в горле. Но сдержался, пересилил свою минутную слабость, сказал:
— Перезимуем и эту зиму. Картохи мы выкопали и в ямке сразу, под горкой, схоронили. Сверху старыми головешками завалили. Пускай там до весны полежат. А на еду тут прикопали, прямо в овинах. Прокормимся. Скотину, правда, они не тронули. Офицер у них тут строгий был. Коровы все целы. — И снова погладил голову дочери, младшей своей, единственной оставшейся на свете. — И как ты осмелилась пойти своего курсанта искать? Девочка-то, говоришь, на него похожа?
— Вылитая, тятя.
Мать слушала их разговор и утирала косяком платка глаза. Всхлипывала:
— Палашенька, детонька ж моя… — И крестилась на лампадку, теплым светлячком мерцающую в углу, убранном расшитыми ручниками.
— Вот так и живем, дочушка. А ты ж надолго ль?
— Денечка два поживу, — улыбнулась она.
— А пистолет у тебя откуда?
— В лесу самолет сбитый лежит. Немецкий. Прокоша нашел возле убитого летчика.
— Осторожней с ним, с пистолетом-то. Артиллеристы ушли, а жандармы иногда появляются. Передовая тут недалеко. То лес прочесывают, то по дорогам на моциклетах летают туда-сюда. Прокоп-то подрос. На мамку похож.
— Он, тятя, на тебя похож.
— Ну а вы ж — чьи? Мои и есть. Вон, погляди, глаза-то у всех — бороницынские!
— А ты, тятя, все еще в старостах числишься?
— В старостах. И не только числюсь. Служить тоже приходится. Поначалу-то нас по особой статье числили. Партизаны, мол. А я им: в лесу хоронились, потому как казаки бесчинствовали. Ногами потопотали, но потом успокоились и вроде поверили. О хуторе, слава богу, они так и не прознали. Когда артиллерийская часть здесь стояла, нам даже легче стало. При них полицаи из Андреенок перестали ездить. Так что некому здесь было нюхать. По краю леса окопов понарыли. Там у них охранение располагалось. Пулеметы. Так что леса они не боялись. Орудия то куда-то увезут, то назад приволокут. По нашим хатам они легко перетаскивали их через лощину.
— А если снова вернутся?
— Пускай вертаются. Мы ту гать не трогали. Лежат там наши венцы, гниют. Да они теперь негожие. Разве что на дрова. Порезали они их. Как им надо было, так и порезали. Ты нам с матерью лучше про внучку расскажи. — И Петр Федорович улыбался и то гладил голову дочери, то трогал за ноги спящего старшего внука. — Не переводится наша порода на земле. Вот пройдет все это, закончится бойня, и снова жизнь успокоится. Наладится жизнь. Отстроимся. Главное, что? Главное, дочушка, фундаменты целы. А на них стены поднять — дело недолгое. В день по венцу — вот тебе за две недели и хата. А там мужики вернутся, тоже за топоры возьмутся. Отстроимся. Еще как отстроимся. Еще засияют Прудки новыми стенами и крышами.
— Иванок когда вернулся?
— Летом. Тифом переболел. Ох бойкий малый! А почему ты спросила?
— Он с Сашей был. Там, под Вязьмой. Саша считал, что он погиб.
— Иванок рассказывал, что воевал в отряде Курсанта. А мы ему не поверили. Уж очень он лихо врал.
— Не врал он. Саша о нем рассказывал: Иванок и в разведку ходил, и через линию фронта.
— Вот он и рвется теперь назад. Отхлиял, сил поднабрался на мамкиных картохах. Попробовал ворон крови… Такой же станет, как и Курсант. — И Петр Федорович долгим взглядом посмотрел на дочь.
— Каким? — вскинула глаза Зинаида.
— А таким… Вот по нем и скучает. Ты пистолет-то свой оставь. Ни к чему он тебе. Я его в огороде закопаю. От греха подальше.
Петр Федорович расспрашивал о стариках Сидоришиных, об их невестке и Степане. Нет ли от него вестей? Потом заговорил о внуках. И вдруг сказал:
— Оставляй Прокошку у нас. Мы ж тут тоже не голодаем. Прокормим.
— Ох, тятя, не знаю… Он у нас там на хуторе помощник. За ребятами присматривает. Воду носит. Да и назад мне без него — страшно…
— А то бы и перезимовал у нас с бабкой. Слышь, Зинаида, что говорю тебе?
Зинаида вздохнула. И отца с матерью ей было жалко. И через лес одной идти страшно.
Так и уснула с беспокойной мыслью о завтрашнем дне.
Но утром все решилось в одно мгновение.
Еще затемно, когда в овраге и в других укромных местах стояли студеные неподвижные сумерки, в овин забежала соседская девочка и с порога закричала:
— Немцы приехали! Говорят, всех парней и девушек на станцию погонят!
Петр Федорович швырнул в угол топор, метнулся к окну. Мимо, по черной выбитой стежке, по которой жившие в овраге, в землянках, носили из пруда воду, пробежал Иванок.
— Зина! Быстро одевайся! Забирай Прокопа и — в лес! А я пойду, может, задержу их. — Руки у Петра Федоровича ходили ходуном, и он никак не мог застегнуть пуговицы полушубка.
Зинаида соскочила с лежанки, сунула ноги в валенки.
— Прокоша! Сынок! Проснись, уходим!
Прокопий натянул штаны, толстый вязаный свитер. Ощупал вещмешок.
— Мам, а где пистолет?
Выскочили, побежали в заросли молодого сосняка. А в овраге уже голосила, истошно кричала деревня. Лаяли овчарки.
— Мам, они с собаками! Бегом надо! Бегом!
А у нее от страха подкашивались ноги, перехватывало дыхание. Уже когда выбежали к вырубкам, увидели: кто-то метнулся впереди, в заросли орешника. Зинаида узнала рыжую собачью шапку Иванка и закричала:
— Иванок! Иванок! Погоди!
Иванок вышел из-за дерева, когда они пробежали мимо.
— Теть Зин, вы куда?
— В лес. Пойдем с нами.
Иванок молчал. Смотрел на них бешеными прыгающими глазами и молчал.
— Они всех угонят. Там сестра… Она на колодец ушла. А они как раз в деревню заехали.
— Что ты хочешь? — спросила его Зинаида.
— Я без Шуры не могу уйти.
— Пойдем. У них собаки. Начнут искать, и нас найдут.
И она, крепко ухватив за руку Прокопия, потащила его в лес.
— Я вас догоню! — крикнул им вслед Иванок и кинулся назад, к вырубкам.
Винтовку, с которой Иванок весной пришел домой после нескольких недель скитаний по лесам и глухим деревням, он спрятал в овраге, в дровах, в круглой кладне под ракитой. И когда мать вбежала в землянку и закричала: «Сынок, немцы! Убегай в лес!» — он тут же вспомнил о своей похоронке и кинулся было разбирать крадню. Но вспомнил о сестре. Шура несколько минут назад взяла ведра и пошла по воду. Но там, возле пруда, уже гудели моторы и слышались команды на немецком языке. Все. Поздно. Он уже ничего не сможет сделать. Если это действительно облава, то Шуру уже схватили. И он побежал к лесу. В сосняке оглянулся: из овина, в котором жили старики Бороницыны, выскочили двое и, застегиваясь на ходу, тоже побежали прочь из деревни. А в овраге и возле пруда, где стояли уцелевшие во время пожара дворы, уже началась суматоха, поднялся вой и крик.
О том, что немцы и полицаи, в деревнях проводили облавы на молодежь, он узнал еще весной, когда после гибели отряда Курсанта пробирался в свои родные Прудки. Дважды попадал в такие облавы, и всякий раз удавалось ускользнуть. Он знал, как в таких случаях действовали жандармы и полиция: обычно заходили в деревню с двух сторон, расставляли посты на всех дорогах и тропах и потом уже начинали с первого двора. Перетряхивали всю деревню. Подходящих по возрасту сгоняли в одно место, переписывали пофамильно. Отпускали только убогих инвалидов. Когда шурудили в дворах, заглядывали всюду: и в чуланы, и в кубела с салом, и в лари с мукой и крупой. Грабили все, что попадало под руки. А иногда вытворяли и что похуже.
Иванок пробежал по оврагу, выбрался на зады, а там, вот он, сосняк. Останавливаясь и прислушиваясь к крикам в деревне, он уловил, что и те двое, выскочившие из бороницынской риги, бежали по его следу. Он знал, кто это: тетя Зина с племянником. Некоторое время он следил за ними, крался, перебегая полянки, рядом. В лесу он их окликнул.
Глава двадцатая
Воронцов приказал не останавливаться до утра. Шли из последних сил. Шли, засыпая на ходу, толкая плечами деревья и мгновенно просыпаясь от посторонних шорохов и окриков шепотом младших командиров: «Не спать! Подтянуться!»
Нелюбин, не доверяя конвоирам, которые тоже клевали носом, сам приглядывал за пленными. Шел немного позади и все время смотрел вперед и слушал, не шагнул ли кто из немцев в сторону, не замер ли за деревом. Нет, Нелюбина не обманешь, Нелюбин на войне уже опытный человек. Не только на фронте, но и в окружении, и в плену, и в партизанах побывал. И что такое ночной марш по лесу, без дороги, с вымотанными вконец людьми, тоже знает. Слава богу, приодели немного совсем обносившихся и раздетых. Теперь и они стали похожи на бойцов. Эх, какой молодец у них командир, думал Нелюбин о Воронцове. Вот выйдем, выпустил он на волю свою мечту, и присвоят нашему курсанту лейтенантское звание. А может, даже сразу старшего лейтенанта. А что? Разберутся, учтут все его заслуги и геройские поступки и вынесут справедливое решение — присвоить курсанту Воронцову Александру Григорьевичу звание старший лейтенант РККА и назначить на должность… командира стрелковой роты, а может, даже и батальона! Вот так! А что? С таким командиром не страшно воевать. Умный, рассудительный. Младших командиров ценит, прислушивается к их мнению. Хотя и строг порой бывает. Настоящий командир. Другого солдату и желать не надобно.
— Кондратий Герасимович, — очнулся Нелюбин от голоса Воронцова. Тот догнал его и, видать, давно уже шел совсем рядом. — Останавливайте людей на отдых. Располагайтесь. А я с танкистами и Степаном вперед пройдусь.
— Есть останавливаться. А костер можно жечь? Обсушиться бы…
— Придется. Все продрогли. Обувь хлюпает, одежда мокрая. Где-нибудь под елью, чтобы сверху не было видно. И по бокам заплетите маты. И теплей будет, и маскировка какая-никакая…
— Слушаюсь.
Нелюбин остановил колонну. Распорядился о дозорах, костре, матах и лошадях. А Воронцов собрал вокруг себя танкистов, окликнул Степана.
— Вот что, ребята. Пока взвод будет отдыхать и приводить себя в порядок, мы должны разведать маршрут. Впереди, как я понимаю, последний переход. Надо все там прощупать, продумать. У кого есть какие предложения?
— Я согласен с Александром Григорьевичем, — отозвался Демьян. — Эту разведку лучше провести самим.
Впервые во взводе его называли по имени и отчеству.
— Я тоже так думаю, — кивнул и Степан.
Пошли. Рассвет еще дремал где-то на востоке, в той стороне, где рокотал и гулко долбил мерзлую землю, передвигая с места на место свое непомерно разросшееся железное тело фронт. Впереди Демьян с Николаевым, следом на ними, шагах в двадцати, на пистолетный выстрел, Воронцов, Штыренко, а замыкающим — Степан. Это были самые надежные люди в его взводе, на кого он мог положиться, как на себя самого. Так, в полной темноте, прошли несколько километров, когда в лицо пахнуло свежим ветром, и вместе с его легкими порывами откуда-то из глубины бездонной темноты донесся какой-то странный звук, явно чужой и лесной тишине, и рокочущей впереди войне. Тут же рябчиком свистнули в передовом дозоре, и вся группа замерла в ожидании. Звук повторился. Из передового дозора пришел Демьян и сказал, возбужденно дыша морозным паром:
— Александр Григорьевич, товарищ командир, похоже, там или дорога, или, скорее всего, СПАМ.
— Почему ты так думаешь?
— Так это ж танк ремонтируют! Во-во, слышите? Кувалдой палец загоняют. Гусеницу сращивают. Я это ни с чем не спутаю. Тут у них ближний тыл? Так? Вот, видать, и разместили СПАМ. Чтобы битую технику недалеко таскать. Что у наших, что у них…
— Выходит, мы вышли на их тылы? Что ж, похоже. Пора. Тогда здесь где-то должны быть их посты.
Дальше пошли двумя группами по два человека. Воронцов с Николаевым двинулись в обход справа, младший сержант Петров со своим заряжающим начали обходить слева. Степан остался в прикрытии.
Все эти дни казались Степану Смирнову одним непрерывным сном. Сон длился, спрессовывая новые события и превращая их в смутную массу. Каждый новый день вскоре становился вчерашним, Степан провожал его без сожаления и старался тут же забыть о нем. Так он жил почти год, с тех пор, как попал в плен. Потом служба в русской роте, которую вскоре стали называть Боевой группой Радовского. Бывший переводчик штаба 5-й танковой дивизии получил разрешение на формирование вспомогательного подразделения. Дивизия несла большие и непрерывные потери. Тыловые службы, из которых почти каждый день кого-нибудь забирали и отправляли на передовую, начали заполнять пленными русскими. Но Степан сразу был зачислен в Боевую группу. По сути дела это был полнокровный батальон: три взвода курсантов, которых обучали навыкам ведения боя в лесу и на открытой местности без применения тяжелого оружия, взвод связи, разведвзвод, из которого потом часть людей перевели во вновь формируемый диверсионный взвод, транспортный взвод, минометный взвод, хозвзвод, караульный взвод. Степана зачислили в разведвзвод. Радовский сразу приметил его и начал брать с собой на задания. В Боевой группе поговаривали: и зачем старику, бывшему белогвардейцу, бегать с молодыми разведчиками по лесам? Какая в том надобность? Не доверял? Но тогда мог бы послать других инструкторов. Когда ликвидировали кочующий «котел» 33-й армии и поступил приказ захватить во время выхода управление вместе с двумя генералами[3], Радовский, казалось, не спал сутками. Разведвзвод гоняли день и ночь. По всему чувствовалось, что предстоящей операции немецкое командование придавало особое значение. В роту приезжал какой-то важный штабной чин, ходили разговоры, что из самого Берлина.
И вот в начале апреля их перебросили в расположение 33-й армии. Сплошной линии фронта не существовало, и они свободно прошли по одной из проселочных дорог в деревню, занятую обозами армии, изготовившейся для решающего броска в сторону Юхнова. Их группу возглавлял сам Радовский. Вначале все шло хорошо. Агент, некий Профессор, всегда находившийся рядом с генералом, исправно снабжал их информацией о маршруте движения. Непосредственно с ними в связь вступал не сам Профессор, а его связник. Профессора Радовский берег, как ценнейшего резидента, и поэтому оградил его от малейшего риска. Хотя, и это Степан заметил сразу, своего ценного резидента Радовский презирал. Что, впрочем, никак не мешало делу. Все было отлажено. Действовало, как механизм тщательно вычищенной и смазанной винтовки. Информация из штаба окруженной группировки — связник, который тут же передавал ее дальше — немедленная реакция группы Радовского и, одновременно, — информирование через других связников штаба 5-й танковой дивизии. Люди, участвовавшие в проведении операции, действовали оперативно. Все шло к тому, что задача будет успешно выполнена и управление 33-й армии, весь ее штаб, со всеми службами и архивом, окажется в руках немцев. То есть вначале в руках Боевой группы Радовского. И только потом — немцев. Но именно немцы вскоре все и испортили. Видимо, почувствовав напор прорывающихся и боясь, что им действительно удастся уйти через их оборонительные линии к Юхнову, немцы начали непрерывно атаковать и обстреливать из орудий и минометов колонну кочующего «котла». На дорогах курсировали танки, которые открывали огонь на любое движение в поле их видимости. Штабная группа почти вся погибла. А когда генерал потерял связь и управление дивизиями и группами оказалось полностью нарушенным, он просто поступил так, как должен поступить офицер. Степан видел, как это подействовало на Радовского. Тогда, в сосняке, они тоже едва не погибли под пулями автоматчиков, которые зачищали лес. И там уже началась другая война. И у курсанта Смирнова именно тогда мелькнула надежда уйти к своим. Вместе с Санькой Воронцовым. Вместе со старшиной. Не вышло. И выйдет ли теперь?
Степан слушал ночь. Разведка ушла вперед. Обе группы исчезли в густой темени предрассветья, растворились в тишине. А в поле, которое угадывалось по характеру тянувшего оттуда ветра и звукам, действительно ремонтировали какую-то технику. Либо немцы стояли на дороге, устраняя какую-нибудь поломку, либо…
Неожиданно, так что Степан даже вздрогнул и машинально плотнее прижал к телогрейке металлическую скобу откидного приклада «шмайссера», взревел мощный танковый двигатель. Дернул несколько раз на высоких оборотах и заработал мерно. Но это был не немецкий бензиновый двигатель. Моторы их танков работали иначе.
Рев мотора заставил залечь и обе группы разведчиков. Демьян Петров, услышав раскатистый запуск родной «тридцатьчетверки», присел и перестал дышать. Откуда здесь наши? Неужели наши? Кто там, на дороге? И куда они вообще вышли?
— Штырь, слышал?
— Демьян, наши, чи шо? — поднял голову Штыренко, изо всех сил вслушиваясь в глубину дороги.
Звук запущенного мотора застал их как раз в тот момент, когда они перебегали проселок, исклеванный гусеницами не то танков, не то тягачей. Разъезженные колеи смерзлись, образовав две глубокие траншеи. В одну из них и залег бежавший следом за своим командиром Штыренко.
— Бачь, командир, по-нашему гуторют.
— Хер поймешь, — прошептал сквозь стиснутые зубы младший сержант Петров. — Одно пока ясно: там, на дороге, «тридцатьчетверка»… и ее ремонтируют. А запустили для того, чтобы прогреть.
Теперь, когда двигатель танка был запущен и тишина была в одно мгновение разрушена, разведчики почувствовали себя свободнее. Звуки кувалды не прекращались. Обойдя заросли кустарника, танкисты увидели шагах в двадцати от дороги, ближе к перелеску, вывернутый в сторону хобот башенной пушки, очертания башни и кормы Т-34. Возле танка стоял немец с зажженным факелом. В каске с подшлемником, в шинели, повязанной то ли шарфом, то ли скрученным бабьим платком. Винтовку он держал под мышкой.
— Часовой. Греется, — зашептал, загораясь азартом, младший сержант Петров.
— Ты что задумал? Надо с Курсантом согласовать.
— А что тут согласовывать? Командир и сам сейчас наверняка о том же думает.
Тем временем возле танка шла работа. Возле распущенной гусеницы мелькали люди, одетые не то в телогрейки, не то в комбинезоны. Еще двое гремели кувалдой. Еще один обдалбливал гусеницу на другой стороне. Видимо, она вмерзла в землю. Слышались голоса. Звук работающего мотора заставлял говорить громко. Говорили на двух языках.
— Придержи, придержи!
— Да ты ж мимо серьги не бей! Один раз по железке, два раза по рукам… Работник, твою-раствою…
— Ничего не вижу. Скажи ему, чтобы повыше светил.
— Скажи ему… Он тебе по башке засветит…
— Kurt, sagie mir die genause Zeit?[4]
— Halb siben.[5]
— Beeilen Sie sich![6] — закричал еще один, высунувшийся из башенного люка. — Иван, бистро! Бистро! — И снова исчез, грохнув за собой люком.
За кустами хрустнула под ногой мерзлая трава. Танкисты замерли. Послышался легкий свист рябчика. Штыренко ответил. Подошли Воронцов и Николаев. Подошли тихо, даже дышали сдержанно, чтобы не закашляться.
— Что там? — спросил Воронцов.
— А вон, видишь? СПАМ. Танк ремонтируют.
— Так это же «тридцатьчетверка»!
— В том-то и дело.
— Откуда она здесь?
— Видимо, наши прорывались. Подбили. Трофей.
— Демьян, — сказал вдруг Воронцов, — как думаешь, он исправный?
— А вот сейчас гусеницу натянут, срастят и будет вполне исправная машина. Остальное они уже, похоже, отремонтировали. Слышишь, ломом тюкают? Это вторую гусеницу из грязи выдалбливают. Примерзла. А вон уже и бревна лежат. Сейчас гусеницу натянут и загонят танк на бревна.
— Значит, не спешат отсюда его угонять, — подсказал заряжающий.
— Значит, не спешат.
Стало развиднять. Засинелось внизу, где проходила неглубокая лощина.
Немцы загремели котелками. Вспыхнул за кормой небольшой костерок. Видимо, плеснули соляры.
— Kurt, — снова послышался знакомый голос, — bitte Speisekarte![7]
— Fleisch in Aspik! Und… Und Zwiebelsuppe![8]
— Sagen Sie mihr bitte, ist das Frahstuck im Preis inbegriffen?[9] — прорычала, высунувшись из люка, голова в мятой офицерской фуражке с наушниками, и возле танка раздался дружный смех.
— Что они там?..
— Меню обсуждают, завтрак, — коротко перевел Воронцов.
— Шутники.
— Интересно, что у них на завтрак? — поинтересовался Михайлов.
— Мясо заливное и луковый суп, — сказал Воронцов, не отрываясь от бинокля.
— А шо цэ такэ?
— Ты что, Штырь, не знаешь, что такое луковый суп?
— Та ни. Цэ я бачу. Мясо заливное…
— А это, Штырь, навроде нашего холодца, — снова усмехнулся младший сержант Петров.
— А-а…
— Ну что, ребята, будем ждать, когда они свой луковый суп сварят? — И Воронцов опустил бинокль.
— А что ты предлагаешь, командир?
— Демьян, ты мне сперва вот что скажи: кто-нибудь из вас танком управлять может?
— У нас в экипаже полная взаимозаменяемость. Все могут. Но лучший мехвод — Штыренко. Что молчишь, Штырь?
— Смогу, — коротко согласился Штыренко.
— Тогда будем брать танк. Николаев, дуй быстро за Степаном. Не вздумай срезать. Иди точно по нашему следу. Тихо. Наблюдай и слушай. Если что, три раза — рябчиком. Вперед.
— Есть, командир. — И Николаев бесшумно растворился в зарослях кустарника.
Воронцов снова вытащил из-за пазухи бинокль. Танкистов было трое или четверо. Один сидел возле костра и занимался приготовлением завтрака. Другой ломом долбал мерзлую землю. Третий, видимо, командир, сидел в танке. Но, возможно, там же, в танке, был и еще один. Механик-водитель. Он сидел за рычагами и не высовывался, прогревал двигатель. Значит, четверо. Пятый немец, с винтовкой под мышкой, похаживал с факелом вокруг русских механиков. Если не брать в расчет русских, немцев всего пятеро. Как раз по одному.
— Ну, что, Семен, надо натягивать, — сказал пожилой механик своему напарнику.
Кувалда затихла. Русские встали, продели в отверстия крайнего звена лом, тяжело подняли и так же тяжело понесли провисающую дорожку гусеницы к танку. Перекинули через ленивец. Загремели ломом по каткам. Немцы тут же кинулись им помогать. Снова ударила по металлу кувалда.
— Ловко работают. Со знанием дела, — заметил Демьян.
Русские еще возились с гусеницей, а немцы гуськом побежали к лощине. Через минуту там, в овраге, загремели железом. Вспыхнул скупой луч карманного фонарика. Погас. Танкисты вскоре вернулись, неся на плечах какие-то продолговатые предметы.
— Снаряды носят, — догадался Демьян.
— Интересно, откуда?
Один из немецких танкистов нырнул в открытый люк башни, другой стоял на моторной решетке. Третий подавал длинные снаряды, сложенные внизу. Получалось у них ловко, и быстро. Через несколько минут они снова побежали в лощину и опять вернулись со снарядами.
План созрел мгновенно. Воронцов с беспокойством оглянулся: позади, в кустах, захрустела трава под торопливыми шагали — наконец-то пришли Николаев и Степан.
— Слушай мою команду. Демьян, ты остаешься в прикрытии. Глаз не спускай с часового. Он — твой. Возьмешь его, когда мы будем возвращаться оттуда, из оврага. Если нашумим, ты поймешь. Тогда прикроешь нас. Если все пройдет тихо, то выходи на часового. Механики, я думаю, дергаться не станут. Мы будем идти со снарядами. Только бы водитель мотор не заглушил. Остальные — за мной.
Немцы пополняли боеукладку. Осторожно, из рук в руки, передали последний, шестой снаряд. Закурили. Перекинулись несколькими фразами с конвоиром и ушли в сумерки лощины — за новой партией.
Глава двадцать первая
Радовский выслушал доклад Донца и отвернулся к окну. Сквозь белую шторку, плотно задернутую на низком окне, заклеенном на зиму узкими газетными полосками, с улицы просачивались жидкие утренние сумерки. Еще один тоскливый день родился за стенами этого ветхого крестьянского жилища и уже шел по земле. Еще один. Ничего доброго Радовский не ждал и от него.
— Когда ушел проводник?
— Ночью.
В эту ночь он спал плохо. Приснились родители. Он, Алексей Радовский, куда-то уезжал. Или уходил. Торопливо. Без лишних прощаний. Отец стоял на крыльце их усадебного дома и молча смотрел ему вслед. Мама выглядывала из-за его спины. Отец не пропускал ее. Так было всегда, когда он уезжал. Отец не хотел, чтобы она повисала у сына на руках, плакала, говорила ненужные слова, а потом бежала за пролеткой… Но в этот раз отец что-то говорил ему. Какую-то фразу. Радовский это узнал по его губам — какую-то одну фразу, настойчиво повторял только ее.
— Мы поворачиваем назад. Пришел новый приказ. — Радовский прервал не только доклад Донца, но и свои тяжелые размышления. — Идите, отдыхайте. В полдень выступаем.
— Мне нужно всего три часа. Утром мы посадим разведку на лошадей и перехватим их.
— Утро уже наступило. В полдень придут грузовики. Мы назначены в оцепление.
— Что, снова детей отлавливать?
Радовский не ответил ни единым словом, ни даже жестом. И, если бы Донец повторил свой вопрос, он, пожалуй, ударил бы его. И Донец, видимо, это почувствовал. Как ни странно, у них было много общего. Вот почему они так легко понимали друг друга.
Их Боевую группу направляют в обратный путь. На облаву. Донец вышел на обледенелое крыльцо. Увидел старика, перебиравшего кладушку свежих дров. Выходит, напрасно он зарубил в Богдановом Колодезе Проценку. Можно было и простить его. Потому что, так получается, не спасли они девчонку. Завтра ее втолкнут под брезент и вместе с ее одногодками увезут на станцию. Донец видел, как однажды в тупике грузили в «телятник» подростков, привезенных на грузовиках из-под Вязьмы. Но душило Донца не только это. Сейчас он окончательно понял, что и его семью, живущую в далекой станице под Ростовом, могут разорвать, уничтожить таким же внезапным приказом. И любую из его дочерей жандармы и полицейские могут растерзать где-нибудь в пустом сарае на заплеванной соломе во время облавы. Уж он-то знал, как это случалось. Удержи их. Когда делается большая политика, всякая мелкая тварь тут как тут. Потому что точно знает: когда начнут отламывать и передвигать с места на место большие куски, обломки и крошки полетят во все стороны. И вот тут-то только успевай урвать, схватить, что плохо лежит.
Донец тяжело соступил с крыльца, остановился. Потрогал темляк старой сабли. Вспомнил: надо покормить коня.
Разведвзвод занимал две хаты в середине деревни.
Снег с молодым хрустом рассыпался под каблуками его сапог. И вдруг он подумал: а хорошо, что они не догнали партизан и этого стрелка. Бегали бы всю ночь по лесу, палили друг в друга, пока не закончились бы патроны. Кого-нибудь подстрелили бы, а кто-нибудь все равно бы ушел… Они-то, партизаны или кто там… знают, за что воюют. А вот за что, за какие родины и семьи дерется наша банда? Донец зло хохотнул и потрогал намерзший инеем бронзовый темляк сабли.
Рассвет в деревне начинался так, как и в его станице. Засинелось в полях, как в степи. Ветер погнал крошки притоптанного снега, зазвенел льдинками вымерзшей и вытоптанной лошадиными копытами лужи. Пахло печеным тестом. Где-то ставили в печь хлебы. Должно быть, сейчас уже проснулись и его дочери. И помогают кормить скотину, подметают баз и чистят картошку. Полтора месяца назад Донец написал домой письмо. Ответа до сих пор не получил. Письма в роту приходили из Киева и Могилева, из Новгородской и Витебской области. Донцу из Ростовской области шло бы не дольше. Не пришло. И теперь он не находил себе места.
Серко заржал под навесом, прочуяв хозяина еще издали. Донец свернул к стойлу, где ночевали кони разведвзвода и других служб. В дом решил не заходить.
— Ну что, Серко, скучаешь? Скучаешь…
Конь перекинул голову через высокую жердь и толкнул хозяина в плечо, втянул воздух, обнюхивая шинель, и начал теребить теплой чуткой губой воротник, пропахший табаком.
— Ну? Что? Да нет, братец, кровью от меня сегодня не пахнет. Не пахнет…
Конь ему достался хороший. Никогда у Донца не было такого доброго и умного коня. Однажды во время зачистки деревень от партизан и остатков кавкорпуса генерала Белова их взвод попал в засаду. Многих перебили в первые же минуты боя. Два «максима» и «дегтярь» секли фронтальным и косоприцельным огнем. Пуля пробила Донцу руку. Но кость оказалась не задетой. Он пришпорил Серка и погнал его по лесной тропе назад. Конь нес как угорелый. Когда собрались на опушке спустя несколько часов, оказалось, что в живых от взвода осталось двенадцать человек, и те все были переранены по нескольку раз.
Почти весь сахар, который Донец получал по пайку, он отдавал коню. Более верного и надежного товарища, чем Серко, в Боевой группе Радовского, да и на всей войне, у Донца не было. Кого носил Серко до того, как попал в руки Донца? Должно быть, какого-нибудь командира. Такие кони в руки к простым кавалеристам не попадали. Донец это знал. Иногда, тоскуя по своим родным, он разговаривал со своим конем:
— Вот кончится война… А, Серко? И поедем мы с тобой ко мне на родину. В нашу станицу. На Дон… — И гладил коня по чуткой вздрагивающей шее, и спрашивал в самое ухо, шепотом: — А ты, случаем, сам-то, не с Дона ли? А, Серко? Может, мы земляки? Родня?
Седла висели рядом, у стены. Донец взял свое. Выложил из гнезда воротную жердь, вывел Серка, перекинул седло через мышастую спину. Часовой, стоявший возле крыльца, окликнул Донца. Донец махнул ему рукой и ничего не ответил.
— Ты куда собрался? Твои давно спят, — снова сказал часовой.
— Мои… — ответил он, не поднимая головы. — Мои, если живы, уже на ногах давно…
Он подтянул подпругу, перекинул через голову Серка повод и ловко вскочил в седло. Серко, почувствовав седока, нетерпеливо переступал передними ногами, шумно втягивал ноздрями морозный воздух. Донец повернул его в проулок, легко придавил шпорами. И Серко послушно стал набирать ход и вскоре пошел хорошей рысью. В конце проулка виднелось поле. За полем лес. Часовой снова окликнул. Послышались другие голоса.
— Донец! Назад!
Донец оглянулся. В проулке стояли двое. Радовский и начштаба Турчин.
— А, господа офицеры! — удивленно и зло крикнул он, резко развернул коня и поскакал прямо на них. — Вас-то мне и надо! — Он вытянул плетью Серка и тут же выхватил из ножен тяжелую драгунскую саблю.
Первым Донец решил рубить Радовского. Он и стоял ближе. А там, если не снимет его начштаба из пистолета, стрелок-то он хороший, развернуть коня и — его тоже. Эх, хорошо вышел под удар господин майор!.. Донец немного перегнулся вправо, ловя занесенным над головой клинком упругую струю воздуха. Эх, не впервой ему это было делать… Но майор оказался тоже ловким, он бросился под ноги коня. Серко испуганно шарахнулся в сторону, сбив и направление, и силу удара казака. Упруго, как короткая трассирующая очередь, пронеслась над головой Радовского тяжелая сабля. Конь ударил его ногой в плечо, и Радовский покатился по мерзлой, припорошенной колючим морозным снегом траве под нижнее прясло изгороди. Крикнул Турчин. А Донец уже скакал по улице вдоль дворов.
— Стой! Св-волочь!
Сухо щелкнули пистолетные выстрелы за спиной. «Черта с два ты меня теперь достанешь своей пукалкой», — засмеялся сквозь стиснутые зубы Донец.
— Иваныч, ты куда? — окликнул его со двора знакомый голос ротного кашевара, земляка Янушкина. — Эх, дурья башка!
— Гони, Серко! Неси, родимый! — И он, не жалея, подстегнул коня шпорами.
— Бондарь! К пулемету!
— Да это же взводный!
— Огонь! Приказываю!
Рослый казак лет тридцати двух выхватил из повозки пулемет Дегтярева, пристроил его на штакетнике, взвел затвор, прицелился и дал несколько очередей — две коротких, пристрелочных, а третью подлинней, уже уверенную, в восемь-десять патронов.
— Молодец, Бондарь! Только коня жаль…
— Э, да что ж теперь!.. Пропала голова, пропадай и шапка…
Через минуту к стрелявшим подбежал, хромая, Радовский:
— Не стрелять! Не стрелять!
— Поздно, Георгий Алексеевич. Дело сделано. — И Турчин неприязненно посмотрел на Радовского.
В поле, за изгородью, косо уходящей вниз, уже все было тихо. Только в снегу, не жалея копыт, бился о мерзлую землю смертельно раненный конь.
— Ты как стрелял? Зачем — в коня? Сволочь!
— Господин поручик приказ отдали, — испуганно оправдывался пулеметчик. — Я в середину корпуса стрелял. По всаднику. А в коня — по нечаянности…
— Что?! Что ты несешь, с-скотина!
Вперед выступил Турчин, перехватил занесенную руку Радовского.
— Возьмите себя в руки, Георгий Алексеевич, прошу вас.
Глава двадцать вторая
Они бежали по неглубокому сухому от ночного мороза снегу, стараясь подальше уйти от вырубок и дороги. Иванок остался там, позади. Он что-то задумал. Но Зинаида не могла рисковать ни своей жизнью, ни жизнью того, кого тащила за собой, крепко ухватив за руку. И теперь она старалась не думать об Иванке, оставшемся возле вырубок.
Мерзлые ветки кустарников хлестали по лицу, царапали руки. Зинаида уже не успевала отводить их. Они бежали напролом, куда глаза глядят, как бегут по лесу испуганные погоней звери. Но вскоре и она, и Прокопий, который все переносил молча, окончательно выбились из сил. Они выбежали в сосняк. Остановились. И повалились в черничник. Зинаида закрыла глаза. Мир, утративший черты реальности, страхи, мгновенно принявшие образы уродливых разноцветных предметов, — все это плавало и прыгало перед глазами. Ни на одном из них невозможно было сосредоточить внимание, ни один из них невозможно было разглядеть как следует и запомнить.
А тот, кто остался на вырубках, побежал к опушке. Но вскоре вынужден был замереть за ближайшей осиной. Потому что впереди, возле валунов, где прошлой зимой располагался один из заслонов отряда Курсанта, кто-то разговаривал. Иванок вскинул голову и по-звериному потянул морозный хрупкий воздух. В этом потоке запахов, которые все можно было разделить на запах снега, бересты, прелой листвы и осиновой коры, он тут же уловил запах немецкого табака. Значит, действуют все по той же схеме: выставили посты на дорогах, перекрыв все выходы из деревни. Иванок вдруг ощутил в себе сильный толчок, который содрогнул его изнутри забытой стихией мести. Эх, винтовки нет! Винтовку бы сейчас!.. Да я бы их!.. По одному…
Возле валунов топтались двое немцев. Серо-зеленые шинели и черные угловатые каски отчетливо виднелись на белом фоне поля. За плечами винтовки. Немцы о чем-то переговаривались, курили, посматривали в сторону деревни. Там уже все затихло. Видимо, ждали, что пост вот-вот снимут.
Но Иванка интересовали не немцы. Он наблюдал за тем, что происходило в деревне. Вскоре из оврага на школьную спортивную площадку, на которой виднелись футбольные ворота, выгнали небольшую группу людей. Так и есть, угоняют. Иванок насчитал в толпе человек двенадцать. Тут же подъехал закрытый брезентовым тентом тупоносый грузовик, и людей начали заталкивать в кузов. Снова послышались крики и вой. Их прекратили несколько одиночных выстрелов. Стреляли, скорее всего, для острастки. Сквозь крик и выстрелы Иванок явственно слышал голос сестры. Все в нем опять вздыбилось, напряглось, так что он готов был броситься через опушку, чтобы те двое, курившие возле валунов, не успели ничего и сообразить, и ухватить за глотку хотя бы одного из них. Нет, ничего не получится. Они подстрелят меня еще на опушке…
Иванок кое-как успокоил себя. Решил ждать.
Но все происходило не так, как он предполагал. Две машины, в том числе и та, на которую погрузили прудковскую молодежь, выехали на большак. За ними вереницей потянулись мотоциклы. Но эти двое, охранявшие дорогу в лес, не уходили. Они по-прежнему топтались возле валунов, посматривали по сторонам, о чем-то тихо переговаривались.
Значит, понял Иванок, за винтовкой я сбегать не успею. И у него больно пересохло в горле. Он нагнулся, захватил пригоршню снега. Губы даже не почувствовали холода. Он начал осторожно пятиться в лес. Отойдя шагов на сто, быстро пошел вдоль опушки. Вскоре побежал. Куда он бежит, Иванок сообразил не сразу. Осмотрелся и вдруг понял — к Андреенскому большаку.
Он бежал и сам не понимал цели, зачем он бежит туда? Он думал только о том, что каким-то образом должен выручить Шуру, что без сестры он не сможет вернуться домой, в Прудки, к матери. Но как он это сделает, пока не знал.
Немцы оцепили овраг. Выставили посты на всех выходах из деревни. Вскоре послышались одиночные выстрелы. Один, другой, третий… Взвизгнула раненая собака.
— Собак стреляют, ироды, — сказал Петр Федорович, перекрестился и вышел из своего жилья.
Выйдя, окинул взглядом деревню, потом посмотрел на зады, на кромку дальнего леса. Там, на дороге, маячили два силуэта в немецких шинелях. Немцы шли не спеша, значит, никого не обнаружили. Значит, это просто наряд пошел занимать свой пост. А Зинаида с Прокошкой должны уже добраться до леса. Не дай бог, если спрятались где-нибудь в соснах…
Мимо, объезжая стоявшие с работающими моторами грузовики, промчались повозки с полицейскими. Один из них привстал на коленях и махнул Петру Федоровичу:
— Эй, старик! Ты здесь, что ль, староста?
— Я. — И Петр Федорович послушно сошел на обочину и еле грабающими руками стащил с головы шапку. — Я тут староста, господа полицейские.
— У нас приказ: трудоспособную молодежь… В Германию… Понял?
— Понял. Как не понять? — И Петр Федорович кивнул на овраг, где немцы уже сгоняли в одну кучу кричащих подростков, парней и девчат постарше. — Только, господа полицейские, детей бы пожалели. А? Детей-то зачем угоняете? Они ж там, без догляду, погибнут, как цыплята.
— Ты, старик, в энто дело не лезь. — Старший полицейский спрыгнул с повозки, размял ноги, поправил на плече винтовку и махнул своим: — Слазь скорей! Фимкин! Соткин! Саенко! Вы трое — туда! Старший — Саенко! Выгонять всех на улицу!
— А стариков зачем? — спросил один из полицейских, видимо, Саенко. — Они-то нам…
— Ты, Саенко, приказ слышал? Всех — на улицу! Рассуждать мне… Рассуждать будешь в своей деревне.
— Моя деревня, слава богу, за Уралом.
— Что?!
Полицейские побежали исполнять полученный приказ. Старший хмуро посмотрел им вслед, махнул винтовкой:
— Остальные — за мной. Старик, ты — тоже.
Возле натоптанных стежек валялись убитые собаки. Сваляная, комковатая шерсть, остекленевшие глаза, оскаленные пасти, капли разбрызганной крови и подплывший снег.
— Господин полицейский! Господин полицейский! — Голос Петра Федоровича дрожал. Старик уже ни на что не надеялся. Но должна же быть у них какая-то жалость? Может, одного-двоих, хоть кого-нибудь, удастся вызволить. — Детей-то, может, не надо? А, господин полицейский? Дети ведь совсем… Вы ж сами, должно быть, отцы…
— Закрой хлебало, старик — Старший оглянулся на него, сверкнул оскалом железных зубов. — Вам, сволочам, еще за отряд Щербакова отвечать придется.
Полицейские вышибали хлипкие двери, срывали дерюжки и одеяла, которыми были занавешены входы в землянки, швыряли наружу попавшееся под ноги. Деревня наполнялась стоном и бабьим воем.
— Ой, погибель наша!
— Креста на вас нет, окаянных!
— Детей!.. Куда же вы детей наших!..
— Ироды!.. Ироды!..
Все эти дни из дальних деревень приходили слухи о том, что молодежь угоняют в Германию, на работы. Месяц назад к ним приезжал немецкий офицер с переводчиком. Народ собрали возле пруда. Немец, через переводчика, начал рассказывать, как хорошо живется в Германии русской молодежи, что остарбайтеры получают там специальности и трудятся на фабриках, заводах рейха, а также на уборке урожая. Что всех обеспечивают одеждой и хорошо кормят. Затем всем желающим предложил добровольно записываться в группу, которая будет отправлена через неделю по железной дороге в благоустроенную и красивую местность на границу со Швейцарией, где прекрасный климат и где не падают бомбы. Местность та называется Шварцвальд. Добровольцев не оказалось. Теперь немцы решили действовать иначе.
Петр Федорович метнулся к группе офицеров, стоявших возле машин, закричал. Того, кого он хотел бы среди них увидеть, не было. Но он все же закричал:
— Герр Штрекенбах! Герр Штрекенбах!
Немцы оглянулись на него. Офицер вопросительно посмотрел на старшего полицейского:
— Wer ist das?[10]
— Ich bin староста. Староста, Herr Offlzier[11], — путая немецкие и русские слова, торопливо и сбивчиво заговорил Петр Федорович.
— О, gut, gut, — кивнул немец. — Was wollen Sie?[12]
— Kann ich mit Gerr Offizier Schtrekenbach sprechen?[13]
Немцы потеряли к нему интерес, когда он повторно назвал имя Штрекенбаха, которого он когда-то угощал самогонкой и солеными грибами. Среди убитых прошлой зимой на большаке Штрекенбаха не оказалось. А может, зря он сейчас произнес это имя? Начнут дознаваться, потянут за старую веревочку…
Иванок бежал вдоль опушки, повторяя одну и ту же фразу:
— Шура, я спасу тебя. Шура, я спасу… Шура…
Сестре было четырнадцать с половиной лет. Добрая и рассудительная, как старушка, она всегда опекала его. Заступалась перед родителями, когда Иванок в очередной раз попадал на отцовский ремень. И отец, выслушав ее, мог сказать: «Ладно, чертенок, целуй руки сестре. Шурка, под твою ответственность!..» Рук он ей, конечно, не целовал. Но конфетами и другими сластями, которыми родители или городские гости одаривали их иногда, всегда делился. Всегда откладывал сестре из своего кулька. Молча совал в руки, говоря: «Ты же у нас самая маленькая». Однажды, случилось это в тридцать девятом, зимой, в феврале, они катались с горки на санях. Сани у них были хорошие. Длинные, просторные, с хорошо раскатанными дубовыми полозьями и легким липовым верхом. Связал их старик Худов, лучший в округе бондарь и санник. За санями к нему приезжали из других деревень и даже из города. Места на худовских санях хватало двоим, и Иванок с Сашей катались вместе. Самые отчаянные забирались на Клунину горку и неслись оттуда вниз, притормаживая и правя мимо полыньи. На дне пруда били родники. Летом холодные, так что лучше к ним не заплывать, зимой они курились парком, и лед над ними долго не замерзал, иногда всю зиму. Только в самую стужу, в Васильевские или Святочные морозы, полыньи затягивало тонким ледком. Самые смелые неслись прямо на полыньи, лихо проскакивали мимо черных окон, в которых бугрилась, зыбала вода. Санки пролетали по тонкому, прозрачному льду, образовавшемуся после недавних морозов. И вот Иванок тоже решил попытать судьбу. Дернул сани из рук сестры и сказал, что поедет один. Затащил сани на Клунину горку. Но Шура бежала следом и, когда он поставил сани на накатанный взлобок горы и подобрал веревку, почувствовал, как сестра обхватила его сзади за плечи и села рядом. «Ты с ума сошел!» — сказала она, как сказала бы старшая сестра. «Слезь», — приказал он. «Нет. Если ты такой дурак, то я поеду вместе с тобой».
— Шура, Шурочка моя миленькая… — всхлипывал Иванок, проламываясь сквозь заснеженные кусты и перепрыгивая кочки. Время от времени он задерживал дыхание и прислушивался к звукам деревни. Там все еще стоял стон и плач.
Тогда, под Клуниной горкой, они провалились в полынью. Сани застряли во льду и начали медленно тонуть. Иванок хотел соскочить в сторону, но тонкий лед под ним подломился, и он начал медленно оседать в черную воду, чувствуя, как она его поглощает, пропитывая одежду и наполняя валенки, которые сразу стали чужими. Он оцепенел от неожиданности и страха и оглянулся. Саша карабкалась по тонкому прозрачному льду, стараясь уползти подальше от дымящейся воды. Лед прогибался, но все же выдерживал ее легкое тельце. «Иванок! Я сейчас!» — услышал он и почувствовал, что кто-то обхватил его руками за шею и держит, держит. И он перестал погружаться в воду. Но сил у сестры все же не хватало, чтобы вытащить его. Потом прибежали люди, кто-то из взрослых, бросили жерди, багром подцепили Иванка и Шуру и вытащили их, обессиленных, перепуганных до смерти, на безопасное место. Валенки Иванка утянуло на дно, и их потом отец доставал багром. Сани тоже до вечера, пока не пришел с работы отец, торчали в полынье…
— Шура… Где же ты… Сестричка моя…
Куда Иванок бежал, он и сам не знал. Когда он обогнул поле и, вконец обессиленный, выбрался к большаку, сквозь стук в висках и в горле услышал удаляющийся гул моторов. Вот и все. Он даже попрощаться с сестрой не успел. Иванок упал на снег, прикусил, чтобы не закричать, рукав ватника и долго катался в черничнике, выл, сжимая кулаки. Из этого состояния его вывел стук тележных ободов по мерзлой земле. Он поднял голову. По дороге ехали две телеги. На первой — полицейские, свесив ноги, весело переговариваясь, курили немецкие сигареты. Второй повозкой управлял пожилой дядька. Шинели, как у других, у него не было. Но на рукаве рыжего полушубка белела повязка с синими буквами. Телега доверху была нагружена узлами, мешками и ящиками. Сзади, увязанная веревками, стояла приземистая дежка. Ее Иванок сразу узнал — по высоким ушам с поперечными пропилами для рук. Это была их дежка. В ней мать солила на зиму капусту.
— Сволочи… Сволочи… Сволочи… — скрипел зубами Иванок.
Мародерство полицейских было обычным делом. В Прудки они наведывались редко. Когда в деревне стояла немецкая часть, они здесь не появлялись. Но потом обложили данью и Прудки. Могли забрать что угодно: приглянувшуюся вещь, одежду, инструмент, зарезать прямо возле хлева недорослого поросенка или котную ярку, выгрести из подпола сколько надо картофеля, вытащить кубел с салом. И к этому уже привыкли, принимая их наезды как неизбежное зло и стараясь его упреждать тем, что припрятывали самое ценное подальше. Но сейчас Иванок, увидев на полицейской телеге свою дежку, в которую они в начале осени пошинковали всю свою капусту, выращенную на своей усадьбе вокруг уцелевшей печи, его разобрала такая ярость и ненависть, что он потерял сознание и очнулся лишь некоторое время спустя. Он лежал весь в поту от того, что почувствовал сильную жажду. Встал на колени и начал слизывать с черничника снег. Как он жалел, что не успел взять из дровника винтовку! Из носу капала кровь. Он приложил комок снега к переносице, и вскоре кровь унялась. Он не ушибся, нет. Такое с ним в последнее время случалось часто. Болела голова. Как будто он не спал несколько ночей подряд.
Придя в себя, Иванок встал и пошел назад. Он шел по своим следам. Теперь спешить было некуда. Если немцы и полицаи из деревни ушли, то он заберет винтовку и уйдет в лес. Можно пожить пока в землянке, где в прошлую зиму стоял их партизанский отряд. Разобрать бревна, подкопать, подправить кое-где и обосноваться до весны. А летом лес — дом родной. Он свернул в балку, пробежал по ней, прячась за редкими кустами, спустился в противотанковый ров, углом примыкавший к балке и другим концом выходивший к большаку недалеко от бывшей школы. От школы осталось несколько печей и гряда валунов, лежавших под фундаментом пристроенного коридора. Перебежал гать и мощеную дорогу, спрыгнул в артиллерийский окоп и прислушался. В деревне было тихо. Вскоре послышался скрип снега. Он осторожно высунулся из-за плетня засыпанного землей бруствера и увидел на дороге тетку Степаниду, материну подругу. Дочь тетки Степаниды, Ганьку, видимо, тоже угнали. Шура и Ганька ходили в один класс, сидели за одной партой. Неразлучные подруги.
— Теть Степ! — окликнул он закутанную в шаль женщину.
Та даже присела от неожиданности. Но, увидев его, пробежала до берез и повернула к лощине.
— Иванок, мальчик мой! — запричитала она. — А Танюшку ж мою вместе с Шурой угнали. А ты убежал? Хоть ты остался… — И вдруг она спохватилась: — Ты не ходи туда. Полицаи там.
— Как? Они же уехали.
— Не все. Двое остались. След нашли. — Она закрыла ладонью рот, давясь внезапно вырвавшимся криком: — Ой, знать же, твой след они нашли, Иванок! За бороницынскую ригу пошли.
— А в деревне никого? Ни немцев, ни их?
— Немцы сразу уехали. Посты свои сняли и уехали. А эти еще по бункам шныряли. У нас все сало забрали, вместе с кубелом. Что б им это сиротское сало поперек горла встало!
— А ты куда бежишь, теть Степ?
— Как куда? На станцию пойду. Провожу. Ганечку свою, может, увижу где.
И женщина снова обмоталась шалью и побежала к большаку.
Немного погодя Иванок вышел к школьному саду, посмотрел на затоптанный снег возле футбольных ворот, где несколько часов назад переписывали фамилии угоняемых в Германию, прокрался вдоль зарослей акаций к оврагу. Выглянул. Никого. Люди попрятались, оплакивая свое горе и, видимо, боясь, что это еще не все.
Полицаи, видимо, действительно нашли его след. Но по той же тропе бежали и тетка Зина с Прокошкой. Его-то вряд ли найдут. Вон он какого кругаля дал. А вот их… Иванок забеспокоился. И жажда мести, немедленной и неминуемой, словно судорога, охватила его.
Он выбежал в овраг. Добежал до дровника. Затаился. Никто его не заметил. Быстро начал разбирать кладню. Вскоре показался обмотанный мешковиной приклад винтовки. Он потянул за него. Развязал тесемки. Вытащил винтовку и тут же зарядил ее обоймой, дослал патрон в патронник. Рассовал по карманам обоймы. Несколько раз оглянулся на дверь. Если сейчас выйдет мать, что он ей скажет? Дверь не отворилась. Вот и хорошо, подумал он и побежал в дальний конец оврага, где уже начинался лес — молоденькие сосенки по склону да редкие кусты бересклета.
Впереди показались порыжевшие от времени навесы, присыпанные снегом жерди.
— Мам, смотри, куда мы пришли!
— Правильно мы пришли, Прокоша. Правильно. Тут заночуем.
— А разве на хутор не пойдем?
— Пойдем. Только не сегодня. Нельзя нам сегодня туда. Дорогу укажем. Пропадем мы тогда все. Разорят эти ироды наш хутор. Улюшка, Алеша, Настенька, ребята… Чем мы их тогда прокормим? Надо здесь подождать.
— Костер будем разводить?
— Будем. Только не здесь. Там, в землянке. Там печи должны быть.
Прежде чем выйти к партизанскому лагерю, Зинаида и Прокопий несколько часов кружили по лесу. И уже в сумерках выбрались к землянке.
Вход в землянку был завален сильным взрывом. Концы измочаленных бревен, перемешанных с землей, торчали вверх. Зинаида попробовала пролезть в щель между бревнами, но ничего из этого не вышло. Расчистить вход тоже оказалось невозможно — бревна вмерзли в землю и не поддавались.
— Вот тебе и разжились солью.
— Надо было раскопать, когда домой шли, — рассудил Прокопий.
Вход в землянку взорвали прошлой зимой полицаи и каратели из спецподразделения. С тех пор местные жители это место обходили стороной. Партизаны опасались близости немецких гарнизонов. Не желали искушать судьбу и полицейские. Партизаны отсюда давно ушли, но тайные тропы через Красный лес в Черный по-прежнему существовали. И в Андреенках об этом знали.
После гибели атамана Щербакова командиром полицейской казачьей сотни был назначен прибалтийский немец фон Юнкерн. Он пополнил сотню новыми добровольцами. В качестве поощрения за рвение по службе, помимо наград и нашивок, ввел правило одаривать своих подчиненных ценными вещами. За плененного во время операции партизана — часами и портсигаром; за убитого — отрезом дорогой материи. И потому двое полицейских, которым был дан приказ разыскать во что бы то ни стало беглецов, как видно, покинувших Прудки в те самые минуты, когда в них вошел отряд полевой жандармерии, знали, что их усилия могут быть неплохо вознаграждены.
Фимкин и Соткин перебежали к немцам под Износками в первом же бою. Они прибыли с пополнением из Калуги. Их маршевую роту сразу же бросили в бой. Подняли в атаку на пулеметы. Перед атакой батальонные минометы реденько покидали мины в полосе немецкой траншеи. Лейтенанты подняли взводы. Побежали, крича что-то бессвязное, будто этот крик мог избавить их от того ужаса, в котором они оказались. Добежали до первой траншеи. В ней никого не оказалось. А из второй ударили пулеметы. И тут же началась мощная контратака. Взводные пытались организовать оборону, но роту тут же выбили из траншеи и почти всю расстреляли на нейтральной полосе. Фимкин и Соткин под пули не полезли, затаились в тесной боковой ячейке, а через несколько минут бросили винтовки и подняли руки перед первым же немецким солдатом, появившимся в траншее.
И вот теперь они исполняли приказ старшего полицейского — шли по следу тех, кто бежал из деревни, как видно, за несколько минут до облавы. Вскоре они поняли, что следов не два, а три. Старший полицейский приказал: если не удастся взять беглецов живыми, застрелить и тела бросить возле пруда, чтобы другим впредь неповадно было бегать от власти.
Возле вырубок следы разошлись. Потом снова сошлись в одну тропу. Некоторое время беглецы держались вместе. Но вскоре один отделился и резко ушел в сторону.
— Пойдем за этими, — сказал Соткин, которого час назад назначили старшим группы.
Пробежали по следу с километр. Остановились отдышаться.
— Да что мы, правда, за детьми по лесу бегать будем, — сказал Фимкин, кусая комок снега. — Давай вернемся. Скажем: след пропал, дорога затоптана… Кто проверять будет? А снег пройдет и вообще все скроет.
— Дурак ты, Матвей. — И Соткин похлопал напарника по потному лбу. — Посмотри на след! Это же баба бежала. С дитем.
— Ты думаешь?
— А ты что, совсем в следах не разбираешься? Вот, смотри, этот — женский. А этот — детский. Видишь, неглубоко протопает. Говорят, у старосты дочь есть. Прошлой зимой в лес ушла. Красавица.
— Думаешь, приходила?
— Ты представляешь, если мы ее поймаем! Фон Юнкерн с нами не расплатится. Вставай, Матвей, пока след не простыл. Волка ноги кормят.
Глава двадцать третья
Они побежали гуськом к лощине. Воронцов — впереди, Степан — замыкающим. Танкисты — в середине. Танкистов надо было беречь. Тихо спустились в лощину. Взяли правее, пробежали по темнеющей ольховой листвой стежке, протоптанной, видимо, немецкими танкистами, и вскоре впереди, на переезде, увидели застрявшую в болотине вторую «тридцатьчетверку».
— Вот откуда они таскают снаряды, командир, — указал автоматом Штыренко.
Воронцов приказал Николаеву затаиться на выходе из лощины со следующей задачей: назад не выпускать никого, но стрелять — только в самом крайнем случае.
— Штыренко, а ты быстро пройди по стежке, проверь, куда она ведет и нет ли там поста.
Штыренко скоро вернулся, доложил:
— Все чисто, командир.
— Действовать только ножами.
— У меня ножа нет, — сказал Штыренко.
— Он тебе и не нужен. Лезь в танк, ты там ориентируешься хорошо. Найди что-нибудь потяжелее… Давай, вперед. Только, пока он туда не залезет, сиди тихо.
Люк «тридцатьчетверки» был открыт. Штыренко ловко запрыгнул на заиндевелую броню и исчез в башенном люке.
— Степан, ну что, как будем брать своих?
— Я с ними один управлюсь.
— Не дури. Там мужики здоровые.
— Ты меня подстрахуй вон оттуда. — И Степан указал за гусеницу танка. — Хорошо, что у них тут пост не выставлен. Как они такое пропустили?
— Они — в своем тылу.
Степан быстро снял телогрейку, свернул ее, сунул под днище танка. Сверху положил автомат. Наган сунул за ремень сзади. Вытащил из-за голенища сапога нож, зашел за корму и затаился.
В поле уже рассветало. Только здесь, в глубине лощины, переходящей в лесной овраг, все еще царила ночь. Воронцов сидел на четвереньках, прижавшись к заиндевелым каткам танка, и прислушивался. Т-34, по всей вероятности, был вполне исправным. Его просто утопили в болоте. Теперь он вмерз в грязь, одной стороной утонув почти до моторной решетки. И немцы перетаскивали из затопленного танка боеукладку. Однажды на дороге, пережидая немецкую колонну, Воронцов видел целую колонну наших «тридцатьчетверок» и тяжелых KB, уже перекрашенных, с крестами на башнях. Шли они к фронту. Вот и этот Т-34 завтра-послезавтра вытащат. А тот, куда таскают снаряды, видимо, уже боеготов. Немцы — народ хозяйственный, бережливый. Из лесов вытащили все брошенные нашими войсками пушки и минометы, собрали все снаряды и мины. И теперь стреляют из них по нашим же окопам и танкам.
Голоса, которые донес со стороны поляны низовой утренний ветер, заставили Воронцова забыть обо всем. Он держал в рукаве нож, найденный им несколько дней назад, еще до морозов, на теле убитого снайпера. Винтовку он оставил Нелюбину. Ремень «шмайсера» перекинул через голову, передвинул автомат за спину, чтобы не мешал свободно двигаться.
Немцы шли не спеша. Один из них курил, роняя под ноги тусклые искры. Шли спокойно, переговаривались. Миновали ивовый куст, за которым затаился Николаев. Начали приближаться к танку. Воронцов примерился к нему. Курил именно тот, замыкающий. Плотный, чуть выше среднего роста. Здоровяк. Не дай бог, если именно он полезет в танк. Штыренко, метр с пилоткой, с ним не справится. У шедшего впереди Воронцов увидел на ремне тяжелую кобуру. Пистолетами, видимо, вооружены и остальные. Если случится заминка, начнут стрельбу, а там уж — чья возьмет… Шедший впереди, не останавливаясь, вскочил на броню, но то ли споткнулся, то ли поскользнулся на обметанной инеем наклонной броне, тут же загремел вниз.
— Mein Gott! — взвыл упавший. — Es ist sehr glatt! Das ist vielleicht ein Wetter![14]
Двое других засмеялись. Танкист снова, уже осторожнее, вскарабкался на башню. В руке у него сверкнул фонарик. Луч скользнул по серым веткам ольх и исчез в чреве башни. Вот этого они не учли. Воронцов потянул из рукава нож. Если Штыренко затаился в башне, немец его сразу же обнаружит. Немец благополучно спустился в люк, загремел сапогами по днищу, затих. Его окликнули. Но из танка никто не отозвался. Второй танкист взял у здоровяка тусклый огонек сигареты, несколько раз ярко осветил свое лицо, отщелкнул недокуренную сигарету в снег. Окурок подпрыгнул и зашипел. И в это время танковый мотор за ольхами затих. Сразу вокруг все замерло. Немец натянул перчатки и постучал сапогом по броне:
— Helmut! Was ist geschehen?[15]
Почему медлит Степан? Штыренко, видимо, уже сделал свое дело. Воронцов сразу понял те звуки, которые прекратили топот немецкого танкиста по днищу танка. Насторожился тот, который, видимо, приготовился принимать из люка снаряды.
И в это мгновение напряженная скрюченная тень метнулась к здоровяку. Тот охнул и стал, медленно поворачиваясь к ольхам, заваливаться на бок. Второй танкист успел вскрикнуть, но тут же рухнул на колени, мотнул головой и захрапел, разбрызгивая по затоптанному снегу кровавые пятна. Воронцов запрыгнул в люк, чиркнул зажигалкой: Штыренко сидел на днище танка, держа в руках огромный гаечный ключ, а под ногами у него лежал танкист, уткнувшись лицом в россыпи гильз.
— Обыщи его, Штыренко! Давай, быстро!
Воронцов спрыгнул вниз. Степан наскреб под ногами пригоршню снега, протер нож и сунул его обратно за голенище. Потом вытащил из-под днища свой автомат, ватник и начал не спеша одеваться, застегивать пуговицы — снизу вверх, все до одной.
— Как ты их, Степ… — Воронцов осмотрел тела убитых, несколько раз при этом оглянулся на Степана и сказал: — Надо их убрать. Спрятать. Чтобы сразу не нашли. Давайте, быстро. Вон туда.
Они оттащили трупы в овраг. Сняли с них комбинезоны и ботинки. Быстро переоделись.
— Штыренко, возьми фонарик и — давай за снарядами. Живо, ребята, живо. Пока все тихо… Пока не рассвело… Там Демьян — один…
Воронцову достался здоровяк. Степан его свалил первым. Расстегивая комбинезон, он перевернул его на бок и увидел небольшую продольную ранку на шее на два пальца ниже стриженого затылка. Он оттер снегом испачканный сгустками крови воротник, быстро, не снимая сапог, натянул его на себя, прямо поверх гимнастерки. Кто-то из танкистов сунул ему пилотку, которую немец потерял возле танка в первые же мгновения схватки.
— Наших ребят, из разведки, на Извери… Помнишь? Точно так же… — Воронцов повернул стволом автомата стриженую голову танкиста.
— Это самый верный удар ножом. Мгновенная смерть. — Степан говорил, не поднимая глаз. Воронцов тоже не смотрел на друга.
Переоделись молча, быстро. Свое затолкали под днище танка. Взвалили на плечи по два снаряда и гуськом, как ходили немцы, пошли по тропинке в сторону поляны. Штыренко впереди, за ним Степан, Воронцов — замыкающим. Николаев оставался следить за дорогой.
Уже совсем рассвело. Внизу, левее, виднелась какая-то речка или овраг, заросший ольхами и ракитами. Правее начинался пологий склон, исхлестанный колеями. Дальше, по опушке, виднелись колья с обрывками колючей проволоки. И по всему склону — разнокалиберные воронки, присыпанные снегом. На обочине, в кювете, запрокинувшись в небо обгоревшим остовом, лежал искореженный грузовик. Видимо, совсем недавно здесь проходила передовая. Или наши действительно прорвались сюда, и здесь их остановили.
Охранник ходил вокруг «тридцатьчетверки», размахивал руками в широких рукавицах, грелся. Механики по-прежнему возились возле гусеницы. Костерок прогорел. Из котелков пахло разогретой тушенкой и кашей.
— Если сейчас дело сделаем, сразу пожрем. А, командир? — Штыренко оглянулся, сверкнул горячечными глазами. Губы его дрожали в неестественной улыбке, от которой ему, видимо, хотелось избавиться, но все никак не получалось.
Когда вышли из леса, Воронцов огляделся и оценил обстановку.
— Слушайте внимательно: на дороге долго находиться нельзя, поэтому действуем быстро. Все собираем, танкисты угоняют танк в лес, мы — следом.
— А мехвод ихний вон он, — с той же дрожащей улыбкой сказал Штыренко. — Курит.
На башне «тридцатьчетверки» сидел четвертый танкист и курил сигарету.
— Эх, не положено на борту курить… Эх, не положено… Что будем делать, командир? Узнает он нас, постреляет издали.
— Идем, как шли. Спокойно, Штыренко. Запомни: ты идешь к своему танку. Понял?
— Понял.
Где Демьян? Если бы он подполз с другой стороны… Нет, оттуда не подобраться. Сверху, с башни, все видно на десятки шагов. У механика-водителя на ремне кобура с пистолетом. У охранника — карабин. Воронцов почувствовал, что его начинает бить озноб.
— Поднимите повыше локти, закройте лица, — сказал он шедшим впереди, когда до танка оставалось шагов пятьдесят.
И в это время он увидел младшего сержанта Петрова. Демьян медленно встал из зарослей бурьяна. Руки его были высоко подняты.
— Не стреляйте, гер офицер! — крикнул он. — Не стреляйте! Хенде хох! Сдаюсь!
Часовой тут же сорвал с плеча карабин, клацнул затвором, прицелился. Неужели выстрелит?
— Если выстрелит, бегом к танку. Снаряды сразу не бросать, а то все поймут. Степан, твой — танкист. Я возьму часового. Штыренко, твои — механики.
— Kom! Kom, Rus! — неожиданно засмеялся немецкий танкист. Он встал, спрыгнул на корму и замахал Демьяну руками.
Механики тоже бросили работу. Все смотрели на неизвестно откуда взявшегося красноармейца.
— Быстрей! — скомандовал Воронцов. — Степан, давай вперед!
Штыренко отстал и занял место за Воронцовым. Они быстро приближались к танку. Демьян что-то кричал, спотыкался, падал, снова вставал и снова что-то кричал… Он выполнял свою роль — отвлекал немцев. Грубо, нелепо. Но у него получалось. Немцы смеялись, весело жестикулировали. Часовой опустил карабин и пошел навстречу Демьяну. И Воронцов, превозмогая лихорадочную дрожь, понял, что хотя бы на часового им теперь не надо отвлекаться, Демьян с ним управится сам. А им оставалось добраться до танка. Поскорее — до танка. Они уже почти бежали. И в это время немецкий танкист, стоявший на корме «тридцатьчетверки», что-то резко крикнул часовому.
Но Демьян уже шагнул к своему противнику, схватил его своими огромными руками, рванул на себя с такой силой, что тот выронил карабин, и вместе с ним покатился в воронку. Демьян сорвал с немца каску и начал рубить ею по голове, по выброшенным вперед рукам, и бил до тех пор, пока тот не перестал двигаться.
Степан с разбегу запрыгнул на броню танка и, пока механик-водитель вытаскивал пистолет и досылал патрон в патронник, дважды ударил его ножом.
— Штыренко, быстро в танк! Проверь там! — И Воронцов подбежал к механикам.
Трактористы, пригнанные немцами из ближайшего села, где совсем недавно со всеми своими службами размещалась межколхозная МТС[16], стояли возле танка и испуганно наблюдали за происходящим. Старший толкнул своего напарника, и они тут же подняли руки. Воронцов посмотрел на них и ничего не сказал.
— В танке, командир, никого, — доложил Штыренко.
Демьян вылез из воронки, устало посмотрел по сторонам и, убедившись, что все в порядке, сел прямо на снег — отдохнуть.
— Ну что, мужики, — отдышавшись, хрипло позвал он механиков, которые все еще стояли, онемев, — машина исправна? Запускать можно? Ходовая не подведет?
— Все как есть в полной исправности, товарищ командир, — бойко доложил старший, медленно опуская озябшие руки. — Тут только и было делов, что ленивец сбит и гусеница размоталась.
— Горючее?
— Бак почти полный, товарищ командир, — тут же уточнил старший механик. — Мы из того… ну, который в овраге, в болоте утоплен, слили и дозаправили. И вон они… — Он указал на убитого танкиста. — Три канистры с собой принесли:
— Штыренко, проверь уровень масла. И — запускай. Танк отгоняйте к опушке. След замаскировать. Степан, бери автомат и — на дорогу. — И Воронцов спросил механиков: — Село ваше далеко отсюда?
— Ровно три километра.
— Немцы есть?
— Есть. Батальон пехоты и танки. До села деревня еще есть, примерно в полутора километрах, Рябухино, шесть дворов. Там немцев нет. Три полицая постоем стоят. При лошадях. Они каждое утро все дороги здешние объезжают. Мы второй день тут. Вчера — были. Все трое. С винтовками.
— Что, вас проведывают?
— Вряд ли. Служба у них такая. Когда тут глубокий тыл был, жизнь у полицаев куда как вольготная была. Ездили по деревням, поросят резали. Печенку ели да баб щупали. А теперь — другое дело. Фронт, вон он, рядом. И немцы с них службу требуют.
Воронцов посмотрел на механиков. Второму, который все еще стоял с поднятыми руками, было лет двадцать пять. Пряча в кобуру пистолет, спросил его:
— А ты почему не в армии?
— Не призвали, — ответил тот и опустил руки. — Да я хоть сейчас. С вами пойду. Возьмете?
— Нет, не возьмем. Но и отпустить вас сейчас не можем. Уйдете, когда и мы пойдем. Карту кто-нибудь из вас читать умеет?
— Да мы вам и без карты все тут знаем и расскажем. Вам, как я понял, через фронт надо?
Воронцов кивнул.
— Тогда вот что. Этой дорогой ехать нельзя. Там, дальше, Луковка, немцев там много, большая часть стоит. И танки, и пехота, и артиллерия. Оттуда они ездят к Зайцевой Горе. До Зайцевой от Луковки километра четыре, не больше. А правее есть лесная дорога. Там только в одном месте неважный переезд. Но если бревен настелить, то проехать можно.
— Куда идет эта дорога?
— На вырубки. А с вырубок — на шоссе. Немцы по ней ездят редко. На лошадях. Там у них то ли пост, то ли что…
— Проводить сможете?
— Что ж, смогу, — сдержанно согласился старший.
— Зовут-то вас как?
— Дядей Захаром. А вас же как величать, товарищ командир?
— Курсантом.
Дядя Захар качнул головой и сказал:
— Для командира уж больно невеликое звание.
— А это, дядя Захар, и не звание, — сдержанно ответил Воронцов.
— А что ж?
— Должность.
Механик снова покачал головой.
В это время мотор «тридцатьчетверки» взворвал тишину, эхом прокатился по окрестности и заработал ровно. Из башни выглянул улыбающийся Демьян. Ссадина на его лбу совсем засохла, казалась масляным пятном. Он крикнул:
— Подавайте снаряды!
И механики кинулись выполнять приказание нового командира танка.
Покончив с укладкой снарядов, Демьян снова выглянул из люка и сказал:
— Товарищ командир, Штырь говорит, что там еще полный «чемодан» бронебойных. Давайте заберем? Пригодятся. И еще кое-какое барахлишко. Тоже надо забрать.
— Пулеметы проверил? — спросил Воронцов.
— Пулеметы, похоже, в порядке. Патронов маловато. Надо там посмотреть.
— Быстро — туда и обратно. Ждем вас на опушке. Заезжать в лес так: вначале дайте кругаля по краю поля, а потом — заднюю, и вон до той осины. Заглушите мотор и ждите. Кто у вас за механика?
— Штырь.
— А мы с Николаевым, если что, стрелять будем. — Демьян указал на котелки над прогоревшим костром. В горячке о них, казалось, забыли: — Штырь просит поесть. Подайте, товарищ командир, пару котелков.
— А пару-то зачем?
— Как зачем? На весь экипаж, — улыбнулся Демьян, и холодные глаза его немного потеплели.
— Тогда забирайте и третий.
— А вам?
— Нам и одного хватит. Трупы сложите там же. Только побыстрей.
— Что с одеждой? Ребят бы получше одеть…
— Одежду заберите. Раздайте особо нуждающимся.
Вскоре «тридцатьчетверка» вернулась. Танкисты сняли пулемёт. Слили еще несколько канистр соляры. Забрали последние снаряды. Танк загнали в молодой ельник и хорошенько замаскировали, так чтобы его нельзя было разглядеть даже с воздуха.
Глава двадцать четвертая
На железнодорожной станции всех пригнанных разделили на две группы. Каждую тут же оцепили солдаты с огромными овчарками на поводке. Собаки поглядывали на пеструю толпу, похожую на деревенский сход, зло и предостерегающе лаяли. Раздались новые команды, и народ построили в три шеренги, лицом развернув к кирпичным пакгаузам. Пожилой немец в очках, должно быть, офицер, достал из полевой сумки пачку листов и начал выкрикивать фамилии. Некоторые фамилии повторялись по нескольку раз, и немец, поблескивая круглыми стекляшками толстых линз, криво усмехался и качал головой. Он понимал, что это братья и сестры, родня, и что в России большие семьи, а значит, людской ресурс большевиков, если сравнивать его с рейхом, даже в границах союзнической Европы, неисчерпаем. Немец хорошо говорил по-русски. И читал он, видимо, по русским спискам. Списки составляли в разных деревнях, разные люди их писали. Но он умел понимать и беглое письмо, даже не вполне грамотное. Офицер ненавидел свою должность, но она была все же куда лучше, чем мерзнуть в окопах и вытряхивать над костром вшей. А потому он исполнял свои служебные обязанности добросовестно, как подобает офицеру германской армии.
— Денисенкова Анна! — выкрикнул офицер.
— Здесь! — откликнулась заплаканным девичьим голосом неровная шеренга.
— Денисенкова Аграфена!
— Здесь! — всхлипнула соседка.
— Денисенков Петр!
— Я! — отозвался худощавый юноша в треухе и ватнике.
Называли прудковских. Когда очередь дошла до Шуры и она почувствовала, что вот сейчас назовут ее фамилию, ноги у нее задрожали, и стоявшая рядом Ганька, схватила подругу за руку и шепнула:
— Что ты? Держись за меня. Теперь надо терпеть и привыкать.
— Ермаченкова Александра!
Саша, собрав все силы и смелость, пискнула в ответ: «Здесь!» — и только тут по-настоящему поняла, что с нею произошло. Ноги ее подкосились, но она крепко держалась за подругу и устояла. Перед глазами плавали разноцветные круги, в висках отдаленно звенело, будто внутри что-то оборвалось, без чего жить будет очень трудно. Офицер сверкнул линзами в ее сторону и что-то сказал по-немецки. Что-то незлое. Лицо его по-прежнему было суровым и непроницаемым.
За пакгаузами, где до войны, обнесенные изгородью в три жерди, стояло несколько неказистых деревянных зданий скотобойни, бродили какие-то люди. Здания скотобойни и теперь стояли на прежних местах, но их теперь обнесли колючей проволокой на длинных шестах, вкопанных в землю. По углам стояли вышки. На вышках маячили часовые. Саша слышала от взрослых и брата, что на станции немцы построили концлагерь и что туда сгоняют всех пленных красноармейцев, партизан и тех из местных жителей, кого ловили после комендантского часа, коммунистов и комсомольцев, других нарушителей нового порядка. Теперь она видела его своими глазами. И те люди в оборванной одежде, которые мерзнут за колючей проволокой и потерянно бродят там, словно привидения, и есть военнопленные. Время от времени оттуда доносились страшные крики и стоны. Так кричат умирающие и обреченные на смерть. И пахло оттуда нехорошо и страшно — нечистотами и смертью.
Шура и Ганька оглядывались на тот жуткий загон, где томились теперь люди, и им становилось не по себе. А что, как их в той неведомой Германии загонят на такую же скотобойню?
— Сашечка, — шептала Ганька, — давай слушаться. Ты ведь понимаешь, что они говорят. Все делай так, как они приказывают, и мне говори. А то плохо нам придется. Пропадем мы там, в той распроклятой Германии.
Рядом с воротами, выходящими к железнодорожной насыпи, чернел какой-то штабель, заиндевелый и присыпанный сверху снегом. Что там сложено, издали не разглядеть.
Наконец перекличка закончилась. Все пригнанные на станцию оказались в наличии. Можно было отправлять. Офицер сунул листки со списками в полевую сумку. В это время в стороне вокзала лязгнули сцепками и буферами вагоны, сипло вскрикнул паровоз, и из-за пакгаузов, осторожно пятясь в тупик, выползли два вагона.
Шура не раз с родителями и Иванком бывала на станции и видела, что в таких вагонах, сбитых из досок и кое-как окрашенных краской неопределенного зеленовато-бурого цвета, порядком уже выгоревшей и обмытой дождями, возили мешки с зерном, картошку и пиломатериалы. Иногда в узкие вентиляционные окошки, проделанные под самой крышей вагонов, высовывались печальные лошадиные головы. Однажды Шура видела, как по широкому трапу в такой вагон загоняли коров, целое стадо. Погонщики стегали их кнутами. Некоторых затаскивали на веревках. Туго обматывали рога и тащили вверх, сзади нахлестывая всем, что попадало под руку, и матерясь. Люди садились в другие выгоны, и те вагоны подавали к вокзалу, к высокому перрону. А в этих — ни окон, ни ступеней с удобными, крашенными белой краской поручнями, которые проводники всегда протирали белыми тряпочками. Немецкий язык в школе ей давался легко, так же как и русский, как история и география. И Шура хорошо понимала, что говорил офицер своим солдатам и что отвечали ему они.
— Скажите коменданту лагеря, — говорил офицер одному из конвоиров, — сошлитесь, разумеется, на меня, чтобы выделил десяток иванов. Пусть они устроят помост, чтобы мы поскорее осуществили погрузку ост-рабочих.
— Я не вижу никакого подручного материала для изготовления помоста, господин обер-лейтенант, — крутя головой в высокой фуражке и черных наушниках, заметил другой офицер, подошедший к очкастому в тот момент, когда закончилась перекличка и подали вагоны для погрузки.
— Материал есть. Вот он, Вилли, перед вами. Да-да, именно это!..
— Но, господин обер-лейтенант!..
— Мы на войне, Вилли… И не просто на войне, а на Восточном фронте.
— Но здесь не фронт.
— А вы, я вижу, очень хотите там оказаться… Должен заметить, дорогой Вилли, с вашей чувствительностью и вашим ревматизмом… Ну что стоите? Действуйте! Для воплощения великой идеи всякий строительный материал может быть пригодным, особенно в основании…
И вот ворота, опутанные колючей проволокой, распахнулись. Конвоиры выгнали группу оборванных, обросших многодневной щетиной людей в красноармейских шинелях и ватниках. И те начали быстро разбирать штабель. Вначале Шуре показалось, что там сложены шпалы или дрова. Но когда пленные начали складывать их возле вагонов, толпа качнулась и охнула.
— Мертвые!
— Это же умершие солдаты!
Гора замерзших трупов быстро росла возле черных зевов вагонных проемов, образуя нечто вроде помоста. Почти все они были раздеты. Редко на ком оставалось изношенное до крайности исподнее и портянка, примотанная к ноге проволокой или обрывком скрученного бинта.
— Вперед! По вагонам! — закричали охранники.
Но толпа оцепенело стояла напротив, не смея сделать и шага. Немцы вскинули винтовки. Послышались выстрелы. Но охранники стреляли поверх голов. Зато собаками начали травить по-настоящему. И первая шеренга, испугавшись, что их сейчас затравят собаками, с жутким воем хлынула к вагонам.
— Быстро! Быстро! — поторапливал то ли приготовленных к погрузке, то ли своих подчиненных обер-лейтенант, сверкая толстыми линзами очков.
— Шурочка, миленькая, надо идти! — кричала ей Ганька, обеими руками поддерживая подругу, у которой подкашивались ноги и мутилось сознание. Это было страшнее, чем в деревне.
Их толкали в спины, поторапливали.
— Давай, подруженька, закроем глаза и пойдем. А то загонят за проволоку.
Шура и Ганька крепко ухватились за руки. Внутри у Шуры все захолодело. Она охнула и упала в снег, рядом с заиндевелыми телами красноармейцев. Пусть меня затопчут, пусть загонят на скотобойню, но по телам умерших солдат я не пойду, теряя сознание, думала она.
Очнулась она в вагоне, на дощатых нарах, застланных грубой гречишной соломой. Рядом с нею, подсунув под голову оба мешка, лежала и тихо посапывала во сне Ганька. Несмотря на то, что потолок над верхними нарами был увешан гирляндами заиндевелых паутин, в вагоне было тепло. Только от двери время от времени потягивало промозглым сквозняком.
Когда их согнали на школьный двор и начали составлять список, родители успели собрать в дорогу самое необходимое. Жандармы приказали развязать мешки, узлы, открыть чемоданы и сумки, порылись в вещах и продуктах и разрешили передать их детям. И тут снова над деревней взвился женский плач и стон.
Шура вспоминала бледное и постаревшее от горя лицо матери и едва удержалась от слез. В углу, в другом конце вагона, кто-то всхлипывал и сморкался. То там, то там слышался то дрожащий вздох, то задавленный всхлип. Но некоторые спали. Спала и Ганька, обняв их мешки. Что было в тех мешках, наспех собранных в дорогу матерями, Шура еще и не знала.
Возле чугунной печки, черная труба которой была выведена в крышу вагона, возились трое парней. Один постарше, лет семнадцати, примерно ровесник Иванка, и двое лет по четырнадцати. Время от времени они открывали длинным кривым гвоздем чугунную бордово-сизую дверцу, раскаленную от ярко пылающего, клубящегося в топке огня, подбрасывали туда еще несколько черных искрящихся кусков, похожих на камни. И Шура догадалась, что это каменный уголь. Двое, одетых в добротные рыжие полушубки и заячьи шапки, переговаривались и поглядывали на своего товарища. Тот, неподвижным взглядом уставившись в дверную щель вагона, молчал.
— Володь, не переживай, жива она.
— Не вышла… Она не вышла, когда нас увозили. — И Шура увидела, как лицо до этой минуты молчавшего, которого называли Володей, сморщилось в мучительной гримасе. Но он не заплакал. Только вздохнул, стиснув зубы и зажмурившись.
— Чем он ее ударил? — спросил старший.
— Прикладом. Прямо в лицо. Она сразу упала. А второй в это время закричал. То ли на меня, то ли на того, который маму ударил. Потом схватил меня, мою одежду, потащил на улицу. Больше я маму не видел.
— Ты даже ничего не успел с собой взять?
Володя мотнул головой.
— Это плохо, — рассудил старший. — Неизвестно, куда нас повезут. Сколько дней будем в дороге.
— Серег, а кормить нас будут? — Младший, одетый в рыжий полушубок, пристально смотрел на старшего, очень похожего на него. И по тому, как они были похожи, и по взгляду больших светлых глаз, в которых мерцала надежда и доверие, Шура поняла, что они — братья.
— Коля, мы ж договорились, что про жратву не разговариваем.
— Ладно, ладно, больше не буду.
Шура все еще не могла прийти в себя. Все произошедшее казалось ей чудовищным кошмаром, нелепым сном, вроде того, который она уже переживала несколько раз в своей жизни. В первый раз, когда заболела свинкой. Потом, когда они с Иванком едва не провалились под лед. Но был и еще один сон. Летом прошлого года, в конце августа, через две недели после того, как отец ушел на фронт. Ей тогда отец и приснился. Страшный, обросший до глаз щетиной, в такой же оборванной шинели, как те красноармейцы, которых немцы держат за колючей проволокой на скотобойне. Она его видела всего одно мгновение. «Что, доня, узнала меня? — сказал он, с трудом разлепляя сухие потрескавшиеся губы. — Ничего, ничего… Я живой». Она хотела закричать, позвать его, но не успела. Он исчез. И она до утра пролежала, глядя в неподвижную темень, пока за окнами не засинелись утренние сумерки. Мать за тесовой перегородкой легко, как отдохнувшая птица, соскочила с кровати, заглянула к ней и позвала: «Шура? Ты спишь?» Видимо, слышала ее испуганное дыхание. Она притворилась спящей и ни матери, ни брату о том, что видела отца живым и невредимым, только очень усталым, не сказала.
И вот теперь она увозила с собой тайну того сна. Жив ли ее папка? Где он теперь? Она вздохнула и, осмелев, спросила сидевших возле чугунной печи:
— Ребята, в вы из какой деревни?
— Из Гольтяева, — ответил старший из братьев, которого называли Серегой.
— Тебя Сережей зовут? — И она привстала и попыталась улыбнуться.
— Меня — да, — спохватился старший. — А это — мой брат, Коля. Это — Володя. Мы все из Гольтяева. В одну школу ходили.
— А меня зовут Шурой. — И тут же поправилась: — Александрой.
Ребята смотрели на нее. Она — на них.
— А вы не знаете, куда нас везут? — наконец спросила она.
— Куда-то в Германию. А куда точно, никто не знает.
И тут из глубины вагона кто-то сказал:
— Скорей бы станция. В туалет хочется, спасу нет.
— Вряд ли нас на станции выпустят, — сказал Серега.
— А как же быть? — спрашивала женщина лет двадцати пяти. — Как же так?
— Иди вон в угол. Там и нары потому не поставили…
— Ох, господи, царица небесная!.. — вздохнула женщина и перевернулась на другой бок.
Саша слышала, что говорили немцы, закрывая вагоны на станции: никого не выпускать до самого пункта прибытия. И — никакой дыры в полу. Иначе взломают доски и разбегутся. Приказ — везти в полностью закрытых вагонах. Приказ необходимо исполнить в точности. Воду и еду будут давать на станциях во время стоянки эшелона. Вот о чем говорили конвоиры.
Вскоре прибыли в Вязьму. Вагон, поскрипывая, остановился. Подошли охранники, откинули задвижку и в щель просунули ведро теплой, видимо, кипяченой воды и ведро баланды. Ведра подавал пожилой полицай в черной шинели. Рядом топтался конвоир, щуплый немец с винтовкой.
— Дяденька, дяденька! — кинулась Шура к полицейскому. — Можно вас попросить?
— Ай, да ну вас!.. — отмахнулся полицай и побежал к следующему вагону.
Немец с любопытством смотрел на нее, и она, став возле щели на колени, обратилась к нему:
— Herr Soldat, bitte Sie… Darf ich Sie urn bitte?
— Was ist dort?
— Wo kann ich Toilette finden?[17]
Немец сделал неприличный жест и загоготал. Шура отошла от дверной щели и заплакала.
— Скоты, — сказала женщина и пошла в дальний угол вагона.
Воду они разделили. Тут же нашлась алюминиевая кружка. Кто пил, кто наполнял бутылки, миски и другую посуду. Серега ворохнул деревянным черпаком жидкую баланду и сказал:
— Кто на приварок?
— Из бураков…
— Воняет чем-то…
— Кролячьей мочой.
На нарах засмеялись.
— Ну что, желающих нет? — переспросил Серега. Он снова зачерпнул баланду, понюхал и вылил обратно в ведро. — Пусть сами жрут.
— Неужто и в Германии так кормить будут? — сказала женщина. Она была из вольнонаемных. Были в вагоне и такие. Они сами записывались в команды на отправку в Германию, поверив в то, что там, в обустроенной Европе, можно хорошо устроиться, работать на заводе, начать новую, счастливую жизнь. — А ты, девочка, я вижу, хорошо знаешь немецкий язык?
— Да так, в школе учила, — пожала плечами Саша.
— Мы все в школе учили. Да не все выучили. А что ты ему такое сказала, что он так на тебя взвился?
— В туалет попросилась.
— У нас теперь и столовая, и спальня, и туалет — в одном месте. Хоть бы ведро какое дали…
Следующая остановка была в Минске. Снова со скрипом отодвинулась дверь и в щель просунули два ведра. Воду выпили сразу. Кое-кто стал хлебать вонючую баланду. Шура и Ганька есть ее не стали. Экономно расходовали то, что им собрали в дорогу матери. Володя, попросив у кого-то миску, подошел было под раздачу, но Серега вытащил его из очереди за руку, усадил на ящик и сунул ему кусок хлеба с тонко нарезанным салом.
В туалет по-прежнему не выпускали. И вскоре в вагоне стало нечем дышать.
Однажды поезд замедлил ход. Звякнули буфера. Вагоны остановились.
— Расцепляют.
— Платформы меняют. У них тут, в Европе, рельсы другие, узкие, не то что у нас.
— Мы что, к границе подъехали?
— Да, должно быть, уже в Бресте.
И вагон завыл.
— Ой, мамочка моя родимая!
— Куда ж нас увозят?!
— Кому мы там нужны?
— Погибнем мы там…
Границу два товарных вагона пересекли с рыданиями и криками о помощи. Но их голоса слышала только ночь да заснеженные ели.
После Варшавы поезд останавливался на небольших станциях. Состав несколько раз переформировывали, гоняли по тупикам. Уже ехали по Германии, когда закончилось топливо. Потом повернули на юго-запад. И вот загнали в очередной тупик. Паровоз, хрипло посвистывая, ушел куда-то в промозглую черноту ночи. Утром, едва рассвело, послышались голоса и лай собак. Со скрипом отодвинули дверь. И они увидели шеренгу людей в форме, в высоких шлемах. Это были немецкие полицейские.
Всем скомандовали на выход. С трудом передвигая ноги по скользкому от нечистот полу, они подходили к дверному проему и вываливались на отсыпанный серым гравием откос, катились вниз, поднимались на ноги, окликали друг друга и испуганно бежали вдоль шеренги полицейских с собаками. Полицейские провожали их брезгливыми взглядами, отворачивались, зажимали носы. Шура слышала их возгласы:
— Русские свиньи…
— Из какого свинарника их привезли?!
— Бог мой! И их называют людьми!..
Их построили в колонну по пять, сделали перекличку. Четверых из их вагона не хватало. Охранники полезли в вагон и сбросили под откос четыре окоченевших трупа. Двоих везли от самой Варшавы, двое умерли уже в Германии. Погнали пешком по булыжной мостовой. Когда проходили мимо сквера с аккуратно постриженными деревьями и кустарниками, на фасаде старинного здания Саша увидела тяжелые готические буквы: «Баденвайлер».
— Ганька, мы в Баденвайлере.
— Где это, Сашечка? — испуганно оглядывалась по сторонам Ганька.
— Юго-запад Германии. Граница со Швейцарией и Францией.
— Во Франции тоже немцы.
— Зато в Швейцарии их нет.
— А что, Швейцария в войне не участвует?
— Нет. Она держит нейтралитет.
— Откуда ты знаешь?
— Иван Лукич говорил. И до войны в газетах так писали.
— А если убежать туда? А, Шурочка? Там же войны нет!
— Об этом давай молчать. — И Шура кивнула на полицейского, который шел шагах в пяти и немного впереди, ведя на поводке крупную овчарку с бурой, как у волка, спиной.
Глава двадцать пятая
— Нет, Прокошенька, не справимся мы с тобой. Бревна вмерзли, не осилить нам их. Надо попробовать где-нибудь землю подкопать. Где сильно не промерзла. А ну-ка, разгребай листья.
— Мам, ты думаешь, там есть соль?
— Может, и есть. А может, и нет.
— А зачем мы тогда копаем?
— Спрячемся там. До утра. Ночь переждем, а утром уже пойдем.
— Куда? На хутор? На озеро?
— А куда ж еще? Больше нам, Прокошенька, идти некуда. Ты ж видел, что в деревне делается.
Они выломали колья, разгребли листву и начали долбить мерзлую землю. За этим и застали их полицейские. Они уже успели выдолбить порядочное отверстие, в которое Прокопий свободно просовывал голову, когда сзади послышались осторожные шаги.
— Мам, смотри, — мгновенно побледнел мальчик.
Зинаида оглянулась и присела от страха. Шагах в пятнадцати от них стояли двое полицаев. Один из них напряженно улыбался, держа наготове направленную на них красноармейскую винтовку. Другой отдувался, вытирал пот и оглядывался по сторонам.
— Ты кто? — спросил ее первый полицай.
Зинаида молчала. Произошло то, чего она боялась больше всего. Она ловила ртом воздух, который вдруг стал горячим, так что обжигало гортань и грудь. С трудом удерживая дыхание, Зинаида опустилась на снег.
— Что, беглая, спеклась? — хохотнул Соткин. — Ты чья же будешь? Старостина дочка? Ну, что молчишь? Знаем, наслышаны. Хотя лично, так сказать, не имели чести…
— Мы тут… За дровами пришли… — Зинаида с трудом выдавила эти несколько нелепых слов и жестом приказала Прокопию, чтобы уходил.
— Стоять! — тут же крикнул Соткин. — И не вздумай бежать. Пуля все равно быстрее бегает. За дровами они пришли… А может, за грибами? Или сенца коровке подкосить? Время-то как раз подходящее…
— Отпустите нас. Ну пожалуйста, отпустите. — И Зинаида встала на колени. — Христом богом прошу, отпустите. Мы ведь никакого зла никому не сделали.
— Разберемся. Сделали или не сделали… Может, и отпустим. — И Соткин засмеялся, сверкая белыми крепкими зубами. — А ну-ка, Матвей, пройди там, посмотри. Если никого, бегом сюда. С красавицей разбираться будем…
Фимкин, ухмыльнувшись и скользнув взглядом по лицу и дрожащим рукам Зинаиды, побежал к оврагу, на ходу заглядывая под навесы и в обвалившиеся шалаши, оставшиеся с прошлой зимы, когда отряд Курсанта пытался обосноваться здесь.
Господи, отведи сына моего, Прокопия, от зла этих людей, молилась Зинаида. Святая Владычица, Христа Бога нашего Мати, попроси Сына своего, со хранителем моим ангелом, спаси души наши, огради…
— Молишься, красавица… Значит, грешная. Молись, молись… — Соткин опустил к ноге приклад винтовки, достал из кармана шинели кисет с табаком и начал старательно сворачивать «козью ножку». — А парень с тобой чей же? Неужто твой?
— Мой. — И Зинаида схватила Прокопия, крепко прижала его к себе. — Если вы над ним что удумаете сотворить, бог вас накажет. И вас, и ваши семьи, и весь род ваш до четвертого колена. Вы слышите?
— Не тронем мы твоего щенка. Он нам без надобности. А вот с тобой у нас, красавица, разговор будет полюбовный. Будешь себя хорошо вести, договоримся. От тебя, как известно, не убудет. И ты свое получишь, и мы.
— Вы что такое задумали? Не смейте прикасаться ко мне! — Зинаида заплакала.
Прокопий вырвался из ее рук, схватил обломок кола, которым долбил землю, и кинулся на полицейского.
— Ишь ты! — И Соткин ловко, поддав каблуком затыльник приклада, вскинул винтовку и прицелился, стараясь поймать на мушку лоб мальчика.
Но выстрел прозвучал из глубины просеки, и полицейский, пошатнувшись и сделав вперед несколько неверных шагов, словно ища упор, начал заваливаться навзничь.
Выстрел заставил Фимкина машинально пригнуть голову, а затем метнуться за надежную колонну сосны в тот момент, когда он уже выбирался из оврага, собираясь сказать своему напарнику, что никого тут больше нет. Он видел, как мальчонка схватил березовый кол и бросился на Соткина, как Соткин вскинул винтовку. Фимкину не хотелось стрельбы. Ни стрельбы, ни лесной погони по незнакомым местам, ни опоздания на ужин. Беглянку нашли, да еще и не одну. Доставить ее к господину Юнкерну было делом несложным. А там можно рассчитывать и на поощрение. Юнкерн — человек не прижимистый. И жратвы немецкой подбросит, и из трофеев что-нибудь. И потому то, что Соткин вскинул винтовку и всерьез выцеливал мальчонку, бросившегося на него с палкой, его привело в замешательство. Он хотел было крикнуть, чтобы напарник не стрелял. Не убьет же его мальчишка, ведь он и с колом едва справляется. Но выстрел опередил его. Однако полыхнуло не оттуда, откуда должно было полыхнуть, если Соткин действительно решил подстрелить мальчонку, чтобы потом легче справиться с девушкой, а откуда-то из глубины просеки. Пуля, пройдя навылет, вырвала из рук Соткина винтовку.
Значит, они здесь не одни. Не одни… Перехитрила их девка. Вокруг пальцев обвела. Партизаны… А может, бросить винтовку и поднять руки? В сотне рассказывали, что два месяца назад пропавшая группа Горобца вовсе не пропала, а добровольно перешла к партизанам, и те их приняли и даже оставили при оружии, поставили на довольствие. Какие у него перед Советской властью прегрешения? Да никаких таких особенных прегрешений, можно сказать, и нет. Как же нет, в следующее мгновение тоскливо потянуло в груди, а кавалеристов раненых постреляли… Девка что-то кричала, звала, видимо, мальчика, который подбежал к неподвижно лежавшему Соткину и вытаскивал из-под него за ремень винтовку. Ах ты ж сучонок… И Фимкин вскинул винтовку и выстрелил в мальчика. Тот упал. Но пуля прошла мимо. Фимкин точно знал, что мимо. Он передернул затвор, и в это мгновение в глубине просеки снова полыхнуло. Пуля рванула сосновую кору над самой головой. Фимкин скатился в овраг. Других выстрелов не последовало. Значит, стрелок-то — один. А с одним можно и потягаться. Хоть и стреляет он неплохо. Но, во-первых, началась стрельба, а они здесь — чужие, им нужно торопиться, чтобы поскорее отсюда уйти, а во-вторых, уже темнеет, а он, полицейский Матвей Фимкин, ночью видит как кошка. Так что шансы у него есть. Еще не известно, какой он стрелок. А Соткину просто не повезло. Хотел, дурак, и тут моментом попользоваться. Попользовался…
Он затаился и решил ждать. Тот, кому нужна его жизнь или пуля, сам выйдет на нее.
Девка затихла. Возня возле блиндажа тоже прекратилась.
Иванок выскочил из оврага и побежал вдоль сосняка, стараясь держать в сторону вырубок. Он увидел свой след. Потом другой. Обогнул его. Оглянулся на деревню. Из бунок торчали закопченные металлические трубы. Некоторые из них дымились. Собак, сволочи, постреляли, стиснул зубы Иванок, вдруг поняв, что его беспокоило в только что оставленной им родной деревне — тишина. Он вспомнил улыбку Шуры. И скорчился, будто от внезапной боли, пронзившей его насквозь, упал на колени, заплакал.
— Шурочка, Шурочка… Ты потерпи… Потерпи… Я за тобой приду. Приду. Вот увидишь. Я за тобой приду, куда бы тебя ни угнали. Все переверну… Всех перебью… Перестреляю…
Он вскочил на ноги, отвел затвор, загреб из кармана горсть патронов, отсчитал пять и зарядил винтовку. Надо было искать Зинаиду и Прокопа. Он отыскал их след и вскоре обнаружил, что по нему прошли еще два следа. В солдатских сапогах. Значит, полицаи пошли не по его следу, а по следам Зинаиды и Прокопа. Двое… Вот они и есть. Шли торопливо.
Возле вырубок старый след Иванка уходил вправо. Но полицейские пошли по другой тропе.
Иванок быстро бежал по неглубокому снегу, стараясь передвигаться как можно тише. Иногда резко останавливался за деревом или присаживался за кустом, всматривался в лесные просеки и проймы редколесья, прислушивался. До землянки оставалось шагов сто, когда он услышал голоса. Разговаривали тихо. Послышался смех. Смех нехороший. Невеселый. Злой. Так сильный человек ликует над слабым. Дальше Иванок пошел тише, держа винтовку наготове. Вскоре он их увидел. Двое полицейских стояли возле землянки. Потом один из них ушел в сторону оврага. Зинаида стояла на коленях и плакала. Полицейский что-то ей говорил.
Иванок знал, что по дорожной просеке он не может идти скрытно, но, если свернуть в лес и дальше продвигаться, прячась за кусты, тоже можно наскочить на сушину и его тут же обнаружат и откроют огонь. По утоптанной дорожной колее идти было надежней. Еще двадцать шагов, определил он себе расстояние для верного выстрела, и можно стрелять. Шесть, семь, восемь… Спина полицейского была хорошей мишенью, но до нее оставалось еще шагов девяносто. Слишком далеко. Он может промахнуться. А фактор внезапности, как учил дядя Кондрат, надо всегда использовать на сто один процент. Он шел и мысленно торопил свои шаги: одиннадцать, двенадцать… Зачем здесь задержалась Зинаида? Надо было уходить в лес. Они бы туда, в дебри, не пошли. Он крался, как рысь, одновременно улавливая и оценивая все посторонние звуки. Потому что звука собственных шагов он не слышал — их не было. Двадцать два, двадцать три… Хватит. Он остановился, замер. И в это время Прокоп, сидевший возле Зинаиды, вскочил, схватил березовый кол и кинулся на полицейского. Тот засмеялся и вскинул винтовку. Все, медлить больше нельзя. Он совместил мушку с прорезью прицела. Геометрия углов и линий была совершенной. Все мгновенно совпало и замерло в ожидании единственного его движения. Черная спина вздрогнула, будто ответив на плавное движение его указательного пальца, и поплыла в сторону. Есть!
Иванок присел и переместился правее, укрывшись за заснеженным кустом ивняка. И в это время из оврага показалась голова второго полицейского. Тот, не целясь, выстрелил в его сторону, скорее всего, наугад, и тут же укрылся за сосной. Но Иванок видел его. Из-за сосны выглядывало плечо и козырек кепи. Он прицелился, стараясь, чтобы пуля прошла впоцелуйку с деревом, и снова нажал на спуск. Не попал. Пуля зацепила дерево и отрикошетила. Поспешил, не попал…
Полицейский его не видел. Он так и не понял, откуда по нему велся огонь. Но позицию стоило все же поменять. Так учил его Курсант. А уж кто-кто, но Курсант — снайпер настоящий. «Первая заповедь снайпера: никогда не делай два выстрела с одной позиции, — говорил ему Курсант. — Даже если ты уверен, что тебя не обнаружили. Просто не изменяй правилу». Иванок медленно опустился на снег и, держа винтовку перед собой, отполз в сторону. Замер. Прислушался. Возле блиндажа возились Зинаида и Прокоп. Видимо, пытались укрыться за бревнами. Это хорошо, что они издавали звуки. Полицейский, конечно, тоже слышал их возню. Но обстоятельствами управлял уже он, Иванок. И никто больше. И пусть кто-то попробует встать на его пути. Он перестреляет всех, кто будет мешать ему идти туда, на запад, в сторону Германии.
Он умел передвигаться почти бесшумно. Именно это качество всегда отмечал в нем Курсант и часто посылал в разведку. «Будь хитрее врага, — наставлял его дядька Кондрат. — Если нашумел, то постарайся сделать так, чтобы противник тебя потерял из виду. И появись уже с другой стороны, откуда тебя не ждут».
Иванок пополз, медленно огибая овраг. Он знал, что шагах в сорока, там, в ельнике, есть отводок, из которого должен просматриваться почти весь овраг. Там когда-то отрыли окоп для пулемета. Он полз, вслушивался, задерживая дыхание, и та тишина, которая вдруг нависла над ним ожиданием выстрела, убедила его окончательно, что полицай замер и ждет. Ждет его ошибки, проявления нетерпения. «Умей ждать. Затаись и жди. Даже если у тебя позиция не самая лучшая. Пусть противник сделает первое движение». Теперь он вспоминал наставления командира, как таблицу умножения, потому что неведомый и всемогущий учитель уже назвал его имя.
Он двигался медленно, как оса в меду. Так сдавливается пружина — медленно. И этому научил его Курсант. Он должен успеть сделать еще несколько движений, доползти вон до той позиции и только там замереть.
Тот, кто сейчас затаился в овраге и ждал его ошибки, тоже наверняка участвовал в облаве. И, быть может, именно он вытаскивал из бунки его сестру, а потом подгонял ее прикладом к школьному стадиону, к грузовикам с распахнутыми брезентами. Вот пусть он и станет еще одним, кто оплатит его жестокий и справедливый счет. Первый, заплативший за все, уже лежал возле землянки. За все… И за Шуру, и за материны слезы, и за кадку капусты. За все, гады, заплатите кровавой платой. И ты, сволочь, будешь следующим… Зубы Иванка стучали от злобы.
Иванок втиснулся в пулеметный окоп. Отдышался. Теперь сердце толкало кровь под самое горло, но не так гулко. Спустя минуту он снял шапку, окунул ее в рыхлый снег, повалял, снова натянул на голову и медленно выглянул из-за бруствера. В овраге было пусто. Неужели ушел? Нет, он не мог уйти просто так. Он должен заплатить. Иначе война теряла всякий смысл. А поэтому он здесь. Где-то рядом. Надо ждать. Кто — кого. Ждать… Победит тот, у кого крепче окажутся нервы. Ждать… Ждать…
Матвей Фимкин сильно сожалел о том, что попал в этот наряд. Надо же было влипнуть в такую передрягу? Погнались за девкой с пацаном… А на кого нарвались? Сидел бы сейчас в теплой казарме, горячие щи хлебал с приварком. Два дня назад они делали облаву в большом селе. Привезли оттуда годовалого порося. Засолили сало. Сало дня через три-четыре уже просолится, и хлопцы начнут его трескать… А что будет с Мотей Фимкиным? Соткин уже лежит с пробитыми ребрами. Даже не дернулся. Девка ему глянулась… Дурная кровь в голову ударила. А не подумал, идиот, даже о том, что за такое дело Юнкерн самих изнасилует. Она же — дочка местного старосты! За такое по головке не погладят. А могут и под пулемет поставить. Старшим его назначили… Возомнил себя атаманом… Плюнули бы на этих беглых и пошли бы в деревню. Бабу, если ему так приперло, и в деревне можно найти. И не так, а по-хорошему договориться. Вот их сколько нынче холостует, безмужних. Слово ласковое скажи, любая бы пригрела. Да еще и самогону налила на радостях. Эх, дурак, дурак… Да ладно бы сам-один голову под пулю сунул… Фимкину сразу не понравился этот лес. Про него всякое болтают. Сколько полицейских здесь пропало! Скольких потом на березках нашли! Одна половина на одной верхушке, другая на другой… Стрелок-то, видать, бывалый. Случайно промахнулся. Заторопился. Не ждал, что Фимкин так быстро обернется. Но надо подождать, когда у него кончится терпение. И вдруг со стороны блиндажа послышалось:
— Дядя Кондрат! Слева заходи! В овраге он! — кричала девка.
Ах ты, сучка, подумал Фимкин. Указывает, где он залег. Нет, тут не отобьешься. Лес кругом чужой. Все… Конец…
— Ребята! А вы заходите от сосен! Он там один!
Захватить хотят. Живьем взять. Чтобы — на березы…
Уходить надо. Уходить немедленно, пока они там возле блиндажа чухаются. И Матвей Фимкин вскочил на ноги и, чувствуя необыкновенный прилив сил, потому что собрал в себе все, подминая мелкий кустарник, побежал по дну оврага, свернул в боковой рукав, к темнеющему впереди ельнику. Впереди, шагах в пятнадцати, белым бруствером виднелся окоп. Но это — не преграда. Фимкин его перемахнет в два счета.
Все произошло в одно короткое мгновение, так что он не успел даже испугаться. Белая кочка, торчавшая над бруствером, качнулась. Матвей Фимкин отчетливо увидел колечко дульного среза и понял, что кочка-то никакая вовсе не кочка, а шапка стрелка. Что стрелок оказался хитрее и удачливее. Надо поднимать руки… Но тотчас из стального колечка дульного среза полыхнуло коротким пламенем, и пуля, небольно войдя в грудь, рванула шинель на спине под самой лопаткой. Матвей Фимкин умер не сразу. Он еще увидел, как из старого, присыпанного сосновыми иглами и снегом окопа встал подросток лет шестнадцати, передернул затвор, шагнул к нему навстречу и в упор прицелился в лицо. Прямо в переносицу. Следующего выстрела он не услышал, не увидел даже вспышки. Просто обвалилась чернота и придавила его своей тяжестью.
Иванок снова передернул затвор. Полицейский лежал у его ног. Вторая пуля снесла ему полчерепа. Но он прицелился и снова выстрелил. И снова перезарядил. И снова выстрелил. Когда закончилась обойма, он перехватил винтовку и начал бить окованным толстой металлической пластиной затыльником приклада, стараясь попасть туда, в то багровое бесформенное пятно, которое еще мгновение назад смотрело на него злым, беспощадным взглядом врага.
— Иванок! Что ты делаешь! — Зинаида обхватила его сзади за плечи, повисла, повалила в снег и, когда Иванок выронил винтовку и напряженное в нечеловеческой судороге тело его обмякло, обняла его, положила на колени голову и начала тереть снегом. — Успокойся. Ну, вот так… Успокойся. Он уже неживой. Спас ты нас, Иванок. Спас. Спасибо, что пришел.
Вскоре Иванок пришел в себя. Встал, подобрал винтовку, быстро зарядил ее новой обоймой. Посмотрел на Зинаиду.
— Где Прокоп?
— Там, — указала за овраг Зинаида.
Иванок подошел к убитому полицейскому, расстегнул его шинель, осмотрел карманы. Забрал зажигалку и сигареты. Снял ремень с подсумком и кинжальный штык. Обошел его вокруг. И сказал:
— Это им за Шуру. За сестру. Я их теперь… На всех дорогах…
— Угнали Шуру?
— Угнали. И Шуру, и Ганьку, и Зойку Иванюшкину, и ребят всех.
Зинаиду трясло. Она не могла встать на ноги. Иванок помог ей подняться. Она ухватилась за молоденькую березку и некоторое время стояла так, пошатываясь и боясь, что березка не выдержит и сломается, и она снова упадет в снег. А надо уже уходить. Подальше от этого страшного места.
Иванок обыскал и второго полицейского. Подтащил его к лазу в землянке, отрытому Зинаидой и Прокопом, просунул тело и столкнул его вниз. Потом притащит и второго. Второго ему помогал тащить Прокопий.
— Что теперь будем делать?
— А что, уходить надо отсюда подальше. И поскорее. — Зинаида отпустила березку, посмотрела по сторонам. — Ты с нами?
— А можно?
— Тебе ж больше некуда идти. Этих они дня через два найдут. След найдут и за нами увяжутся.
— Может, ночью снег пойдет. Пошел бы. Покружим по лесу, поводим их.
Но они знали, что без еды они долго в лесу не продержатся.
— Если пойдет снег, они не найдут и их. Надо все здесь подмести.
Через полчаса они шли по сосняку и молили бога, чтобы пошел снег и спрятал все, что они здесь натворили.
Снег ночью не пошел. Небо вызвездило. Они сидели возле сбитого немецкого самолета, жгли костер и слушали ночь. К утру уснули. А на рассвете в стороне Варшавки загремело. Туда пролетели несколько пар пикировщиков. Спустя некоторое время одного из них, прижимая к земле, атаковал истребитель. Маленький юркий самолетик, как игрушечный, поблескивал на солнце красными звездами на плоскостях, взмывал вверх и снова начинал атаку. Из-под его крыльев возникала трасса и протягивалась в сторону большого самолета.
— Так им и надо, — провожая взглядом самолеты, стиснул зубы Иванок. — Теперь и их бьют. Пускай их тут всех мыши объедят до костей.
Там, возле Варшавки и в стороне станции, гудело и раскачивалось — рвались тяжелые снаряды.
Зинаида тоже проснулась, высунулась из парашютного шелка, открыла глаза, прислушалась. Они еще не знали, что утром началось наступление двух фронтов, Западного и Калининского, что одной из ударных армий прорваны немецкие линии и в прорыв, развивая удар, спешно входила кавалерийская дивизия с артиллерией и дивизионами гвардейских минометов. Не знали и того, что тем же утром из Андреенок в Прудки был послан отряд полиции, чтобы разыскать пропавший патруль. Командир отряда имел приказ: если полицейские не будут найдены, взять в Прудках заложников и расстреливать по одному каждые полчаса, пока не скажут, где патрульные, и не выдадут своих беглецов. Но канонада, разыгравшаяся в районе станции, переполошила всех. Немцы, получив тревожное сообщение, срочно эвакуировались. Через час дорога на запад была забита техникой и повозками. Отряд полицейских вернулся к своим казармам. В это время там увязывали на телеги имущество, оружие. Вместе с сотней уходили и многие семьи. Красная Армия атаковала на широком участке фронта. Началась операция «Марс»[18].
Глава двадцать шестая
В разведку Воронцов отправил троих: Степана, молодого механика Гришку, который хорошо знал местность, и одного из танкистов. От своего экипажа Демьян назначил в разведку Штыренко. Сказал ему:
— Тебе, Штырь, машину вести, вот и посмотри там, где и как проехать лучше. Особенно низины проверь. Чтобы нигде не сели. И разведайте позиции ПТО. Учитывай сразу и то, что мы будем прорываться с тыла.
— Понял, — радостно козырнул ему Штыренко.
Экипаж летал как на крыльях. То, что они снова обрели боевую машину, что под завязку заправили баки соляркой и имели полную боеукладку, казалось невероятным. Особенно после того, что с ними произошло: гибель товарища, плен, побег. Появился реальный шанс не только вновь вернуться в строй, но и вернуть родной бригаде исправную «тридцатьчетверку», которая наверняка уже считалась в графе безвозвратных потерь.
Группу возглавил Степан.
Они прошли с километр. Лесной проселок повернул на восток.
— Зайцева Гора там, левее, — пояснил Гришка. — А дорогу мы можем пересечь здесь. Или левее. До нее отсюда километра полтора, не больше.
— Судя по карте, — заметил Степан, — высот тут несколько. Которая из них Зайцева?
— Так и есть. — Гришка для важности заглянул в карту. — Там этих гор — гора на горе. Сразу и не разберешь, где какая. А Зайцева посреди. Самая большая. Говорят, там немцы и сидят.
— Что же получается? — Штыренко протиснулся к карте, ткнул пальцем в карандашный кружок, сделанный Воронцовым. — Значит, высоты, если их несколько, начинаются ближе?
— Выходит, что так. Значит, и до передовой уже рукой подать.
Решили разведать подступы к шоссе.
Пошли дальше. Сплошной траншеи у немцев здесь не оказалось. Она начиналась левее. Несколькими линиями, удаленными одна от другой где на триста метров, где на полкилометра и больше, траншеи расползались в снежных просторах изломанными линиями и уходили в перелески, то теряясь там, то снова возникая вдали на горбовинах холмов и высотках. Виднелись квадратные шапки блиндажей, из которых курились дымки. Часовые в грязно-белых касках и маскировочных халатах расхаживали возле пулеметов. В одном месте разведчики едва не наскочили на патруль: группа автоматчиков, человек шесть, шла вдоль траншеи с севера на юг. Среди них был снайпер. Возможно, именно его они и сопровождали на позицию. Или уже возвращались с охоты.
— Со стороны Зайцевой идут, — заметил Гришка.
В другом месте вышли прямо на полевую кухню. Спустились в овражек и, не упуская из виду дорогу, пошли в сторону шоссе. Сырую балку с заболоченными низинами танк мог пройти только здесь. Вот там-то вскоре и почувствовали, что потянуло костровым дымком. Затихли. Степан пополз вперед и увидел, что возле ручья, под ольхами, расположилась полевая кухня. Двое немцев, подпоясанных белыми фартуками, крутились возле котла.
— Вот бы взять гансиков. И конь у них справный… А, Степан? — Штыренко полз следом за Степаном.
— Нам тут следить ни к чему.
— А жаль. У них, похоже, даже винтовок нет.
— Значит, рядом окопы, и они чувствуют себя в безопасности. Если нашумим, вместо кухни здесь будет стоять их ПТО. Калибра семьдесят пять миллиметров. С подкалиберными. Понял?
Они отползли назад и обошли лощину с немецкой кухней опушкой леса. Штыренко взял у Степана бинокль и осмотрел местность, сразу определив, что здесь по дороге лучше не ехать, что можно обогнуть лощину вдоль опушки, по полю.
— Мин там нет. От кого им тут обороняться? — сказал он, возвращая Степану бинокль. — Окопов тоже нигде не видать. Тыл.
— Тыл — это хорошо. Но нам нужно — через фронт.
Впереди, возле самого шоссе, виднелись крыши деревни.
— Мамоновка, — сказал Гришка. — Там у них небольшой гарнизон. Иногда они оттуда на машинах ездят в сторону Зайцевой Горы. Что-то постоянно возят. Машины — под брезентом.
— Людей возят. Меняют своих.
Лесом они пробрались к Мамоновке. Выползли на опушку. Степан пристально осматривал в бинокль деревню.
— Немцев здесь немного. Может, до взвода. Но не тыловые. А это опасно. Эти быстро нам иди сюда сделают. Это тыловых можно пугнуть, а эти ребята пуганые.
— Противотанковых пушек нет? — спросил Штыренко.
— Пушек не вижу. Но есть кое-что похуже. На, посмотри сам. Подумай, как эту бандуру можно будет объехать.
Штыренко взял бинокль и тут же выругался:
— Ох, ты… От этой гусыни нам не уйти. Она на километр бьет без промаха. Тут нам не пройти — сто процентов. Я от нее уже горел.
На краю деревни, возле высокой постройки, видимо, сенного сарая, чернела хорошо оборудованная позиция 88-мм зенитного орудия.
— Все правильно. Танков они здесь не ждут ни на дороге, ни с тыла. А вот самолеты отпугивать от деревни надо. Таким образом, снаряды у них наверняка не бронебойные.
— Ну и что? — снова взял бинокль Штыренко. — Она нас любыми разделает, как слон черепаху. У нее начальная скорость полета снаряда знаешь какая?
— А у вас пушка для чего?
— Нам с ними соревноваться в меткости — дело рискованное. Сто процентов — они окажутся более меткими и быстрыми.
— Танкисты, вашу мать…
— Была бы 37-миллиметровка… Ее бы мы раскатали в два счета. А с этой тягаться не стоит. Все дело погубим. В нее мы успеем в лучшем случае один снаряд выпустить.
— А что, — поинтересовался Степан, не отрываясь от бинокля, — одного снаряда мало? Дайте осколочным, накройте расчет и все дела. И мы дальше пойдем.
— А если промахнемся?
— А вы не промахивайтесь.
— Курсант сказал: риск свести до минимума.
— Место выстрелить — это и есть сведение риска до минимального. Стрелки…
Они обошли деревню и пересекли шоссе.
Степан подозвал к себе Гришку, спросил:
— Ты тут дорогу какую-нибудь знаешь? Чтобы — в обход деревни?..
— Тут больше дорог нет, — неожиданно заявил проводник — Тут болота одни. Топь непроходимая. Дорога есть в двух километрах отсюда. Если проехать по шоссе на запад, то скоро будет деревня. Небольшая, такая же, как и эта. Клесты называется. Вот там дорога есть. От Клестов она идет в сторону Кирова. К фронту.
— А нельзя нам к Клестам напрямую проехать, чтобы сюда не показываться? — спросил Штыренко механика. — И кругаля не давать…
— Нельзя. Там сплошной лес. Ни одной дороги. И тоже болота. Этот путь — самый короткий. И единственный.
— Ладно, Штыренко, ты особо не переживай. Двинемся ночью. «Гусыню» твою как-нибудь уговорим. Чтобы нам не мешала.
— А если у них там прожектор? Зенитчикам ночь — не помеха. Осветят и — нате вам пудовую болванку в моторное отделение…
— А другого пути у нас все равно нет.
Дотемна они успели разведать остальной участок пути. Дошли до немецких траншей, вырытых в лесу. У дороги обнаружили позицию ПТО. Внизу виднелся разрушенный мост, а дальше, метрах в трехстах, чернели плохо замаскированные или недавно отрытые линии других окопов.
— Наши, — сглотнул Штыренко, не отрываясь от бинокля. — Мост этот мы проскочим. Ручей — так себе. Проскочим с ходу. Если бронебои не остановят.
— Переезд, сто процентов, утыкан минами. И нашими, и ихними. Расчистить его мы не сможем. Это, танкист, еще один вопрос тебе. Думай, как нам тут перескочить на ту сторону.
— У меня крыльев нет.
— Хочешь полетать на минах?
— И на минах не хочу. С командиром надо посоветоваться.
Степан все нанес на листок бумаги: дорогу, разобранный мост, немецкие траншеи, наши траншеи, расположение немецкого ПТО.
Вернулись назад уже затемно.
Воронцов стоял за сосной рядом с часовым, и, когда увидел возвращающуюся разведку, обрадовался. Выслушал. Собрал отделенных и танковый экипаж. Начали решать, как идти и где прорываться. Маршрут непростой. Две позиции ПТО на пути. Заминированная переправа.
— А может, бросим танк? — предложил кто-то из сержантов.
— Нет, танк мы не бросим, — тут же твердо ответил Демьян. — Вы, если сомневаетесь в нас или что-то другое надумали, идите в обход. Может, и правда где найдете свободную дырку. А мы на своей машине пойдем. Сожгут — не сожгут… Пойдем напролом.
Демьяна выслушали молча. Шли, шли все вместе, а теперь… Словно что начало разлаживаться. Вот о чем вдруг подумали стоявшие возле «тридцатьчетверки». Молчал и Воронцов. И вдруг почувствовал, что все смотрят на него. Уже стемнело, и лица стоявших вокруг него он видел смутно, а потому и почувствовал напряженные взгляды танкистов и бойцов.
— Пойдем все вместе, — сказал он. И это было главное. — Никто танк бросать не собирается. Зенитку возьмем ночью. По-тихому. Чтобы немцев в дворах не переполошить. Пройдем краем леса, там — на дорогу. С потушенными фарами — до следующей деревни. К передовой мы должны успеть до рассвета. Что делать с ПТО возле дороги, надо подумать.
— Даванем ее, товарищ Курсант! — сказал Демьян. — Не сомневайтесь! У нас уже опыт есть. Нас они с тыла не ждут. Даже если заметят… Пока расчухают, пока развернут…
— Развернут они мгновенно, — возразил Воронцов. — Услышат, что не свои идут, развернут орудие и продырявят вас первым же выстрелом. И всех остальных на ноги поднимут. Нет, братцы, тут надо осторожнее действовать.
— А если без боя, то свои положат. У наших-то тоже небось где-нибудь пушки, на случай танковой атаки, стоят.
— И мины еще…
— До мин еще доехать надо.
— Двум смертям не бывать, а одной не миновать.
На том и порешили.
Через полчаса двинулись по заранее разведанной дороге. Впереди шла разведка: Степан, Дюбин, Золотарев и Полевкин. Метрах в трехстах следом за ними двигался на небольшой скорости Т-34 с бойцами на броне. Остальные на лошадях ехали следом. Немцев связали и уложили на броню. Охранял их один из бойцов, имея приказ Воронцова: в случае крайней опасности пленных расстрелять.
В километре от шоссе остановились. Танк, ломая молоденькие березки, залез в перелесок. Выставили охранение. Разведка ушла вперед.
Степан хорошо знал, что в ночное время в населенных пунктах немцы выставляют часовых на околице, на всех дорогах, ведущих в деревню, а также возле каждого дома, где ночевали солдаты и офицеры. Никого из разведчиков, которые попали в группу захвата, он не знал в деле. А поэтому, выйдя к шоссе, он сказал им:
— Вот что, ребята. Слушать меня внимательно и выполнять каждое слово. Будете меня прикрывать. Дюбин — в пяти шагах следом за мной. Золотарев, ты будешь прикрывать справа, а ты, Полевкин, — слева. Стрелять только после моего сигнала и при явной опасности. Но знайте, если здесь мы нашумим, вся операция полетит к черту. Стрелять, повторяю, в самом крайнем случае.
Днем, осматривая деревню и ту ее часть, где была оборудована позиция зенитчиков, Степан заметил, что из сарая курился дымок. Значит, именно там находилась охрана. Угол пулеметного окопа виднелся сбоку, за сараем. Возможно, туда, под сарай, отрыт ход. Пулеметчики дежурят по очереди. Греться ходят в сарай. Но возможно и другое: там, в сарае, разместился весь расчет. Тогда дело хуже.
Они подошли к дороге. Замерли. Слышно было, как перекликались часовые. Спустя некоторое время в сторону Зайцевой Горы прошла небольшая колонна машин, три грузовика, доверху нагруженные какими-то ящиками. Грузовики ехали медленно, с выключенными фарами. Если здесь, подумал Степан, им повезет и они смогут сделать свое дело так, как задумано, а потом, на дороге, встретятся вот с такой колонной, то, может, и разъедутся. В темноте особо не разберешь. Только бы на патруль не нарваться. Те могут осветить фонариками, начнут интересоваться. С патрулем не разъедешься.
— Дюбин, — позвал он своего напарника, — обстоятельства меняются. Слышишь, пулеметчик перекликается с часовым на околице?
— Да вижу я его, командир. Вон он, возле первой хаты ходит.
— Начальник, а давай я его… — Золотарев чиркнул пальцем по воротнику белой камуфляжной куртки.
— А сможешь?
— Ха, — крякнул Золотарев. — Чует мое сердце, у этого оленя курево имеется. А мне немецкие сигареты очень даже понравились…
— Ладно, Золотарев. Иди. Но, смотри, не увлекайся там…
— На тему?
— На тему трофеев и всего прочего. Обходи вокруг сараев. Когда уйдет в проулок, затаись за дровами и жди. Он сам на тебя выйдет. Знаешь, куда бить, чтобы не закричал?
— Эту науку, начальник, я изучил давно, в пору моей нежной юности.
— Смотри, трепач, не возьмешь часового, они тебя первого там изрешетят. Это тебе не сумки резать… И учти, на нем может быть и две, и три шинели. И еще: рассчитывай, что часовой будет в каске и шея его, скорее всего, будет замотана до ушей каким-нибудь платком. Понял?
— Сколько ж у них барахла! А тут коленки мерзнут… Одну шинельку я бы взял.
— Запомни, твое оружие не нож, а тишина. Полевкин, ты — с Золотаревым, в прикрытие. Дюбин, за мной. Начинаем одновременно.
Конечно, надо было дождаться, когда часовые сменятся. А так, наобум, можно нарваться на смену. Но времени нет. Надо еще успеть сообщить Воронцову. Пока те доберутся по полю до деревни, пока пройдут по шоссе… Успеть бы до рассвета.
Они разделились. Степан несколько секунд наблюдал, как Золотарев, а затем Полевкин, пригнувшись, уходили вдоль зарослей кустарника к огородам. Часовой исчез в проулке. Через три-четыре минуты он снова появится на дороге. За это время разведчики успеют добраться до изгороди и затаиться там. Оставалось надеяться на профессиональные навыки Золотарева.
Теперь очередь его.
— Дюбин, иди за мной в трех шагах и немного правее. Когда подойдем к сараю, стой и наблюдай. В окоп я пойду один.
— Понял.
— Если поднимется шум, не стреляй до последнего. Бей прикладом, рви зубами, но не стреляй.
— Понял.
Окоп оказался пустым. Пулемет торчал вверх. Хорошо виднелся на фоне бледного снега его короткий раструб и конец ленты, свисавшей вниз и сливающейся с плоским ящиком. Лента заряжена полная, отметил про себя Степан и перебежал на угол сарая. Возле зенитки тоже никого не было. Голоса доносились из сарая. Пахло дымком и эрзац-кофе. Ага, значит, кофейку решили попить… Степан сделал знак Дюбину, чтобы тот занял позицию возле двери, а сам пробежал вдоль сарая и тихо спустился в окоп. Так и есть, в сторону сарая, под стену, вел узкий ход. Именно оттуда тянуло дымком и эрзац-кофе. Сколько же их там? Разговаривали двое. Пулеметчики. Смена. А если там отрыт блиндаж на весь зенитный расчет? Надо подождать. Но вскоре он услышал, как в сарае стукнула дверь и кто-то завозился в сене, забился судорожно в ближнем углу за дощатой стеной. Внизу все на мгновение затихло. Но тут же в лазе показалась круглая белая голова в каске и вытянутые вперед руки. После света в землянке немец двигался осторожно, на ощупь. Степан ударил его по каске сверху, прыгнул, придавил всем телом, прижал лицом к земле и тут же дважды ударил ножом. Прислушался. Оглянулся. Из-за сарая кто-то выглядывал.
— Товарищ командир? Боле вроде никого.
Значит, Дюбин уже заглянул в землянку. Ловкий. Напрасно Степан боялся, что ненадежный у него напарник. А он и первого завалил, и тихо, как надо, и землянку успел осмотреть. Слава богу, в ней пусто.
— Там у них землянка. Вход из сарая есть. Пусто там. — Дюбин торопливо застегивался. — Шинелькой я его — накрыл… Как приказано, без стрельбы…
Они протиснулись в узкий лаз. Землянка оказалась неглубокой. Стоять можно было только на коленях. В углу на ящике горела сальная плошка. Посвечивала щелястой дверцей вырезанная из полубочки железная печь. На ней стояли два котелка. В них что-то булькало, выплескивалось, сипело. Пахло вкусно. В углу, на зеленых пулеметных ящиках, лежали автомат и несколько противопехотных гранат с длинными ручками.
— Во как устроились. Тепло, светло, и мухи не кусают. — И Дюбин понюхал в котелках.
— Отставить, Дюбин.
— Да я так, только полюбопытствовать. Котелки у них, товарищ командир, удобные. С крышками. Если что, и не разольешь…
— Если что, Дюбин?
— Да это я так…
— Вот что: иди сейчас к орудию. Ты же артиллерист?
— Ну да, служил в дивизионе полковушек. Только у моей пушки ствол был не длиньше, чем у винтовки. А эта махина вон какая! И с какой стороны к ней подходить, я не знаю.
— Пушка — не кобыла, Дюбин. Копытом не ударит, если даже и не с той стороны подойдешь. Принцип тот же. Заряжай, прицеливайся и стреляй.
— Не скажи.
— Ладно рассуждать, Дюбин. Иди к пушке. Посмотри там, что и как. Только ничем не греми.
— Стрелять, что ль, надо?
— Может, и надо.
— Да я ж… Я с «сорокапятки» стрелял. А тут вон… Грознее тещи!
— Ты наводчик?
— Наводчик.
— Иди. Если что непонятно, спросишь. Но самое главное — наблюдай за деревней и дорогой.
Степан сунул за ремень две гранаты, откинул дерюгу, вылез наружу. Немец лежал в той же позе, выбросив вперед руку. Степан перелез через него. Вытащил из ниши пулемет. Перекинул через плечо ленту.
Пулемет они установили немного в стороне от зенитки, чтобы контролировать отрезок шоссе от леса до деревни и выезд из деревни, а также крайние дворы и поле до леса.
В деревне было по-прежнему тихо. Но это могло означать и то, что вторая группа еще не приступила к выполнению своей задачи.
— Дюбин, ну что там? Разобрался?
— Да хрен ее мамушку знает, товарищ командир, — ответил из темноты Дюбин. — Надо было Прибылова с собою брать. Он при большой пушке служил. При гаубице. А я что ее трогать буду? Еще сделаю что-нибудь не так, весь механизм в негодность придет. Тут вон сколько разных частей. Как в самолете.
— Артиллеристы… вашу мать! Чему вас только учили?
— Меня учили из «сорокапятки» стрелять.
— И что, научили?
— Научили. Стрелял.
— И попадал?
— А кто ж ее знает. Может, и попадал. Один раз, тут, недалеко, батарея наша по танкам ихним стреляла. Один загорелся. А кто поджег, разве узнаешь? Может, и мой снаряд попал куда надо.
— Значит, ты, Дюбин, танк подбил? Герой.
— Я этого не говорил.
— А из этой хреновины танки, между прочим, лучше бить.
— Да я вижу, и прицел здесь побольше нашего. А значит, поточнее. И маховики… Вон как легко ходят!
— Вот и осваивай. Нам танк с обозом надо будет прикрыть, пока они по дороге пойдут.
— Мы что, товарищ командир, здесь остаемся?
— Не остаемся, но с полчаса посидим. А что ты сразу испугался?
— Да в заслоне опять… Я-то в плен как попал? А тоже в заслоне оставили. Оставили нас, пятерых, с нашей пушчонкой батальон прикрывать. Дивизион снимался и отходил на новую позицию. Словом, бежали. А нашему расчету приказ — дорогу оседлать и немца, коли он покажется, не пропускать. Остались мы с лейтенантом Нифонтовым одни. Пушчонку закатили в ровик. Приготовились. А с нами еще десять человек стрелков, с пулеметом. Вроде и войско. Народу порядочно. Снаряды есть. Ждем. А они на нас и не пошли. Обошли справа и слева, окружили и давай из минометов лупить. Лейтенанта убило, сержанта тоже. Пехота разбежалась. Расползлись, как мышата слепые, кто куда. Пулемет бросили… Глянул я, а они уже идут. Хенде хох… Вот я и подумал, что опять мне эта судьба…
— Тихо, кажись, идет наш фармазон.
Разведчики бежали краем шоссе. Что-то несли на плечах. Свалили возле зарядных ящиков тело, укутанное бабьей шалью. Золотарев, сверкая возбужденными глазами, сказал:
— Ну вот, начальник, наш трофей. Сработали тихо. Смены не видать. Чтобы его там не обнаружили, решили сюда доставить. Вот винтовка, патроны, штык. Куреха, как договаривались, моя. Остальное барахло — на всю братву. Я не жлоб.
— Молодец, Золотарев. А теперь, Полевкин, начинается твоя работа. Бегом к Воронцову. Скажи: пугь свободен, мы — на позиции зенитчиков. И пусть пришлет сюда Прибылова.
Воронцов сам вышел вперед, и, когда увидел в поле бегущего к ним разведчика, сам побежал навстречу.
— Полевкин, ну что там?
— Все в порядке, товарищ Курсант. Охрана снята. Захватили зенитку и пулемет. Степан просит, чтобы прислали туда артиллериста.
— Давай, бери Прибылова и — бегом.
Взревел мотор «тридцатьчетверки». Придавливая молодой березняк и елочки, танк выполз на опушку и снова пошел вдоль леса, держась старого, наполовину заметенного проселка, по которому, как видно, с самого первого снега никто не обновлял следа.
— Давай, давай, ребята, не отставать, — поторапливал людей Воронцов.
Сердце Воронцова прыгало под самым горлом. Снова его захватила упругая волна, и он уже знал, что надо делать, как поступить в следующее мгновение. И эта его уверенность передавалась бойцам. Они оглядывались на своего командира и поторапливали друг друга и лошадей.
Обогнули поле, оставляя слева бледные пятна деревенских крыш. Танк качнулся в глубоком кювете, прибавил оборотов и легко развернулся на просторном шоссе. Следом за ним шли кони.
Дальше Воронцов выстроил колонну следующим образом: впереди — конные, а следом, с интервалом в двадцать шагов, двигался танк с автоматчиками на броне. Всех переодели в немецкое.
Степан, Полевкин и Золотарев ушли вперед. Артиллеристы Дюбин и Прибылов остались возле зенитки.
— Дюбин, твоя задача следующая: если со стороны деревни появится какой-либо транспорт, остановить его здесь. На тот случай если пойдет пехота, оставляю вам пулемет. Коня лучше запрягите в повозку. Телега вон есть. — И Воронцов указал на немецкую фуру, стоявшую в сенном сарае. — Коня оставляю самого лучшего. Досчитайте до двух тысяч и догоняйте нас.
— Ох, Курсант, погубишь нас, до конца жизни бога не отмолишь. — Дюбин в упор смотрел на Воронцова.
— Ничего, Дюбин, мы еще поживем.
— Ох, уверенный ты, командир! Душа заходится, тебя слушая.
— Только раньше срока не уходить. Иначе погубишь, Дюбин, всех. И нас, и себя.
— Да понял я, понял. Смертники мы тут с Прибыловым. После того, что мы сделали с их часовыми, в плен они нас брать не станут. Что ж тут ждать.
— Все правильно ты понимаешь, Дюбин. Держись.
Артиллеристы развернули орудие. Зенитка была установлена на спланированной площадке, на мощной турели, легко поворачивалась в любую сторону. Снаряды лежали тут же, в плоских контейнерах, сплетенных из лозы.
— Поищи-ка шрапнельные или фугасные, — сказал своему напарнику Дюбин. — Ты в ихней маркировке разбираешься?
— Понять можно. Что у них, что у нас…
— Подтащи-ка их поближе. А то, если попрут, не управимся подносить.
— А ты что, Дюбин, стрелять собираешься?
— Собираюсь, не собираюсь, а снаряды все ж таки поднеси, как я сказал.
Прибылова Дюбин знал мало. Можно сказать, совсем не знал. Шли в одной колонне. Молчаливый, замкнутый. То ли контуженый, то ли пережил много.
— Слышь, гаубичник, ты в плен-то как попал?
Прибылов подтащил одну плетенку. Аккуратно положил ее возле станины. Откинул клапан, чтобы легче было брать снаряды. Пошел за другой. Ничего не ответил.
— В плен, говорю…
— А какое тебе дело до моего плена? — тихо сказал он и взялся за следующую плетенку. Снаряды были тяжелые, и Прибылов с трудом волок их по затоптанному снегу, пятясь враскорячку.
— Да мне никакого дела до этого, конечно, нет.
— А тогда давай думать, как отсюда поскорей ноги унести.
— Нам, гаубичник, приказ какой даден? Я еще до ста не досчитал, а из тебя уже ковтях полез…
Прибылов вдруг распрямился, посмотрел на Дюбина, на то, как тот неуверенно трогал маховики, как пытался заглянуть в панораму, подошел, сказал тем же тихим голосом:
— А ну-ка…
— Ты ж не наводчик — Но Дюбин все же уступил место наводчика.
— Я и наводчик, и заряжающий, и по танкам тоже, между прочим, стрелял.
Прибылов довернул ствол орудия и тем же тихим голосом приказал:
— Заряжай.
Дюбин откинул затвор, засунул длинный снаряд.
— Высоко как! Заряжать неудобно.
— Немцы вдвоем заряжают, с ящиков.
Они сели на зарядные контейнеры и напряженно всматривались в черную полосу дороги, исчезавшую в сотне шагов среди деревенских построек и тынов. Спустя некоторое время Дюбин сказал шепотом:
— Ну что, гаубичник?
— А что? Тихо.
— Да я не про то. Пора нам. Иди, выводи коня, а я за пулеметом схожу.
Они погрузили на телегу оружие. Дюбин сбегал в сарай, принес коробки с пулеметными лентами.
— Гони, гаубичник!
Они отъехали метров двести, когда в середине деревни, на шоссе, мелькнули приглушенные фары и послышался рокот мотора. Грузовик с высоким тентом медленно выполз из-за дворов. За ним второй, третий.
В эту ночь на Зайцевой Горе немцы меняли батальон, который не выходил из боя уже около месяца. Солдаты дремали под застегнутыми тентами. Грелись, прижавшись друг к другу. Грузовики двигались медленно, с приглушенными фарами, закрытыми специальными колпаками, через которые свет пробивался настолько скудно, что водители попросту выключали освещение и двигались на ощупь, стараясь соблюдать дистанцию и не наскочить на впереди идущий транспорт. И когда впереди раздался стук пулемета и первые пули начали рвать брезент и кромсать спины и затылки сидевших в кузовах, передние грузовики шарахнулись в кюветы, а третья машина, остановившись посреди шоссе, вспыхнула, как факел. Солдаты сыпанули с кузовов. Погодя, опомнившись, начали вытаскивать раненых, складывать на обочине в ряд убитых. Другие залегли и открыли беспорядочный огонь по лесу. Но вскоре поняли, откуда стрелял пулемет. Офицер подозвал к себе двоих солдат, отдал короткое распоряжение, и тотчас они исчезли в лесу. Через несколько минут на дороге, в той стороне, откуда стрелял пулемет, разорвались, перемешивая пламя со снегом и мерзлой землей, одна за другой четыре гранаты. И сразу наступила тишина.
Глава двадцать седьмая
Зинаида разбудила Прокопия:
— Вставай, сынок, пора идти.
Иванок вылез из самолета, посмотрел по сторонам, сказал:
— Мыши все пожрали, даже ремни.
Зинаида развязала шаль, вытащила из волос гребень, причесалась. Спросила Иванка:
— С нами пойдешь?
— Не знаю. — Иванок цыкнул через щербу. — Нечего мне там у вас на хуторе делать.
— В деревню тебе нельзя. А то и мамку в управу потянут.
— Да я знаю. — Иванок закурил, Винтовку он из рук не выпускал. — Жратвы нет. Вот что плохо. А то бы я и тут пожил. В лесу.
— Хочешь есть? — И Зинаида вытащила из кармана несколько сухарей. — Возьми. Тут как раз всем по одному.
— Да нет, теть Зин, спасибо. Я потерплю.
— Бери, бери.
— Спасибо, теть Зин.
Она оглянулась на Иванка:
— Какая я тебе теть Зина? Я ж всего на четыре года старше тебя.
Иванок засмеялся. Снова огляделся, прислушался.
— А погони, похоже, не было.
— Иванок, я тебе вот что расскажу. Когда мы с Прокошей в Прудки шли, людей здесь видели. Шли туда, в сторону аэродрома. Разговаривали кто по-русски, кто по-немецки.
— Сколько их было?
— Уже не помню. Напугали они нас до смерти. Человек семь.
Теперь гремело по всему северному краю. Они слушали канонаду, стараясь понять, что там происходит. Но говорили о другом.
— Разведка. — Иванок докурил сигарету, сунул в снег, под листву, окурок. — Перед наступлением всегда разведку через фронт посылают.
— Так это что, наши были?
Иванок пожал плечами:
— Может, и наши.
— Да нет, на наших не похожи.
— Я, теть Зин, тоже в разведке воевал. Между прочим, вместе с твоим хахалем. — Иванок заметил, как напряглись плечи Зинаиды. — Мы с ним под Вязьмой вместе были. В окружении. Коней дохлых ели. Что там было… Ох, теть Зин!..
— Он мне рассказывал.
— Кто, Курсант?
— Да.
— Он что, живой?
— Живой. Он на льдине выплыл. В плен попал. А Прокоша его на шоссе узнал. Представляешь, вышел к колонне военнопленных и узнал Сашу. Я перед конвоирами на колени встала, дочь его распеленала, они его и отпустили. Вот так дело было. Рассказать кому, не поверят.
— Да, история. А меня он, видать, тоже похоронил давно.
— Вспоминал тебя. Жалел, что в разведку тебя послал.
— Да, теть Зин, что мы там пережили, лучше не вспоминать. Мы с Курсантом в лесу расстались. После того, как генерал наш застрелился, все начали разбегаться кто куда. С нами какая-то разведка прорывалась. По костям лезли. А как перешли речку, начали нас по лесу гонять, как зайцев. И дядю Кондрата я там потерял. А может, он тоже живой? Вот бы разыскать их! Курсант куда пошел?
— Пошел к фронту. Через лес. А куда, я ж не знаю. — Она повернулась в сторону дальней канонады. Замерла. Но орудийная канонада — это не гроза, которую можно понять, куда она сейчас пойдет. И сказала, не глядя на Иванка: — Не ходи ты никуда. Перезимуешь у нас на хуторе. А там, глядишь, все переменится. Наши придут.
— У вас и без меня едоков хватает.
— А ты откуда знаешь?
— Знаю. Я же в разведке воевал.
— Ты что, на хутор приходил?
Иванок махнул рукой.
— Ну что? Пойдем? — Иванок закинул винтовку за спину. — Провожу вас. А там — пойду…
Они выбрались к речке Вороне, перешли по льду на правый берег. Полдня просидели в сосняке, наблюдая за левым берегом. Но никто на их тропе не появился. Только лисица пробежала, держа на отлете пушистый свой хвост, покрутилась под берегом, пошебуршала в траве, помышковала и снова ушла в березняк. А после полудня пошел снег. Он падал на землю крупными лохматыми шапками, укрывал звериные и человечьи следы, ложился на тяжелые лапы елей, придавливал все ниже и плотнее к земле.
— Теть Зин, теперь можно идти. Нас уже никто не найдет.
Вечером они вышли к озеру. Иванок, зажав между колен винтовку, всю ночь просидел в стогу сена — стерег тропу. Иногда ему казалось, что там, внизу, вдоль озера, кто-то крадется. Поскрипывают осторожные шаги, слышатся голоса. О чем они говорят? О нем, об Иванке. О том, что он спрятался в стогу и его нужно забросать гранатами… И вот прилетела первая, шлепнулась совсем рядом, где-то возле ног, завертелась на ребристом боку, зашипел ее взрыватель, отмеряя последние секунды Иванковой жизни… Он хотел отбить ее прикладом, отбросить куда-нибудь в сторону, но руки не слушались, винтовка, которой он всегда так ловко управлялся в любых обстоятельствах, настолько отяжелела, что он не смог поднять ее… Но тут пришло избавление — он проснулся и обрадовался, что это всего лишь сон. Но в следующее мгновение понял, что настолько окоченел, что не может шевельнуть ни рукой, ни ногой. Кошмар не дал ему замерзнуть.
Утром за ним пришла Зинаида и увела в дом. Его раздели, растерли гусиным жиром и уложили на печь. Он спал целые сутки. Когда проснулся, было раннее утро. Он встал, оделся. Попросил дать ему еды в дорогу и пошел на юго-восток, туда, где гремел фронт.
Через несколько дней на Варшавском шоссе его, полузамерзшего, подобрал конный патруль одного из стрелковых батальонов, державших оборону на подступах к Зайцевой Горе. Вначале его отправили в ближайший госпиталь и даже приставили часового. Как только он пришел в себя, в госпиталь тут же прибыл начальник Особого отдела полка, лейтенант госбезопасности Гридякин. Он вошел в избу, внимательно осмотрел Иванка и сказал:
— Ну что, рассказывай…
— А что вам, дяденька, рассказывать?
— Да все. Все рассказывай. Кто батька с мамкой, Откуда шел и куда. И куда, для проверки, запрос посылать?
— Для какой проверки?
— Для такой. Чтобы мы, к примеру, точно знали, что ты не вражеский шпион.
— Шпион… Да я в разведке воевал! Я в отряде Курсанта был! Да мы казачью сотню в Прудках почти всю положили!
— Ох ты, какой вояка! — Но глаза особиста не были злыми. — Давай-ка лучше по порядку. Фамилия…
— Ермаченков Иван Иваныч. Отец — Ермаченков Иван Иваныч.
— Тоже Иван Иваныч? — переспросил особист.
— Тоже. Пропал без вести на фронте. Ушел на войну в прошлом году, летом. Мать — Ермаченкова Степанида Михайловна. Вы, дяденька, записывать успеваете?
— Да кое-как успеваю, — усмехнулся особист и вдруг спросил: — А что ж ты, Иван Иваныч, ко мне, лейтенанту, не по уставу обращаешься? Говоришь, в разведке воевал, а дисциплины армейской не понимаешь.
— Та и вы ко мне, товарищ лейтенант, не по уставу.
— Ну-ну, товарищ рядовой Ермаченков, давай дальше, — снова усмехнулся особист. — Парень ты, я вижу, находчивый. Может, и правда в разведку тебя определим. А?
— Я не против.
— А может, лучше домой тебя отправить?
— Нет. Мне на фронт надо.
— Это ж зачем?
— Воевать.
— Тут, на фронте, есть кому воевать.
— Ничего. И мне дело найдется. Курсант тоже вначале брать не хотел. А потом самые важные задания поручал. — И вдруг Иванок спросил особиста: — У вас сестра есть?
— Есть. Младшая.
— Где она?
— В Горьком. С родителями живет. В госпитале сейчас работает.
— У меня тоже сестра есть. И тоже младшая. Ее десять дней назад немцы угнали в Германию. Я себе поклялся, что домой без сестры не вернусь. Мать не переживет. Отец пропал. Или в плену, или погиб. Сестру немцы угнали… Я должен ее разыскать. Я теперь в семье за отца.
Особист слушал Иванка, молча делал в блокноте какие-то пометки.
— Вот проверим, и, если у тебя все чисто, то одно из двух: либо отправим домой, либо зачислим в штат, — сказал он.
— Винтовку вернете? Винтовка моя где? Вы ее на трофейный склад не сдавайте. Она мне пригодится. В разведку с ней буду ходить.
— Ну, что ж, Иван Иваныч, тогда давай поговорим о твоей винтовке. Вот откуда у тебя немецкая винтовка? И… — Особист заглянул в блокнот. — …сорок семь патронов?
— Я же воевал. В бою взял. Когда солдат воюет, у него всегда трофеи должны быть. Чем лучше воюет, тем больше трофеев. Так?
— Ну, брат, не совсем так, — засмеялся лейтенант Гридякин.
— Конечно, так. А как же иначе? У меня вначале ружье было. А потом, после одного боя, я винтовкой разжился. Курсант на дороге ганса шлепнул, так я его и раскулачил. Наши все так оружием разживались.
— А Курсант… Кто это такой?
— Командир наш. Он к нам в деревню осенью прошлого года пришел. К нам в Прудки на зиму много зятьков прибилось. Пришел и он. У тетки Пелагеи жил. Потом в лес ушел. Зятьков с собой увел. С самолета приказ скинули: всем бойцам Красной Армии, кто оказался на оккупированной врагом территории, всем патриотам начать партизанскую войну. Вот мы и начали.
— Что ж, листовка такая действительно была разбросана над занятыми противником районами. — Лейтенант Гридякин усмехнулся. Иванок ему нравился. Хотелось ему поверить. Но проверка есть проверка. К тому же в последнее время немецкая разведка часто использовала подростков. Засылала их через линию фронта. Идет такой Гаврош по дороге. Голодный, в тряпье. Какой патруль его остановит? Любой солдат, увидев его, подумает о своем сыне или младшем брате. Походит он по селу, покрутится возле постов. А вечером, когда патрульные сменятся, — назад. Через пару часов несколько артиллерийских снарядов прилетают с той стороны. Или пара пикировщиков. Штаб — в щепки. Госпиталь — в щепки. Автобат — в щепки. Склад ГСМ — сплошной пожар до неба.
— А кто такие зятьки?
— А будто вы не знаете? Окруженцы. Податься-то им некуда. На всех дорогах — немцы да полицаи. Вот и оставались на житье у наших баб.
— Когда Курсант пришел в деревню?
— Да где-то в конце октября. Ну, может, в начале ноября. Снег только выпал. Немцы нашу местность заняли. Правда, в нашей деревне их не было.
— И он, как ты говоришь, возглавил партизанский отряд?
— Да. Я ж вам говорил про листовку-приказ. Когда над нашей деревней самолет те листовки разбросал, зятьки сразу все собрались. Что делать? А тут полицаи начали нас со свету сживать. Деревню данью обложили. Зятьков всех заставили зарегистрироваться в управе в Андреенках. Курсант регистрироваться не пошел. Кое-кого арестовали, увели в управу. Ну, и началось… Сам атаман Щербаков прибыл со своей сотней. А мы их тоже встретили. Вот где война была! Курсант из своей винтовки шестерых застрелил! А потом мы их в деревне окружили. Вот где бойня была! Топорами рубили. Правду говорю! За все отомстили. А потом они нашу деревню сожгли. Шуру и ребят всех в Германию угнали. Вот за это я и хочу им отомстить.
— Курсант… Его так называли?
— Ну да. Так и звали — товарищ Курсант. И в отряде, и потом, когда мы через фронт ходили под Вязьму.
— А какое его настоящее имя?
— Сашка Воронцов. Он учился в Подольском пехотном училище. Вот война закончится, и я тоже туда пойду.
Особист засмеялся, мотнул головой. Встал. Подошел к окну. Снова мотнул головой:
— Сашка Воронцов… Сержант Воронцов, Шестая курсантская рота…
— А вы, товарищ лейтенант, что, знаете его?
— Я ведь тоже Подольское пехотно-пулеметное окончил. И воевать начал тоже здесь недалеко. Ладно, выздоравливай. Я к тебе завтра еще зайду. Может, тебе принести чего?
— Морковку.
— Чего?
— Морковку. Мы в Прудках всю зиму морковку ели. Чтобы губы не трескались и глаза хорошо видели.
— Ну, брат, не знаю, найду ли я теперь где морковку.
О хуторе Иванок помалкивал.
На следующий день лейтенант госбезопасности снова пришел к Иванку. Охраннику, стоявшему у двери, он приказал идти в землянку комендантского взвода, отрытую неподалеку. Вытащил из командирской сумки кулек и положил его на одеяло, рядом с Иванком. Иванок развернул кулек и вытащил оттуда морковку. Морковка была крупная, видимо, сочная, очищенная. Бери и ешь.
— Рубай, разведчик. В столовой специально для тебя выпросил.
Через несколько дней на Иванка пришло подтверждение. Деревня недавно была освобождена. Ничего подозрительного, кроме того, что всю зиму Иванок в деревне отсутствовал, уйдя с партизанами, люди, посланные в Прудки, не выяснили. А еще немного спустя пришло подтверждение и из штаба партизанского полка о том, что действительно, в период февраля — марта 1942 года в районе Черного леса и Богородицких болот в направлении Вязьмы активно действовала партизанская группа связных курьеров, которые, хорошо зная местность, осуществляли переправку в район окруженной противником Западной группировки 33-й армии важных грузов, в том числе медикаментов, что в первых числах апреля связь с группой прервалась и с тех пор других сведений о ней не поступало. Группой действительно руководил бывший подольский курсант Александр Григорьевич Воронцов.
Однажды сменять повязки на обмороженных ногах Иванка пришла худенькая медсестра. Она посмотрела на него и вдруг вскрикнула, и связка бинтов и пузырек с каким-то раствором, видимо, для обработки пораженных участков кожи и удаления отмерших тканей, полетела к ее ногам.
— Иванок! Это ты?!
— Тоня? Ну и ну!..
Перед ним стояла та самая девушка из армейского военторга, которую их разведгруппа выносила из Шумихинского леса к Угре. Ее ранило во время прорыва. Генерал приказал нести раненую. Окликнул бойцов, которые оказались в тот момент рядом, и сказал, что за ее жизнь они теперь отвечают головой. А рядом оказались люди Старшины и они, остатки взвода Курсанта. Старшина был человек странный. И на старшину-то он не походил. Вот дядя Кондрат — это настоящий старшина. А тот больше смахивал на офицера званием не ниже полковника. Не зря они сразу сдружились с Владимиром Максимовичем. Тоня… Иванок вспомнил, как переходили через Собжу, как Кудряшов переносил ее, раненую, через разлив по ольхе и как все боялись, что они упадут в воду. Серые с зеленой радугой вокруг зрачков глаза Тони вздрогнули, и Иванку показалось, что она думает о том же.
О том, что с ними произошло под Вязьмой на Угре в апреле, вспоминать не хотелось. Ничего хорошего там не было.
Тоня принялась сматывать бинты. Иванок вначале никакой боли не чувствовал. Но потом, когда Тоня освободила от бинтов его ступни, он почувствовал невыносимый холод. Ноги мерзли, будто снова он провалился в то проклятое болото…
Первую ночь он шел. Днем решил остановиться на отдых. Недалеко от деревни нашел копну старого, видимо, годовалого сена, раздергал сбоку нору, примял ее с боков, чтобы можно было свободно вытянуться, заткнул лаз охапкой и тут же уснул. Спал до сумерек.
И приснился Иванку отец. Никогда раньше не снился, а тут — как живой. В гимнастерке, в потной пилотке. И кругом него будто бы облаком — летняя жара. Иванку даже пить захотелось. Отец кивнул, улыбнулся потрескавшимися от жары и жажды губами и ничего не сказал. Сделал предостерегающий жест рукой. И вскоре исчез. Иванок хотел крикнуть отцу, чтобы не уходил, подождал немного, хоть бы поговорил с ним. Иванку хотелось пожаловаться ему, что у них — горе, Шуру немцы угнали, и где она, никто теперь не знает. Но отец исчез, так и не проронив ни слова.
Проснулся. К чему снился отец? Прислушался — тихо. Только мыши попискивали где-то в ногах, шуршали в сене. Видимо, он потревожил их жилье, нарушил ходы, и теперь они деловито поправляли свое хозяйство. Он толкнул наружу сенную затычку, вылез. Осмотрелся. За перелеском и оврагом изредка, для порядка, побрехивали собаки. Виднелась деревня. Судя по тому, что собаки живы, немцев в деревне не было. Но могли остаться полицаи. А это похуже, чем немцы. Иванок не знал, что и немцы, и полицаи отсюда уже ушли. Целые сутки гудели на большаках их транспорты, тянулись гужевые обозы, шли вереницы пеших войск. Группа армий «Центр», реагируя на наступление советских дивизий, проводила срочную перегруппировку.
По звездам, как учил Курсант, он определил направление и пошел дальше. Вышел к болоту. Начал его обходить. В одном месте решил срезать, прыгнул через полынью. Мягкая, как гнилой хворост, кочка хрустнула под ногами и начала опускаться в черную вонючую жижу…
Потом, когда выполз на тонкий хрупкий лед кочкарника, который весь дышал под ним, вспомнил сон: так вот о чем предупреждал его отец. Пополз к лесу, волоча за ремень грязную винтовку. Винтовка его и спасла. Когда падал, она зацепилась за упавшую поперек окна трясины сухостоину, и Иванок, осторожно подтягиваясь, чтобы не обломить сук, кое-как, по сантиметру, подобрался к спасительному дереву и ухватился за него рукой. Так и лежал какое-то время, чувствуя, как ноги затягивает в прорву и как холодом стягивает все тело, но уже зная, что он не утопнет в этом проклятом болоте.
На шоссе он выбрался к утру. Сознание уже мутилось. Иванок только запомнил, что остановился грузовик и из него вышел одетый в белый полушубок водитель. Водитель улыбался, что-то говорил, указывал на лес и на винтовку Иванка. А у него уже не было сил ни ответить ему, ни снять с плеча винтовку, которой водитель, видимо, побаивался. Вот так он и попал к своим. В хозяйство подполковника Колчина.
— Что, больно? — спросила Тоня и насмешливо, как показалось Иванку, посмотрела на него.
— Холодно, — засмеялся, дрожа голосом, Иванок, поддерживая руками свою ногу, чтобы Тоне было удобнее снимать с нее смрадные струпья.
— Это у тебя кожа молодая нарастает. Ты сейчас как цыпленок, который только что вылупился из яйца. — И она засмеялась.
Иванок отвернулся. Ему стало обидно.
Тоню он узнал сразу, как только она вошла в палату. Но теперь это была совсем другая девушка. Тогда на носилках лежала жалкая, дрожащая, с перепутанными волосами. И пахло от нее не очень. А теперь — в белом хрустящем халате, в такой же опрятной косынке. На ногах белые самовальные неуставные валенки по размеру ноги. И пахнет от нее хорошо, земляничным мылом и чем-то еще, что незнакомо волновало и приводило в еще большее замешательство. Тоня, видимо, поняла его состояние. Нахмурилась и спросила:
— Кто-нибудь из наших еще вышел?
— Курсант. Командир.
— А какой? Командиров там несколько было.
— Курсант среди них был один.
— Этот… высокий такой. Строгий. Да?
— Да, Воронцов. А ты чего покраснела? Влюбилась в него, что ли?
Тоня засмеялась. И сказала:
— Да у него, наверное, невеста есть.
— И невеста, и дочь, — сказал Иванок и вдруг спохватился, что ляпнул лишнее. — И дедушка, и бабушка…
Тоня снова засмеялась. Вспомнила, снова зардевшись:
— Он меня переодевал. Ну… там… в сухое…
— Понятно.
— А дядя Кондрат? Дядя Кондрат вышел?
— Про дядю Кондрата ничего не знаю.
— Кудряшова на льдине убило. Он за мной ухаживал, сахаром кормил. Может, потому и выжила. Мы на льдине поплыли. Ночь и день по реке плыли. Река так сильно разлилась… А мы — на льдине. На одном берегу — немцы, а на другом — наши. Потом случилось другое несчастье — шесты наши уплыли. Как без шестов к берегу причалишь? Так и несло нас по течению. Несло, пока не вынесло на немецкий берег…
— А еще кто на льдине был?
— Курсант, дядя Кондрат, Кудряшов и еще один, кажется, Смирнов. Со шрамом на лице.
— Подольский.
— Потом был бой. Я ничего не помню. Меня в деревню отнесли, старушке одной в хату занесли. На печке спрятали. Больше ничего не помню. На улицу я первый раз вышла, когда трава уже зеленела и березки распустились. Летом немцы и полицаи начали партизанские отряды уничтожать. Меня переправили через фронт. И вот теперь работаю здесь, в госпитале. Тебя встретила.
— Радость какая, — сморщился Иванок.
— Радость. Конечно, радость. Вон мы с тобой где побывали, а живые выбрались.
— Ко мне тут лейтенант один ходит. Допрашивает. Не верит, что я разведчиком был, что под Вязьмой воевал.
— Гридякин. Он из штаба полка. Начальник Особого отдела. Меня он тоже допрашивал. Он не злой. Служба у него такая. Вон, месяц назад раненый к нам поступил. В лесу подобрали. С документами, с оружием. Красноармейская книжка на красноармейца Васильева. Я его запомнила. Перевязывала его несколько раз. По документам — из соседней дивизии. Так мы редко берем из другой дивизии. А тут свободные койки были. Взяли. Он уже поправляться стал, на выписку готовился. И вдруг привезли старшего лейтенанта, раненного в ногу. Я ему тоже перевязку делала. Его тут, неподалеку, миной ранило. Приезжал зачем-то в наш полк. А старший лейтенант, когда пришел в себя, интересоваться начал, кто да откуда. Земляков искал. И, представляешь, спрашивает того Васильева. А тот: так, мол, и так, рядовой Васильев, имя и отчество назвал, такого-то полка, такой-то роты. Старший лейтенант и говорит: я этой ротой командую, рота действительно была в бою в тот день, говорит, и рядовой Васильев пропал без вести, но вы, говорит, не Васильев, потому как я Васильева хорошо знаю. И позвал часового. Лейтенант Гридякин его арестовал. К нам потом приходил, спрашивал, откуда да как поступил к нам этот раненый? Документы его забрал, одежду. Потом оказалось, что никакой это не Васильев, а шпион. Его немцы сюда забросили. Под видом раненого бойца.
— Понятно. Вот почему лейтенант меня все выпытывает. Винтовку не хочет возвращать. А я ее в бою взял.
— Тебя сегодня в общую палату переводят. Значит, Гридякин с тебя снял подозрение.
— Лучше бы винтовку вернул.
— Рано тебе еще о винтовке думать. Вот поправишься, в полк переведут, и тогда получишь ты и винтовку, и форму новую, и на довольствие тебя поставят.
— Ты думаешь, возьмут меня?
— Возьмут. Вон ты какой боевой! И лейтенанту ты понравился. Все справляется о твоем здоровье.
— В полк — это хорошо.
— А чего ты такой злой? — Тоня пристально посмотрела на Иванка. — Говоришь веселое, а в глазах какая-то злость.
— Есть причина.
— Какая?
— Сестру мою, Шуру, в Германию на работы угнали. В деревне облава была. Всех, кто старше четырнадцати лет, согнали на школьный стадион, а потом увезли на станцию. Ты мне скажи вот что: мы наступаем или обороняемся?
— Раненых стало больше. Видимо, наступаем.
— Это хорошо. Значит, ближе до Германии стало.
— Перед нашим полком — высоты. На них немцы держат оборону. Траншей нарыли. Наступать тяжело. В полку много потерь. Может, и продвинулись, но ненамного.
— Да хоть бы на один шаг. А все равно ближе к Германии.
Тоня усмехнулась. Она ловко бинтовала его ступни, завязывала кончики марли. Мелькали ее руки. Он пытался запомнить движения ее пальцев, чтобы потом, когда она уйдет, любоваться ими по памяти. Но ничего не получалось. И только ночью, проснувшись в общей палате, сквозь стиснутые веки он увидел сияющую перед ним зеленую радугу ее глаз. Чесались ступни ног, и он, пытаясь превозмочь зуд, долго не мог уснуть. Потом вдруг понял, что сон не приходит по другой причине. Надо перестать думать о Тоне. Иванок перевернулся к стене и принялся думать о другом — о винтовке и о том, что скоро его переведут в полк. И вскоре уснул.
Глава двадцать восьмая
Сквозь рев двигателя они услышали позади, на дороге, дальнюю стрельбу. Длинные очереди прерывались короткими, торопливыми, как стреляют, когда противник совсем близко и существует опасность, что вот-вот он обойдет с фланга. Воронцов сразу все понял. Он остановил коня, прислушался. Последовала серия гранатных взрывов. Ну, вот и все, подумал он и снова тронул каблуком сапога чуткий пах коня.
Раненого лейтенанта они разместили в танке. Немцы, нахохлившись, сидели на броне. Рядом с ними, с автоматами, опершись на броню башни, стояли бойцы. Воронцов, Нелюбин, Григорьев и Куприков ехали на лошадях. Воронцов приспособил вместо седла сложенную вчетверо шинель, которую Степан снял с убитого пулеметчика. Подвязал ее веревкой. Если погнать коня галопом, то на таком седле далеко не ускачешь. Степан с разведчиками шел где-то впереди.
Вскоре повернули. Танк прошел вперед. Тут, если что случится, решили уже лезть напролом. Глаза, свыкшиеся с темнотой, мгновенно различили впереди, сквозь снежную пыль, гряду окопов. Видимо, они были пустыми. Скорее всего, это была вторая линия, которую немцы занимали в случае опасности или перегруппировки. Впереди было тихо. Связной, которого должен был выслать Степан и в случае опасности, и в случае удачи, не возвращался. Воронцов хлестнул куском веревки коня, догнал «тридцатьчетверку» и постучал прикладом винтовки по броне. Танк остановился. Из люка высунулся Демьян:
— Ну что, командир?
— Надо подождать. Глуши мотор.
Немцев связали попарно и уложили на моторную решетку. Рты заткнули тряпками и паклей. Что нашлось.
Воронцов приказал занять круговую оборону и ждать.
Степан полз по полю, время от времени останавливался, замирал, слушал ночь, всматривался в темень, обрамленную впереди грядой кустарника, росшего вдоль придорожного кювета. Днем дорога казалась ближе. Вскоре он увидел бруствер большого окопа, над которым чернела полоска косого орудийного щита. Ну вот он и дополз до позиции ПТО. Артиллеристы наверняка сидят где-нибудь неподалеку, подумал он. И тут левее он увидел белую шапку блиндажа с черной трубой. Пахнуло дымом костра. Из трубы высверкивали струи искр. Неужели с той стороны оврага, от наших окопов, этого не видят, подумал Степан. Хороший корректировщик и несколько снарядов давно бы расковыряли этот блиндаж вместе с пушкой. А вот и часовой. Он увидел сгорбленную фигуру над приземистым щитом пушки. Подползти к нему со стороны поля невозможно. Заметит. Немец тем временем с кем-то разговаривал.
Степан выждал несколько минут. Ситуация не менялась. И тогда он начал отползать назад.
Полевкин и Золотарев его ждали в лощинке, в кустарнике.
— Ничего не получается. — Он лег на снег рядом с ними. — Полевкин, дай сюда гранату. Иди к командиру и доложи следующее: подобраться к окопу ПТО скрытно нет никакой возможности, я принял решение атаковать и забросать блиндаж гранатами. Они пусть начинают движение по дороге. В случае успеха мы присоединимся к ним на месте. Золотарев, за мной.
Полевкин ушел через поле, исчез в темноте, подсиненной морозным снегом. Степан толкнул в бок замершего Золотарева:
— Ну что, скокарь, пойдем сходим по мокрому делу?
— С таким напарником, как ты, скоканешь… Мы что, прямо на них полезем?
— А ты думал что? Это тебе не по форточкам лазить. Пошли.
Они подползли к позиции ПТО шагов на тридцать. Часовой стоял на прежнем месте. Но голоса затихли. Значит, тот, второй, с кем он несколько минут назад разговаривал, ушел. И часовой остался один.
— Слушай боевую задачу, форточник.
— Командир, подожди. — Золотарев подполз к Степану. — Я же не называю тебя фраером, сержант. Ты думаешь, мы справимся с ними?
— Ты что, трусишь?
— Да нет. Хочу понять смысл. Мы что, попрем прямо на часового? Чтобы тот поднял всех и нас из окопа встретила орава немцев с винтовками и автоматами? Так что растолкуй мне смысл твоей боевой задачи.
— А его нет, Золотарев. Так что выслушай боевую задачу хладнокровно. Иначе у тебя не хватит хладнокровия ее выполнить. Я поползу к часовому. Но не отсюда, а возьму правее. Там у них пехотные окопы. Если даже обнаружит, то в первое мгновение подумает, что идет кто-то из соседей. Я тогда действительно встану и пойду. Что-нибудь скажу по-немецки и пойду. Другого выхода нет. Ты будешь подползать слева. Твоя задача следующая: две гранаты — в трубу, одну, спустя минуту, бросишь в проход. Учти, вход в землянку у них может быть под углом. Надо спуститься, открыть дверь и только тогда бросить гранату. Иначе она разорвется в тупике, и через минуту выжившие выползут с автоматами в окоп. Выдвигаться начнешь, когда я буду возле дороги. Вопросы?
— У меня всего две гранаты.
— Возьми мою. Учти, с этой минуты в твоих руках вся наша артиллерия. Все наши козыри или как там у вас… Ну, я пошел.
— Вся масть, — вздохнул Золотарев.
Золотарев смотрел, как удаляются подошвы сапог сержанта. Ощупал засунутые за пазуху гранаты. В какое-то мгновение обожгла показавшаяся спасительной мысль: лесок за спиной рядом, там лощинка, а за ней другой лес, в котором можно затеряться, затаиться до лучших времен, или выйти к какой-нибудь деревне, пристать к одинокой бабенке… Когда бродили по лесам, еще до встречи с группой Курсанта, только об этом и толковали: найти в лесу глухую деревню, где нет ни немцев, ни полицаев, столковаться с местными и затихариться до лучших времен. Загудела в голове шальная кровь, зажгло в груди. Он оглянулся на лесок, на лощинку. Мгновенно представил, какая каша через минуту-другую заварится здесь… А часового-то в деревне он снял только так. И командир, уж на что ловкий и насмешливый парень, а все же поблагодарил его. Нет, Клятый, с тоской вспомнил он свою воровскую кликуху, поздно судьбу менять. И, теряя из виду растворившегося в ночи сержанта, шепнул себе:
— Пойдем, Клятый, и мы, приказ исполнять. Окропим снежок..
Он полз быстро и почти бесшумно. Эту науку он превзошел не в армии. Бесшумно передвигаться его учили на другом полигоне. Когда Клятый пошел по первому сроку, в лагере на него обратил внимание старый ростовский вор по кличке Папаха. Папаха уже прихварывал, и ему нужен был человек. Не ночной горшок, конечно, выносить, но все же исправно бегать по всем его приказаниям. Клятый оказался хорошим учеником, и в «шестерках» ходил недолго.
Накинув на голову белый капюшон немецкой камуфляжной куртки, в которые Курсант приказал одеть разведку, Золотарев быстро продвигался по неглубокому снегу вдоль полосы молоденьких берез и редкого кустарника, которым зарос придорожный кювет. До трубы, из которой теперь уже изредка вылетали яркие, как окурки, искры, оставалось шагов пятнадцать, когда впереди, возле немецкого орудия, он опять услышал тихий разговор. Разговаривали немцы. Не спят, зыбнуло внутри у Золотарева. На мгновение он затаился. Но тут же заставил себя снова ползти к черной трубе блиндажа. Давай, давай, Клятый, сержант уже, должно быть, подполз, момента ждет. И вот она, труба. Тепло от нее чувствуется на несколько шагов. Он ощупал за пазухой гранаты. Две «феньки» он бросит в трубу. Немецкую, с длинной ручкой, — в проход. Свои гранаты он знал хорошо. После третьего броска и «феньки», и «эргэдэшки» стали как родные. Немецкой побаивался. Но ничего, справится как-нибудь и с ней. Степан все объяснил. Что отвинчивать и какой шнурок дергать. Предупредил и о том, что взрыватель у нее поздний. Получается, что наши даже поопасней.
В это время позади него, где-то на дороге, дернул ночь танковый мотор. Все, через пять минут «тридцатьчетверка» и весь взвод будут здесь. А орудие еще не уничтожено.
Где-то левее, за дорогой и лесом, отстучал дежурный пулемет, отстрелял в ночное безмолвие положенный кусок ленты и затих. Ему, видимо, с другой стороны, но пореже, ответил другой. Золотарев его узнал — «максим», наш.
Золотарев приготовил гранаты и привстал, чтобы лучше видеть, что происходит в артиллерийском окопе. И в это время там началась возня. Он вскочил, выдернул чеку первой Ф-1 и сунул ее в жаркую струю черной трубы. Землю, укрепленную бревенчатым настилом, встряхнуло. Трубу вырвало из земли, и в дыру ударило потоком искр. Послышались вопли раненых. Золотарев разжал скобу второй гранаты, дождался щелчка взрывателя и сунул ее в багровую лунку. Снова встряхнуло шапку блиндажа. Крики раненых затихли. Он оглянулся в сторону артиллерийского окопа. Там тоже было тихо. За пазухой лежала еще одна граната. Он скатился вниз к лазу, прислушался. В блиндаже разгорался пожар. А в стороне пехотных окопов послышались голоса. В небо, расплескивая искры, как от электросварки, взметнулось сразу несколько осветительных ракет. Они повисли в стороне, но здесь, в окрестностях блиндажа и в артиллерийском окопе, стало видно, как днем. Приземистый косой щит орудия и узкий, как шило, ствол, развернутый вдоль дороги. Черная тень бруствера. Плетень внутри окопа. Штабель ящиков в углу. Степана не видать. Часового тоже.
— Золотарев! — послышалось оттуда сквозь кашель.
— Командир! Живой!
— Давай третью! Сюда! — Степан выбрался откуда-то сбоку, из-за бруствера, сплюнул тягучую багровую слюну. — Давай! Засовывай!
Золотарев увидел, как Степан сдернул с орудийного прицела плащ-накидку, открыл затвор.
— Сюда суй! Не бойся! Она не кусается. Разве что голову оторвет.
Золотарев сунул в казенник гранату, и они со Степаном кубарем покатились за бруствер, в придорожный кювет. Грохнуло еще раз.
И в это время к ним подошла «тридцатьчетверка». Танк остановился, развернул башню, опустил орудие и сделал несколько выстрелов. Фугасные снаряды рвались недалеко, в ольхах, справа и слева от дороги. Оттуда уже выплескивало пулеметные струи. Но немцы, застигнутые врасплох, вели огонь вслепую.
Степану и Золотареву помогли взобраться на броню танка.
— Ну, ребята, теперь держись! — крикнул младший сержант Петров и захлопнул люк. Танк послал в ольхи еще несколько осколочных и рванулся вперед. Следом за ним скакали всадники.
Заработали все пулеметы. Курсовой стриг кусты, перепахивал окопы, отгонял немецких пехотинцев в глубину траншеи. Стреляли и сидевшие на броне.
Вскоре пришли в себя и немцы. Сообразив, что это вовсе не атака и не прорыв на соседнем участке с выходом в их тылы, а одиночный танк, неизвестно как оказавшийся позади их позиций, быть может, заблудившийся, они начали возвращаться по траншее и ходам сообщения и занимать свои ячейки. Через несколько минут они уже вели прицельный огонь. Один из них, неожиданно оказавшись вне зоны огня курсового пулемета, стрелявшего трассирующими, побежал на сближение с танком. Он держал в руке круглый контейнер и, припадая к земле, продвигался все ближе и ближе к «тридцатьчетверке».
— Сержант! Мина! — закричал Полевкин; он расстрелял последние три патрона, но ни одна из его пуль не достигла цели. Немец, ловко маневрируя между деревьев и одиночных окопов, быстро сближался с танком.
Короткая автоматная очередь срезала бежавшего в десяти шагах от левой гусеницы Т-34. Достигнув линии траншеи, танк резко остановился, развернул башню и послал несколько осколочных снарядов туда, откуда взлетали частые ракеты. Один из снарядов опрокинул противотанковое орудие. Немецкие артиллеристы спешно разворачивали его, чтобы ударить в борт «тридцатьчетверки». Осколками перебило расчет. И это спасло прорывающихся.
Под Воронцовым убило коня.
— Сашка! Хватай стремя! — услышал он голос Кондратия Герасимовича.
Он вскочил на ноги и, хромая, поймал ногу младшего лейтенанта и побежал рядом. «Тридцатьчетверка» грохотала гусеницами, расчищая им путь. Впереди был мост через замерзший ручей. Воронцов увидел его в свете ракет, которые продолжали взлетать в черное небо теперь уже с двух сторон. Но окопы, белевшие брустверами на той стороне поймы, огня не открывали. Неужели сейчас полоснут, с ужасом думал Воронцов. Башня «тридцатьчетверки» медленно поворачивалась назад. Время от времени из нее в сторону немецких окопов полыхало стремительным длинным языком пламя очередного выстрела. Возможно, эта стрельба экипажа никакого урона немцам не приносила, но она показала сидевшим за нейтралкой, что прорываются свои и что свои нуждаются в поддержке. Не прошло и минуты, как по всей полосе немецких окопов начали рваться мины.
Танк остановился перед мостом.
— Командир! Курсант! — закричали с брони, высовываясь из-за развернутой башни. — Мост разобран!
Из люка высунулся Демьян:
— Курсант, вброд нельзя! Брод наверняка заминирован!
— Быстро взяли бревна! По два! — И Воронцов первый бросился к штабелю бревен, которые он вначале принял за мост.
Бревна со звоном падали на лед. Через несколько минут все было готово. Взвод переправился на другую сторону и залег на обочине дороги. А танк, хрустя обледенелыми разъезжающимися бревнами, медленно перебрался через ручей.
Последние сто метров взвод под прикрытием «тридцатьчетверки» преодолевал под сплошным градом мин. Наши минометы затихли. Но немцы, видимо, окончательно придя в себя, открыли шквальный огонь по всей линии окопов. Т-34 изредка останавливался, делал очередной выстрел и снова пятился вверх по склону. Курсовой пулемет его молчал — закончились патроны.
Воронцов последним спрыгнул в глубокую траншею. Рядом, гремя траками, перелез через бруствер танк. Заполз в огород, обнесенный высокой изгородью, остановился шагах в десяти от траншеи и выстрелил. Трассер сверкнул над поймой и ушел в сторону немецкой траншеи. Танкисты, израсходовав весь боезапас осколочных, в азарте стреляли бронебойными. «Тридцатьчетверка» снова взревела мотором и ушла в заросли терна.
Стрельба прекратилась. Стало тихо. Так что было слышно, как за ручьем кричали раненые немцы.
Воронцов огляделся и с удивлением обнаружил, что уже рассвело. Сыпал снег. Тихо шуршал по одежде и краям окопов.
— Товарищ Курсант, а траншея — пустая! Вот ешки-матрешки! Куда ж мы прибежали?
Воронцов открыл слипавшиеся глаза. Рядом с ним на дне траншеи стоял на коленях боец в закопченной каске. Это был Куприков.
— Куприков, это ты?
— Я, товарищ Курсант. — Куприков высунулся из траншеи, покрутил головой. — Неужели мы проскочили? — И он снова устало опустился на колени. — Проскочили. Это ж надо…
Снег шуршал, холодил потный лоб, залеплял глаза, щекотал ноздри. Белые пушистые шапки прилетали с неба, невесомо опускались на землю, засыпали следы и копоть. Казалось, небо опустилось к истерзанной земле, трогало дымящиеся раны, стараясь хоть как-то успокоить их. Умиротворить людей, копошащихся среди сотворенного хаоса разрушения и смерти, дать им возможность одуматься, остановиться, ужаснуться.
— Спасибо вам, товарищ Курсант. — Это сказал все тот же Куприков. Его голос услышал Воронцов где-то совсем рядом и открыл глаза. Закопченная каска колыхнулась и замерла действительно рядом, в полушаге. Воронцова это обрадовало: Куприков жив, он тоже добежал…
— За что?
— За то, что вывели нас. Вы ж нас спасли от позора. — Куприков уткнулся в угол окопа, затрясся. — От позора, товарищ Курсант. От позора… У меня ж дома двое детей. Сыны. Кем они вырастут, если папка ихний в плену сгинул бы?
— Ты что, Куприков? Плачешь? — Воронцов никак не мог отдышаться. Слова из него выходили с хрипами, с глубоким задышливым кашлем. — Пустое. Не плачь. Лучше сходи, позови Нелюбина, Степана и сержанта Григорьева. Всех — ко мне.
Закопченная каска качнулась и приподнялась.
— Подожди, Куприков. Знаешь что… Это тебе спасибо, Куприков.
— А мне-то за что? Я вон и патроны не все израсходовал. Танк как даст через наши головы! Ешки-матрешки!.. Вот где страху! А коня моего тоже убило. Жалко коня. Да где ж тут коня убережешь?
Воронцов, карабкаясь руками по стенке окопа, тоже встал. Обнял Куприкова и сказал ему:
— Ты хороший боец, Куприков. Вот за это я и выражаю тебе благодарность.
— Служу трудовому народу! — неожиданно ответил Куприков и подобрался.
— Голову-то не высовывай. Рассвело. Для снайпера самое время.
Спустя некоторое время боец вернулся. Доложил:
— Спят они все, товарищ Курсант. Сморило. Никого не смог разбудить.
— Раненые есть?
— В драке не без синяков. Но тяжелых, слава богу, нет. Степану досталось. Там, в окопе, возле «колотушки»[19]. Немец ему попался, видать, здоровенный.
— А что так тихо, Куприков?
— Наши спят. А хозяева, видать, разбежались. Мы ж на них — с той стороны, да еще с танком. Их тоже понять можно. У них же тут пушек противотанковых нет. Это вон у немцев — всякой твари по паре. Даже в пехотных окопах.
— Куприков, я назначаю тебя в наряд. Пока взвод спит, будешь охранять наш участок траншеи. А я немного посижу. Посижу и пойду хозяев поищу. Должен же тут кто-то быть.
На рассвете командиру стрелкового полка, державшему оборону перед склоном одной из высот в окрестностях Зайцевой Горы, подполковнику Колчину доложили из левофлангового батальона: немцы проявляют активность в районе деревни Фоминки, слышна ружейная стрельба. Через несколько минут новое сообщение: в ближнем тылу у немцев, похоже, идет бой, с применением танков, но с чьей стороны, пока не ясно.
— Ты, Дроздов, повнимательней будь, — предупредил комбата-3 Колчин. — От немцев всего можно ждать. Но, возможно, что на твоем участке прорывается заблудившаяся разведка из соседней дивизии. Будь готов ко всему.
— С танком прорываются, Илья Митрофанович, — сообщил комбат-3. — Вот только из второй роты позвонили. Солодовников сообщил: «тридцатьчетверка» с десантом на броне, пятится, ведет сосредоточенный огонь по немецким траншеям. На провокацию не похоже. Солодовников докладывает, что лупит по немецким окопам — только бревна летят.
— Ну так помогите им, Дроздов! Или хотите, чтобы их перед вашими траншеями распекли! Действуйте. Пусть минометчики откроют отсечный огонь.
— Да ведь мин и так по десятку на ствол.
— Танк потеряем — дороже выйдет.
— Танк не наш. Нам за него в бригаде и спасибо не скажут. А мины нам на артскладах по счету выдают. Израсходуем сейчас суточную норму, другой не будет.
— Слушай, Дроздов, срочно прикажи минометчикам открыть огонь. И брось мне эти рассуждения: мой колхоз, не мой колхоз… Докладывать — через каждые пятнадцать минут!
— Понял. Разрешите действовать?
— Вы уже должны действовать!
Старший лейтенант Солодовников тем временем бежал по траншее в сторону третьего взвода и материл всех и вся. Первым делом он помянул матушкой командира третьего стрелкового взвода лейтенанта Могилевского и его печатников. Потом минометчиков старшего лейтенанта Нигматулина, за то, что он в одну минуту перекинул через ручей всю суточную норму боезапаса, и теперь батальон, а в первую очередь вторая рота, остались без огневой поддержки как минимум до вечера.
Следом за Солодовниковым бежали младший политрук Кац и двое связных.
— Товарищ Солодовников… Товарищ Солодовников… Вы меня слышите, товарищ Солодовников?
— Да слышу, слышу! Что из того, что я вас прекрасно слышу! — в сердцах бросил ротный своему заместителю по политчасти, которого тоже недолюбливал: за то, что тот всюду совал свой нос, за то, что беззастенчиво мечтал об ордене, за то, что тоже был из тех самых печатников, которые сейчас дрожали, поджав хвосты, где-то здесь, в траншее. Шагах в двадцати кончался участок обороны второго взвода и начинались окопы печатников.
В-третьих, он крыл комбата Дроздова. Это он, капитан Дроздов, удружил ему с последним пополнением — печатниками.
Месяц назад, когда батальон отвели во второй эшелон на отдых и пополнение после потерь, понесенных возле урочища Сухой ручей, из Калуги прибыла очередная маршевая рота, и ее, как бывало прежде, не бросили на высоту, чтобы усилить очередную безнадежную атаку, а распределили по батальону. Тридцать человек, включая взводного, прислали во вторую роту. Лейтенант Могилевский, застенчивый, но исполнительный и немногословный, вначале понравился ему. Но потом Солодовников заметил, что бойцы совсем не слушаются лейтенанта, похлопывают его по плечу. Порядок держали сержанты. Однажды он оставил взводного в землянке, чайку попить. Как бы между прочим посоветовал, чтобы прекратил панибратские отношения с солдатами. «Слушаться они тебя лучше не будут, а на шею быстро сядут. Это я тебе как бывший взводный говорю». Да где там! Вскочил из-за стола, вспылил: «Вы мне не тыкайте! Я — офицер!» Офицер…
— Троицкий! Что вы здесь делаете! Где ваше отделение? Где ваша позиция? — Старший лейтенант Солодовников с налету наскочил на сержанта, сидевшего в отводной ячейке.
Сержант повернул бледное с потеками пота лицо, посмотрел на ротного отсутствующим взглядом и отвернулся.
— Где лейтенант Могилевский? Где твои бойцы? Ты что молчишь, сволочь! — И ротный замахнулся на сержанта и ударил бы его, если бы сзади его не обхватил младший политрук Кац. Замполит был хоть и невысокий ростом, но жилистый. Ротного он держал железной хваткой.
И в это время из-за изгиба траншеи выглянуло перепачканное лицо в каске, выкрашенной белой известкой. Старший лейтенант Солодовников ринулся к нему, увлекая за собой и Каца. Так они втроем и обрушились на дно траншеи и какое-то время, рыча и сопя, катались там, пока дежурная очередь немецкого пулемета не осыпала их мерзлым песком и снегом.
— Быстро собери взвод и — за мной! — кричал ротный, оттолкнув от себя замполита. ТТ, пристегнутый ремешком к колечку антапки, плясал в его руке.
Первый же день на передовой показал, какой офицер этот тихоня Могилевский. Старший лейтенант Солодовников обошел участок обороны, закрепленный за ротой. Сразу заметил: первый взвод тут же начал углублять ходы сообщения, отрытые где по пояс, а где и еще мельче. Третий взвод занимался тем же, находясь в резерве в тридцати-сорока шагах позади них за яблоневым садом и огородом, обнесенным высокой изгородью. Солодовников приказал и лейтенанту Могилевскому углубить ход сообщения, расширить пулеметный окоп и отрыть для «максима» запасную позицию в зарослях шиповника, надежно прикрытых снегом. А следующим утром, рано, на рассвете, ему доложили о первых потерях: снайпер подстрелил двоих бойцов, обоих наповал, оба из третьего взвода. Пришел посмотреть: лежат под плащ-палатками — головы снесены разрывными пулями. Саперные лопатки у всего взвода в чехлах. «Ну что, Могилевский, углубили траншею, — сказал лейтенанту, с ненавистью глядя в его застенчивые глаза. — Поздравляю с первым боевым крещением. Еще один такой, по твоей глупости, убитый, и ты, офицер, будешь четвертым». — И похлопал по кобуре ТТ. Никто их тогда не слышал. Поговорили по душам и, кажется, друг друга поняли.
Весь день и всю ночь третий взвод стучал лопатками. Конечно, он мог составить рапорт и подать его по инстанции, более того, он обязан был поступить именно так. Но решил посоветоваться с младшим политруком. В конце концов именно Кац отвечал за моральное состояние личного состава роты. Тот отговорил его от рапорта. Солодовников и сам не хотел осложнений: нового взводного ему все равно не дадут, а подходящего сержанта на должность исполняющего обязанности он пока тоже не видел.
Старший лейтенант Солодовников бежал по траншее. Теперь достаточно было пригнуть голову, чтобы каска не маячила над бруствером и не дразнила снайпера. Топот сапог и обледенелых валенок за спиной свидетельствовал о том, что взвод Могилевского бежал следом. За вторым изгибом Солодовников увидел лежавших вповалку людей с немецкими автоматами и карабинами, в немецких камуфляжных куртках и сапогах. Несколько человек среди них были одеты иначе. Один, рослый, худощавый, в поношенной шинели с курсантскими петлицами, в пилотке, глубоко надвинутой на уши. Другой в таком же поношенном ватнике и тоже в пилотке. Третий смотрел на пистолет Солодовникова испуганными глазами из-под закопченной каски. Каска его была в таком затрапезном состоянии, как будто в ней сутки на костре варили кашу на весь взвод.
— Кто такие? — Старший лейтенант Солодовников строго смотрел на людей, занявших окопы левого фланга его роты. — Разведка, что ли? Почему в немецкой форме?
То, что это не немцы, старший лейтенант Солодовников понял сразу. С такими заросшими рожами… Немцы, даже убитые, выглядели куда лучше.
Младший политрук тем временем выглядывал в сторону поймы. Двоим автоматчикам, на всякий случай, приказал взять на мушку людей, занявших их траншею при совершенно неожиданных и странных обстоятельствах и теперь спавших вповалку прямо в ячейках, на затоптанном снегу, на ящиках. Словом, кто где.
А немцы, наблюдавшие за их траншеей, тем временем окончательно придя в себя, кинули несколько пристрелочных мин. Взрывы хряснули в саду, немного с перелетом, между первой и второй траншеями роты.
— Пристрелочный, — сразу определил старший лейтенант Солодовников. — Могилевский! Живо расставляй людей! Сейчас в атаку попрут!
Бойцы протискивались в тесной траншее мимо ротного и младшего политрука, стараясь не смотреть им в глаза, карабкались на четвереньках к своим ячейкам, перешагивали через спящих в незнакомой форме, которых час назад они приняли за немцев, внезапно, при поддержке танка, атаковавших их взвод.
Мины начали перепахивать правый фланг. Потом немцы обработали левый, на стыке с третьей ротой, и обрушились на центр.
Когда обстрел закончился, взвод Воронцова зашевелился и начал выглядывать в пойму. Там, в полутораста метрах от них уже бежала, с каждой минутой выравниваясь в более правильный порядок, густая цепь. Атаку немцев поддерживали два бронетранспортера с крупнокалиберными пулеметами и штурмовое орудие. Приземистое, как черепаха, оно осторожно ползло справа, подминая кустарник и не отрываясь от пехоты.
— Кто командует группой? — спросил ротный, как спрашивают своих, когда надо готовиться к бою.
Воронцов шагнул навстречу и вскинул ладонь к виску:
— Сержант Воронцов.
— Сержант? Как сержант? — В глазах ротного было недоумение. — Ладно, пусть будет сержант. Где ваш танк? У него есть снаряды? Он может вести огонь?
— Должны быть, товарищ старший лейтенант. — Внутри у Воронцова все колыхалось и подпрыгивало от радости. Вот он, Сашка Воронцов, курсант Шестой роты Подольского пехотно-пулеметного училища, принявший свой первый бой в октябре прошлого года неподалеку отсюда на реке Извери, а потом год скитавшийся по лесам, наконец-то вышел к своим. Вывел людей. Он докладывает старшему по званию. Правда, похоже, тот не особо нуждается в его докладе. Потому что немцы атакуют его участок, и сейчас прежде всего нужно приготовить людей к бою.
— Он что, не подчиняется вам? — спросил Солодовников, указав стволом пистолетом в сторону сада.
— Подчиняется. Мы — одно подразделение, один взвод. Сформировались во время выхода.
Ротный снова в недоумении покачал головой и сказал:
— Ладно, потом разбираться будем. Пусть твоя «тридцатьчетверка» попытается остановить их штурмовое орудие.
— Есть остановить штурмовое орудие, товарищ старший лейтенант! — И Воронцов снова лихо вскинул ладонь к пилотке, которая теперь уже вполне по уставу, хотя и не по сезону сидела на голове сержанта с курсантскими петлицами и нашивками «ППУ»[20].
Воронцов позвал Степана и сказал:
— Ну, Степ, надо отличиться. Сама судьба нам посылает эту атаку. Скажи Демьяну, если, конечно, у них есть бронебойные, чтобы стрелял по самоходке. У них тут, как видно, артиллерии нет. Так что пусть постарается.
Глава двадцать девятая
После окончания очередной операции в лесах юго-западнее Вязьмы Радовский в качестве поощрения получил несколько дней отпуска. Сидеть в деревне и пить в компании своего начштаба самогонку показалось ему занятием слишком банальным и скучным. И он решил съездить куда-нибудь развлечься. Ближайшей тыловой столицей была Вязьма. Там можно было потратить скопившиеся у него рейхсмарки и кое-какие трофеи.
Еще накануне Радовский приказал своему водителю приготовить для длительной поездки единственную машину, которой располагал транспортный взвод. Основным видом транспорта боевой группы Радовского были лошади. Полуторку они захватили прошлой зимой во время ликвидации Западной группировка 33-й армии. Трофеем своим дорожили. Машину берегли..
О том, что предстоит поездка в Вязьму, Радовский никому не говорил до самого последнего момента. С некоторых пор он начал замечать, что в Боевой группе что-то происходит. У людей изменилось настроение. Глаза курсантов стали холоднее и сосредоточеннее. И он перестал доверять даже самым надежным, в ком раньше не сомневался.
Конечно, лучше было бы съездить в Калугу. Или в Боровск. Побродить по монастырю. Прошлой зимой он ездил в Боровск довольно часто. Или в Можайск Но и Можайск, и Боровск, и Калуга давно были заняты большевиками. Там уже снова Совдепия, как сказал бы барон Сиверс. Интересно, где он сейчас? По-прежнему служит в Смоленской комендатуре? Бредит идеями НТС и горит идеей создания из военнопленных миллионной Русской освободительной армии? Что ж, поймал себя на мысли Радовский, верить во что-то надо. Чтобы хотя бы утешать себя тем, что смысл у жизни все же есть. Каждая тропинка должна куда-то вести. Хотя бы в отхожее место… Конечно, неплохо было бы съездить в Смоленск. Побывать на службе в соборе, полюбоваться иконостасом. Повидать, наконец, Зимина, Сиверса, Штрикфельда. Если он сейчас там. Пображничать. Навестить мадам Лизу, поцеловать ее влажные пальчики, пахнущие французскими духами. И в чаду не страстей, а угара… До Смоленска далеко. Так что оставалась Вязьма.
Об Анне и сыне он старался не думать. Иначе это грозило разрушить все, что у него оставалось.
Утром полуторка остановилась возле дома, где квартировал Радовский. Часовой постучал в окно: пора ехать. Водитель, молодой курсант, которого Радовский привез из Рославльского концлагеря, терпеливо ждал его возле машины, прыгая в новеньких хромовых сапогах возле радиатора. Мотор машины работал, заглушая разговор курсантов. Но Радовский все же уловил произнесенное несколько раз слово «Сталинград». Водителя звали Василием. Лицо его сияло.
— Здравствуй, Василий, — поздоровался Радовский первым.
— Здравия желаю, господин майор! — выдохнул курсант, на немецкий манер прижав ладони к полам белого полушубка.
Радовский заметил это и подумал вот о чем: человек в неволе очень быстро усваивает внешние признаки необходимого для выживания, легко копирует клише, которые ни к чему, по сути дела, не обязывают, но кем он остается внутри? Когда они, уйдя из Новороссийска и Одессы, оказались в Галлиполи, в Кутепии, тоже ведь хлынули в Иностранный легион. Лишь бы служить? Нет, всегда остается надежда, что еще возможно послужить Родине.
— Что случилось? — И он внимательно посмотрел в глаза водителю.
— Ничего, господин майор. Настроение хорошее.
— По какому поводу?
— В город все же едем!
— Ну-ну. Ты, я вижу, и сапоги по такому случаю начистил, и вообще приоделся.
И, когда уже отъехали от деревни с километр, спросил:
— Так что там радисты говорят о Сталинграде?
Радовский знал, что курсанты-радисты слушают Москву. Что все новости с той стороны в роте узнают именно от них. Пока дела у рейха на Восточном фронте шли успешно, поток большевистской болтовни не представлял особой угрозы для морального климата боевой группы. После отхода от Москвы и закрепления на новых позициях положение снова выправилось. Армии стояли на своих позициях как вкопанные. И что бы ни передавали оттуда, на фоне новых и новых неудач Красной Армии и на южном участке, и на северном, и в центре, — все эти слова воспринимались как чистой воды пропаганда. Пусть слушают, думал он, в конце концов, рано или поздно этот поток хлынет и на них, и потому они должны быть готовы ко всему заранее. Но теперь, когда, судя по тем скудным фактам и слухам, которыми располагал Радовский, дела у вермахта на Волге действительно плохи, голос Москвы может смутить даже самых стойких.
Лицо курсанта сразу изменилось. Он внимательно смотрел на дорогу, как будто там вдруг увидел мины, а тормозить было уже поздно, и предстояло проскочить мимо них, не задев ни одной, потому что иначе… Василий попал в плен во время летних боев в районе Всходов, когда 1-й гвардейский кавкорпус генерала Белова пошел на прорыв через Варшавское шоссе к Кирову. Имел звание техник-лейтенант. Хорошо разбирался в технике. Умел водить и мотоцикл, и грузовик, и танк. От офицерского звания отказался. В боевой группе служил рядовым. И вот теперь, когда, должно быть, радисты приняли нечто весьма важное, что касается Сталинграда, лицо этого бывшего кавалериста сияет. А ведь умирал от диареи в Рославльском концлагере.
Радовский мельком взглянул на него и заговорил о другом. Чтобы освободить курсанта от своего предыдущего вопроса. Все равно ничего не скажет. Не станет подводить радистов. Тем более что двое из группы связи — немцы. Правда, прибалтийские. Вторая категория. Но все же — немцы. А доверием немцев надо дорожить. Это Радовский усвоил хорошо.
По расчищенной дороге выехали на шоссе Вязьма — Юхнов. Машина помчалась быстрее. Проезжали знакомые места. Знаменка, Заречье, Вороново, Ермаки, Безымянная… Вот здесь Радовский вместе со своей группой входил в район, занятый войсками генерала Ефремова. Та группа была лучшей из всех, которые он смог сформировать с осени прошлого года, когда фронтовые генералы вермахта, понимая, что пополнением, поступающим из Внутренней Германии, потерь не покрыть, начали создавать в ближнем тылу своих дивизий и корпусов вспомогательные части из числа бывших военнопленных РККА. И она почти вся осталась здесь. Здесь, на Угре, на Собже. Лесник, Подольский, Гордон… Интересно, как поживает Профессор? С его изворотливостью и редкой теперь профессией даже в этом аду можно процветать. Сталинград, Сталинград… Если там вермахт наскочил на наостренный кол, то многие и здесь схватятся за свои ягодицы…
Легкая поземка, струящаяся сквозь березняки и заметенные придорожные кустарники, наплывала на дорогу, образовывала переметы. Их расчищали местные жители, согнанные сюда вспомогательной полицией. Вязьма с прилегающими волостями, как и вся Смоленская область, входила в область «Митте»[21].
Когда подъехали к Лосьмино, их остановил патруль. Перед шлагбаумом и полосатой будкой ходили жандармы и проверяли документы. Каждый транзитный транспорт досматривался здесь с особой тщательностью.
Радовский достал командировочное удостоверение. Немец подошел и потребовал предъявить документы. Жандарм внимательно изучил их бумаги, заглянул в кабину, обошел грузовик вокруг и спросил, возвращая Радовскому документы:
— Beute mechen, Herr Major?
— Ja, — ответил Радовский.
— Und er? — Жандарм указал пальцем на Василия, который сидел за рулем и смотрел вперед, боясь пропустить очередь к шлагбауму.
— Ja.[22] — И Радовский поднес руку в перчатке к фуражке. Шапку он носил, только когда уходил на задание.
Немец ответил, щелкнув каблуками и сдержанно улыбнувшись.
Проехали пост. Колонна стала растягиваться, и вскоре высокий фургон, колыхавшийся перед ними, исчез за поворотом. «Опель-блиц» с санитарным крестом на брезенте умчался вперед настолько стремительно, что Радовский, следя за реакцией водителя, вынужден был сказать ему:
— Не гони, Василий. Нет нужды гнаться за ним. Он сильнее. У него мощнее мотор и совершеннее ходовая часть. С этим надо считаться.
— Да, это точно, господин майор. Машины у немцев хорошие. Но танки у нас все же лучше. — И курсант втянул голову в плечи.
— Танки? Танки действительно лучше. Только, Василий, ты об этом больше никому не говори.
— Нет-нет, господин майор, — затараторил курсант, испуганно оглядываясь на Радовского. — Могила!
— Да уж постарайся.
— Раненых повезли, — сказал тот, чтобы перевести разговор на другую тему. — Пока стояли, вторую машину пропустили.
— Успокойся, Василий, их ведь возят не из-под Сталинграда.
— В том-то и дело. Из-под Юхнова, видать. — И курсант, взглянув на Радовского, спросил: — Неужто, господин майор, и здесь началось?
— Не думаю. — Но сам он почувствовал, что внутренне напрягся, услышав вопрос курсанта.
Впереди показалась очередная группа людей, которые, стоя цепочкой вдоль левой стороны дорожной обочины, деревянными лопатами отбрасывали на обочину снег.
— Притормози-ка, — приказал Радовский, выглядывая в заиндевелое боковое окно.
Их было человек двадцать. В основном женщины и старики. Руководил ими полицейский, сидевший на ящике. Полицейский курил немецкую сигарету. Радовский это почувствовал по запаху табака. Когда машина прижалась к расчищенной обочине и остановилась, полицейский встал, закинул винтовку за спину и подошел к машине.
Радовский вышел из кабины. Полицейский остановился перед ним.
— Ну? — Радовский взглянул на него и отвернулся. — Как ты должен реагировать на появление офицера германской армии?
Полицейский молчал. На лице его читался испуг. Радовский обошел его вокруг. Увидел зажатый в пальцах окурок. Он тут же повернулся и пошел к женщинам, сгрудившимся возле снежного отвала.
— Откуда? — спросил он.
— Из Стогова, — с готовностью ответила одна из них, явно удивленная тем, что немецкий офицер так хорошо говорит по-русски.
— Тут недалеко наша деревня, — сказала другая. Она начала поправлять шаль, и Радовский увидел на шее у нее фанерную бирку с какой-то надписью.
— А ну-ка, что это у вас? — Он сделал жест рукой, указывая на бирку.
— Пачпорт, — ответила женщина и выпростала из складок серой крестьянской шали прямоугольную, величиной с ладонь, бирку, на которой химическим карандашом было старательно выведено печатными буквами: «Малашенкова Прасковья Васильевна, 1895 г. р. Рост 1 м 62 см. Цвет волос — русый. Глаза — голубые. Проживает: дер. Стогово Вяземского уезда…»
Радовский кинулся к другой женщине, к третьей.
— У меня, господин офицер, такой же, — сказал старик, тряся фанерной биркой, мотавшейся на его жилистой шее, обросшей седой щетиной.
— Кто распорядился? — закричал Радовский.
— Давно так живем, — ответил старик. — С лета.
До самого пригорода ехали молча. Радовский вспоминал встречу в Смоленске. Разговор с бароном Сиверсом и Штрик-Штрикфельдом. В прошлом году таких бирок здешние жители еще не носили. Такого, казалось, и представить было невозможно. А что здесь, на этих дорогах, будет через полгода? Через год? Через год земля «Митте» будет цветущим краем… Радовский вздохнул: и рядом с самодовольной германской харей, рядом с новым хозяином России будем стоять мы… Мы… Мы, обманутые далью и захваченные пылью…
Возле очередного дорожного поста на обочине, в снежной пыли, мелькнула фигура человека и бледное лицо с длинной редкой бородой, которую отдувал в сторону ветер. И в походке, и в посадке головы, и в лице путника Радовскому показалось что-то знакомое.
— Останови! — И Радовский выскочил из кабины.
По заснеженной обочине шоссе, сторонясь проезжих машин и санных повозок, шел монах Нил.
— Здравствуй, Нил.
— Здравствуй, — ответил Нил и указал на него пальцем: — Но одежда на тебе чужая.
— Ты куда идешь? — пытаясь пропустить мимо ушей последнюю фразу монаха, спросил Радовский.
— Иду в Вязьму. Как и ты. На богомолье. Чтобы к Рождеству ко двору вернуться.
— Как там мои, Нил?
— Хутор живет в мире. Всем хватает света и еды. Никто никого не подкарауливает. Никто ни на кого не злоумышляет. Тихо в лесу. Тихо на озере.
— А как же ты через посты прошел?
— Словом Господним.
— Так ведь на постах могут оказаться люди разные. Документов-то у тебя, как видно, нет?
— Вот мой документ. — И Нил перекрестился. — А человеческая власть не может передолить власти Господней. Что Господь управит, то и будет. Начальник, какой жестокосердый он ни будь, а ничего-то мне не сделает, если Господь того не пожелает. Будь хоть и веры иной, и языка. А в сердце каждого человека Господь пребывает. В иной больше, в иной меньше. Но — в каждой.
— Анна Витальевна знала, что ты сюда придешь?
— Я и сам не знал, что сюда приду. Ноги принесли. — И Нил улыбнулся. — Не бойся за них. За себя бойся.
— За себя я давно не боюсь.
— Они тоже так думали. Мерзнут теперь. В степи. Там ветра сильные. И спрятаться от них негде. Лесов там нет.
— Где? Ты что имеешь в виду?
— Там… Там… Кого огонь поразит, а кого хлад.
— О чем ты говоришь, Нил? Скажи. Ты что-то знаешь о Сталинграде?
— Все реки туда текут. Детей надо выручать. Детей в неволю угнали.
В горле у Радовского пересохло.
— За них и иду Иверскую попросить.
— Послушай, Нил, садись в машину. Мы тебя довезем.
Нил заглянул в кабину, увидел Василия и кивнул ему:
— Смотри, сынок, на брата руки не поднимай. Зарок, данный единожды, исполняй. А другой верой не соблазняйся. Хлебушком, хлебушком поманули… Цып, цып, цып… Клюнул хлебушка? Горек? Горек чужой хлебушек. Так-то. — И Нил махнул рукой Радовскому — Ступайте, ступайте и вы. Иверской молитесь. Ее просите. Она — ваша заступа пред Господом нашим.
Сколько бы ни пытался выпытывать Радовский у монаха о хуторе, сколько бы ни умолял рассказать об Анне Витальевне и Алеше, но Нил умолк и больше губ не размыкал. В машину тоже не сел.
В Вязьме Радовский первым делом зашел в городскую комендатуру. Размещалась она в красивом двухэтажном здании на берегу реки Вязьмы. Ему дали несколько адресов, где можно было снять на несколько дней комнату.
Город почти не пострадал. В октябре прошлого года в Вязьму вошли танки 4-й танковой группы Гёпнера. Большевики оставили город почти без боя. Возле села Богородицкого Радовский видел поле, буквально устланное трупами солдат одной из армий, которая пыталась вырваться из окружения. Тысячи, десятки тысяч трупов. Такое поле он видел впервые. Это была грандиозная операция группы армий «Центр». Сотни тысяч убитых и плененных со стороны противника при минимальных собственных потерях. Два фронта, закрывавшие Москву, оказались смятыми и уничтоженными за одну неделю. Но потом выяснилось невероятное. Красную Армию и это не уничтожило.
До начала вечерней литургии он решил побродить по городу. Пересек площадь. Под снегом угадывался старый булыжник. Видимо, им была вымощена вся площадь. Прошел к Базарной площади. Это место он помнил с детства. В 1912 году здесь открывали памятник Перновскому полку. Он помнил и тот день, и тот памятник. Вряд ли он уцелел, потому что он представлял собой колонну, увенчанную двуглавым орлом. Отец Радовского был приглашен на открытие официально. Прибыл в полном составе Перновский полк. Под барабанный бой было распущено знамя полка, под которым 22 октября 1812 года вот по этой мостовой в город входил дед Радовского, тоже Алексей Георгиевич. Но он был в форме русского офицера… Он вспомнил слова монаха Нила: «Одежда на тебе чужая…» Чужая. И одежда, и то, что под нею. Все — чужое. Кому нынче нужно свое? Куда мне плыть — не все ль равно, и под какими парусами?
Памятника он не нашел. Но колонна сохранилась. А может, это была вовсе и не та колонна, на которой сидел орел. На колонне белела какая-то бумажка величиной с тетрадный лист. Он подошел поближе, прочитал: «За появление на улице после 16.30 расстрел на месте». Он усмехнулся и подумал: вечерняя служба начинается не раньше 18.00, а то и позже. Кто же ходит в храм? Видимо, те, кто имеет специальные пропуска. «Расстрел на месте…» Что ж, должно быть, и расстреливают. Вспомнились женщины и худой обветренный старик с фанерными бирками на шее. Ни французы, ни поляки, ни другие завоеватели до этого не додумывались. Даже варварские орды не унижали так русского человека. Вязали веревками, угоняли в рабство. Но бирки на шею, как скотам при хозяине, не вешали.
И вдруг Радовский испугался, что не увидит монаха Нила, что расстренется с ним и не сможет ничего передать Аннушке и сыну. Он быстро пошел к Троицкому собору, который горел крестами на высоком насыпном холме. Холм, должно быть, был таким же древним, как и сам храм. Мощные, больше похожие на крепостные, стены собора были выбелены свежей известкой. Под обрывом, в заснеженном овраге, сияла продолговатыми полыньями Вязьма.
Радовский вошел в храм. Служба еще не началась. Но в одном из приделов стоял народ. Горели свечи. В храме царил полумрак. Но свечи озаряли часть иконостаса придела и особенно одну небольшую икону, убранную в сребро-позлащенную ризу. Там, в световом кругу, Радовский увидел Нила. Монах стоял на коленях перед иконой и молился.
Радовский купил пучок свечей и, стараясь как можно тише ступить по бетонному полу, подошел к иконе. Это была Иверская. Он зажег свою свечу и вставил в шандал. Отступил на шаг и перекрестился. Он смотрел на озаренный живым огнем лик и попытался вспомнить молитву. Но слова путались. Мысли уходили куда-то прочь из храма, в лес, в сосны, где он так хотел почувствовать себя солдатом того храброго генерала, который пустил себя пулю в висок. Он снова перекрестился, словно отмахиваясь от навязчивых мыслей, которым не место было в его душе сейчас, когда он вошел в храм. Но и в следующее мгновение ему увиделся вовсе не пресветлый лик иконы, а край поля с деревушкой невдалеке, цепь его роты, охватывающая и то поле, и ту деревушку, и внезапный огонь пулемета из крайней хаты, и смерть подпоручика Дремина, одного из лучших командиров взводов. Потом — другая деревня, облава, бегущие к опушке леса люди, которых надо перехватить, повернуть назад до того, как они растворятся среди сосен и берез, где их уже не найдешь. После каждой облавы рота пила несколько дней. Иногда это перерастало в дикие оргии с драками и стрельбой. Единственное, что он, как командир роты, мог сделать, чтобы удержать подразделение от последнего шага, — это разоружить личный состав, выставить возле каждого дома, где пьянствовали курсанты, трезвого часового с приказом стрелять в каждого, кто попытается выйти из дома. Он опустил глаза. Но и это не помогло. Он огляделся, пытаясь понять, что же мешает ему сосредоточиться в самом себе и хотя бы на несколько мгновений обрести душевный покой. Из темного угла, где стоял огромный деревянный крест, на него смотрели горящие, как ярые угли еще не остывшего костра, глаза ребенка. Кто это был, девочка или мальчик, или какой-нибудь урод, которого пустили в храм, чтобы не мерз на паперти, он так и не смог разглядеть. В каждой травке намек на возможность несбыточной встречи…
Глава тридцатая
Воронцов приказал своему взводу поделить поровну оставшиеся патроны. Автоматчики, которые все это время неотлучно следовали за старшим лейтенантом, принесли ящик с гранатами.
— По две на брата, — сказал один из автоматчиков. Они поставили ящик к ногам Воронцова и побежали на левый фланг, где ротный распекал кого-то матюгами.
Воронцов крикнул:
— Кто не боится гранат, подходи получать!
Первым подбежал Куприков.
— Давайте, товарищ Курсант, мою пайку и пайку Калюжного.
— А ты разве бросать умеешь?
— Умею.
— А Калюжный что?
— Да не бросал он ни разу.
Ребристые, настывшие на морозе Ф-1 быстро расхватали из ящика. Начали торопливо ввинчивать запалы. Оборона — не наступление. Если немцы подбегут на бросок гранаты, поздно будет вставлять запалы.
Воронцов рассовал три доставшиеся ему гранаты по карманам и выглянул в поле. И в это время сине-фиолетовая трасса, гулко шипя в морозном воздухе над головами затаившегося взвода, ушла в пойму, и Воронцов увидел, как бронебойная болванка ковырнула землю перед гусеницей самоходки и рикошетом ушла в сторону ольховых зарослей. Штурмовое орудие тут же остановилось, сделало небольшой разворот. Короткий ствол его, торчащий из ниши приплюснутой башни, дернулся, выплюнул снаряд. И оно, снова выровнявшись и держась своего курса, пошла вперед. Опасаясь мин, своих и русских, механик-водитель вел машину точно по следу «тридцатьчетверки».
В саду взревел танковый мотор. Воронцов понял, что танкисты решили сменить позицию. Потому что из ольховой гряды на той стороне поймы вдруг начало стрелять одиночное противотанковое орудие. Своим выстрелом танкисты обнаружили себя, и теперь их взяли в прицел. «Тридцатьчетверка» переместилась куда-то левее, на стык с соседней ротой. Там слышались команды старшего лейтенанта. Вскоре оттуда с тем же гулким шипением в пойму, к мосту, унеслась вторая трасса. Она ударила под углом в низкую боковую броню немецкого штурмового орудия, вспыхнула искрами и, видимо, выломав дыру, проникла внутрь. Потому что самоходка резко остановилась, дернулась и медленно начала сползать с дороги вниз, в болотину. Открылся люк. Но никто оттуда не вылез. А еще через мгновение черный дым повалил из моторной части и откинутого люка, окутывая омертвевшую машину маслянистыми разводами. Следом за второй еще несколько трасс ударили в разгоравшуюся самоходку. Она вздрагивала и еще глубже оседала в черную болотину, расползавшуюся бесформенной лужей по льду вокруг гусениц.
В траншее, словно ветер, пронеслись радостные возгласы:
— Вот кроет!
— Горит!
— Братцы, ихний танк горит!
Воронцов мгновенно вспомнил бой под Юхновом, когда их Шестая курсантская рота атаковала и когда артиллеристы из соседнего училища подожгли первые танки. Точно так же они ликовали в своих окопах, когда немецкие танки, казавшиеся неуязвимыми, начали маневрировать, пятиться, когда точные попадания срывали башни, корежили бортовую броню, когда взрывались боеукладка и горючее и железная коробка содрогалась, на глазах превращаясь в жалкое свое подобие. Каждый солдат должен пережить такое, чтобы знать, что железо тоже горит.
— Не стрелять! — кричал изо всех сил, матерясь, старший лейтенант Солодовников. — Не стрелять!
Время начала огня для стрелков еще не наступило.
И тут резким электрическим щелчком ударило по каске стоявшего в соседней ячейке Куприкова. Боец опрокинулся навзничь. Воронцов увидел его испуганные глаза.
— Убрать головы! — рявкнул Воронцов и кинулся к Куприкову. — Огонь открывать только по моему приказу!
Куприков лежал с открытыми глазами. Во взгляде не было того покоя, который Воронцов видел у умирающих.
— Куприков, живой?
— Ох, ешки-матрешки… — Боец сдвинул рукой каску, потрогал голову. — Я думал, мне голову оторвало.
— Разрывными бьет.
— Снайпер, что ли? Вот гад. Каска ему моя глянулась.
— А ты тоже, головешку свою высунул. Хоть бы снегом облепил…
Воронцов расчехлил прицел винтовки, снял с головы пилотку, свернул ее вчетверо, сунул в карман и осторожно высунулся над бруствером. Немецкая цепь как раз забежала в полосу замерзшего ручья. Черные и белые фигурки в капюшонах перепрыгивали через расклеванные во льду и болотине лунки, оставленные минами. Немцы атаковали примерно двумя взводами. Но, кто знает, сколько их там сосредоточилось в траншее на исходных в ожидании результатов атаки ограниченными силами. Бронетранспортеры сунулись было вниз, но слабый лед, видимо, не держал, и они тут же дали задний ход, остановились и начали поливать траншею на противоположной стороне огнем крупнокалиберных пулеметов. Штурмовое орудие, осев набок, вовсю горело, выбрасывая из люка багровое пламя. Хорошо ему влепили танкисты! Воронцов скользнул окуляром прицела по фронту. Ничего подозрительного. Цепь бежала по льду и болотине. Самоходка разгоралась. «Гробы», маневрируя и время от времени меняя позиции, продолжали стрелять длинными очередями, поддерживая атаку своей пехоты. И тут над бортом одного из бронетранспортеров вспыхнул дымок порохового заряда. Без сомнения, это был одиночный выстрел. Воронцов медленно повернулся влево и поймал в прицел крайний «гроб». Над бронеплитой, закрашенной в грязно-белый цвет, показалась такая же белая каска, обернутая материей, прихваченной по окружности тонким ремешком. Блеснула линза оптики. Немец произвел свой очередной выстрел так быстро, что Воронцов не успел его упредить. Дымок порохового заряда снесло в сторону. Белая каска с поперечным ремешком медленно утонула за обрезом бронеплиты. Что ж, полдела сделано, Воронцов его обнаружил, и теперь надо ждать, когда немец перезарядит винтовку и снова высунется, чтобы определить очередную свою жертву и снова выстрелить.
— Рот-та-а! Слушай мою команду! — И старший лейтенант Солодовников в азарте выскочил на бруствер, трепанул над головой своим ТТ. — По фашистским извергам — огонь! — Ротный прибавил еще несколько слов для связки и выстрелил в пойму.
Почти одновременно с ним выстрелил и Воронцов. Потому что белая каска снова начала подниматься над наклонной бронеплитой. Воронцов не стал ждать, когда снайпер покажется до плеч, нажал на спуск. Но бронетранспортер дернул. Возле него вырос багровый фонтан взрыва фугасного снаряда, и водитель тут же отреагировал. Снайпер исчез. Воронцов успел заметить, как его пуля ударилась в край бронированного борта.
— Не попал… — Он перезарядил винтовку. Не думать ни о чем, кроме винтовки и выстрела. Ни о чем больше… Ни о чем…
Он знал, что снайпер теперь вряд ли снова высунется из-за борта. Но огонь он продолжит. Только с другой позиции.
— Витюков! Бегом к минометчикам! Скажи, чтобы накрыли склон. Хотя бы пару залпов! — Старший лейтенант Солодовников размахивал винтовкой с примкнутым штыком. Видимо, взял у кого-то из убитых. — Всем раненым, кто может стоять, взять в руки оружие! Отобьемся, ребята! Отобьемся!
Но немцы, сломав цепь, накатывались стремительной лавой. До некоторых из них оставалось шагов пятьдесят. И Воронцов увидел, что бежавшие в передней цепи начали выдергивать из-за голенищ противопехотные гранаты с длинными ручками. Он знал, что такие палки можно бросать издалека.
Нелюбин, проснувшись, не сразу понял, куда попал. Его трясло. Но холода он не чувствовал. С ним происходило что-то нервное. Эх, уморила меня война проклятая, подумал он, глядя в молочно-мутное небо, откуда на землю, на бруствер и в траншею, на плечи и лица его товарищей падали белые шапки снега. Потом, услышав знакомый голос командира роты, которая держала оборону рядом, в соседях, когда они атаковали в Сухом ручье, понял, что фронтовая судьба все же милостива к нему. Он хотел было окликнуть старшего лейтенанта Солодовникова, но тот, яростно матерясь, пролез по траншее, наступая на их ноги и руки, и начал приводить в чувство кого-то на левом фланге. Туда немного погодя, по приказу Курсанта, ушел Калюжный. И Нелюбин вспомнил, что там, когда они спрыгивали в траншею, он заметил пулеметный окоп и на дне его накрытый плащ-палаткой и припорошенный сверху снегом «максим». Тут же мелькнуло: позиция радом с пулеметом… опасная позиция… накроют первым же залпом. Когда автоматчики принесли ящик с гранатами и Курсант начал распределять по едокам самые гожие для такого случая оборонительные Ф-1, Нелюбин, как всегда, пожадничал, взял шесть штук. Рассовывал и рассовывал по карманам, пока не отяжелела куртка.
— Так-то оно… Так-то, Сашка… Укуся пирожка, да и за пазушку… — приговаривал он, понимая, что сейчас будет.
— Бери, бери, Кондратий Герасимович, — помогал ему Воронцов, глядя, как дрожат большие натруженные руки Нелюбина. — У тебя не пропадут.
— Да уж беряжить буду, — засмеялся невесело Нелюбин. — На Пасху заместо яиц на божницу положу…
— Кондратий Герасимович, позиция у вас хреновая. Пулемет.
— Да я вижу.
— Они сейчас на него полезут. Попытаются его гранатами закидать. Так что держитесь.
— Удержимся. Не впервой. А не удержимся, так и побежать можно.
— Нельзя нам тут бежать. Вы, главное, не подпустите их. Подпустите, все гранаты — ваши.
— Да я уже все понял. Арихметика, ектыть, нехитрая… Два пиши, а три — в кармане…
Когда началась пальба, Нелюбин управлял своим отделением и сам стрелял из автомата, тщательно выцеливая очередную фигуру в распахнутой шинели. Но сколько бы они ни палили по цепи, она все равно продолжала приближаться к их траншее, накатываясь серо-зеленой волной от замерзшего ручья вверх.
«Максим» заработал, когда до немецкой цепи оставалось метров восемьдесят. Пулемет сделал несколько прицельных очередей, и Нелюбин увидел, как поредело сразу внизу. То ли пулеметчики их срезали точной стрельбой, то ли немцы залегли, прижатые более плотным огнем. Но тотчас из-за ольх на той стороне прилетели мины, легли перед бруствером, простригли пространство над головами хриплыми голосами осколков. Вслед за первой, с небольшим перелетом, легла следующая серия. И началось!
— Калюжный! В траншею! — успел крикнуть Нелюбин и увидел, как пулеметчики подхватили «максим» и перебежали вперед, к траншее.
Третий залп точно накрыл пулеметный окоп, в котором, к счастью, никого и ничего уже не осталось, кроме пустых патронных коробок.
— Давай на запасную! Калюжный! На запасную!
Но пулеметчики уже сами знали, что делать. Спотыкаясь и падая, они тащили «максим» к зарослям шиповника. И через минуту оттуда ударили трассирующие струи, подрубая атакующих с фланга.
Теперь немцы бежали группами. Нелюбин уже видел их лица, оскаленные рты, прыгающие в руках автоматы и белые лезвия плоских штыков на карабинах. И вот с недолетом, но точно напротив его ячейки в снег плюхнулась первая граната с длинной ручкой. Ну, подумал Нелюбин, вот оно и началось, о чем всегда копчик ноет…
— Отделение! Приготовить гранаты! — крикнул он, хотя знал, что бросать гранаты ему придется одному. Рядом на дне окопа корчился незнакомый боец с простреленным плечом, и его уже пытались оттащить в боковую нишу, чтобы не мешал и чтобы его не затоптали, когда начнется свалка. Полевкин гранаты не брал. А Куприков стрелял где-то правее, находясь рядом с Курсантом.
Нелюбин выглянул из-за бруствера, чтобы определить, куда бросать первую, и увидел, что к ручью спускается новая волна атакующих. Как быстро они преодолели расстояние от своей траншеи до замерзшего ручья! Если не отобьемся от первой, вторая цепь наверняка спрыгнет на головы, и тогда… Взглядом бывалого солдата Нелюбин успел заметить, что народ кругом был нестойкий. Бойцы палили наобум, не прицеливаясь, некоторые зажмуривались, прежде чем нажать на спуск. Лейтенант бегал за спинами с наганом, бледный как полотно, что-то испуганно бормоча. Ротный наводил порядок на левом фланге. Нелюбин выдернул чеку, отпустил скобу и, хорошенько размахнувшись, бросил первую «феньку» далеко в пойму. Граната черным мячиком с серебристым карандашиком запала закувыркалась в молочно-белом пространстве, описала дугу и ударилась возле ног бегущих немцев. Взрыва Нелюбин не услышал. Только увидел, как раскидало снег и куски мерзлой земли, как оглянулся назад один из бегущих и начал падать навзничь, будто его перевешивал тяжелый ранец за плечами. И тотчас гряда взрывов пронеслась по всему фронту перед траншеей обороняющихся. По короткому истончающемуся свисту и характерному металлическому хряску Нелюбин сразу догадался — мины. Это минометчики снова помогли им.
Когда снежная пыль и копоть осели, Воронцов увидел, что уцелевшие отползали к замерзшему ручью, утаскивая раненых. Раненые кричали. Но вторая цепь уже поднималась по склону от ручья. По тому темпу, который они держали, как напирали, можно было понять, что немцы решили захватить траншею во что бы то ни стало.
Воронцов положил винтовку на бруствер, посмотрел в прицел. Офицеров и командиров отделений он определял сразу: время от времени те взмахивали руками или короткими автоматами, поторапливая своих подчиненных. Снайперская подготовка в училище оказалась короткой. Но самое главное он успел усвоить и за те несколько дней, когда с ними проводил полевые занятия один из лучших снайперов-инструкторов Московского военного округа. Нельзя вести фронтальный огонь, вспомнил он одну из основных заповедей снайпера, ищи цель на фланге, и тогда есть вероятность, что тебя обнаружат не раньше третьего выстрела. Он взял в прицел одного из тех, кто был похож на командира. Винтовка дернулась. Немец сунулся вперед, выронив автомат. В такой сумятице можно рисковать и вести огонь, не меняя позиции. Но где-то там, в бронетранспортере, который снова подошел к ручью и поливал огнем из крупнокалиберного пулемета их траншею, сидел немецкий снайпер. По всем правилам снайперской войны, он должен сменить позицию. А если и немец тоже рассчитывает на сумятицу, в которой вряд ли кто обратит внимание на то, что с той стороны ведет интенсивный огонь снайпер. Воронцов перекинул винтовку вправо. В «гробе» никого, кроме двоих пулеметчиков, не было. Он прицелился в первого номера. Выстрел. Пулемет замолчал. Бронетранспортер дернулся и начал отползать. В лобовой части Воронцов увидел горизонтальное окошко, над ним приподнятую бронированную заслонку с узкой смотровой щелью. Водитель, видимо, нуждался в наибольшем обзоре и пренебрег правилами безопасности. Воронцов поймал окошко и выстрелил в тот момент, когда в нем что-то мелькнуло. «Гроб» замер. Но Воронцов продолжал держать его в прицеле, опасаясь снайпера, который в любое мгновение мог высунуться из-за наклонного борта. Воронцов взял в прицел второго пулеметчика. Выстрел. Все. Довольно. Удача снайпера не может длиться долго. Иначе это что-то другое. И он медленно убрал с бруствера винтовку.
Командир роты старший лейтенант Солодовников, навалившись грудью на край развороченной взрывом траншеи, смотрел в бинокль. Воронцов уже успел оценить его хладнокровие и выдержку.
По траншее, куда-то вправо, оттаскивали раненых. В обратном направлении пробежал один из автоматчиков. Воронцов узнал в нем связного, который во время первой атаки был послан к минометчикам. Интересно, какую он весть принес? Будет минометная поддержка или в этот раз отбиваться придется в одиночку?
Демьянова «тридцатьчетверка» молчала. Должно быть, боеприпасы закончились, подумал Воронцов. Вот что такое — стоять на позициях. Тут не уйдешь. Окоп свой не оставишь. Это не по лесам бегать.
Мимо, отчаянно матерясь, пробежал с винтовкой ротный. Он на ходу отдавал распоряжения связным:
— Витюков! Давай жми к Лазуткину, скажи ему: оба пулемета срочно на фланги! Сам пусть сидит и не дергается. Ударит, когда нам на головы спрыгнут. Не раньше! Понял, Витюков? Ну, тогда — бегом!
Связной натренированным движением окопного человека выскочил из траншеи и мигом скрылся в зарослях терна и низкорослого кустарника, который был весь изрублен, искромсан пулями и осколками.
А этот старший лейтенант — человек не такой уж и простой, каким кажется. Воюет с резервом.
Прибежал Степан, доложил:
— Выбили! Болванку наконец-то выбили!
— Что с танком? — спросил Воронцов. — Почему не стреляли?
— Болванка прямо под башню угодила. Заклинила поворотный механизм. Демьяну отбоем лицо посекло. Перевязывать пришлось.
— Как себя чувствует лейтенант?
— Лейтенанта в тыл отправили. Немцев тоже. Один ранен. Перевязали.
— А что со снарядами?
— Снаряды есть. Правда, одни бронебойные.
— Пусть лупят бронебойными! Вначале — по «гробам». Потом — по цепи. Захвати патронов. Вон, полный цинк. Если приблизятся, пусть выйдет к траншее и даст из пулемета! Давай, Степан, к ним! И предупреди, что позади нас находится резерв, видимо, до взвода. Чтобы не подавил там своих, когда начнет маневрировать.
Винтовочных патронов у Воронцова осталось всего три обоймы. Он снова высунулся из-за бруствера. Повел прицелом вдоль цепи. На лицах атакующих была решимость. Один из бронетранспортеров переместился ближе к мосту, где догорала самоходка. Воронцов поймал в прицел пулеметчика, выстрелил. Тот ткнулся головой в гашетку. Менять позицию было нельзя, да и некогда. Стрелять второй раз — опасно. Он перезарядил винтовку и, дождавшись команды ротного «Огонь!», поставил рядом каску, брошенную кем-то из бойцов роты, кого, видимо, унесли в тыл санитары, отодвинул ее на локоть в сторону, чтобы не мешала, и продолжил стрельбу. Он выхватывал из цепи бегущего прямо на него, поднимал прицел до подбородка, задерживал на мгновение дыхание и плавно давил на спуск. Снова досылал патрон в патронник, снова ловил цель, снова повторял то же. И вот патроны закончились. Взял из-под ног автомат. Передернул затвор. И тут почувствовал, что кто-то тормошит его за плечо. Оглянулся — Куприков:
— Товарищ Курсант! Спрячьте винтовку! Захватят — разорвут на куски! Снайперов не любят.
Винтовку действительно надо было где-нибудь спрятать. Прикопать под бруствером. Сунуть под гранатные ящики. Но неловко это было делать на глазах у своего бойца. Хотя тот и понимал все.
Первая бронебойная трасса ушла за ручей, обожгла моторную часть «гроба», разбросала раскаленные искры, и бронетранспортер тут же взорвался. На флангах заработали пулеметы. Ударил и «максим», позиция которого находилась неподалеку. Цепь вначале замедлила свое продвижение, потом дрогнула и залегла. Добросить гранату до залегших было невозможно. Но «тридцатьчетверка» продолжала методично, болванку за болванкой, посылать в пойму. Стальные стержни с упругим шипением проносились над головами обороняющихся, врубались в мерзлую землю, кромсали тела залегших и атакующих.
Минометы и той, и другой стороны молчали. Слишком близко сошлись противники. В такой горячке можно в два счета накрыть своих.
— Отползают, сволочи! — закричал Куприков. — Ну, товарищ Курсант, дали мы им! Смотрите, бегут!
Немцы подхватывали раненых и начали отход. Отходили они не оравой, как это бывает во время бега, а организованно, все тем же, давно отработанным способом — перекатами. Воронцов смотрел в бинокль и видел, как они, по двое, подхватывали под руки раненого, несли его десять-пятнадцать шагов, ложились и открывали огонь. В это время, под прикрытием их огня, поднимались другие, подхватывали своих раненых и делали свои десять-пятнадцать шагов к спасению.
— Товарищ Курсант, ваша работа началась. — И Куприков указал в пойму.
— У меня, Куприков, патронов больше нет. Я все израсходовал.
— А я вам дам! Вот, возьмите! Сколько вам нужно?
— Не надо, я сказал! — И Воронцов посмотрел на своего бойца таким взглядом, что он долго потом с ним не заговаривал.
Стрелять из снайперской винтовки в спины бегущим Воронцов не стал. Однажды он видел убитых, лежавших возле дороги. Трое или четверо. Кто их перестрелял, пулеметчик или снайпер, было уже не понять. Они убегали от стрелка, пригибаясь к земле, и поэтому пули входили под поясницу и иногда выходили в верхней части груди или под ключицей. Выжить им, даже если бы рядом оказались санитары, не оставалось никакого шанса.
Немцы, отходя, утащили даже трупы убитых. Только на левом фланге, напротив горящего «гроба», виднелись два темных пятна на исклеванном минами снегу. Степан, вернувшийся в траншею во время самой горячки боя, кивнул Воронцову:
— Твои?
Воронцов посмотрел Степану в глаза, и тот не выдержал его взгляда, отвернулся. Больше он его ни о чем не спрашивал. Разжился на закрутку у кого-то из местных, которые охотно делились с неожиданным подкреплением табаком и сухарями, пристроился в углу на ящиках и начал разбирать автомат.
Возле разрушенного пулеметного окопа стучали лопаты. Бойцы поправляли траншею, для маскировки набрасывали на бруствер свежего снегу.
— Где ваш взводный? — послышался оттуда голос ротного.
В траншее показался старший лейтенант Солодовников, и люди Курсанта, до этой минуты устало сидевшие в своих ячейках, задвигались.
— Сержант! — издали окликнул его ротный, улыбаясь и блестя глазами. — Живой! Ну, спасибо, брат! Не знаю, кто ты есть и откуда на нашу голову свалился, но воевал ты со своими орлами хорошо. Особую благодарность передай танкистам. — И тут же, глядя куда-то в глубину хода сообщения, где бойцы возились с дверью в землянку, которую разбило прямым попаданием мины, закричал: — Да в гроб вас и душу! Раненых — в тыл! Могилевский, распорядись! Печатники, так вас и растак!..
Воронцов понял, что наступило время, когда старшему лейтенанту, как старшему по званию, он обязан был доложить по всей форме. Но что докладывать? Как вместить в короткий доклад все, что они пережили за эти дни и недели? И когда ротный снова повернулся к нему, Воронцов вскинул к пилотке ладонь и сказал:
— Товарищ старший лейтенант, сводный взвод, сформированный из бойцов Красной Армии, бежавших из немецкого плена, вышел из окружения в полном составе, с оружием и ранеными. Выведен исправный средний танк Т-34 с боекомплектом и экипажем. Во время выхода приняли бой, уничтожив до десяти солдат и офицеров противника, а также два ПТО. Доставлены пленные, захваченные во время марша на выход. Командир взвода — сержант Воронцов.
Доклад Воронцова изумил не только ротного, но и всех бойцов третьего взвода, которые в это время оказались рядом.
— Из окружения, говоришь? Из плена? А я думал, разведка. — Ротный поморщился. Спросил, уже тише: — А где попали в плен?
— Кто где. Из разных частей.
— А ты, я вижу, курсант?
— Курсант. Подольское пехотно-пулеметное училище, Шестая рота старшего лейтенанта Мамчича. Потом воевал в Тридцать третьей.
— Был в окружении?
— Так точно, был.
— Слыхали, слыхали о Тридцать третьей… — В голосе ротного слышалось сочувствие.
Бойцы с любопытством разглядывали Воронцова и его бойцов. Из плена прозвучало как с того света.
— Товарищ сержант, разрешите обратиться к товарищу старшему лейтенанту? — Из хода сообщения, расталкивая бойцов, столпившихся вокруг, выступил Нелюбин, приложил закопченную ладонь к обгорелой пилотке. — Младший лейтенант Нелюбин. Вы меня, товарищ старший лейтенант, должны помнить. Я до октября воевал в Седьмой роте старшего лейтенанта Патрушева. А вы к нам в траншею часто приходили. В гости к товарищу старшему лейтенанту Патрушеву. Вот я вас и запомнил. Конь у вас гнедой был, добрый конь.
Ротный покачал головой:
— Ну, партизаны, мать вашу… Что ж ты, лейтенант, а под сержантом ходишь?
— Да я ж младший лейтенант…
Кругом засмеялись.
— А ну-ка, печатники, прижмите языки! Да вас бы сегодня сапогами забили, вот тут, в этой траншее, если бы не вот они! Как, ты говоришь, твоя фамилия?
— Младший лейтенант Нелюбин, бывший командир второго взвода Седьмой роты Третьего батальона! В сентябре, на марше, я вашему коню копыта чистил. Помните? Конь ваш хромал, и вы его хотели бросить…
— А, председатель! — узнал старший лейтенант Солодовников Нелюбина. — Ну, спасибо тебе, братец. И конь мой цел. И взвод мой цел. Хоть и печатники… И позицию мы отстояли.
Бойцы снова зашевелились, расступились, и из-за перемазанных глиной и копотью шинелей и ватников выглянуло возбужденное лицо младшего политрука. Кац тут же прицелился острым взглядом цепких глаз в сторону Нелюбина и спросил:
— Где и когда сдались в плен?
— Да я не сдавался, товарищ комиссар. Контуженый был, чертей ловил… В начале октября, когда батальон атаковал в направлении Сухого ручья…
И вдруг ротный набычился, глаза его налились решительным блеском, и он сказал:
— А вы, Семен Моисеевич, где были час назад во время отражения атаки?
Кац втянул голову в плечи, мгновенно побледнел и выдохнул:
— Да я… Да я у минометчиков… Да мы с капитаном Сидоркиным… Да как вы смеете, товарищ Солодовников, разговаривать со мной в подобном тоне в присутствии рядовых бойцов?!
— А как я с вами, товарищ младший политрук, разговариваю? — усмехнулся ротный, и в его глазах поблескивала прежняя решимость. — Как командир роты я поинтересовался тем, где вы находились во время боя. Если командование батальона, полка или дивизии поинтересуется, почему я задал такой вопрос, я охотно отвечу: потому что не видел вас, товарищ младший политрук, рядом с собой. Приказа отбыть в расположение минометной роты, которая поддерживает огнем батальон, я вам не отдавал.
— Ну, товарищ Солодовников! Вы за это хамство поплатитесь! — И Кац развернулся на каблуках и зашагал в сторону КП Второй роты.
— Витюков, твою мать!.. Бегом к старшине и скажи, чтобы волок в третий взвод термоса! На два взвода! И спирт из НЗ! — Ротный оглядел стоявших вокруг него. — Могилевский, ты что такой бледный?
— Я ранен, товарищ старший лейтенант, — ответил взводный.
— Ранен? Куда?
Лейтенант, болезненно морщась, потрогал правое плечо.
— А почему молчал?
Взводный опустил голову.
— Ну что ты будешь делать с этой скромницей, — выругался ротный. — А ну-ка, снимай шинель. Сержант, у тебя руки чище моих. Осмотри его и перевяжи, если надо.
Воронцов задрал гимнастерку, протер тампоном, смоченным в шнапсе, небольшую продолговатую рану, из которой торчал плоский зазубренный осколок. Ротный посмотрел, сказал:
— А почему — в спину?
— Мины везде рвались, — ответил Могилевский, не поднимая головы.
— Что? Мутит? — спросил Воронцов.
— Слегка.
Воронцов чувствовал, что лейтенант дрожит, и сунул ему в руки фляжку, в которую налил трофейного самогона, слегка разведенного водой. Слишком крепкий он не любил — сушило горло и потом часто хотелось пить.
— На, глотни. И потерпи. Осколок надо выдернуть. Легче станет.
Воронцов попытался выдернуть засевший в плече взводного небольшой осколок, но ничего не получалось. Рана кровила, и пальцы соскальзывали. Тогда он прихватил осколок зубами и потянул его, выдернул и выплюнул на снег. Прижал рану марлевым тампоном.
— Нужно, чтобы посмотрел врач, — сказал Воронцов лейтенанту.
Но ротный, поглядывавший на операцию, махнул рукой:
— Ничего. Рана поверхностная. Царапина. Приказываю тебе, Могилевский, остаться со взводом.
— Есть остаться со взводом, — по-прежнему не поднимая головы, ответил взводный.
Лейтенанта начало колотить. Ему нужно было в санчасть. Но приказывал здесь не Воронцов. Он закончил перевязку. Кожа лейтенанта вконец посинела.
— Готово. Одевайся. Выпей еще, сколько сможешь.
— Благодарю вас, — кивнул ему лейтенант.
Старший лейтенант Солодовников сполз вниз, в траншею, сунул в потертый футляр бинокль, сказал:
— Сержант, ты стрелял из снайперской винтовки? Немецкая? Трофейная?
— Трофейная.
— Покажи-ка ее мне. Ни разу не видел. Говорят, сильная оптика.
Воронцов отодвинул ящик, вытащил винтовку с зачехленным прицелом. Ротный сдернул чехол, посмотрел в прицел.
— Патроны есть?
— Нет. Все выстрелил во время боя.
— Видел, видел… Нервы у тебя, сержант, железные. А снайпер с той стороны человек шесть наших положил. Все — в голову. Разрывные… Он уже неделю всей роте покоя не дает. — Ротный подбросил винтовку. — Знаешь что, сержант. Вас сейчас в штаб полка поведут. Оружие прикажут сдать. Тем более что оно у вас все немецкое. Штабные и тыловики растащат на трофеи. Они там, вдали от передовой, любят щегольнуть перед девками взятым с бою… Так что оставь мне ее. Есть у меня один, в первом взводе, вроде тебя. Тоже сержант. Пусть хоть отпугнет этого снайпера. Каждое утро — один-двое убиты и столько же раненых.
— Она мне жизнь спасла. — Воронцов взял винтовку из рук ротного, погладил приклад, похлопал ладонью по стальной накладке. — И не раз.
— Не сохранишь ты ее. А нам она послужит.
— Хорошо. Но я за ней еще вернусь.
— Будь по-твоему.
Глава тридцать первая
Иванок поправлялся быстро. И дело было, скорее всего, вовсе не в лекарствах. Раненых хорошо кормили. А еще явственно сказывалось внимание Тони, которая, пользуясь каждой свободной минутой, тут же прибегала к разведчику, как Иванка вскоре стали называть бойцы, соседи по палате. Девушка то приносила какую-нибудь хорошую весть, то влетала в палату с кружкой горячего сладкого чаю и толстым сухарем. Сухарь, правда, Иванок тут же делил между двумя танкистами, лежавшими с ожогами. Но нежный взгляд девушки всегда доставался ему.
И Тоню, и Иванка раненые любили примерно одинаково. И сестричка, и Разведчик действовали на них ободряюще. А так как в палате к тому времени война собрала людей пожилых, годов по тридцати пяти и старше, Тоня и Иванок оказались среди людей, которые относились к ним по-отечески бережно.
— Слышь, Разведчик, — моргал Иванку из своего угла пожилой минометчик — Ходи-ка сюды.
— Да ну тебя, дядя Охрем. Опять какую-нибудь хреновню придумал. Учти, Тоня ругаться будет, что у Ивана швы от смеха разошлись.
Однажды на деревню, где размещался госпиталь, налетели немецкие самолеты. Небольшая бомба разорвалась прямо на спортплощадке, где санитарки сушили белье и бинты. «Штука», сделав вираж, спикировала еще раз, но больше бомб у нее, видимо, не было, и летчик густо и прицельно положил несколько дорожек из бортовых пулеметов, которые задели угол школы, разнесли вдребезги два окна. Убило коня, на котором санитары привозили с пункта первой медицинской помощи раненых.
Переждав налет, Иванок выскочил на улицу. По двору метались медсестры и санитарки. Кто-то истошно кричал:
— Убило! Ох, убило!
Иванок отыскал в сарае среди тюков с бельем забившуюся под жердяной навес Тоню, вытащил ее на улицу и повел в школу.
Вечером на футбольном поле появилась длинноствольная зенитка и расчет зенитчиков. Но, приглядевшись, раненые вскоре разглядели, что это за артиллеристы.
— Братцы, это ж бабы! — догадался тот самый Иван, сержант, кавалерист, с неделю пролежавший почти неподвижно после осколочного ранения в пах, а теперь, скрючившись наподобие старика, бродивший по всему госпиталю. — Вон, глядите, что у этих бойцов заместо штанов!
— А точно! Юбки!
— Эти навоюют, — заметил минометчик.
— Интересно, где они ночевать будут? — задумался, согнувшись у окна, кавалерист.
— Молчи, крючок! — засмеялся минометчик. — Тебе еще Тоня по ночам «утку» носит, а ты уже… Ночевщик… Мечтатель…
— Да это я так, мужики. Молоденькие совсем девчушки. Навроде Тони нашей. Школьницы.
— От этих школьниц бабами пахнет, — простонал кто-то из лежачих. — Вкусно. Хоть бы пришла какая, подушку поправила…
Через неделю к Иванку снова зашел начальник Особого отдела штаба полка Гридякин.
— Здорово выздоравливающим! — поздоровался с палатой лейтенант и кивнул Иванку: — Иван Иваныч, на выход!
Иванок вышел в коридор. Гридякин стоял возле круглой железной печи, одним боком выходящей в коридор, откуда и топилась, а другим — в палату, и, открыв чугунную дверочку верхнего душника, пускал туда струйку сиреневого дыма.
— Как себя чувствуешь?
— Да уже хорошо. Пора бы уже на передовую, — ответил Иванок.
— Доктор тоже говорит, что ты уже в норме.
— Винтовку мне вернут?
— Немецкую?
— Да, мою.
— Штатную получишь. Нашу. А к этой боеприпасов нет.
— Как нет? Я ж сдавал. Двадцать шесть патронов. Три с разрывными пулями. Пусть все вернут, как положено. — Иванок упорно стоял на своем.
— Бойцу положено иметь свою, отечественную винтовку. Понял? Боец Красной Армии должен носить свое оружие, гордиться им! И помнить о том, что оно вручено ему вместе с Присягой трудовым советским народом для защиты Отечества от немецко-фашистских захватчиков.
— Оставь-ка «сорок».
— Я те оставлю!.. Мал еще.
— Да я уже курю.
— А мамка знает?
— Ну… Я не дурак, чтобы при мамке курить.
Гридякин докурил, щелкнул гильзу окурка в топку.
— У меня к тебе дело, Иван Иваныч. Ты же в разведку хотел попасть?
— Ну да.
— Будешь служить в разведке. Сегодня тебя выпишут. А утром за тобой заедет лейтенант Васинцев.
— Кто такой?
— Командир разведвзвода. Ты зачисляешься во взвод конной разведки полка.
— Ух, здорово! Правда, что ли?
— Учти, я за тебя поручился. Каждое слово лейтенанта Васинцева и всех старших по званию для тебя — закон. Читать умеешь?
— Шесть классов закончил. Книжку, что ль, мне принесли?
— Да. Боевой устав пехоты Красной Армии.
— Я его наизусть знаю.
— Так-таки и наизусть?
— Ну, самое главное…
— А что, по-твоему, в этой книжке самое главное?
— Глава 1-я, пункт 31-й: Каждый боец должен ненавидеть врага.
Лейтенант Гридякин полистал книжку с красными матерчатыми обложками, нашел нужное место, хмыкнул.
— Ты считаешь этот пункт самым главным?
— Да.
— Почему?
— Потому что этому нельзя научиться. Всему остальному — можно. Даже взводом командовать можно научиться. А это… Это вот здесь должно быть. — И Иванок постучал кулаком по худой своей груди.
В топке сипели сырые дрова. В холодном коридоре висела косая синеватая трехслойная пелена дыма. Чем выше к потолку, тем плотнее спрессовывались слои дыма. Видимо, печи засмолились сажей. Иванок уже говорил пожилому санитару Якову, что печи топить надо осиновыми дровами, чтобы прожечь дымоходы. Но Яков только посмеивался. Он, старый валенок, думал, что Иванок в этом ничего не смыслит и что по поводу осиновых дров попросту его разыгрывает. А Иванок — человек знающий, можно сказать, опытный. И зря взрослые его не всегда принимают всерьез. Вот и лейтенанту госбезопасности он только что продемонстрировал, что Боевой устав пехоты, общие обязанности бойца и прочее он знает как «Отче наш». Что самый главный пункт 31-й и что спорить тут бесполезно. Каждый боец должен ненавидеть врага… Все остальное тоже, конечно, надо знать. Но это: «Каждый боец…» — помнить, как имя родителей, как название родной деревни.
— Ты не можешь забыть, что произошло с твоей сестрой? — Лейтенант Гридякин вытащил из галифе коробку «Герцеговины флор», взял длинную папиросу, примял мундштук и снова закурил.
— Я не должен ее забывать. Пока я не вернул ее домой, он у меня всегда будет вот здесь. — И Иванок стукнул кулаком по лбу. — Как вы думаете, где она сейчас?
— Сколько времени прошло?
— Больше месяца.
— Она уже давно там, куда они ее решили доставить. Где-нибудь в Германии. Твоя сестра знает деревенскую работу, значит, работает где-нибудь в деревне. А это значит, что у нее всегда будет что поесть.
— А сколько времени мы будем идти туда?
— Ну, может, год, — пожал плечами лейтенант Гридякин.
— Что?! Год?! Я видел, сколько танков шло к фронту! Да мы сейчас пойдем не останавливаясь!
— Конечно, пойдем, Иван Иванович. А пока готовься к заданию.
— А какое будет задание?
— На ту сторону сходить. Кое-что разведать. Партизан разыскать. И вернуться назад. Ты же неплохо знаешь здешние места?
— Знаю.
— Кстати, главное качество настоящего разведчика — выдержка и хладнокровие. А у тебя одна ненависть. Смотри, Васинцев человек строгий. Если что, спишет в роту как дважды два.
Утром за ним действительно приехал лейтенант. Лейтенант как лейтенант. Уже немолодой, лет тридцати. В кавалерийской папахе. Иванок увидел его еще издали, на липовой аллее. Он вышел пораньше, специально посмотреть, кто же приедет за ним? Или лейтенант Гридякин попросту разыграл его и не видать Иванку разведки как собственных ушей, или жизнь его резко меняется и его чаяния, похоже, начинают сбываться.
Всадник ехал на гнедой кавалерийской лошади, сидел немного боком, словно подчеркивая посадку бывалого казака. На боку его болтался тяжелый ППШ, выкрашенный в белый цвет. Даже диск автомата был белым. Но больше всего изумило Иванка вот что. К седлу гнедой кобылы, на которой сидел командир полковой разведки, был приторочен на длинном поводе низкорослый, явно монгольских кровей конек бурой, как у медведя, масти. И тоже под седлом. И копыта кованые. Точь-в-точь такой же, какой был у Иванка в прошлую зиму. А к седлу привязана его, Иванка, винтовка — немецкий «маузер».
Кавалерист осадил свою гнедую возле крыльца и, не слезая с седла, сказал Иванку:
— Ты, что ль, наш проводник?
Кавалерист, видимо, угадал Иванка по взгляду, в котором ожидание смешивалось с восхищением.
— Так вы меня что, проводником берете? Или разведчиком?
— А это посмотрим. Ну, здорово! Меня зовут Игнатом. А тебя?
— Иван Иваныч. Можно просто — Иванок.
Игнатий засмеялся. Оперся локтем на луку седла и сказал:
— Ну, зачем же упрощать. Иван Иваныч так Иван Иваныч. Это — твой конь. Зовут его Прутик. Любит сахар. Любит, когда с ним разговаривают. Не любит грязную воду и матерщину. Ты не материшься?
— Да так…
— Если услышит, может выбросить из седла. Или вообще ляжет. А вообще конь хороший. Выносливый. Раньше на нем Нуралиев ездил.
— А где он теперь?
— Кто? Нуралиев? Убили Нуралиева. — Игнатий сказал об этом так, как говорят о совершенно обыденном, о чем через минуту можно забыть.
— И что, Нуралиев не матерился и не поил его грязной водой?
— Нет. — А вот это «нет» лейтенант произнес так, что у Иванка сразу отпала охота просто так произносить имя Нуралиева. — Я надеюсь, ты тоже будешь любить Прутика и беречь его. Сможешь сам сесть? Или помочь?
— Вот еще, — проворчал Иванок, перекидывая через голову ремень винтовки. — Это дело мне знакомое.
Иванок отвязал повод, перекинул его через понурую голову конька и ловко вскочил в седло.
— Казак! — с улыбкой похвалил его Игнат. — Винтовку сегодня же покрась в белый цвет. Понял?
— Так точно! А где взять краски?
— Во взводе. Но впредь подобных вопросов не задавать. Боец, тем более разведчик… Ну, словом, я думаю, ты, Иван Иванович, меня понял.
И они поскакали. Выехав к воротам, Иванок резко повернулся в седле, и во втором окне от угла, где находилась перевязочная, увидел девичью голову в ослепительно-белой, как снег, косынке. Он хотел было махнуть рукой, но передумал, постеснявшись лейтенанта Васинцева.
— Подруга? Или родня? — спросил Игнат, когда они уже скакали по полю.
— Тоня, что ль? — переспросил Иванок и подумал: надо ж, заметил…
— Ну, та, которая в окошко тебе махала?
— Да она не махала. Так, стояла. Смотрела. — И вдруг сказал вполне серьезно: — Кума.
— Кума? — засмеялся Игнат.
— А что тут смешного. Кума. А у вас разве нет кумы?
— Есть, — продолжал посмеиваться Игнатий. Разговор с проводником ему понравился. Лейтенант Гридякин его предупредил, что парень непростой, бедовый и за ним нужен глаз да глаз. И правда. Лошадь под разведчиком ходила, как короткая лодка под одним веслом. Она несколько суток простояла в конюшне, и ей хотелось воли. Но Игнатий ее сдерживал. Ему хотелось поговорить с новым своим бойцом.
— Красивая? — вдруг спросил Иванок.
— Кто?
— Кто… Кума ваша!
— А, кума! Красивая.
И Иванок искоса глянул на Игната и подмигнул ему, улыбаясь во всю ширь своего конопатого лица.
— Веселый ты парень, — засмеялся Игнат и пришпорил свою гнедую.
Иванок едва поспевал за командиром.
Через двое суток на третьи, глухой ночью, в самый снегопад, когда осветительные ракеты гасли, как в тумане, группа разведчиков, держа коней в поводу, по склону оврага незаметно прошла к проволочным заграждениям. Там их встретили саперы. Они срезали проволоку, растащили ее в стороны, и, когда разведка скрылась в ночи на той стороне, подождали минут двадцать и начали связывать проволоку, чтобы утром немцы, обходя этот участок, ничего не обнаружили.
Всю ночь разведка шла лесом. Утром выбрались в пойму небольшой речушки. Иванок не знал этих мест. Но никто и не спрашивал его, как идти дальше. Группу вел лейтенант Васинцев. Разведчики, да и во взводе, там, дома, его звали по имени — Игнат.
Разведчики Иванку сразу понравились. Называли его Иваном Иванычем. Он сразу принял их шутливый тон, понял, что протестовать бесполезно и решил: ладно, пусть будет так.
В разведвзводе царили свои правила, свой неписаный, но свято чтимый устав. Жили они в большой просторной землянке. Спали долго. Но потом Игнат гонял их по полю до седьмого пота. И в землянку, уже к обеду, они возвращались сушиться и отдыхать.
За лошадей Игнат спрашивал с особой строгостью. На уход за конем и оружием отводилось два часа в день.
Иванок чистил Прутика, подпихивал в кормушку охапку сена и разговаривал с ним на разные темы. Конь стриг ушами, как будто действительно слушал своего нового хозяина, привыкал к нему. Почистив коня, Иванок принимался за винтовку. И то, и другое ему нравилось. Потом осматривал полупустые подсумки и, завершив эту ежедневную процедуру, ставил винтовку в пирамиду. Однажды Игнат повел взвод в тыл. Отмахали километров пять. Зашли в овраг, установили мишени, которые принесли с собой, и приступили к стрельбам. Иванок хотел было взять у одного из разведчиков кавалерийский карабин, чтобы не тратить патроны, но Игнат приказал стрелять из того оружия, с которым предстояло идти на задание. Иванок зарядил обойму, лег в снег и настолько точно и кучно поразил все три мишени, что лейтенант Васинцев тут же, перед строем, объявил ему благодарность. Правда, добрый десяток патронов оказался истраченным. Через несколько дней трофейщики принесли немецкий противогаз, битком набитый патронами. Оказывается, это был заказ старшины Плетенкина. Трофейщики за патроны получили свою мзду — две банки тушенки. И пообещали регулярно обеспечивать разведвзвод боеприпасами. Иванок знал, что у многих были нештатные пистолеты, принесенные из-за линии фронта. К примеру, Игнат всегда, даже в землянке, когда оружие ставили в пирамиды, носил за брючным ремнем немецкий офицерский «парабеллум».
Уже рассвело, и по снегу заскользили длинные розовые тени, когда они остановились на отдых в заросшем ракитником и черемухой овраге. Игнат вытащил из-за голенища валенка карту. Положил на нее компас.
Отдохнули с полчаса. Снова пошли. Но уже в другом направлении. Шли целый день. Игнат вел их по такому маршруту, что до вечера они, даже издали, не увидели ни одной деревни. И что это была за разведка? Ни «языка» не брали, ни за дорогами не наблюдали. Но Иванок помалкивал. Смотрел по сторонам, прислушивался, принюхивался. Не пахнет ли откуда дымком? Не послышится ли чужой голос? Но война, казалось, была оставлена в другом краю, и оттуда лишь изредка долетали глухие удары канонады.
Вечером они снова остановились на отдых. Отыскали на лесном лугу старый стожок почерневшего, прогорклого сена. Пулеметчик Юлдашев тут же раздергал бок, разбросал сено по снегу. Сразу запахло морозным лугом. Внутри сено оказалось золотистым, пахучим. Прутик жадно прихватывал целыми охапками, будто наедался впрок.
— Хороший конь, — сказал Юлдашев, глядя на Иванкова коня, на то, как Иванок подсовывает ему охапку за охапкой.
Здесь отдыхали несколько часов. Так что можно было даже поспать. Иванок зарылся в стожок, привязал к руке повод, положил на ногу заряженную винтовку и мгновенно уснул. Но, как ему показалось, буквально через минуту его разбудил часовой:
— Иван Иваныч, пора. Винтовку не забудь.
Уж что-что, а винтовку он не забудет. Винтовка ему еще ой как нужна. Лейтенант Гридякин сказал, что до Берлина им топать еще целый год. А значит, и патронов надо много. В этот раз он набил ими все подсумки, карманы и насыпал еще в вещмешок. Но, похоже, завязывать бой в задачу поиска не входило. И Иванок затосковал. Не то он мечтал увидеть в разведке. В отряде Курсанта было веселей.
Всю ночь они двигались лесным проселком. Фронт порыкивал совсем рядом. Вскоре пошли по танковому следу. Впереди засинело открытое пространство. Ветер понес оттуда, как в трубу, колючий снег. Конь обходил воронки, наполовину засыпанные снегом. Пересекли дорогу. Остановились в ольхах, в неглубоком овраге. Сгрудились. Игнат что-то сказал. Двое тут же спешились и побежали по оврагу в черную снежную круговерть. Через полчаса вернулись.
— Там она, — доложил разведчик, — возле дороги, в болотине. «Тридцатьчетверка», как и было сказано.
— Взорвана?
— Вроде нет. Все цело. Внутрь не залезали. Люки закрыты наглухо. Свежих следов к ней от дороги нет. Угадывается стежка. Ею, должно быть, пользовались до снегопада. Теперь ее завалило снегом.
Не разведка, а черт знает что, вскоре пришел к окончательному выводу Иванок. Он вдруг узнал, что задание в основном выполнено и что пора возвращаться. Оказывается, встречу с партизанами он попросту проспал. Да, решил он, Игнат ему еще не доверяет. А стрелять он умеет не только по мишеням.
На обратном пути вышли к деревне. Шоссе пересекали примерно в километре от нее. На обочине лежал обгорелый, черный остов грузовика. Труп человека. Юлдашев спешился, нагнулся.
— Наш. Похоже, из пленных. В одной гимнастерке. Петлицы артиллериста. Документов нет.
— А тут след, командир.
След уводил в лес. И они пошли по нему.
— След свежий. — Юлдашев шел спешившись.
— Стой.
— Что там?
— Стог или сарай.
Иванок остановил коня, приготовил винтовку. Затвор слегка приморозило. Он подергал его туда-сюда. Смазку он протер перед выходом на операцию, и потому затвор не прихватило. Так что если придется стрелять, никакой заминки не будет.
К стогу ушли двое. Вернулся один.
— Там раненый. Большая потеря крови. Но живой. Одет в немецкую куртку. Под ней красноармейская гимнастерка. Что будем делать?
— Перевяжите его. Заверните в плащ-палатку и — на коня.
Раненого вскоре принесли, положили поперек седла коня Юлдашева. Тот несколько километров шел пешком. Потом с коня слез один из разведчиков, уступив седло Юлдашеву. Так, по очереди, и менялись.
К утру они выбрались к проволочным заграждениям. Спешились. Юлдашев установил под сосной ручной пулемет. Двое разведчиков срезали проволоку, так чтобы в проход могла пройти лошадь. Через несколько минут шли уже по густому ельнику и слушали, как совсем рядом стучит через каждые двадцать минут дежурный пулемет.
Наступила очередь Иванка идти пешком. Он высвободил из стремян окоченевшие ноги, спрыгнул в снег и побежал, стараясь не отстать от Прутика.
— Крепче держись за стремя, — сказал ему из темноты незнакомый голос.
Вскоре они выехали на дорогу, где их встретил конный патруль. Патрульные взяли на изготовку.
— Полковая разведка! Лейтенант Васинцев! — крикнул Игнат и поднял руку. Белый его автомат висел на груди.
— Что, лейтенант, с потерями? — спросил старший патруля, узнав разведчиков.
— Раненого везем, — уклончиво ответил Васинцев. Он еще и сам не знал, кого они подобрали в стогу за линией фронта. — Где тут ближайшая дорога на Ивановский хутор?
— Вам нужен госпиталь? Тут рядом деревня, в ней медсанбат. Через десять минут будете на месте.
— Спасибо, ребята.
— Покурить не найдется? — засмеялся патрульный. — А то вроде с разведчиками встретились, а не угостились…
Съехались. Заговорили. Запахло горьким табачным дымом. Патруль потянулся в поле, к лесу. Они — в обратную сторону.
Иванок с трудом держался в седле. Хотелось спать. И иногда он действительно засыпал. Прутик шел след в след идущего впереди коня, уже никуда не спешили, и Иванок еще сильнее начал клевать носом. Однажды ему даже приснился сон. То, что это был сон, он понял потом, когда, продрогнув и очнувшись, начал вспоминать, что же такое он только что видел? К нему приходил отец. Он видел отца. Отец шел впереди. В той же потной гимнастерке. Отец шел быстро и не оглядывался, так что Иванок видел лишь его коротко стриженный затылок и мускулистую спину, туго обтянутую хлопчатобумажной материей. Иванку хотелось видеть его лицо. Отец шел не оглядываясь. Но он знал, что следом за ним идет и он, его сын, Иванок. И поэтому время от времени он делал взмах рукой. Жест означал, чтобы Иванок следовал туда, вперед, за ним.
Когда Иванок очнулся, только что пережитый сон еще владел им. Он тут же с тревогой спросил, куда они едут.
— В деревню, — сказал Игнат. — Сдадим раненого в медсанбат. А потом — домой.
— Мы движемся на запад?
Игнатий вытащил из кармана компас, повертел его и сказал:
— Да, точно на запад.
Отец торопил его.
В деревне они сразу отыскали медсанбат. Сняли с коня раненого. Несли его втроем. Когда занесли в избу, где размещалась операционная, навстречу вышел старик в пенсне и указал на высокий стол, накрытый клеенкой:
— Туда. Сколько дней он в таком состоянии?
— Мы нашли его в стогу сена. Вблизи, на дороге, был бой. Примерно часов семь-восемь назад. Больше ничего существенного сказать не могу. Когда придет в себя, тут же прошу вас сообщить в штаб полка.
— Хорошо, хорошо. Перевязывали вы?
— Да.
— Как его фамилия?
— Документов при нем не обнаружили. Посмотрите на клапане нагрудного кармана.
— Рядовой Дюбин. Да, Дюбин Иван Афанасьевич. — Старик в пенсне и форме с петлицами военврача повернулся к медсестре: — Анечка, запишите в журнал — Дюбин Иван Афанасьевич, рядовой. Два проникающих. Пулевое и осколочное… Пульс очень слабый. Обморожений, кажется, нет.
Глава тридцать вторая
Еще не догорело самоходное штурмовое орудие у моста, как из штаба полка прибыла группа офицеров. С ними были и комбат-3 капитан Дроздов с начальником штаба капитаном Подосинниковым. Дроздов был человеком осторожным. Он со своим начштаба держался позади остальных и старался помалкивать даже тогда, когда начальник Особого отдела штаба полка лейтенант госбезопасности Гридякин начал задавать вопросы старшему лейтенанту Солодовникову и лейтенанту Могилевскому.
Взводного пошатывало, но никто этого не заметил. Только начальник штаба полка майор Соболев посмотрел на лейтенанта поверх круглых очков и спросил:
— Могилевский, вы что, пьяны?
Тот испуганно уставился на майора и кивнул:
— Немного выпил, товарищ майор. Чтобы согреться. Вот, товарищ сержант Воронцов, командир взвода, угостил.
— Черт знает что, а не рота, — сказал майор Соболев и посмотрел на ротного.
— Каких дали, — развел руками старший лейтенант Солодовников. — Печатники… Мне их обучать было некогда.
— Ладно, с этим потом разберемся. — Гридякин не спускал взгляда с Воронцова. — Вы, Солодовников, и вы, Могилевский, независимо друг от друга, напишите мне подробные донесения о том, что произошло сегодня утром на участке обороны вверенных вам подразделений.
— О бое доносить? — спросил ротный, хладнокровно глядя в глаза лейтенанту госбезопасности.
— И о бое тоже. Само собой.
— Ну, разумеется, — поморщился ротный. — Если б не сержант со своими окружениями, сейчас бы мы с вами договаривались во второй нашей линии.
— А мы с вами, товарищ старший лейтенант, не договариваться пришли, а выяснить истинные причины и следствия того, что произошло здесь утром. А именно: прорыв группы товарища Воронцова, бегство и оставление позиций взвода лейтенанта Могилевского и затем отражение атаки противника. — Майор Соболев посмотрел на Воронцова. — Что это за форма на вас?
— Моя форма, — ответил Воронцов, — курсантская.
— Вижу, что курсантская. И давно вы ее носите?
— Уже год.
— И что, так и не стали лейтенантом? Сейчас, чтобы получить кубари, трех месяцев достаточно.
— Возможно, приказ о присвоении мне звания «лейтенант» уже давно подписан. Но я не имел возможности… Я, товарищ майор, после боев в октябре прошлого года под Юхновом и Медынью, находился в партизанском отряде майора Жабо. Затем, вместе с моими товарищами, выполнял задание по проводке обозов в окруженную группировку Тридцать третьей армии. Попал в окружение. Был ранен. Вышел только теперь.
— На вас петлицы Подольского пехотно-пулеметного училища. — Гридякин внимательно рассматривал ветхую шинель Воронцова. — В составе какой роты вы вступили в бой, когда и где?
— В бой вступил на рассвете шестого октября тысяча девятьсот сорок первого года на участке реки Изверь, населенные пункты Воронки — Дерново — Чернышевка в составе Шестой роты Подольского пехотно-пулеметного училища. Командир роты старший лейтенант Мамчич. Командир взвода лейтенант Ботвинский. Последний бой имели в районе моста через реку Шаню. Затем одиночный отход на восток, по направлению на Подольск.
Воронцов закончил доклад, опустил руку. Наступила тишина. Офицеры молчали. В заднем ряду переглядывались, тихо переговаривались. То, о чем говорил этот сержант из курсантов, было невероятным. И только лейтенант госбезопасности Гридякин, снова и снова окидывая взглядом курсанта, был спокоен, как будто уже что-то знал, о чем остальные могли только догадываться. Он посмотрел на майора Соболева. Тот едва заметно кивнул.
— Ладно. Разберемся, — сказал Гридякин. — Подольск тут рядом. К тому же и место знакомое. А сейчас, товарищ сержант, прикажите личному составу своего взвода, всем вышедшим, сложить оружие для дальнейшего следования в тыл.
— Послушайте, — совсем не по-уставному обратился к офицерам старший лейтенант Солодовников, — они с ног валятся. Голодные. А старшина вон термоса приволок. Пусть поедят, а потом поведете их куда надо. А, товарищ майор, — наконец сообразил ротный, — пускай хорошенько порубают. Тем более, заслужили.
— Хорошо, Солодовников. Кормите людей. Дело нужное. И не забудьте о донесениях.
Майор Соболев позвал к себе комбата, ротного, еще какого-то офицера, видимо, из артдивизиона или минометной батареи, и они ушли по траншее вправо, в первое отделение, где уже вовсю стучали котелки. Там они долго смотрели в стереотрубу, установленную наблюдателями. Офицер из оперативного отдела штаба что-то зарисовывал на листке, прикрепленном к планшету. Видимо, рисовал схему. Вскоре оттуда прибежал связной и сказал:
— Товарищ сержант, вас к себе майор Соболев требует.
— Иди, иди, Сашка, — шепнул Воронцову Нелюбин. — Соболев человек рассудительный. Поговори с ним. Он, если что, бате доложит. А тот в обиду не даст.
Воронцов зачерпнул из котелка еще пару ложек густого пахучего варева, сунул в карман недоеденный кусок хлеба и пошел в первое отделение. Бойцы, сидя в своих ячейках, сосредоточенно работали ложками, переговаривались. Это были уже другие лица. Из разговора с ротным он понял, что атака, которую они только что отбили, стала для них первым боем. Несмотря на то, что лейтенант у них, мягко говоря, не орел, взвод дрался хорошо. Воронцов протиснулся мимо пулеметчиков, возле которых собралась целая толпа. Среди них выделялся один — коренастый, невысокого роста младший сержант лет двадцати семи. Он что-то рассказывал своим товарищам. Те внимательно слушали. Когда Воронцов проходил мимо, пулеметчик умолк. Молчаливыми взглядами проводили его и остальные.
— Это командир ихний, — услышал Воронцов голос пулеметчика.
— Наш-то совсем спекся…
— Ротный на него взъелся…
Бойцы видят все, подумал Воронцов. Но их судьбу решают другие люди. Как решится его судьба и судьба тех, кого он вывел сегодня на позиции этого взвода? Хорошо, что они разбежались, а не встретили их пулеметным огнем и гранатами. Завтра они уже не побегут. Надо поговорить с майором Соболевым. Старший лейтенант Солодовников ничего плохого в донесении о действиях взвода не напишет. Он уже намекнул. Могилевский тоже. Остается младший политрук… Что напишет младший политрук, у которого, как видно, застарелый конфликт с ротным, угадать невозможно. Надо поговорить с майором.
— Товарищ майор, сержант Воронцов прибыл по вашему приказанию.
— Да не козыряй, не светись лишний раз, сержант. — Майор Соболев снова с любопытством оглядел Воронцова с головы до ног. — Вижу, вижу курсантскую выправку. И в бою действовали умело. Андрей Ильич нам уже рассказал, как вы людьми управляли и сами вели огонь. — Начштаба кивнул на ротного.
Воронцов успел заметить: глаза у всех, кроме младшего политрука, потеплели.
— Ты скажи нам вот что, сержант. Когда вы прорывались, не заметили, нет ли у них там ПТО крупного калибра?
— Вы имеете в виду 88-миллиметровые зенитные орудия?
— Да. И вообще, что у них там есть?
— Два ПТО мы при выходе уничтожили. Одну 37-миллиметровку — разведчики, другую — танкисты, прямым попаданием. Других орудий мы не наблюдали. Во время отражения атаки против танка действовало еще одно орудие, тоже небольшого калибра. Судя по тому, что стрелять оно начало позже начала атаки, по всей вероятности, его подвели с другого участка.
— Так, так, говори, говори, сержант. А минометы откуда вели огонь?
— Минометы у них используются не так, как у нас, товарищ майор. У них минометы установлены прямо в траншеях. Минометные расчеты находятся рядом с пехотой. Такое впечатление, что их пехота стреляет из всего. И из минометов, и из ПТО.
— Да, надо признать, огонь они ведут согласованно. А откуда вышла самоходка? Ее вы не видели, когда прорывались?
— Слава богу, нет.
— Это да. Ваши танкисты, сержант, ее в другом месте прищучили. А скажи-ка, почему вы вброд не пошли? Там же, рядом с мостом, вон, видишь, колея — брод есть.
— Брод может быть заминирован. А если бы мы потеряли танк…
— Ну да, — вздохнул, улыбаясь одними глазами, начштаба полка, — если бы вы остались без танка, от вас бы не разбежался взвод лейтенанта, как его, Андрей Ильич?..
— Да Могилевский, печатник… — в сердцах уточнил старший лейтенант Солодовников.
— Что ж вы их все время печатниками называете? Хорошие бойцы. Воевали в ополчении.
— Воевать-то вроде воевали. А потом — опять в печатники вернулись. Теперь — снова на фронт.
— Вот именно. По призыву родины, на усиление Седьмой роты Третьего батальона… — Майор Соболев улыбался только одними глазами, губы его даже не дрогнули. — Ничего, ничего, Андрей Ильич, завтра твои орлы уже так бегать не будут. Посмотри, как они кашу метут! А! Симфония! И полная согласованность действий!
Офицеры засмеялись. Как, каким образом заговорить с ним, терялся в мыслях Воронцов.
— Что еще имеете доложить? — спросил майор Соболев, и по тому, как был задан вопрос, Воронцов понял, что разговор окончен и в нем больше не нуждаются.
— Больше ничего, товарищ майор. Разрешите идти?
— Что, сержант, и никаких просьб и заявлений?
То, что угнетало Воронцова, видимо, читалось на его лице.
— Мне нужен подробный ваш доклад о выходе. Маршрут, состав группы, или, как вы говорите, взвода, с чем и с кем в дороге столкнулись, что видели, что слышали. Подробно — все, что касается противника. С вами вышли двое гражданских?
— Да, я их зачислил в танковый экипаж. Оба — хорошие механики. — Воронцов отвечал четко, ловя любую возможность сказать начальнику штаба стрелкового полка, да и всем офицерам, как храбро действовал взвод во время прорыва, потеряв только двоих и при этом нанеся противнику десятикратное поражение.
Их разместили в тесной землянке в двух километрах от передовой. Выставили часового. И сразу же начали водить на допросы. Допрашивали их два младших лейтенанта, прибывших из штаба дивизии, и начальник Особого отдела полка лейтенант госбезопасности Гридякин. Танкистов от них сразу отделили, забрали в бригаду. В танковой бригаде особист имелся свой.
Младшего лейтенанта Нелюбина и Воронцова водили в другую землянку. С ними разбирался сам Гридякин.
— Все ваши показания вроде бы подтверждаются и показаниями других бойцов и сержантов, и проверкой, которую мы успели провести. Из штаба партизанского полка тоже пришло на вас подтверждение и положительная характеристика. Но где вы, Александр Григорьевич, были с апреля по октябрь? И еще: вот вы тут утверждаете, что вас освободил конвой якобы по той причине, что вас опознала одна женщина, жительница деревни Прудки Медынского района.
— Девушка, товарищ лейтенант госбезопасности. Меня опознала Бороницына Зинаида Петровна, сестра Стрельцовой Пелагеи Петровны, у которой я прятался после того, как немцы прорвались на нашем участке и Шестая рота погибла.
— Шестая рота не погибла! — Гридякин стукнул ладонью по столу. — Шестая рота в количестве… Вот, вот, документы, полученные из училища! И тут написано, черным по белому, что Шестая курсантская рота вышла на позиции Малоярославецкого участка Можайской линии обороны в составе… Ну, неважно, в каком составе.
— Может, кто и вышел. Мне было приказано возглавить группу и держать оборону на левом крыле, потому что возникла угроза обхода позиций на Извери. И мы выполнили приказ. Мы продержались столько, сколько было приказано… Ни минутой меньше. Оборона наша на той позиции представляла собой одиночные и парные окопы. Все они к тому моменту, когда мы их покинули, были разрушены.
— Об этом в документах, которые на наш запрос выслали из архива, ничего нет. Я повторяю вам.
— Ну и что теперь?
— А теперь, Александр Григорьевич, вам ничего не остается, как просто выложить всю правду.
— Я вам уже сказал все, что было. Всю правду.
Затем Гридякин снова начал спрашивать имена и должности преподавателей Подольского пехотно-пулеметного училища, командиров рот и взводов. И когда Воронцов назвал фамилию своего взводного, Гридякин буквально подскочил на стуле.
— Ботвинский?! Борька?! Да мы с ним с одного курса! Земляки!
— Так вы тоже подольский?
— А ты что, не понял? На-ка, покури. — И Гридякин положил на дощатый стол перед Воронцовым помятую коробку «Герцеговины флор».
— Да я не курю. Спасибо.
— И не пьешь?
— Вот выпить бы выпил.
Младшие лейтенанты быстро оформили дела бойцов и сержантов. А Нелюбина и Воронцова все продолжали водить в землянку к Гридякину. Лейтенант уже не предлагал Воронцову покурить. Вынул из синей картонной папки листок и сказал:
— Вы вот показали, что постоянно двигались к фронту в поисках подходящего места для успешного перехода. Так?
— Так.
— А вот что в своем донесении пишет лейтенант Горичкин Иван Тимофеевич. Вы фактически воспрепятствовали ему после падения самолета уничтожить то, что могло находиться в исправном состоянии, а именно: бортовую радиостанцию, пулемет ШКАС, другое вооружение. Все это, как можно предположить, попало в руки к противнику, так как падение самолета произошло на оккупированной территории. Частично эти факты подтверждает и летающий стрелок, сержант Калюжный Федор Иванович.
— В боевой обстановке, товарищ лейтенант госбезопасности, действуют другие законы.
— Что?! Какие такие особенные законы могут действовать в боевой обстановке, кроме устава и присяги?!
Воронцов опустил голову. Лучше не залупатъся, вспомнил он совет старшего лейтенанта Солодовникова. Ротный похлопал его по плечу и сказал:
— Ну, взводный, с богом. Подписывай там протокол и возвращайся. Винтовка твоя будет цела. Такие орлы мне нужны. Я так понял, теперь вами будет заниматься Гридякин. Он мужик не говнистый, но ты и сам не залупайся.
Гридякин закурил. Лист с донесением лейтенанта Горичкина с легким шорохом дрожал в его руке. Интересно, что там наклепал на него этот летун?
— Вытащили, называется, командира из пекла… Да за одно это… Мы ж не бросили его, товарищ лейтенант!
— Ну, то, что вы его не бросили, он тоже признает. Даже фельдшера нашли… Немца. — Гридякин цеплялся за каждый факт. Но в голосе его не было той ожесточенности, с какой гнал их капитан к оврагу в октябре прошлого года.
Об этом, как и многом другом, Воронцов помалкивал. О многом молчал и Нелюбин. Слава богу, недолго допрашивали Степана.
— Не знаю, Александр Григорьевич, чем вы приглянулись майору Соболеву и старшему лейтенанту Солодовникову… Они за вас ходатайствуют. Ну, с Солодовниковым все понятно. Тот, вероятно, почувствовал родственную душу. Авантюрист и капитан сорвиголова. Правда, до капитана еще не дослужился. А вам почему до сих пор лейтенанта не присвоили?
— Не до того было. Вышел бы к Подольску, к своим, может, уже и присвоили бы.
— А почему ж не вышел?
Воронцов внимательно посмотрел на лейтенанта и сказал:
— Напарника хорошего, не было, товарищ лейтенант госбезопасности. Вот с вами бы точно вышел.
Гридякин докурил «Герцеговину флор», придавил в глиняной пепельнице окурок и хмыкнул:
— Чувство юмора — хорошее чувство. Оно прежде всего свидетельствует о достаточном самообладании и несломленности духа. Ну что ж, дрались вы во время прорыва и потом, когда противник неожиданно атаковал позиции третьего взвода, судя по донесениям, действительно хорошо. Произвели, так сказать, впечатление… Из штаба полка уже дважды звонили. И старший лейтенант Солодовников заходил. Грязи тут натащил… Глиной все перемазал. И где он глиной измазался, когда мороз уже несколько недель не отпускает?
— В окопах. Ходы сообщения отрывают. Позиции все время надо менять, потому что противник ведет наблюдение и засекает огневые точки. А у них там снайпер работает…
— А вот ты говоришь, что ранен был, там, на Извери, в октябре прошлого года?
— Да. Вот сюда. — И Воронцов расстегнул гимнастерку и задрал рукав. Коричневое пятно, похожее на крупную родинку, темнело на мышце.
— Сквозное, что ли?
— А что, и это подозрительно?
— Да нет. Рана как рана. А скажи, кто тебя перевязывал?
— Старший сержант Гаврилов, помкомвзвода. А потом, когда вернулись из-под Юхнова снова в Воронки, военфельдшер лейтенант Петров.
— Точно, Ванька Петров! Я его тоже хорошо помню! В санчасти работал.
— Да не вру я, товарищ лейтенант госбезопасности! Почему вы мне не верите?
— Верю. Я тебе, Воронцов, верю. Но существует приказ, по которому военнослужащие, покинувшие позиции, а равно бросившие вверенное им родиной оружие…
— Какой приказ?
— Утвержденный заместителем наркома обороны генералом армии Жуковым, номер двести девяносто восемь от двадцать шестого сентября тысяча девятьсот сорок второго года. И в этом приказе сказано… Вот, пункт первый: «штрафные роты имеют целью дать возможность рядовым бойцам и младшим командирам всех родов войск, провинившимся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, кровью искупить свою вину перед родиной отважной борьбой с врагом на трудном участке боевых действий». Так-то, брат…
В висках у Воронцова загудело забытым шумом. Показалось, что начало кривить набок рот. Он ухватился за подбородок — нет, рот был на месте. Гридякин стоял у окна и искоса поглядывал на Воронцова. И Воронцов, взяв себя в руки, спросил:
— Что ж нам теперь будет? Трибунал?
— Что, страшно?
Воронцов ничего не ответил. Гридякин снова закурил:
— Может, трибунал. А может, и так оформят. Приказом по армии. Полк срочно формирует штрафную роту. Приказ такой пришел. Из штаба дивизии. Участок боевых действий, как видишь, у нас трудный. Самое место, чтобы кровью искупить… Сформируют из вас отдельную штрафроту, выдадут оружие и — вперед! Кому на месяц, кому на два, а кому и на все три.
Глава тридцать третья
В маленький городок у подножия Альп в середине зимы начали приезжать в отпуска выжившие под Сталинградом сыновья и мужья тех, кто все эти месяцы с тревогой читал берлинские газеты. В один из дней у дома госпожи Бальк остановился почтальон. Он поставил у чугунной решетки свой велосипед, поправил фуражку, порылся в сумке, перекинутой через плечо, и поднялся по широким ступеням, вытесанным из местного камня, к парадной.
Шура тем временем выгребала из нижнего подтопка большой изразцовой печи золу. Она услышала, как охнула госпожа Бальк, как зазвенела упавшая на пол тарелка. Хозяйка утром принимала каких-то гостей из соседнего городка, должно быть, родственников мужа. Долго сидела с ними в комнате. И Шура, носившая им кофейный напиток на красивом фарфоровом подносе, слышала, о чем они разговаривали. Снова о Сталинграде. Кто-то из женщин всплакнул. Немецкий, на котором разговаривали здешние жители, сильно отличался от того, который она изучала в школе. Но вскоре она начала понимать и этот диалект и даже изредка отвечать требовательной хозяйке какой-нибудь короткой фразой. Однажды, когда госпожа Бальк пребывала в хорошем расположении духа, что случалось очень редко, особенно по отношению к остарбайтерам, она сказала Шуре, что у нее прекрасное, вполне берлинское произношение. Легкая улыбка вздрогнула в уголке ее тонких, всегда плотно сомкнутых губ.
— У меня в школе была хорошая учительница, — по-немецки ответила Шура. — Она немка.
— Как ее имя?
— Роза Соломоновна Гинзбург.
Улыбка исчезла в уголке еще плотнее сжатых губ госпожи Бальк.
Гости говорили о том, что большая армия немцев попала в окружение на Волге, то ли близ Сталинграда, то ли в самом городе. В берлинских газетах, которыми госпожа Бальк разрешала растапливать печи, говорилось о том, что Сталинград взят доблестными войсками генерала Паулюса. Печатался портрет генерала — человек, одетый в кожаное пальто и офицерскую фуражку, улыбался. Лицо его не было грозным, как большинство портретов немецких генералов, которые она видела в газетах. Этот генерал был похож на учителя математики Ивана Севастьяновича. Иван Севастьянович был не местный. Он приезжал к ним в Прудки из райцентра и жил на квартире через три дома. На фронт их учитель ушел вместе с отцом Шуры. В один день. В газете рядом с портретом генерала печаталось изображение немецкой медали за взятие Сталинграда.
А теперь Шура вдруг узнала, что все это — неправда. Сталинград не взят. То же самое год назад немцы говорили о Москве. А потом оказалось, что в Москву их не пустили. Более того, именно там их здорово побили.
Иногда над их промозглым городком высоко в небе пролетали самолеты. Сережа сказал, что это союзники, американцы. Они бомбят немецкие города и корабли где-то далеко, на юге. Там тоже идет война. Иногда выстрелы слышались и в горах. Там прятались партизаны и русские военнопленные, бежавшие из лагеря. Но однажды по главной улице городка прогнали небольшую группу людей в изорванной одежде. Они были избиты и едва передвигали ноги. Вели их со стороны гор! Прохожие смотрели на них с ненавистью и шептали вслед им: «Партизаны. Русские скоты. Спелись с лягушатниками… Союзники…» Вечером, в бараке, перед отбоем, начальник лагеря, в котором жили рабочие-остовцы, объявил им через переводчика:
— Германия — страна высокой культуры, порядка и дисциплины. И всякое неповиновение строго наказывает. Сегодня были пойманы те, кто неделю назад бежал из мужского лагеря в горы, к партизанам. Они думали, что мы их уже не найдем. Но мы их нашли. Все они, а также французские террористы, схвачены и сегодня вечером расстреляны. То же будет с каждым из вас, кто посмеет нарушить внутренний распорядок лагеря. То же самое будет с каждым из вас, кто посмеет ослушаться своих хозяев. То же самое будет с теми, кто посмеет плохо работать и кто будет уличен в воровстве!
А утром, когда они шли на работу, к ним подбежал Сережа и сказал, что ночью из тюрьмы бежали двое партизан, приговоренных к казни. Один француз, а второй русский. Мужской барак примыкал к бараку, в котором жили пленные французы. Они-то и сообщили о побеге.
В первый же день их разделили на группы. Мужскую группу сразу же погнали на окраину городка. Там, у самой реки, были построены щитовые домики. Женщин привели к длинному кирпичному бараку. Объявили, что сейчас на них оформят документы, что каждая из них должна назвать свою фамилию, национальность, возраст. Затем их сфотографируют и снимут отпечатки пальцев. В бараке командовали полицейские и женщины в военной форме. Женщины в руках держали палки, которые время от времени пускали в ход.
— Ой, Шурочка, куда мы попали… — шептала Ганька, в ужасе оглядываясь на полицейских. — Как скот нас гоняют…
На них завели карточки. Потом полицейские принесли бачки с баландой и хлеб. Вечером погнали в баню. А после бани, не разрешая одеться, выстроили в коридоре и приказали сдать одежду на дезинфекцию. После этого вновь построили и объявили, что сейчас все вновь прибывшие будут подвергнуты медицинскому осмотру. Осмотр проводили грубо. Несколько врачей. Женщины-полицейские им помогали. У входной двери стояла старшая — в черной форме с белыми рунами СС в петлицах.
Девушки по очереди подходили к столам, за которыми сидели врачи. Те тщательно осматривали каждую.
Шура хорошо понимала, о чем разговаривали врачи, их реплики.
— Бог мой, среди них одни девственницы! — сказала одна.
— Радуйся, Эльза, теперь ты уверена, что твой Рудольф действительно верен тебе.
— Рудольф не на Восточном фронте.
— А где же, в Африке? Или в Нормандии? Девушки из Нормандии, я уверена, выглядели бы иначе…
— Нет, он в Африке.
— О, тогда тебе снова не повезло! Женщины побережья очень страстные. Не чета этим вялым славянкам.
Немки смеялись.
В углу комнаты, за ширмой, стояло гинекологическое кресло. Шура и Ганька с ужасом смотрели на него. «Не бойтесь, девочки, ничего плохого они вам не сделают. Только осмотрят. Так надо», — шепнула им стоявшая рядом женщина, видя, что одна из полицейских уже направилась к ним, постукивая палкой по каблуку сапога, начищенного до зеркального блеска.
Вечером их привели в спальный барак. Кровати стояли в два яруса. Ганьке досталась верхняя койка, Шуре нижняя. Утром им вернули одежду. От нее пахло тем же, чем пахло в блиндажах возле Прудков после того, как оттуда убрались немецкие артиллеристы. Снова чем-то покормили, так что Шура даже не запомнила, что ела. Все происходящее она воспринимала как в бреду. Раздалась команда: «Raus!» Все хлынули к дверям. Полицейские построили их в одну шеренгу. Сличили с карточками. Погнали по улице к центру городка, мимо высокого остроконечного здания ратуши. «Arbeitsamt», — прочитала Шура готические буквы вывески над входом в здание. Здесь их уже ждали одетые в штатское пожилые немцы. Они по очереди проходили вдоль шеренги, оценивающе осматривали ее, иногда останавливались, цокали языками, хмурились, улыбались. Некоторых тут же уводили, вручив немцам в штатском их карточки. Шеренга у стены становилась все короче. Крайних справа и слева сгоняли к середине. Правда, до палок здесь дело не доходило. Как только из середины выпадали двое-трое остовцев, их места тут же заполнялись оставшимися.
Шура тут же вспомнила, как однажды в колхоз приехали цыгане и, сговорившись с председателем о покупке жеребца, осматривали табун. Нечто похожее она видела и теперь. Только тогда и цыгане, и председатель смотрели на жеребца иначе.
Напротив Ганьки и Шуры остановилась женщина лет сорока пяти и указала на них тростью зонтика:
— Diese, diese… und diese.
Это была госпожа Бальк, владелица небольшой кожевенной мастерской и загородной крестьянской усадьбы с небольшой фермой, доставшейся ей от родителей. Полицейские тут же выдернули из шеренги Сашу, Ганьку и ту самую женщину, которая ехала с ними в вагоне и потом всегда старалась держаться где-нибудь рядом. Женщину звали Зоей.
Первый месяц они работали за городом. Bauernhof — крестьянская усадьба оказалась довольно обширным поместьем, в центре которого стоял двухэтажный кирпичный дом, мрачный, как средневековый замок. В нем хозяйничал хромой Verwalter — управляющий Herr Gals. Гальс оказался человеком требовательным, дотошным, но не злым. И в первый же день он заставил кухарку приготовить наваристый вкусный суп, так что девушки, изголодавшиеся за долгую и изнурительную дорогу, присаживались к кастрюле несколько раз. Затем господин Гальс установил строгий распорядок, и на кухню их звали всего дважды. Но это была хорошая еда, в которой было даже мясо. Иногда на ферме появлялась сама Die Wirtin — хозяйка. И тогда они бегали бегом, выполняя ту или иную работу. Так приказывал Гальс. Фрау Бальк не разговаривала с ними даже тогда, когда ей что-нибудь не нравилось. Громко звала своего Verwalter и коротко отчитывала его за то или иное упущение. Она даже не смотрела в их сторону.
Управляющий Гальс неплохо говорил по-русски. В 1916 году он попал в русский плен и выбрался в свой Faterland[23] лишь спустя три года, сказавшись чехом. Он проехал через всю Сибирь в одном из эшелонов Чехословацкого корпуса. Об этом он девушкам рассказал сам. Некоторые слова, которые Гальс уже не мог воспроизвести по-русски, живо переводила с немецкого Шура. Он сразу отметил ее сообразительность и однажды переговорил с фрау Бальк. Вскоре после того разговора Гальса и фрау Бальк Шуру сразу после утреннего развода начали направлять прямо в дом на окраине города.
Ровно в назначенное время она поднималась по высоким ступеням из серого тесаного камня, звонила в дверь. Ей открывала сама фрау Бальк Шура терпеливо ждала на холодном ветру. Не поднимая головы, видя одни ноги фрау Бальк, обутые в мягкие домашние туфли, сшитые, видимо, пленными в обмен на булку хлеба или пачку сигарет, Шура делала сдержанный поклон и произносила:
— Guten Morgen, Frau Balk![24]
Никогда в ответ Шура не слышала ни слова, ни звука. Быть может, фрау Бальк в ответ бросала какой-нибудь жест, но этого Шура не видела, потому что, разговаривая с хозяйкой, она никогда не поднимала головы. Так приказал вести себя в присутствии хозяев вахман в бараке. Затем она шла следом за хозяйкой. Та вела ее к месту очередной работы. Каждый раз это было что-нибудь связанное с уборкой, наведением порядка в комнатах, многочисленных кладовках или в подвальных помещениях. Подвалы под домом фрау Бальк были обширные. Шуре казалось, что они такие же огромные, как и сам дом. И сводчатые потолки, укрепленные железными коваными балками крест-накрест, были ничуть не ниже, чем в комнатах. Именно там, в подвале, находилась топка одной из печей, дымоход которой проходил через спальню фрау Бальк. И вот однажды возле корзины с дровами Шура и увидела кипу старых газет. Она сразу поняла, что газеты сюда принесла сама хозяйка. Хотя днем фрау Бальк никогда не спускалась в подвал. В газетах Шура прочитала о том, что на Восточном фронте, как и год назад, вермахт снова попал в затруднительное положение. В каждом номере в колонках срочных сообщений мелькало: Сталинград, Сталинград, Сталинград. Вскоре это слово перешло в заголовки.
И вот 22 ноября из французского барака сообщили: наши окружили сотни тысяч бошей в сталинградской степи и добивают их из тяжелых артиллерийских орудий.
Сегодня утром Шура, как всегда, позвонила в дверь и, когда увидела перед собой сшитые военнопленными мягкие комнатные туфли фрау Бальк и произнесла свое обычное: «Guten Morgen, Frau Balk!», то в следующее мгновение она невольно вздрогнула и некоторое время оцепенело стояла у раскрытой двери. Потому что вдруг услышала в ответ тихий, сдержанный голос хозяйки:
— Guten Morgen, Medchen. Tret ein. — И, не оборачиваясь, словно самой себе, сказала: — Heute ist es windig und feucht.[25]
— Ja, Frau Balk, und es schneit.[26]
Хозяйка вдруг кинулась к окну, раздернула тяжелые шторы и сказала, глядя вверх, в серое небо, откуда ветер нес снежные заряды:
— Abermals und abermals… es schneit. Als ob in Russland.[27]
А потом пришли гости, которых хозяйка ждала, и она немного развеселилась. Во всяком случае, разговаривала она громко и даже шутила. Пока кто-то из гостей не произнес это слово: «Stalingrad».
И вот возле дома остановился этот почтальон, поставил велосипед к чугунной решетке и позвонил в дверь. Всегда, когда он приносил газеты и даже письма, то просто бросал их в почтовый ящик, прикрепленный к чугунному столбу возле тропинки, ведущей от тротуара к крыльцу, и преспокойно ехал на своем велосипеде дальше по Domstrasse[28].
Шура наблюдала за почтальоном из полуподвального окна. Когда тот исчез, она метнулась по деревянным ступенькам вверх, потому что почувствовала, что с хозяйкой случилось что-то неладное.
Шура застала фрау Бальк сидящей за столом с какой-то бумажкой в руках, которую она то разглаживала, то, поднося к глазам, перечитывала снова и снова. Разбитая тарелка валялась у ее ног. Куски фарфора белели на натертом паркете, как обломки того, что уже невозможно вернуть никогда.
Шура испугалась и забилась в прихожей под вешалку. Ей хотелось уйти, убежать из этого дома, куда тоже пришла война.
Уже стемнело, когда фрау Бальк очнулась от своего оцепенения. Перед нею стояла Шура, держа в руках осколки разбитой фарфоровой тарелки.
— Frau Balk, — прошептала Шура, испуганно глядя на госпожу Бальк, — Ich bedaure sehr, was passiert ist. Ich kann Ihnen mitfohlen. Mein Fater… ebenfalls, Frau Balk[29].
А еще через два дня почтальон бросил письмо в почтовый ящик и тут же умчался по Domstrasse дальше выполнять свои обязанности. Фрау Бальк в чем была выскочила на улицу и там же, у почтового ящика, разорвала конверт. Шура ждала ее у двери. На щеках фрау Бальк дрожали слезы радости. Ее сын, Арним Бальк, тоже воевавший на Восточном фронте, писал, что у него все хорошо, что русские без конца атакуют, но Ржев они не отдают.
— Бедный Арним, сынок, ты еще не знаешь, что твой отец погиб под Сталинградом, — зарыдала госпожа Бальк.
Так случилось, что никто не мог в эти минуты ни утешить госпожу Бальк, ни разделить с нею ее радость, кроме худенькой девочки из России с нашитым на груди треугольником и надписью: «OST».
Глава тридцать четвертая
Воронцов вошел в землянку. Это был низкий, в рост человека, свежий сруб, наспех ошкуренный и не совсем плотно подогнанный в венцах. Бревна разной толщины лежали впоцелуйку, как сказал бы дед Евсей. Посреди вырезанная из железной бочки и обложенная кирпичом печь с трубой, выведенной в прорубленный в спаренных бревнах и заделанный глиной люк. У узкого оконца, обращенного на восток, в тыл, стол, на котором разложены карты. В углу сидел телефонист. Перед ним, на столе, несколько телефонных аппаратов.
Кроме майора Соболева, в землянке находился еще один человек. Когда тот, второй повернулся к вошедшему, Воронцов увидел на его петлицах четыре шпалы. Это и был, как видно, командир полка Колчин, которому буквально на днях было присвоено, очередное воинское звание полковник. Воронцов шагнул к пожилому грузному полковнику, четко, как на плацу, приставил ногу и вскинул ладонь к пилотке. Перед тем как войти в землянку, он с минуту топтался возле двери, разглаживал на коленке, мял пальцами края своей засаленной пилотки. Но, как сказал бы тот же дед Евсей, из кисета шинели не выкроишь.
— Товарищ полковник! Разрешите доложить!
Но полковник неожиданно подал ему руку, посмотрел в лицо снизу вверх, как смотрят страдающие близорукостью, и неловко, совсем не по-командирски, поймал руку Воронцова, которую он не успел убрать от виска.
— Садись-ка, сынок. Разговор, видать, у нас долгий будет.
Долгий — это хорошо, сразу смекнул Воронцов, значит, решили разбираться досконально.
— Донесение твое мы с Игорем Ростиславичем прочитали. Хорошее донесение. За такой прорыв вас только к наградам представлять. Правда, медалей вы не получите. Но награда вам будет. По законам военного времени. В штрафную роту пойдешь. — И полковник Колчин сопроводил свой приговор пристальным взглядом.
В горле у Воронцова трепыхнулось: «За что?», но он сдержал в себе этот жалкий и неуместный возглас. Что-то тут было не так. Стал бы полковник вызывать его к себе на КП, чтобы объявить о том, что он, сержант Воронцов, направляется для искупления своей вины в штрафную роту.
— Ну что, младший лейтенант, голову опустил? Да не журись, сынок. Это — не самое худшее! Самое худшее будет, если вы с Солодовниковым эти проклятые высоты не отобьете.
Слова комполка окончательно его запутали. Полковник Колчин назвал его младшим лейтенантом. Что это значило? Когда они сидели в окружении, рядовые бойцы, особенно из стрелковых подразделений и пожилые, часто принимали его за командира. Но не мог же полковник, пусть даже страдающий близорукостью, принять его «секеля» за лейтенантские кубари. А теперь вот — штрафная… Значит, будет суд, военный трибунал… За что? За то, что они вырвались к своим? За то, что на пути истребили до взвода противника? За то, что вывели исправный танк с полным боекомплектом? Но все же: зачем тогда комполка вызывал его на КП?
— А что вы хотели?! — Майор Соболев пристально смотрел на Воронцова. — Я бы на вашем месте радовался. Жив, звание получил, а завтра назначение на взвод. Что вам еще нужно?
— Остальное, сынок, постарайся добыть там. — Полковник Колчин махнул в сторону низкой двери. — На высотах.
— Повезло вам. Особняк наш, лейтенант Гридякин, тоже Подольское училище заканчивал. Однокашник ваш. Да и подтверждение на вас пришло. Аттестацию писал Илья Митрофанович. Но, поскольку вы, Александр Григорьевич Воронцов, не окончили полного курса обучения, офицерское звание вам присваивается на одну ступень ниже — младший лейтенант. С чем и поздравляем! Правда, из архива училища пришел и другой документ. О том, что вы числитесь пропавшим без вести во время боев в Малоярославецком секторе Можайской линии обороны в октябре тысяча девятьсот сорок первого года.
Полковник Колчин сидел на деревенской табуретке и улыбался.
— А ну-ка, Сеньчин, тащи, что у нас там с Октябрьской осталось.
Радист тотчас принес бутылку водки, чашку с солеными огурцами и буханку хлеба.
— И все, что ли?
— Тогда, Илья Митрофанович, подождите немного. Я мигом. Только сбегаю на ПФС[30], к Левченке.
— Да ну его к чертям, этого Левченку. Он потом на нас полсклада спишет. И так сойдет, — махнул рукой полковник Колчин. — Садитесь-ка. Лейтенантские кубари обмоем. Кубари — дело молодое! Постой, а кубари-то где? Сеньчин, сбегай к нашим, найди два кубаря. — Колчин снова посмотрел на Воронцова и снова махнул рукой. — Веди сюда Медведева. Что он, в худой шинельке да в пилотке ходить будет?.. Что ж мы за полк, если младшего лейтенанта не обмундируем по полному штату!
То, что произошло в следующие минуты, Воронцов потом вспоминал всю жизнь, но так и не смог восстановить во всей последовательности ни того, как переодевался прямо в землянке штаба полка в новенькую диагоналевую гимнастерку, на которой уже сияли в полевых петлицах серебряные кубари младшего лейтенанта, ни того, что говорили ему старшие офицеры, ни за что пили первую, ни за что поднимали вторую и последующие. Но запомнил, как запоминают накрепко некоторые эпизоды из самого раннего детства: подполковник Колчин налил ему очередную рюмку и сказал:
— А теперь скажи ты, младший лейтенант.
К тому времени застолье их увеличилось. Пришел начальник оперативного отдела, помощник начальника штаба по разведке, замполит, командир артдивизиона. Все смотрели на него, ждали, что скажет им он, незнакомый в полку человек, только что произведенный в офицеры. Воронцов встал, поправил под новенькой портупеей гимнастерку, тряхнул головой, так что из рюмки плеснулось, и вдруг заплакал. Слезы текли по его щекам, в горле начал твердеть ком, и Воронцов, не находя в себе сил сказать хоть что-то, испугался, что может всхлипнуть, как мальчишка. Что ж тогда будет, в ужасе думал он. Что о нем подумают в штабе полка? И можно ли такому доверить взвод? Тем более, в штрафной роте! Так и стоял он, прямой, как штык. Он плакал в присутствии старших офицеров и ничего не мог с собой поделать. Все пропало, думал он, все пропало…
— Ты что, сынок? — толкнул его подполковник Колчин.
— Я, товарищ подполковник, боялся, что не прорвемся, — сказал, сглатывая и дробя слова, Воронцов и вытер рукавом новой гимнастерки слезы.
— Так прорвался же! А, младший лейтенант?! Прорвался! И людей вывел! И танк целехонький пригнал! И комбригу радость. И нам тоже. Вот такие нам нужны! Утри, утри слезы, младший лейтенант.
— Служу трудовому народу! Оправдаем кровью, товарищ подполковник… Мой взвод… — И Воронцова качнуло, как во время бомбежки, венцы землянки накренились, стали стремительно приближаться.
— Перебрал, младшой… — услышал он будто в отдалении. Воронцову показалось вдруг, что он находится не в штабе полка, а в траншее, и кто-то из глубины хода сообщения сказал: «Перебрал младшой…»
— Ничего, в штрафной быстро ко всему привыкнет. И к этому тоже.
— Что? Его в штрафную? Взводным?
— Да, не позавидуешь парню. Из огня да в полымя.
— Ничего. Он сам — огонь.
— Кого ж, Илья Митрофанович, ротным в штрафную?
— Самого боевого, — сказал подполковник Колчин, — старшего лейтенанта Солодовникова. Рота четырехвзводная, усиленная. Первым взводом будет командовать младший лейтенант Нелюбин, его я хорошо знаю по летним боям, вторым — младший лейтенант Воронцов, третьим — лейтенант Могилевский, четвертый еще формируется. Вообще рота формируется по решению Военного Совета армии. Но, как видите, нашему полку — особая честь… Четвертый взвод пришлют из дивизии. Уже звонили. Полевая кухня и прочее — тоже оттуда. Так что нам остается только воевать. Отбить высоты. Приказ о дате наступления пришлют позже. Но, я думаю, тянуть не будут. Надо подумать, как усилить роту минометами. И еще вот что: надо придать Солодовникову пару ПТО. На случай, если они все-таки прорвутся на высоты. А немцы, как вы знаете, всегда контратакуют с танками. Так что, Игорь Ростиславич, подумайте с артиллеристами, кого можно откомандировать к Солодовникову. И разведку давайте в дело… Пусть каждую ночь ходят. Все высоты обнюхают со всех сторон. Все подходы разведают.
— Так у меня, Илья Митрофанович, в дивизионе штрафных нет, — сказал вдруг майор с эмблемами артиллериста в петлицах.
— А у них в батальонах, думаешь, есть? — вдруг взорвался подполковник Колчин. — Да мне… да всем нам на Седьмую роту молиться надо! Что атаку отбили! Самоходку сожгли! Бронетранспортер! До взвода пехоты положили! При собственных потерях — семь человек убиты и девять ранены. Раненые — почти все! — до конца боя в траншее оставались!
— Да там Солодовников над ними с пистолетом по брустверу носился. Вот и не ушли. — Майор-артиллерист усмехнулся.
— А вы, товарищ майор Степанцов, не смогли огнем поддержать взвод во время второй атаки немцев! Я твоих нештрафных в следующий раз, когда нечем будет стрелять, сам, под автоматом, в окопы к стрелкам погоню! — Все знали, что, когда подполковник Колчин переходил со своими подчиненными на «вы», это означало предпоследнюю степень его ярости.
Но обстановку разрядил Воронцов. Он вдруг почувствовал, что его мутит, и, чтобы не опозориться вконец, резко встал, стараясь быть прямым, как штык, и громко сказал:
— Разрешите выйти?
Подполковник Колчин посмотрел на его бледное лицо, все сразу понял и кивнул связистам:
— Помогите младшему лейтенанту. И отведите его в свою землянку. Пусть хорошенько выспится. Возьмите шинель и ватник. Да не потеряйте ничего!
Когда Воронцова вывели из землянки, комполка, уже остыв, сказал:
— А он, этот младший лейтенант из курсантов, что, штрафной? — Подполковник Колчин потер ладонями виски. — Ему завтра через проволоку лезть с ними… На высоты эти проклятые… Так что, Владимир Порфирьевич, готовьте две «сорокапятки», а лучше дай им дивизионные. Укомплектуй лучшими расчетами. Поставь хороших наводчиков. И минометчиков дай. Чтобы у роты огневая поддержка была настоящая, а не для проформы. Военный Совет армии создает отдельную штрафную роту не для наказания провинившихся, а для того, чтобы воевать. Это прошу понять на исходных. Чтобы потом не возникали ненужные вопросы.
Утром Воронцов проснулся с тупой головной болью и слабостью во всем теле. К своему удивлению, радом, на топчане, застланном шинелью, увидел улыбающееся сквозь сетку морщин доброе лицо младшего лейтенанта Нелюбина. Тот сидел в одном нательном белье и старательно, размашисто орудовал иглой.
— А я, видишь, на генеральский прием не попал! — сказал Нелюбин и встряхнул солдатской гимнастеркой, с которой посыпались обрывки ниток и кусочки материи, которые он, должно быть, использовал как заплатки. — Так что приходится обходиться малым. Но одежа чистая! Без педикулезов! Дырок много. А так крепкая. Послужит еще.
— Не был я ни у какого генерала. Был у полковника. У командира полка.
Воронцов сквозь боль в висках и затылке вспомнил, чем закончился его визит в штабную землянку, и поморщился.
— Это ж что, батя наш тебя так накачал? — засмеялся старшина, сидевший в дальнем углу и занимавшийся ремонтом телефонной трубки.
— Батя. Пили одинаково. Он хоть бы в одном глазу, а меня сразу под стол потянуло…
— Хорошо ж ты, Сашок, кубари обмыл.
— Голова болит. Как после контузии.
— А я тоже спирт пил, — послышался еще один голос, и Воронцов увидел лейтенанта Могилевского. Лейтенант стоял возле умывальника и, глядя в осколок зеркала, прилаженного на полочке, брился опасной бритвой. — Бойцам перед боем канистру принесли. Налили и мне. Чуть не задохнулся! — И лейтенант засмеялся.
— Между прочим, товарищ лейтенант, — выждав, когда снова наступит тишина, сказал Нелюбин, — с бойцами пить не надо. Видел я, как они тебя по плечу хлопают. Нельзя. Ты, лейтенант, не обижайся. Но меня, старика, послухай. Я и в солдатах свое отходил, и в старшинах. И теперь вот во взводных, бог даст, похожу. Солдат — это солдат. А офицер — это офицер. И солдат должен чувствовать, что перед ним — командир. И офицер должен понимать, что перед ним — солдат, существо беззащитное и требующее всяческой заботы.
Воронцов умылся, оделся в новую форму. Ремни пахли военторгом, добротностью. Однажды, еще в училище, он зашел в городской военторг. Чего там только не было! И он решил, что, когда окончит училище и получит лейтенантское звание, обязательно купит себе все, что нужно. И даже начал откладывать на это деньги. Лейтенантское звание он получил только вчера. Да и кубарь в петлицу понадобился всего один. А деньги, которые он откладывал, чтобы купить хорошую офицерскую полевую сумку, латунный наручный компас, яловые утепленные сапоги и еще кое-какие мелочи, ушли на покупку хлеба в деревнях, когда выходил из окружения. Кое-что он отдал Пелагее, чтобы она потратила их на детей. Эх, Пелагея, Пелагея…
Форма сидела на нем ладно. Сапоги поскрипывали. Воронцов подошел к умывальнику, заглянул в зеркало. Из глубины полусумрака землянки на него смотрело худощавое лицо человека лет тридцати, со скобками морщин вокруг рта. Даже глаз своих он не узнал. Они были темнее и глубже. Он отвернулся и сказал:
— Мы зачислены командирами взводов в штрафную роту. Знаете об этом?
— Знаем, Сашок. Знаем.
— Сегодня-завтра будет закончено формирование. Роте дадут номер. И — вперед.
— Куда же нас пошлют? — спросил Могилевский.
— А сюда. На высоты. Высоты будем брать.
— Мой-то взвод — первый, автоматный, — улыбнулся Нелюбин. — По новому штату.
Воронцов вспомнил о своей винтовке. Солодовников обещал ее вернуть.
— А что, Могилевский…
— Меня Борисом зовут, — представился лейтенант Могилевский. — Борис Могилевский. Родом из Витебской области.
— Александр Воронцов. Можно просто — Саша.
— Кондратий Герасимович Нелюбин. Мы с Сашком, товарищем Курсантом, — смоленские.
— Очень приятно, — застенчиво улыбнулся Могилевский. — И давайте на «ты». Хорошо?
Нелюбин посмотрел на него и покачал головой.
— Прости, Саша, я тебя, перебил…
— Да я спросить хотел: Седьмую вашу всю, что ль, на положение штрафной перевели?
— Нет. Только третий взвод. Мой взвод в полном составе. Я слышал, что три других взвода, в том числе и ваши, будут сформированы из числа бойцов и сержантов дивизии. После приказа «Двести двадцать семь» такие роты формируются при каждой дивизии.
— Я этот приказ читал еще летом. — Нелюбин наконец покончил со своим рукоделием и начал одеваться. — Там и о штрафных батальонах говорится. Специально для офицерского состава. А на этих высотах, ребята, я уже бывал! — вдруг сказал Нелюбин. — Вот спихнуть бы нам их оттуда! Не сидели бы здесь, в болотах.
…Однажды приказали построиться. Приехал батя. Посмотрел на шеренгу, прошелся вдоль, заглядывая в лица.
— За что осужден? — спросил молодого артиллериста, одетого в ватник.
Артиллерист шагнул из строя и четко доложил:
— Рядовой Миронов! Неповиновение старшему по званию.
— Кто был старший по званию?
— Командир батареи старший лейтенант Гребенщиков.
— Это — грубое нарушение устава. Какой вы солдат, если не слушаетесь своего командира?! — Губы у полковника Колчина затряслись. Говорил он громко, чтобы слышали все. — Когда это произошло? Во время боя?
— Никак нет. Дивизион отвели на отдых. Проводили учебные стрельбы. Товарищ старший лейтенант Гребенщиков приказал по часу бегать вокруг позиций, потом стрелять.
— Так?
— А я отказался.
— Стрелять?
— Нет, бегать. После продолжительной пробежки мне трудно наводить. А после каждого промаха по мишени товарищ старший лейтенант Гребенщиков назначал еще несколько кругов.
— И что, ты никак не мог попасть?
— Иногда снаряд проходил мимо цели.
— Кем ты был в расчете? Наводчиком?
— Так точно, наводчиком. — И боец лихо вскинул к виску ладонь. — Наводчик первого орудия второго взвода третьей батареи, бывший младший сержант Миронов!
— Ты знаешь, что тебя ждет, сынок? — внимательно глядя в глаза штрафнику, спросил вдруг подполковник Колчин.
— Знаю, товарищ полковник. Атака.
— Да, сынок. Постарайся ее провести так, чтобы ваш взводный после боя тут же подготовил на вас положительную характеристику. А я эту реляцию подпишу. — И вдруг сказал: — А твой командир батареи — раздолбай!
— Ты? — Остановился полковник возле высокого плечистого бойца в поношенной шинели последнего срока. Шинель его явно теснила.
— Рядовой отдельной штрафной роты Котов!
— Что, сынок, маловата шинель?
— В строю терпимо, а вот в бою… Да я ее, товарищ полковник, брошу! — нашелся вдруг боец. — Все равно налегке побежим.
— Это верно, бежать придется налегке. А вот шинель бросать не надо. Солодовников, — тут же сказал он ротному, следовавшему за командиром полка, — замените бойцу шинель на больший и подходящий размер. За что наказан?
— Бес попутал! — ответил Котов, часто моргая и стараясь не смотреть в глаза командиру полка.
— Это ж какой такой бес тебя, такого детину, мог попутать? А?
Строй шевельнулся, вздохнул, загудел. Ротный вытянул шею, и шеренга снова окаменела.
— Известно какой. — Котов еще некоторое мгновение мучительно моргал в пустоту и выдохнул: — Баба.
— Так бес или баба?
— Баба, — признался Котов.
— Так? И как она тебя попутала? Тоже во втором эшелоне?
— Именно так, товарищ полковник. Во втором. В бою ж это нельзя…
— А во втором эшелоне можно?
— Так вышло, — пожал плечами боец. — Оно б, может, и обошлось. Но товарищу лейтенанту, нашему командиру роты, она пожаловалась.
— Пожаловалась? И сколько тебе трибунал определил?
— Один месяц.
— Мало! Мало тебе, сукин кот, дали! Я бы тебе, на месте трибунала, все три месяца впаял! Детина вроде здоровый, а баба на него — пожаловалась! Эх ты!.. И с немцем так же робко воевать будешь?
— Никак нет. Немца я — штыком и прикладом!
— Ты сперва доберись до него. Стрелять-то умеешь? А ну-ка, дай посмотреть твою винтовку.
Командир полка взял винтовку Котова, открыл затвор, посмотрел в патронник, понюхал, пощупал пальцем канал ствола.
— Ну, Котов, судя по винтовке и по смазке, ты — боец неплохой. И немца будешь бить решительно. А вот с бабой, когда смоешь свой первоначальный позор кровью или храбростью в бою, будь поласковее. Тогда она никакому ротному на тебя не пожалуется. Ты-то у нее, дурень такой, небось еще и кусок сала спер?
— Да не было у нее уже сала, товарищ полковник, — простодушно признался Котов. — Немцы там до нас все подчистили.
— Ну да. А вы хотели еще и по сусекам поскрести. Так? В деревнях живут наши семьи. Наши матери, сестры, дочери. Надо это понимать. — И полковник обвел взглядом весь строй. — Им там еще труднее, чем нам!
После построения полковник Колчин уехал. А рота приступила к выдаче оружия.
Когда с саней сняли длинные ящики и откинули крышки, Нелюбин заметался. В ящиках не оказалось обещанных первому взводу автоматов.
— Автоматы — только командирам взводов, — распорядился старший лейтенант Солодовников.
Но, прежде чем раздавать винтовки, ротный обошел строй и спросил:
— Кто из вас умеет обращаться с противотанковым ружьем?
Вышли несколько человек. В том числе и Полевкин.
Всех, кого вывел Воронцов, зачислили в третий взвод. Командирами отделений с присвоением сержантских званий Нелюбин назначил Григорьева и Демьяна Петрова. Куприкова и Золотарева оставил при себе для связи. Танкистам учли их храбрость и находчивость при прорыве из окружения, спасении и возвращении в строй боевой машины: трибунал назначил экипажу самую легкую меру наказания — один месяц в ОШР[31]. С ними привезли и механиков. Спустя несколько дней взвод пополнили еще тридцатью пятью окруженцами. Еще через два дня к землянкам, которые успели оборудовать окруженцы, подошли два взвода. Одеты они были неважно. В латаные-перелатаные ватники и шинели, судя по всему, последнего срока. Изношенные до последней степени шапки, побывавшие, как шинели и ватники, в дезинфекционной камере, обработанные от паразитов и кое-как отстиранные от присохшей крови. Целые тюки такой одежды, связанные проволокой, Воронцов однажды видел в тылу возле вошебойки. На кусках рельс стоял огромный чугунный котел. Между рельс все время поддерживался огонь. Пожилая женщина в шинели вытаскивала из углей раскаленные кирпичи, ловко подхватывала их на вилы со сломанным рогом и бросала в котел. Вода вспенивалась красной пеной, фырчала, и по снегу во все стороны разлетались розовые брызги. Этими же вилами женщина вылавливала гимнастерки и брюки, а потом закидывала новую партию. От котла исходил жуткий трупный дух.
Переменный состав отдельной штрафной роты, по всей вероятности, и был обмундирован из того чугунного котла. Обуты бойцы были все как один в ботинки и обмотки черного цвета, которые хорошо выделялись на снегу. Взводы пришли уже с оружием — старенькими, тоже побывавшими в боях винтовками. На каждый взвод — ручной пулемет Дегтярева.
Вместе со взводами прибыли лейтенанты: командир четвертого взвода, заместитель командира роты, замполиты взводов и четверо младших лейтенантов — заместители командиров взводов по строевой части. Таким образом и переменный состав ОШР, и постоянный вскоре были сформированы[32].
Глава тридцать пятая
Зайцева Гора, обозначенная на штабных картах как высота 269,8, представляла собой гряду довольно высоких холмов, с пологими скатами, несколько квадратных километров лесов, дорог, лугов и болот, плотно опоясанных траншеями, ходами сообщения. Скаты холмов, склоны горок и долины, овраги и балки были изрыты артиллерийскими и танковыми окопами, блиндажами и воронками авиационных бомб. На местности противостояния, занятой войсками обеих армий, в одинаковой степени поработали и «катюши», и шестиствольные минометы, которые бойцы прозвали «ишаками», и штурмовики Ил-2, и пикировщики Ю-87. К этому времени русские и немцы почти год стояли здесь. Одни мокли и гнили в болотах, ожидая в своем неглубоком окопчике в любую минуту пули или минометного налета с той стороны. Другие, устроившись в более выгодных условиях, сидели в своих блиндажах и полнопрофильных ячейках и ожидали того же с другой стороны. С некоторых пор немцы, до этого времени уверенные в неприступности высот, вдруг поняли, что, имея перед собой такого противника, как русские, невозможно быть уверенным ни в чем. Вскоре эти опасения подтвердились самыми невероятными событиями.
В самом начале октября одна из ключевых высот была сотрясена гигантским взрывом. Оказалось, что русские использовали древний способ: подвели подкоп, на глубине около пятнадцати метров заложили двадцать пять тонн взрывчатки. Взрыватель сработал утром 4 октября 1942 года. Сила взрыва была такова, что от детонации сработали все минные поля в радиусе тысячи метров, усилив, таким образом, взрывную волну. Взрыв разметал немецкий батальон, орудия прямой наводки, минометную батарею. Мощные стены бетонного дота, который не могли взять даже тяжелые орудия, разлетелись, как скорлупа ореха. Дот был построен еще в первые месяцы войны русскими, создававшими здесь, на Варшавском шоссе, систему обороны, хорошо понимая, что, если противник прорвется к Москве, то пойдет он прежде всего вдоль магистралей запад — восток. Что вскоре и произошло. Но год назад по этим же магистралям вермахт откатился на запад. В том числе и по Варшавскому шоссе. Зимой немцы оставили Малоярославец, Медынь, Мосальск, Киров. Весной — Юхнов. Вскоре положение на центральном участке фронта стабилизировалось. Лето прошло в непрерывных боях левее Варшавского шоссе, под Сухиничами, и правее, подо Ржевом и Сычевкой. Сухиничи и Киров немцам отбить не удалось. Но не отдали они и Вязьмы и Ржева. Катастрофа под Сталинградом заставила войска группы армий «Центр» сгруппировать все силы для того, чтобы не допустить подобного и здесь. Тем более что и развитие событий, и разведка, действовавшая и в ближнем тылу русских войск, и в глубоком, подтверждали: русские постоянно ведут перегруппировку и к чему-то готовятся.
И действительно, штаб Западного фронта требовал от командующего 50-й армии взять артиллерийские высоты, помеченные на полевых картах как высота 269,2 и высота 275, чтобы ликвидировать угрозу контроля противником этого участка фронта на многие десятки километров вокруг. Более того, на штабных и полевых картах хорошо просматривалась конфигурация передовой линии: высоты с немецкой стороны, словно надежные колья, держали туго натянутую проволоку фронта. На станцию Мятлевская прибывали все новые и новые эшелоны с техникой и боеприпасами. С местного аэродрома, находящегося недалеко от станции, взлетали самолеты. Но танки горели на западных склонах Зайцевой Горы. Самолеты падали в болота. И тысячи трупов пехотинцев стыли на нейтральной полосе между двумя рядами колючей проволоки. Их стриженые головы заметал снег. Мерзлую плоть объедали мыши и лисы. Они были ничьи на этой ничейной полосе, где так же, как и метель, вольно гуляла только смерть. Только она одна. Взрыв одной из высот и последующая атака русских на несколько часов изменили положение на этом участке фронта. Один из батальонов прорвался вперед и перехватил шоссе, отрезав таким образом от тылов оборонявшихся на высотах. Но удержать кольцо не удалось. Со стороны Милятина, где немцы сосредоточили свой резерв, подошли танки и пехота и сбили батальон с шоссе. На высотах танков не было. Немцы их держали в тылу, тщательно замаскировав от налетов авиации. Танки немцы берегли, зная, что все имеющиеся резервы израсходованы в боях на Волге. И что новых танков им не получить, потому что именно туда, в донскую и волжскую степи, направлял сейчас фюрер последние свои резервы, чтобы не допустить распада южного фронта.
Здесь же, в центре, тоже все колыхалось и гудело. Калининский фронт и часть армий Западного штурмовали Ржев. Ржевская битва, начавшаяся еще в январе, не прекращалась[33]. Левый фланг Западного фронта тоже давил вперед. И немцы хорошо понимали, что в том случае, если они не удержатся на Варшавском шоссе, мгновенная угроза нависнет над Вязьмой. А если падет Вязьма, то русские замкнут ржевский «котел». То, чего они добивались уже год. Таким образом, как часто случалось на войне, одна высота, возможно, даже незначительная, решала много задач и она, как некий главный ключ, запирала сразу многие замки.
И то, что русские пошли на подкоп, впечатляло.
С того жуткого дня прошло больше двух месяцев. Но воронка еще дымилась. Ее завалило свежим снегом. Мороз сковал вывороченную землю. Но сидящим вверху возле дежурных пулеметов наблюдателям казалось, что воронка еще дышит.
Никто из офицеров штрафной роты не знал, когда их бросят в бой. Из штаба полка пришло распоряжение: отыскать в ближнем тылу местность, похожую на восточный склон Зайцевой Горы и, пока есть время, заняться боевой подготовкой. Подходящее место вскоре отыскали. В тот же день рота, построившись взводными коробками, отбыла к месту тренировок. Следом за взводами тянулись конные запряжки и небольшой санный обоз: артиллеристы тащили дивизионные орудия, а минометчики везли в санях свои «самовары».
На боевую учебу пришлось три дня.
Чтобы особо не выматывать бойцов, старший лейтенант Солодовников приказал соорудить в ближайшем леске шалаши. Там бойцы отдыхали во время продолжительных перерывов после каждой «атаки» на холм. Холм возвышался над местностью, заросшей березняком и елями, и действительно сильно напоминал Зайцеву Гору. Сюда же прибыли и обе полевые кухни. Кухни тщательно замаскировали навесами из еловых лапок. Трубы дымили беспрестанно.
Воронцов успел познакомиться со своими заместителями и переменным составом взвода. После пополнения состав роты снова перетасовали.
Первым взводом командовал лейтенант Могилевский. Его значительно пополнили вновь прибывшими, в основном из соседних полков дивизии. В первый взвод приказано было передать все автоматы, которые получили командиры отделений. ППШ оставили только лейтенантам. Зря хлопотал Кондратий Герасимович. Винтовки успели хорошенько пристрелять. Среди бойцов оказались такие, кто вообще впервые держал в руках оружие. С ними занимались особо.
Вторым взводом теперь командовал младший лейтенант Нелюбин. Его окруженцы частенько отставали на марше. Да и в «атаку» шли — задыхались.
— В чем дело, Нелюбин? — рявкнул на него ротный после первой же пробежки на холм.
— Истощены, товарищ старший лейтенант. — Нелюбин приложил к шапке ладонь ковшиком. Она тоже дрожала. — Прикажите, товарищ старший лейтенант, выдавать моему взводу усиленное довольствие.
Ротный хотел вспылить. Но он прекрасно знал: не сегодня завтра с ними идти в бой. Никто не знает, каким будет этот бой. И где точно их бросят в атаку. Но то, что на Зайцеву Гору, — это точно. И чутье бывалого солдата подсказывало ротному, что на этот раз, скорее всего, их бросят без особой артподготовки. Уж какая артподготовка была произведена 4 октября, он помнил. Минные поля тогда рванули и перед его Седьмой ротой, в одно мгновение — свои и немецкие. Обрушилась землянка второго взвода. Взрывной волной, которая ураганом пронеслась на несколько километров, смело, как и не бывало, снежные брустверы и маскировку. Потом пошел вперед соседний батальон. Назад, оставляя на снегу кровавый след, откатилась только треть. Утром с той стороны в громкоговорители полк услышал: «Петь! Семен! Если еще живые, бросайте к е… м… винтовки и переходите к нам! Пусть из них комбат стреляет! Нас тут хорошо покормили! Завтра в тыл, на работу!» Ротный смотрел на взводного-2, на то, как он ковшиком держал ладонь и как дрожала эта его покрасневшая на ветру ладонь. Младший лейтенант Нелюбин попал в плен на месяц раньше, когда еще стояла жара и с нейтралки несло трупным смрадом так, что некоторые бойцы начинали болеть. Подкоп тогда только-только начинали, и о нем никто, кроме бойцов и командиров отдельной саперной роты, не знал.
— Чем же вас там кормили, Кондрат? — спросил ротный Нелюбина, вспомнив, как в октябре, после того, как немцы сбили соседний батальон с шоссе, громкоговорители хвалились с горы вкусными макаронами с мясом.
— Где? — переспросил Нелюбин, уже догадываясь, что имеет в виду старший лейтенант Солодовников.
— Там, в плену.
По тому, что ротный вдруг назвал его по имени, и по той интонации, с которой задал свой вопрос, Нелюбин понял, что никакой дурной подоплеки в словах старшего лейтенанта Солодовникова не было. Даже среди тех, кто побывал там, говорить о пережитом и увиденном было не принято. Но тут спрашивал ротный.
— Да там нас почти и не кормили. Раз полмешка каких-то мякин дали. На весь взвод. А потом — баландой.
— Что за баланда?
— Варили в котле картофельные очистки да мелко порезанную свеклу.
— А хлеб давали?
— Раз как-то дали сухари. Керосином пахли. А больше никакого хлеба не видели.
— Повезло вам, Кондрат, с Воронцовым. Батя вас в обиду не дал. Мне, как видишь, тоже с вами повезло. Большие деньги теперь будем получать! Двойной оклад[34]. Хвать ее в душу… Мне через пару месяцев капитана дадут. А вам с Воронцовым — лейтенантов. Но самое главное, что и этому, печатнику, Могилевскому, тоже очередное воинское звание присвоят! Печатник наш станет старшим лейтенантом. Роту получит. Просил я другого взводного на первый взвод. В приказе как сказано? В приказе сказано, что на должность командиров взводов назначаются офицеры из числа волевых и наиболее отличившихся в боях командиров и политработников. А мне назначили печатника как наиболее волевого и отличившегося…
С того дня норму суточного довольствия второму взводу ротный приказал увеличить.
Воронцова поставили на третий взвод. Состоял он из бывших карателей, в разное время перебежавших к партизанам, а затем переправленных через фронт или оказавшихся на освобожденной территории. Третий взвод тут же прозвали власовским, хотя настоящих власовцев было всего четверо. Их-то Воронцов и назначил на должности командиров отделений. На второй день во взводе произошло ЧП. В четвертое отделение зачислили пятерых окруженцев. И в первую же ночь между ними и власовцами произошла драка. Воронцов и лейтенанты разняли, разбросали кучу-малу. Попытались разобраться, из-за чего пошел сыр-бор. Но ничего существенного ни одна сторона, ни другая объяснить не могли. Воронцов доложил Солодовникову. Тот приказал выстроить взвод. Вытащили перед строем зачинщиков. Но и ротный толком не смог ничего выяснить.
— Нелюбин, забирай и этих пятерых на доппаек, — приказал старший лейтенант Солодовников.
Так третий взвод уменьшился на пять штыков.
Четвертый взвод пополняли до самого последнего дня. В него собрали бывших полицейских. Не все ушли с немцами. На ком не было крови, остались в деревнях и райцентрах — на милость победителей. Их некоторое время держали под арестом. Вскоре вышел указ: проверить, опросить местных жителей, и, если нет тяжких преступлений — на три месяца в штрафную роту. Вместе со взводом полицейских в роту пришли трое лейтенантов, Прохоренко, Безземельный и Теплицкий. Первого ротный назначил взводным, второго — его заместителем по строевой, а третьего, Теплицкого, замполитом.
Замполитов назначали в каждый взвод. Во взвод к Воронцову на должность замполита пришел младший лейтенант Саенко, а замом по строевой — младший лейтенант Дронов.
Ротный в первый же вечер собрал лейтенантов и сказал:
— Вот что, ребята. Через неделю-другую, если не раньше, пойдем на горку. Роту гвардейской делать будем. Наше дело — обеспечить прорыв. Раскромсать их оборону на узком участке. Если артиллерия не поможет, штыками и саперными лопатками кромсать придется. Или всех нас на склонах положат. Одно из двух. Так что подтягивайте людей. Обучайте. Чтобы стрелять умели и, главное, не боялись. Патронов будет достаточно. Сегодня же назначьте сержантов. Присмотритесь, кто у них там верховодит, кого слушаются. Это сразу заметно. Отделения большие, по двадцать человек. В штатных ротах через пару недель боев во взводах людей остается меньше, чем сейчас у нас в отделениях. Замполиты… Вы по своей, печатной, части занимайтесь. Вас Кац всем газетным материалом обеспечит. Но, имейте в виду, в атаку пойдем все. В ротах генералов не бывает. А во взводах… Во взводах выше лейтенанта генерала нет.
Вот такую речь прочитал им старший лейтенант Солодовников. После его слов кто плечи расправил, а кто и голову повесил.
Воронцов все время думал только об одном: он — младший лейтенант, командир взвода, и через несколько дней ему предстоит, возможно, самое главное событие всех этих пережитых им месяцев. То, о чем он мечтал еще в училище. Взвод у него и раньше был. В отряде у Жабо. И там Воронцов числился взводным. Но теперь ему присвоено первое офицерское звание. И он, младший лейтенант Санька Воронцов, через несколько дней поведет своих шестьдесят пять человек на немецкие траншеи. Власовцев. Во время учебных «атак» его взвод действовал заметно лучше других. И ротный то восхищался власовцами, то нервничал, что снова отстают окруженцы и мешкают, редко стреляют бойцы первого, «кадрового», взвода. А семьдесят пять человек — это почти рота! Он вспомнил бои под Вязьмой. Там в ротах насчитывалось порой и по сорок, и по тридцать человек. Но ничего, держались!
— Да что они у тебя, Могилевский?! Гранаты кидают себе под ноги! До первой атаки яйца себе поотрывают! А ну, смелей действуйте, членовредители!
И вот ночью их подняли по тревоге. Построились взводными коробками и пошли по расчищенной дороге вдоль фронта, почти в тыл. Шли километров пять. Остановились. Глаза уже привыкли к темноте. И Воронцов увидел, что рота стояла на широко расчищенной дороге в небольшой низине, видимо, лощине.
Откуда ни возьмись вышел командир полка полковник Колчин:
— Ребята! Вы — не преступники, и в этот разряд вас никто не зачислял. Кто-то дрогнул в бою, кто-то совершил недостойное звания бойца и младшего командира Красной Армии. Родина и командование Пятидесятой армии Западного фронта дают вам возможность искупить свою вину, стереть пятно позора со своей красноармейской книжки, вернуть свои награды, а возможно, и заслужить новые. Смойте свой позор! Пусть он вас больше не тяготит! Возьмете высоты, закрепитесь там! За вами поднимутся стрелковые батальоны. Их задача — сразу сменить вас там, на захваченных позициях, сразу, как только вы там закрепитесь. Все, что от вас требуется, — мощный рывок вперед. Вас будет поддерживать артиллерия и минометы. Саперы сделают проходы. Выполните приказ, сынки! И вы станете героями Зайцевой Горы! Посмотрите на нее! Завтра она станет вашей!
Взводы стояли молчаливыми черными колоннами. Пламенная речь полковника Колчина, похоже, не вдохновила штрафников. Кто-то, за спиной Воронцова, вздохнул:
— Сказал бы проще — надо сдохнуть там…
— У кого есть какие вопросы или заявления? — после короткой паузы вновь выкрикнул полковник.
Взводы молчали.
— Старший лейтенант Солодовников! — сказал комполка. — Командуйте.
— Боевая задача каждому взводу и каждому бойцу будет поставлена на месте! — крикнул ротный. — А сейчас напра-ву! Шагом-арш!
Вновь пошли по скрипящему, искрящемуся под луной притоптанному снегу. У каждого за плечами топорщился вещмешок с патронами, гранатами. Там же лежали сухари, по две сушеные воблы. Воронцов свой паек завернул в бумагу и сунул на дно «сидора», чтобы не мешал заряжать запасные диски автомата.
— Ну что, младший лейтенант, в третьем взводе все в порядке? — Его догнал лейтенант Гридякин, назначенный в роту оперуполномоченным Особого отдела.
— Все в порядке, товарищ лейтенант госбезопасности, — ответил Воронцов. Он не думал увидеть здесь, на дороге, в колонне марширующих к передовой взводов, лейтенанта Гридякина.
— Тебя как зовут, Воронцов?
— Александром. Вы же знаете. Записывали.
Гридякин усмехнулся:
— Да я многих записывал. Всех не упомнишь. Сашкой, значит.
Вещмешок оттягивал плечи. Три запасных диска лежали в противогазной сумке, постукивали по бедру. Воронцов нащупал пряжку брезентовой лямки и подтянул ее, поднял сумку повыше. Три диска — это хорошо. Где-то в обозе, на одной из санных повозок, лежала его снайперская винтовка.
Лейтенант Гридякин тоже шел с автоматом. И его противогазную сумку тоже оттягивали заряженные под завязку диски.
— А меня Николаем, — вдруг сказал Гридякин. — Можно просто Колькой.
И Воронцов вдруг понял, что Гридякину тоже страшно. Старший лейтенант Солодовников в бой погонит всех. У этого на НП не отсидишься.
— Долго нам еще? — спросил Воронцов.
— Уже пришли. — Гридякин кивнул в сторону пологой горы, которая серела впереди. — Вон она, передовая.
Остановились. По цепи передали, чтобы при подходе к передовой соблюдали тишину и порядок движения. Вперед побежали саперы — протаптывать тропу.
Чем ближе они подходили к Зайцевой Горе, тем выше она вздымалась над ними. Контуры ее гребня, озаряемые частыми вспышками осветительных ракет, смутно проступали из темноты, раздвигались и казались уже необъятными. И у Воронцова сдавило в груди: куда же мы, со своими тремя сотнями?..
— Вон они где.
— Высоко сидят, далеко глядят…
— Ой, гора-гора, гора высокая… — тихо пропел, не отрывая взгляда от склона, утыканного обрубками пней, командир первого отделения сержант Чинко.
Вокруг помкомвзвода, сбивая шаг, сразу образовалась теснота. Словно бойцы вдруг почувствовали, что сейчас сержант им скажет что-то такое, очень важное, что определит их судьбу. И тот действительно сказал:
— А знаете, братцы, как в окопах Зайцеву Гору называют? — Он помедлил, будто наперед зная, что никто не ответит на его вопрос. Снова посмотрел вверх, где посверкивали, оплавляя черные сучья деревьев, немецкие ракеты. — Высота смертников.
Долго потом шли молча.
То, что сказал сержант Чинко, подавило многих. Нехорошо задергалось и в груди Воронцова. Он отдавал себе отчет, в какую роту получил назначение и с каким взводом предстоит идти в бой. Знал, что бой есть бой. Без убитых не бывает. Знал и то, что у взводных на передовой век недолгий. Но так уж устроен человек, что среди людей, среди забот нет места мрачным мыслям. И даже смерть близкого тебе человека, с которым только что спина к спине грелся в окопе и таскал холодной ложкой кашу из одного котелка, помнится и переживается недолго. Но тут подумалось о многом. И сестры, и Улита, и Зинаида с ребятишками, и глаза Пелагеи припомнились вдруг, выступили из темноты, молча обступили, будто пытаясь защитить его от предстоящей опасности.
— Ой, гора-гора, гора высокая! А под горою той четыре сокола… — снова услышал он голос сержанта Чинко.
Сержантов Воронцов назначал после совета со своими заместителями. Но Чинко на должность помкомвзвода он определил сам. Он сразу приметил этого коренастого, лет двадцати пяти, бойца. Вокруг него на перекурах всегда образовывалась группа. И табачком Чинко делился с товарищами не скупясь. Хотя сам курил редко. Вроде как за компанию. В первый же день Воронцов расспросил его, как да что. История оказалась простая: 27 октября 1941 года батальоны 151-й мотострелковой бригады атаковали Большие Горки. Большие Горки — село под Наро-Фоминском. Батальон, в котором на должности командира стрелкового отделения воевал младший сержант Чинко, наступал, имея локтевую связь с кавалерийским полком. Кавалеристов подвели накануне, на усиление. Пошли в атаку. Немцы подпустили близко и открыли ураганный огонь. Чинко ранили в обе руки. «С того поля мало кто уполз назад, — рассказывал ему власовец. — Меня потащил мой земляк, мы с ним с одной станицы. Вместе призывались. Его — осколком. А меня подобрали немцы. Попал в лагерь, в Вязьму. А там… Из лагеря две дороги: в ров или в Хмелиту. Там, под Хмелитой, роту русскую формировали. Я и вызвался добровольцем. Все лето снаряды к передовой возили. А осенью послали на прочесывание лесов. Когда попали в партизанский район, установили связь с командиром одного из отрядов и перешли всем взводом. Месяц воевали в партизанском отряде под Дорогобужем и Всходами».
Выходило так, что с Чинко они воевали где-то совсем рядом. Только Воронцов прятался по лесам, бегал из деревни в деревню, а Чинко его искал.
— А ну, подтянись! Губин, что у тебя котелок болтается? Закрепи. А то я тебе его срежу к чертовой матери и в снег выброшу! — Чинко толкнул прикладом винтовки высокого бойца, у которого на ремне действительно что-то постукивало в такт шагу.
Лейтенанты шли позади, замыкающими. Воронцов приказал им подтягивать отстающих. Но взвод шел, не растягиваясь.
— Взвод у тебя непростой, — сказал лейтенант Гридякин. — Так что, если ты не против, я с вами пойду. Солодовникова я предупредил.
Бойцы топтались в рыхлом снегу, наступали друг другу на пятки, держа плотный строй.
Неужто в бой с нами пойдет? Зачем ему это? Но переспрашивать Гридякина он не стал. Хотя от одной только мысли, что в бой он поведет свой взвод под присмотром уполномоченного Особого отдела НКВД, ему становилось не по себе.
Уже слышался стук дежурных пулеметов. Вот продолбил черноту ночи размеренный «максим». А вот, откуда-то с фланга, торопливо истратил порядочный кусок ленты МГ. И — ракеты, ракеты, ракеты… Немцы не жалели на оборону своих высот ничего. Опустились в низину, заросшую ольхами и ельником. Здесь начинался ход сообщения.
— За мной, слева по одному, первое отделение вперед! — скомандовал он и спрыгнул в заснеженный ход сообщения.
Снег в траншее был уже притоптан. Первый и второй взводы уже ушли вперед. Воронцов бежал, придерживая в руках перед собой пахнущий смазкой ППШ с полным диском. Впереди мелькала спина в ватнике, перехваченном офицерской портупеей, — кто-то из заместителей Кондратия Герасимовича замыкал второй взвод. Позади — приглушенный топот сотен ботинок по мерзлой земле.
Еще в первые дни, когда Воронцов только-только получил свой взвод, во время первых же учебных пробежек перед холмом, он вдруг понял, что чувствует его, ощущает как часть своего тела. Что и в сержантах не ошибся. Что взвод управляем, мгновенно реагирует на его команды. Достаточно взмаха руки, чтобы цепь залегла и начала поотделенно, перекатами, прикрывая друг друга огнем, перекатываться вперед. Теперь он слышал кожей спины гул сотен его ботинок.
Воронцов оглянулся. Увидел лицо оперуполномоченного. Тот бежал за ним, не отставая, придерживая одной рукой сумку с дисками, а другой автомат. Воронцов увидел его глаза и выдохнул в морозный воздух:
— Передать по цепи: соблюдать осторожность, подходим к передовой.
И тут же лейтенант Гридякин передал команду дальше.
Наконец вышли к траншее. Набились в нее плотно, растворив и придавив в боковых щелях местных.
— Да вас не меньше батальона, — сказал Воронцову пожилой сержант, командир взвода, в траншее которого разместился третий взвод.
— Рота, — уточнил Воронцов.
— У нас в роте восемьдесят человек осталось. А во взводе — четырнадцать. Лейтенанта вон… Вчера… В тыл унесли, а видать, не жилец…
— Что, на высоту ходили?
— Да какой там? На высоту мы ходили первые дни. А потом выбило нас. Снайпер. Снайпер лейтенанта ссек. Не знаю, выживет ли. Разрывными бьет, сволочь. Как рассветет, головы не поднять.
Старший лейтенант Солодовников собрал всех в тесной землянке. В землянке было натоплено, пахло жилым, солдатским. Это, видимо, и был НП командира стрелковой роты.
— Атакуем на рассвете. — Ротный сделал паузу. — Сразу всем колхозом. Никакой артподготовки не будет.
Стало слышно, как с шипением горел кусок толстого брезента в сплющенной гильзе от «сорокапятки».
Вот тебе и на, без артподготовки… В горле у Воронцова пересохло.
— Бежать тихо. Огня не открывать до красной ракеты. Минные поля перед нами обезврежены. Так что проходы свободны. Проволока срезана снизу. Усиление будет двигаться следом. Артиллеристы и минометчики. Огонь откроют вместе с нами. Но у них тут четыре пулемета. Пулеметчики дежурят всю ночь. Так что, сами понимаете… Четырех как раз хватит на наши четыре взвода.
— Какие у кого предложения?
— Сымать надо пулеметы, товарищ старший лейтенант, — первым подал голос Нелюбин. — А так… Мы ж, товарищ старший лейтенант, и до проволоки ихней не добежим.
— Оно так, надо их как-то обезвредить до начала атаки. — Лицо ротного было бледным, на скулах бугрились, ходили туда-сюда напряженные желваки. — Сейчас, пока не рассвело и есть час-другой до начала атаки, выделите от каждого взвода по одной группе с задачей: переползти через болото, подняться на скаты и уничтожить пулеметы. Задача ясна?
Лейтенанты молчали. То, что придется наступать без предварительной артподготовки, противоречило всем уставам. К тому же, отрабатывая в тылу атаку на высоту, они учитывали в первую очередь то, что наступать предстоит по местности, обработанной огнем артиллерии и минометов. А теперь выяснилось, что никакой артподготовки не будет. Да еще пулеметы…
Ротный вдруг повернулся к капитану, командиру стрелкового батальона, и спросил раздраженно:
— А что, с пулеметами нельзя было решить раньше?
— Приказа такого не поступало, — спокойно ответил капитан. — Да и не подойти к ним. В третьей роте раз полезли. «Языка» хотели взять. Пятерых на проволоке оставили. Сходили…
— И что ж нам теперь, на пулеметы лезть?
— Так у вас контингент какой…
— А какой у меня контингент, капитан?! — вскинулся ротный, и губы его побелели.
— Известно, какой. Вон, говорят, власовцы да полицаи.
— Эх, капитан… — стиснул зубы старший лейтенант Солодовников. — У этих власовцев и полицаев, между прочим, тоже матери и жены есть. А кое у кого и дети малые. Сейчас они никакие не власовцы, а обыкновенные бойцы Красной Армии. Они ж завтра к тебе в роту придут. Как ты с ними воевать будешь?
— Это вряд ли, — хмыкнул капитан.
— Что, вряд ли? Думаешь, не придут?
— Вы ж сейчас на пулеметы пойдете. Мы туда уже сходили раз, знаем, чем это кончается. — Капитан махнул рукой. — Ладно, Солодовников, об этом я с твоим замполитом поговорю. Давай о деле.
— Твое дело, капитан, второе. Ты ведь свой батальон в прорыв поведешь?
— Так точно.
— А прорыв еще надо сделать. — И старший лейтенант Солодовников демонстративно повернулся к своим взводным. — Ну что, лейтенанты? Орлы мои. Вон вас сколько! Да я бы с вами одними траншею взял, если бы не пулеметы! А? У кого какие мысли есть? Быстро выкладывай. Воронцов, ты, я вижу, о чем-то задумался.
— Есть одна задумка, товарищ старший лейтенант. — Воронцов встал, отодвинул назад ящик. — Если подобрать четыре группы, которые еще до начала атаки скрытно подберутся к пулеметным позициям на бросок гранаты, то и ракеты пускать не надо. Они должны будут забросать гранатами пулеметчиков в самый момент начала атаки, когда увидят нас возле проволоки. Раньше в траншею пусть не лезут. Даже там, где это возможно. Поднимут шум, начнется переполох… Сорвут атаку. А так — разом, гранатами. Людей таких, я думаю, подберем.
— Да где ты, лейтенант, подберешь таких людей! — Капитан засмеялся нервным смехом, закурил. Его уязвило, что младший по званию и должности распоряжался на его КП. Но по неписаному закону войны он, капитан, комбат, должен был терпеливо слушать ротного, потому что в бой в первом эшелоне идти ему. — Дело, конечно, ваше…
— А ты что, капитан, — снова повернулся к нему ротный, — думаешь отсидеться в своей траншейке? Если нас на скатах положат? Хрен ты отсидишься. Батя всех вперед погонит. Так что зря ты заранее свою кашу к себе отгребаешь… А людей мы таких найдем. Давайте быстро к своим взводам. Отберите по пять-шесть человек. Каждую разделите на две группы. Пусть ползут одновременно, одна за другой. Если попадет под огонь одна, другая ее должна заменить в нужный момент. Все. Выполняйте!
Глава тридцать шестая
Один из пулеметов через каждые двадцать минут отстукивал длинную очередь как раз напротив затаившегося в траншее внизу, за болотом, третьего взвода.
— Ну что, Чинко, справишься? — Воронцов еще раз обошел вокруг группы бойцов, осмотрел их снаряжение. — Подползите на бросок гранаты. Взрыватели вставите на месте. Но чтобы там не копошились. Подползите и замрите. Не бросайте гранату через кусты. Найдите для броска свободный коридор. Чтобы — никакого срыва. Ваша жизнь — в ваших руках.
— Да там все пусто, товарищ лейтенант. Давно все вырублено. — Сержант Чинко смотрел на него спокойным взглядом.
— Хочу, чтобы все знали: выполните приказ, сразу же после боя подам рапорт о вашем досрочном переводе в стрелковый полк. Кто погибнет… — Воронцов сделал паузу. — Семьям погибших сам напишу домой. Так и напишу: смертью храбрых…
Никто ему ничего не ответил.
— Спасибо, товарищ лейтенант, и на том, — сказал тихо Чинко. — Но теперь все в руках божиих. Надеюсь, что мы у бога не самые последние негодяи. Пошли, ребята.
Шестеро бойцов, один за другим, перекатились через бруствер и вскоре исчезли в пространстве ночи. Лишь когда на скате взмывала вверх осветительная ракета, расплескивая свой мертвенно-белый свет, Воронцов видел удаляющиеся в сторону болота тени.
Всем шестерым он приказал поменять шинели на телогрейки. Пришлось раскулачить местных — забрали у них маскировочные халаты. Старенькие, уже порванные, замызганные, они все же служили свою службу. На снегу, в десяти шагах, группа растаяла в темноте. И только очередная ракета обнаруживала ушедших на нейтральную полосу.
— Дронов, поведете первое отделение.
— Есть повести первое отделение! — ответил младший лейтенант.
К атаке все было уже готово. Где-то позади, где сосредоточивались минометчики и расчеты дивизионных пушек, храпели кони и натужно скрипела упряжь. Что-то там постукивало, позвякивало. Немецкий пулемет отгрохотал дежурную очередь, замер на мгновение и снова повел трассирующим жгутом по брустверу траншеи.
— Пулемет у них «на колышек» пристрелян, — сказал один из местных бойцов. — Может и ночью голову снести, если неурочно высунешься.
— Артиллеристы, ектыть, — в сердцах бранился младший лейтенант Нелюбин. — Ну не могут тише!
Вскоре от артиллеристов пришел связной. От каждого взвода для того, чтобы справиться с орудиями без лошадей, надо было выделить по три человека.
Нелюбин выделил тех, кто был истощен менее других. Степан, Золотарев и еще четверо из пополнения ушли через болото, к пулемету. И теперь Нелюбин, да и весь взвод, молились за них.
— Знайте, ребятушки, — напутствовал их взводный, — наши жизни идете выручать. Живы будем, детей наших научим молиться за вас. А нет, так скоро встренемся. Ступайте.
Степан полз в первой тройке. Следом за ним сопел, загребая снег руками и ногами, Золотарев. Ракеты оставляли в небе электрическую вспышку и черный след копоти. Надо было успеть до очередной вспышки проползти хотя бы шагов пять-шесть. Возле колючки лежали трупы, наполовину заметенные снегом. Степан почувствовал толчок в подошву ботинка. Оглянулся. Торопливо подполз Золотарев.
— Слышь, старшой. Смотри, сколько валенок кругом. Прикажи переобуться. Ноги отнимаются.
— После боя, Золотарев. После боя.
— Старшой.
— Ну?
— А сейчас там нашим, в траншее, водку будут раздавать. Перед атакой. А нам — облом. Несправедливо.
— Я свою пайку после атаки тебе отдам.
— Правда, что ль? Вот за это спасибо.
Ракета отгорела, тьма снова легла на белое поле. Подползли к проволоке. Нижние ряды были срезаны и заведены к кольям. Штрафники тут же нырнули вниз. Болото только-только начало замерзать. Ледок и кочки под их телами так и дышали. Степан пропустил Золотарева вперед, подождал вторую тройку.
— Шитов, давай назад. Скажи Нелюбину или ротному — я прислал. Передай ему: по болоту не пройти, лед слабый. Только — ползком. Так что пусть ползут до проволоки и дальше метров тридцать-сорок, до крайних берез. Если раньше поднимутся, потопят немцы роту в болоте. Понял? Давай.
До начала атаки оставалось не больше часа. Как раз чтобы добраться до немецкой траншеи. Вот только как туда добраться? Ракеты серебряными струйками выскальзывали из-за обрубленных стволов берез и распластывались в черном небе ослепительными кометами. Черт бы их побрал. Степан заметил, что «фонари» вверху взлетают из одних и тех же мест и что пулеметчик в окопе сидит хитрый: стреляет бессистемно, то длинными, то короткими очередями. Пули не трассирующие, а обычные. Так что, куда он палит через каждые двадцать минут, не понять. Взводный сказал, что ночью немцы занимают окопы по всей ширине. Возвращаются из ближнего тыла все: и минометчики, и стрелки, и расчеты противотанковых орудий. Так что сейчас они там, в траншее, в блиндажах. Все. Полный штат у них там. Везде выставлены часовые и наблюдатели. Только и ждут, когда к ним полезут вверх из русской траншеи.
Когда миновали болото и выползли к березовым пенькам, двоим Степан приказал остаться:
— Еремченко, если мы не сможем, заходите с двух сторон и забрасывайте пулемет гранатами. Другого приказа не будет. Ну, бывайте здоровы.
— Удачи, сержант.
Золотарев полз впереди. За ним Зикун. Степан — замыкающим.
— Впереди — мины. Здесь наших саперов не было. Так что прощупывайте перед собой каждый сантиметр.
Пулемет снова расколол ночную тишину. Второй дежурил правее, где-то напротив первого взвода. Значит, две другие группы двигались на ощупь. В траншее, перед выходом, им указали примерные ориентиры, и они поползли на них вслепую. Гранаты будут бросать, когда пулеметы заработают. Но это не значит, что пулеметчики на тех позициях спят. Не спят. Дежурят. Смотрят вниз. Слушают. Просто не обнаруживают себя. До поры до времени.
До траншеи осталось шагов сорок. Золотарев, ползший первым, вдруг замер. Поднял руку. Мина, догадался Степан. Вряд ли форточник разбирается в немецких минах. Он подполз к нему. Шепотом:
— Где?
— Я ее держу, старшой. — Шепот Золотарева дрожал.
— Тихо. Дай ее мне. Отпускай. Не бойся.
— Пальцы прилипли. Не отдеру.
Степан нащупал ребристый цилиндр корпуса мины. А вот и взрыватель. Шпрингминен. Самая паршивая сука из всех сук… Взрыватель не поворачивается. Или примерз, или заржавел…
— Золотарев, — зашептал Степан, — погрей мне руки. Надо взрыватель выкрутить.
— Брось ты его. Давай обползем ее.
— Уже не могу. Надо выкручивать.
Руки Золотарева были теплые. Снег под ними таял. И пальцы Степана вскоре отогрелись, стали послушными. Он начал расшатывать взрыватель, и тот поддался, пошел, зашуршал…
Пулемет расколол тишину, как всегда, внезапно. Но никто из них не вздрогнул и даже не оглянулся на его секущееся, клочковатое пламя. Ракета описала свою привычную траекторию и погасла. Но следом за ней взлетела другая. Ракеты взлетали из другого окопа. Иногда немец их пускал веером, в разные стороны, и тогда «фонари» неожиданно зависали на девять секунд не там, где их, возможно, кто-то ждет.
Степан пополз вверх. Теперь ползти стало труднее. Стаскивало вниз. С каждым метром подъем становился круче. Степан почувствовал, как испариной покрывается лоб. Пробрались… Кажись, пробрались… Неужели пробрались?..
Когда погасла очередная ракета, Степан поднял руку и махнул дважды, что означало: залечь и не двигаться. Замерли. Ракеты передвигали вокруг них резкие, будто из картона вырезанные, тени. Каждый раз одинаковой конфигурации и по одному и тому же маршруту. Степан прикрыл глаза, чтобы не видеть их больше. Но это не помогло, черные горбатые тени, как и мгновение назад, ползали по искрящемуся снегу, и от них мурашки бегали по спине.
…По траншее понесли долгожданную канистру. Последние два-три дня в роте только и говорили, что о «подъемных». Некоторые шутники-мечтатели делали предположения, что будут наливать не по сто, как обычно перед боем, а по сто пятьдесят и даже по двести граммов, — ввиду важности поставленной задачи.
— Давайте, ребята, у кого что есть. Подставляйте.
Под струю, от которой шибало морозным спиртовым запахом, подставляли кто котелок, кто кружку. Тут же пили, задыхались, закусывали кто горстью снега, кто припасенным сухарем, кашляли и крякали от удовольствия. Никто не разговаривал. Только местные покуривали, сбившись в просторных ячейках, и тихо перекидывались редким ненужным словом. Им сейчас не вылезать из траншеи, не бежать к болоту. Пусть эти, штрафные, теперь туда сбегают. А они уже два раза… Половина роты там лежит, под кольями. Никаких «подъемных» не надо.
— Командиры взводов — к командиру роты, — передали по цепи.
Старший лейтенант Солодовников посмотрел на них из-под сдвинутых бровей. Он сидел в жарко натопленном блиндаже, не снимая шапки, весь перепоясанный ремнями, и от него, как и от лейтенантов, пахло морозом и окопом.
— Ну что, товарищи лейтенанты, кажись, не последние мы у бога сукины сыны. А? Прошли наши группы. Из второго взвода вернулся один боец, передал, что за проволочным заграждением — болото. Живое. Хвать его за душу… Не пройти. Ползти надо. А поэтому ползти придется отсюда. Отсюда и до склона. На пузе надо, товарищи лейтенанты, болото переползать. Так что тихо пойдем. Если получится. И почему ни разведка, ни саперы не сообщили, что болото не замерзло? Если не получится, по моему сигналу поднимайте людей и — вперед. Приказа на отход не будет. Сам из пулемета всех положу. Вопросы есть?
Вопросов не оказалось.
— Выдвигаемся через десять минут. Сигнал — две короткие очереди из дежурного «максима». Все лишнее оставить в траншее. Все. Давайте к людям.
Воронцов бежал по траншее, спотыкался. За ним, в темноте наскакивая друг на друга, чертыхаясь и смеясь, бежали младшие лейтенанты. Для некоторых из них предстоящая атака станет первым боем. А для кого-то, может так случиться, и последним. Передал по цепи приказ. Приказ приняли молча. Никто вопросов не задавал. Начали торопливо перекладывать вещмешки, укутывать в запасные портянки, выданные как полотенца, котелки, гранаты, взрыватели — чтобы не гремели. Некоторые, кто уже побывал в боях, гранаты рассовывали по карманам. На спину, чтобы не мешали ползти, сдвигали подсумки.
Воронцов дрожащими пальцами потрогал в кармане шинели створку складня. Попытался вспомнить молитву курсанта Краснова, которую тот читал всегда перед боем. Нет, ничего не приходило на память, ни единого слова. Все из прошлого будто потонуло в нарастающем гуле крови в висках: сейчас… сейчас… сейчас… Нет, к этому привыкнуть нельзя. Сколько раз он уже поднимался. Сколько раз шел под пулями. Спокойно, спокойно… Теперь ты идешь в бой офицером, заклинал он себя. Да и вставать не надо. Надо тихо ползти вперед. А там… Он побежал по траншее, повторяя одну и ту же фразу:
— Кашлять в шапки! Кашлять в шапки! Кашлять в шапки!
— Да мы там, на горке той, откашляемся, товарищ лейтенант, — ответил боец из четвертого отделения, которого Воронцов приметил еще во время учебных атак — Пескарев. Веселый парень. Чем-то Степана напоминал. Степан, как в плену побывал, да в отряде Радовского послужил, будто позабыл свои шутки-прибаутки. А этого, видать, ничто не взяло. Воронцов знал, что Пескарев и плен пережил, и в карательном отряде успел послужить. И, между прочим, где-то под Вязьмой партизан из лесов вычесывал. Значит, и по его, Воронцова, следу ходил. Но с сержантом Чинко он компанию не водил. Что-то стояло между ними.
Простучали, отчетливо отстреливая каждый патрон, две короткие очереди.
— Ну, Сашка, пошли, — услышал Воронцов голос лейтенанта Гридякина.
— Пошли, Коля. — И сказал бойцу, который стоял рядом и напряженно всматривался через бруствер, словно пытался увидеть свою судьбу: — Передать по цепи: ползком — вперед!
— Вперед!
— Вперед!..
— Пошли, мужики! Вперед!..
Взвод продвигался вперед двумя колоннами на сокращенных интервалах. Впереди — лейтенанты. Сзади, замыкающими, — сержанты.
До кольев доползли быстро. Пролезли под проволоку. Дальше начиналось болото. Когда взлетали ракеты, Воронцов видел, как курились парком черные полыньи. Болото широкое, брода не видать ни справа, где продвигался четвертый взвод, ни слева, в полосе взвода Нелюбина.
Все пока шло хорошо. Немцы их до сих пор не обнаружили. Если даже сейчас проснутся пулеметы, ребята забросают их гранатами. А двух-трех минут, пока немцы выскочат из блиндажей и займут свои ячейки, им вполне хватит, чтобы перебраться через болото.
Воронцов придерживал на руках пахнущий смазкой автомат. Противогазная сумка с дисками, подтянутая под мышку, легко тащилась по шершавому льду рядом. Иногда Воронцову казалось, что она ползет сама по себе. А вот и берег. Воронцов привстал на колено, оглянулся. Ракета погасла. Скат погрузился во тьму. Воронцов махнул автоматом, торопя бойцов. Часть взвода еще копошилась на середине болота, обтекая черные дымящиеся полыньи. Рядом тяжело дышал лейтенант Гридякин. Надо же, время от времени оглядывался на него Воронцов, тоже полез.
— Зачем вам это? — шепотом спросил Воронцов, наклонившись к лицу Гридякина.
— Ты, Сашка, знай занимайся своим делом, а я буду заниматься своим.
В черное небо взлетели сразу три ракеты, за ними еще три. И тотчас ударили сразу три пулемета. Трассеры уходили в строну болота, где еще копошились отставшие. И сразу же захлопали вверху гранаты.
— Вперед! — заревел где-то совсем рядом ротный. — Живей, ребята! Хвать ее в душу!
— Впере-о-о-о!..
— А-а-а-а!..
Скат сразу ожил и пополз вверх. Никто пока не стрелял. Немецкая траншея молчала. Но вот внезапно ожил один из пулеметов. Длинными очередями он расстреливал почти в упор карабкающихся по склону людей. Больше всего доставалось первому взводу. Значит, там разведчики не сработали. Либо ошиблись с направлением, либо далеко залегли и не добросили гранаты. Защелкали винтовочные выстрелы, застучали немецкие автоматы. Вал встречного огня усиливался с каждой минутой. Но тут из-за болота ударили прямой наводкой орудия поддержки и минометы. Мгновенными вспышками им ответили немецкие орудия прямой наводки, замаскированные на горе. Артиллеристы схватились в кинжальной дуэли.
Воронцов карабкался вверх, падал, делал короткую очередь, тут же откатывался в сторону, вскакивал и карабкался дальше.
— Вперед! Встать! Всем — вперед! — кричал он, оглядываясь на взвод.
В какое-то мгновение справа, шагах в десяти, он увидел своего замполита Саенко. Тот поднимал залегших бойцов, тыкал их стволом автомата.
— Саенко! Дронов! Поднимайте всех! Вперед!
Откуда-то сбоку выкатилась белая тень с оскаленным от крика лицом и винтовкой с примкнутым штыком.
— Чинко! Живой! Молодец! Где ребята?
— Все убиты!
— А ну давай — пару гранат туда! — И Воронцов указал автоматом в сторону бруствера, над которым колыхались каски и откуда стреляли автоматы.
Через мгновение туда полетело несколько гранат. Воронцов зубами выдернул чеку, разжал пальцы, отпустив на свободу скобу взрывателя. Легкий щелчок он скорее почувствовал, чем услышал. На ходу бросил ребристое тяжелое тельце Ф-1, стараясь перекинуть его через бруствер. Взрыва он не услышал и не увидел. Мины минометов усиления рвались уже в глубине обороны немцев. Там что-то вспыхнуло и загорелось, и на фоне пожара очертания горы стали еще чернее. Черные каски вверху над абсолютно черным бруствером стали редеть. Неужели они отходят? Значит, получилось.
Левее уже началась свалка в траншее. Ворвались либо нелюбинцы, либо первый взвод. Теперь им, третьему и четвертому, станет легче. Немцы наверняка переместились туда, чтобы выбить ворвавшихся из своих окопов. Штрафников четвертого взвода, залегшего на склоне, длинными очередями поливал пулемет. Цепь копошилась на месте. Кричали и выли раненые. Матерились лейтенанты. Ракеты взлетали в небо гроздьями. Огненные хлопки орудийных выстрелов чередовались с взрывами снарядов и мин. Артиллеристы добивали ПТО прямой наводки, которые немцы имели по всему периметру траншей. И в это время сзади, за болотом, за траншеей, в которой штрафники несколько минут назад ждали сигнала атаки, загудело, завыло, и десятки огненных трасс, пронзая черное небо, устремились вверх. Ревущие кометы перелетали через гребень высоты, завершали там свою заданную траекторию и рвались в глубине немецкой передовой линии. От неожиданности взвод залег. Исчезли и каски над бруствером вверху.
— «Катюши»!
— Это же наши долбают!
— Вперед! — закричал Воронцов. — Последний бросок — бегом!
— А-а-а! — закричали справа и слева.
Рядом с Воронцовым карабкался лейтенант Гридякин. Он тоже что-то кричал и стрелял вверх из своего автомата. Воронцов ухватился за высокий пень, подтянулся, уперся в него ногой и прыгнул вперед. Мимо, обгоняя его, пронеслась трасса разноцветных пуль и рассыпалась среди изрубленных деревьев, где виднелись мелькающие фигурки — немцы. Они отходят! Но тут же, из-за бруствера, до которого оставалось шагов семь-восемь, полыхнула другая, встречная, пронеслась над плечом, так что Воронцова инстинктивно поманило к земле. Хлопнул под ногами запал ручной гранаты. Воронцов перескочил ее и через минуту перевалился через бруствер. Сзади его толкнули. Он упал вниз головой. Почувствовал под собой чье-то тело. Оно было еще живым, пахло потом и свежей перевязкой. Воронцов вскочил на ноги. На дне траншеи, привалившись спиной к плетню, которым были укреплены боковые стенки окопа, сидел немец и смотрел на него. Он тяжело, с хрипами, дышал, прижимая к забинтованной груди руки. Немец смотрел на него спокойным взглядом человека, готового ко всему. И в это время на Воронцова откуда-то из боковой ячейки прыгнул другой немец, сбил с ног и начал душить. Воронцов напрягся, с силой оттолкнул его ногами. На того тут же навалились двое — Чинко и Гридякин.
— Пулемет! — закричал Воронцов. — Где пулеметчик? Саенко! Дронов! Живо, своих пулеметчиков! — И он указал в сторону вырубленного снарядами березняка, где немцы, видимо, отступившие во время внезапной атаки штрафников, перегруппировывались и уже развертывались в цепь.
А в самой траншее еще шла драка. Саперные лопаты и приклады рубили и проламывали каски. Кололи штыками. Ползали на четвереньках, волоча за собой перебитые руки и ноги. Кричали нечеловеческими голосами. Матерились.
Два «максима» без щитков тут же установили по флангам и ударили по березняку. Но оттуда уже летели гранаты. Один из пулеметов сразу же потонул в разрывах. Другой продолжал кромсать накатывающуюся на траншею цепь. Раненые и убитые падали в снег. Живые тут же отползали назад, в сторону березняка. А остальные продолжали с криком бежать вперед. Встречный огонь был слабым. Штрафники, ворвавшиеся в первую траншею, еще не опомнились. У кого заклинило патрон в патроннике, забитом снегом и землей во время броска к траншее и рукопашной. Кто не успел перезарядить и копошился, пытаясь дрожащими руками загнать в магазин новую обойму.
— Огонь! — кричали лейтенанты.
Гридякин заменил диск и стрелял длинными очередями.
Остановить контратакующих перед траншеей взводу все-таки не удалось. Снова началась рукопашная. Несколько штрафников выскочили из траншеи и прыгнули вниз.
— Назад! — Воронцов перекинул автомат, выпустил очередь поверх голов.
Вернулись они назад или покатились дальше, вниз, Воронцов уже не видел. Черная тень перемахнула через колья плетня, на мгновение закрыв перед ним все. Он наугад сбоку ударил ее прикладом. Тень рухнула рядом. Скользнул по плечу штык и воткнулся в противоположный плетень. Воронцов выхватил из-за сапога нож и бил им до тех пор, пока не почувствовал, что тело обмякло и уже не сопротивляется его ударам.
— Саенку закололи, — услышал он над собой голос лейтенанта Гридякина.
— Где сержанты? — спросил он, осмотревшись и поняв, что и на этот раз отбились. — Дронов, ко мне! — закричал он.
Подбежал младший лейтенант Дронов.
— Что с Саенко?
— Убит, — ответил Дронов. — Наповал.
— Обойди правый фланг, проверь стык. Узнай, что там в четвертом? Я — на левый. Если кто убит из сержантов, назначь новых. Уточните наши потери.
— Что делать с ранеными, товарищ младший лейтенант? — спросил сержант Чинко.
Что делать с ранеными? Ротный ничего не сказал.
— Всех перевязать. Кто может идти, пусть идут своим ходом. Тяжелых пока сложите в блиндаже. И вот что, Чинко, посмотри там пулемет. Не сильно ты его изуродовал?
— Ребята уже смотрят. Вроде работает. Патронов навалом.
— Это хорошо.
Подбежал Гридякин:
— Ну что, Сашка? Почему сидим тут? Ждем, когда нас контратакуют? Надо дальше наступать!
— Приказа не было. Иду к ротному.
— Понял. Скажи, что мне делать?
— Младшего лейтенанта Саенко убили. Если сейчас пойдем дальше, я стану в середине, а вы с Дроновым по флангам. А пока проверь пулеметы.
— Есть, товарищ младший лейтенант! — Гридякин улыбнулся. Лоб его был разбит, но кровь уже присохла.
Глава тридцать седьмая
Во взводе Нелюбина потерь оказалось больше. Воронцов шел по ходу сообщения, перешагивал через убитых. Бойцы уже расчищали траншею, складывали в ячейках своих убитых. Снимали с них вещмешки с патронами, гранатами и сухим пайком.
— Ну что, Иван Матвеич, — хлопотал возле одного из убитых пожилой боец в разорванном ватнике. — Вот и взяли мы их. Вот и искупил ты, земляк, перед родиной… Нету у тебя теперь никакой вины.
— Где командир взвода? — спросил бойца Воронцов.
— Там. — Боец устало и, как показалось Воронцову, безразлично махнул рукой вдоль траншеи. — Там он. Сержанта ранило. Так он с ним.
— Стукалина? Сержанта Стукалина? Ну, что молчишь, боец?
— Кажись, его. Разведчика. Шустрый такой…
Воронцов побежал вперед, расталкивая бойцов.
— Там они, — кивнул ему на вход в блиндаж санинструктор. — Я ему уже ничем помочь не могу. А работы много…
Воронцов спустился по земляным ступенькам в блиндаж. На топчане лежал Степан. Он тяжело дышал. Смотрел неподвижными глазами в бревна накатника. В другом углу, сгрудившись над столом, сидели офицеры. Слышался голос старшего лейтенанта Солодовникова. Среди офицеров Воронцов увидел артиллериста и еще кого-то из связистов.
— Воронцов, давай сюда. Какие у тебя потери? Докладывай. — Ротный махнул ему рукой. — План твой оказался верным. Буду писать на тебя реляцию. И ворвался твой взвод хорошо. И контратаку отбили. На тебя все кинулись. Какие у тебя потери?
— Сержанты сейчас подсчитывают.
— Да мне примерно. Чтобы знать, чем мы располагаем.
— Думаю, человек десять потеряли. Если считать раненых, то еще человек восемь.
— Раненых придержи в траншее. Не отправляй пока в тыл. Только — тяжелых. Ты что, Воронцов, квелый такой? — Голос старшего лейтенанта Солодовникова доносился как из тумана. — Ранен, что ли?
— Нет, Андрей Ильич, со мною все в порядке. Разрешите мне с другом поговорить?
Сидевшие вокруг стола затихли.
— Да, да, вы ведь вместе выходили… Молодец твой Стукалин. Пулемет вывел из строя первыми же гранатами.
— Что с ним?
— В траншее уже… Очередь из автомата. Прямо в грудь. Фельдшер сказал, что в тыл нести бесполезно. Вот такие дела, взводный. Так что прощайся с другом и давай сюда.
Воронцов взял руку Степана. Лицо его сразу вздрогнуло.
— Ну, как ты, Степ? Я ротного попрошу, чтобы в тыл тебя отнесли. А?
— Спасибо, Сань. — Степан говорил с трудом, медленно разлепляя спекшиеся черные губы. — Помнишь, как мы… наша Шестая… на речке той…
— Тихо, тихо, молчи. Тебе больно?
— Сань, в кармане у меня письмо от матери. Старое… прошлогоднее… Адрес на нем обратный… Не хочу под чужим именем…
— Хорошо, Степ, ты только не переживай. Все сделаю. Будем жить, Степ! Будем жить!
Ротный снова позвал Воронцова.
Степан шевельнул губами:
— Не оставляй меня, Сань. Умирать скоро… Боюсь один остаться… А там… там не боюсь… Там нас много…
— Я с тобой, Степ. С тобой. Ты, может, хочешь чего? Пить хочешь? У меня и водка есть. — Воронцов достал из кармана трофейную фляжку, потряс ею.
Степан снова шевельнул губами. Голос его уже стал совсем тихим. Воронцов наклонился к нему и услышал:
— Сань… устал… Ох, как я устал…
Через двадцать минут, когда на гору заволокли три 76-миллиметровые пушки и минометы, рота снова пошла в атаку.
Связисты тащили катушки с проводами. И спустя некоторое время старший лейтенант Солодовников уже кричал в трубку со своего передового НП:
— Первый! Давай огня! Где батальоны?
— Дуй вперед и не оглядывайся! — слышал он в трубке возбужденный голос полковника Колчина. — Твое дело — выйти на шоссе, оседлать его и отрезать их к чертовой матери!
— Я и иду! Иду, товарищ Первый! Но у меня оголенные фланги!
— От твоих флангов я их сейчас отгоню минометным огнем! Так что не бойся! Вперед! Какие потери?
— Большие, товарищ Первый. Семьдесят пять человек выбыло из строя. Тридцать два — безвозвратные.
— Лейтенанты?
— Трое.
— Убиты?
— Двое ранены. Эвакуированы в тыл. Один убит.
— Этот-то, курсант, как себя ведет? Не зря я его водкой поил?
— Воронцов?
— Да, он.
— Младший лейтенант Воронцов действует храбро и уже отличился при штурме траншеи и отражении контратаки. После боя буду ходатайствовать о награждении его орденом.
— Готовь, Андрей Ильич, представление. Я подпишу. И на всех, кто отличился. А младшему лейтенанту скажи об этом. Пусть старается, землю когтями рвет.
— Да он и так рвет, товарищ Первый.
— Боеприпасов мы вам подбросим. Держитесь. Скоро пойдут батальоны. Все. Конец связи.
Старший лейтенант Солодовников положил трубку на рычаг, вспомнил капитана, который сидит сейчас внизу, под горой, в своем теплом блиндаже…
— Скоро пойдут… Скоро… Это когда? Когда у меня от роты взвод останется? Хер ты, Илья Митрофанович, их с места сдвинешь, свои батальоны. Они по взводу бросят на пулеметы, положат на проволоке по десятку людей и назад отведут. Захлебнулась атака! Что ты тут сделаешь? Хвать ее в душу! — Так рассуждал сам с собой командир штрафной роты старший лейтенант Солодовников. Уж он-то воробей битый, знал, что почем на войне. Он бы и сам, будь у него простая стрелковая рота, без основательного усиления и без обеспечения флангов не полез бы на скаты. Так, потоптался бы внизу и — ползком, с кровавыми соплями, назад.
В следующее мгновение справа и слева все потонуло в черных взрывах. Батя не обманул, подбросил огоньку. А через минуту зазвонил телефон:
— Пошли батальоны, Андрей Ильич. Встречай. Ты скажи вот что: до второй траншеи дошел?
— Дошел. Третий взвод ворвался и ведет рукопашный бой. Четвертый пытается атаковать минометную батарею. Второй и первый прижаты сильным огнем с флангов. Еще бы туда огоньку.
— Дадим. Третий — это кто у тебя?
— Власовцы. Воронцов. С ними лейтенант Гридякин ушел.
— Зачем? Не его это дело, в атаку ходить. Зачем ты его отпустил?
— Останови их… Молодые, ретивые. Дело пошло… Азарт…
— Срочно отзови его на свой НП! Отзови, слышишь? Скажи: Колчин приказал срочно выйти из боя! Ранят, не дай бог, а то еще и убьют, затаскают тогда нас с тобой. Сами в штрафбат пойдем. Пленные есть?
— Нет пленных.
— Как нет? Траншею взяли и пленных нет?
— Не берут они пленных.
— Вот и прикажи Николаю, чтобы организовал захват пленных, и пусть с ними возвращается назад. Жду его здесь, внизу. Я — на НП Второго. Ты меня понял?
— Все понял, товарищ Первый.
Прибежали связные:
— Третий в траншее! Большие потери!
— Второй пытается атаковать! Четвертым отделением уже ворвался! Идет рукопашный бой!
— В первом большие потери! Прижат плотным огнем пулеметов. Бьет снайпер! Есть потери от огня своих минометов!
— Четвертый двумя отделениями зацепился за траншею! Большие потери! Убит младший лейтенант Никонов! Ранен младший лейтенант Тимошкин!
Из второй траншеи немцев они через минуту-другую выдавят. Изрубят саперными лопатками самых упорных и займут вторую линию. Но после этого надо ждать контратаку немцев. И судя по тому, как они пролезли узким клином, не обеспечив флангов, на этот раз немцы контратакуют не так, как час назад. Было бы слишком примитивно с их стороны…
Уже рассвело. Воронцов и не заметил, как всплыло над дальним лесом, над верхушками не тронутых снарядами берез оранжевое солнце. Вдруг спохватился, что не взлетают ракеты. Да и вообще тихо стало кругом. Немцы притихли. Наших не слыхать. Первая мысль: где батальоны? Почему не слыхать боя на флангах? Там сейчас должна стоять пальба и дыбом вставать земля! Значит, не пошли батальоны?
Приполз связной с НП командира роты:
— Донесение лейтенанту Гридякину! Кто из вас лейтенант Гридякин?
— Я. — Гридякин открыл глаза. — Давай, что там у тебя.
Связной передал записку. Гридякин прочитал ее и порвал.
— Скажи ротному, что приказ будет выполнен. Можешь быть свободным. — И лейтенант Гридякин снова закрыл глаза.
Левая ладонь его была перевязана. Когда прыгал во вторую траншею, немец встретил его на штык. Гридякин машинально выбросил вперед руку, и штык проткнул ладонь. Сейчас, после второй траншеи, он выглядел ничуть не лучше штрафников. Вот почему связной не сразу разглядел его среди бойцов. В оборванной шинели, с закопченным лицом, кровоподтеком на скуле, разбитым лбом и рассеченной губой. Теперь он дремал, прижавшись к пулеметчику.
Воронцов обошел свой взвод. Бойцы провожали его молчаливыми взглядами. Послушные и безропотные в бою, они во время отдыха не досаждали своими вопросами и просьбами. Будто все знали наперед, смирившись со своей судьбой и готовностью свою чашу нести до конца.
— Чинко, — окликнул он помкомвзвода, — раненые до сих пор не отправлены. Почему?
Взгляд у сержанта Чинко спокойный. Будто и не было двух рукопашных. Голос тоже:
— Снайпер бьет, товарищ младший лейтенант. Сами видите, что делается. Дождемся темноты, отправим. Ребята потерпят.
В строю из семидесяти пяти человек оставалось тридцать восемь. Тридцать девятым был лейтенант Гридякин.
— Дронов, оба пулемета — на фланги. Пусть заряжают диски.
— Они уже заряжают, — ответил зам по строевой.
Трупы немцев бойцы выбросили из траншеи, образовав с западной стороны бруствер. Теперь сидели в ячейках и делили трофеи, щелкали зажигалками, курили в рукава, посмеивались друг над другом. Обычная реакция после атаки. Живые вспоминают что-нибудь смешное. О мертвых не говорят. Мертвым уже ничего не нужно, они даже покурить не просят.
— Чинко, откуда бьет снайпер?
— Да кто ж его разберет. Лупит на каждое движение. Двоих уже в блиндаж унесли.
— Ты МГ освоил?
— Да я его давно освоил, — признался Чинко тем же спокойным тоном.
— Стреляешь хорошо?
— На сто шагов в середину корпуса не промахнусь.
— Тогда слушай меня внимательно. По фронту снайпер огонь не ведет. Как правило, стреляет с фланга. Я сейчас высуну каску, а ты понаблюдай. Постарайся засечь вспышку выстрела. — Воронцов протянул сержанту бинокль.
— Не нужен мне никакой бинокль. У меня глаза хорошие.
— Когда увидишь вспышку, молоти по тому месту, пока ствол не перегреется. Кончится лента, спрячь голову и лежи, не высовывайся.
Воронцов подобрал винтовку с разбитым прикладом, надел на нее каску, валявшуюся под ногами, и поднял ее на четверть над трупом немца. Затем он шевельнул труп, подтащил его к себе. Пусть снайпер подумает, что русские продолжают обшаривать убитых. Опустил каску и снова приподнял. И в это мгновение пуля щелкнула по каске, так что та отлетела в глубину траншеи. И тут же торопливо заработал МГ. Воронцов на четвереньках подбежал к сержанту. Тот, прижав к щеке верхний рог короткого приклада, молотил из пулемета по крыше сарая, стоявшего возле дальнего леса, метрах в ста пятидесяти от их траншеи. Вскоре плоский наконечник целиком отстрелянной ленты, щелкнув, выскочил из приемника. Сержант быстро убрал с бруствера пулемет и поставил его на дно траншеи.
— Перегрел, — сказал он и швырнул на кожух горсть снега. — Пахнет, как в кузнице…
Подошел лейтенант Гридякин.
— Что там?
— Снайпер в сарае засел.
— Думаете, вы в него попали?
— Попасть, может, и не попали, — сказал Чинко, — но напугали. Он теперь отсюда уйдет. Он понял, что и за ним охота началась.
— Как думаешь, — спросил Гридякин, — почему они молчат? Хреновая какая-то тишина.
— Скоро узнаем.
Воронцов позвал к себе командира отделения противотанковых ружей. Худощавый сутулый сержант с раскосыми карими глазами степняка доложил, что расчеты расположились углом вперед, что запасные позиции тоже отрыты и замаскированы. Фамилию командира отделения бронебойщиков Воронцов никак не мог запомнить. Запомнил имя.
— Карим, как вы думаете, если они пустят танки, откуда надо ждать атаки?
— Танка нада маневр, — с сильным акцентом ответил Карим. — Сюда болото, сюда болото. Там — дорога. Оттуда ждем, товарищ младший лейтенант.
— Хорошо. Один человек пусть ведет постоянное наблюдение. Остальным — отдыхать.
— Есть, товарищ младший лейтенант. — Карим махнул ладонью у обреза каски и пошел по ходу сообщения к позициям ПТР.
Две бронебойки были расположены в глубине траншеи, третья — непосредственно в одной из стрелковых ячеек.
Во второй половине дня началась стрельба на флангах. Немцы, казалось, забыли о прорвавшейся роте, оседлавшей одну из высот. Они сосредоточили огонь своих орудий и минометов на скатах справа и слева от штрафников. Несколько раз там слышалось: «Ра-а-а!» Но все тонуло в сплошном гуле взрывов и пулеметном грохоте. Девятка пикировщиков пронеслась над деревьями. Самолеты сделали вираж, набрали высоту и начали почти отвесно пикировать на скаты. Разгрузившись, «лаптежники» улетели. Внизу все трещало и горело. Дым и копоть сносило в лес.
— Вот и вся атака наших батальонов, — сказал спокойным голосом сержант Чинко и осторожно спросил: — Товарищ лейтенант, как вы думаете, приказа на отход не будет?
— Не будет, Чинко.
Сержант докурил немецкую сигарету, уронил колечко окурка между колен и сказал:
— Я тоже так думаю. Но вы не сомневайтесь. Никто из наших, товарищ младший лейтенант, второй раз в плен не пойдет.
— А я и не сомневаюсь. Пойдем-ка проверим позиции пулеметных расчетов, сержант.
Пошли на левый фланг. Пулеметчики сидели на дне просторного окопа. «Максим» без щитка стоял внизу, прикрытый трофейной плащ-палаткой. Пулеметчики, развязав один из принесенных с собой вещмешков, набивали брезентовые ленты патронами.
— Где запасная? — спросил Воронцов первого номера.
— Там, товарищ младший лейтенант, — вскочил боец. — В двадцати шагах отсюда. Глубже и немного левее.
— Хода сообщения туда, конечно же, нет.
— Да где ж тут его откопаешь, товарищ младший лейтенант. Они уже сейчас пойдут.
Все бойцы были уверены, что немецкая контратака начнется с минуты на минуту.
— Следите вон за тем отрезком дороги. Это — ваш сектор. Стрелять — только во фланг. Фронт — не ваше дело. Только в крайнем случае. Если подойдут на бросок гранаты.
— Если подойдут на бросок гранаты, то стрелять уже поздно, — сказал первый номер. — Тогда надо будет на запасную уматывать.
Народ во взвод подобрался бывалый. Что и говорить, взвод, который достался ему в начале офицерской карьеры, оказался хорошим взводом. Вот только истаивал он быстро. И задача оказалась непомерной.
Пошли дальше. Впереди Воронцов увидел пулеметчиков второго взвода. Соседи тоже устроились и отдыхали. Там, во втором взводе, уже не было сержанта Степки Смирнова. Потертое письмо его матери, которое Степан сохранил и в плену, и в роте Радовского, теперь лежало в полевой сумке Воронцова.
Во второй взвод он идти не хотел. Разве что проведать Кондратия Герасимовича. Нет, Нелюбину сейчас не до него. Тоже, видать, обходит свое хозяйство и отдает распоряжения пулеметчикам, стрелкам и бронебойщикам.
— Чинко, — сказал Воронцов своему помкомвзвода, — я обещал вам написать на вас ходатайство за умелые действия в составе передовой группы. Учтите, я не забыл.
— Я об этом не думаю, товарищ младший лейтенант. — В глазах Чинко сияла благодарность.
— Во время боя следи за левофланговым пулеметом. Пусть не спешит обнаруживать себя. Но когда откроет огонь, пусть не робеет, что сейчас мина прилетит.
— Понял. Они ребята надежные.
Потом, пересиливая дремотную усталость, Воронцов услышал, как Чинко тихо разговаривал сам с собой и напевал:
Ой, гора-гора, гора высокая. А под горой лежат четыре сокола. Четыре сокола, четыре Сизова… Любила ты меня еще до призыва…Контратака началась вечером. В лоб немцы не пошли. И взвод Воронцова, занимавший оборону в середине траншеи, занятой ротой, в начале схватки сидел без дела. Чтобы не засвечивать основную позицию, Воронцов приказал левофланговому расчету «максима» быстро перебраться на запасную и поддержать фланговым огнем первый и второй взводы. Два «дегтяря» он держал в центре. Что-то подсказывало ему, что главные события еще впереди. Немцы нажимали на первый и четвертый взводы. Особенно доставалось первому. Первую атаку те отбили сами. Вторую смели минометчики. Заболоченный луг, глубокие канавы, заполненные водой и теперь замерзшие и присыпанные снегом, похоже, довоенные торфоразработки, исключали применение танков. Данные разведсводки, которую перед выдвижением на исходные зачитывал им старший лейтенант Солодовников, свидетельствовали о том, что на станции Милятино, в четырех-пяти километрах отсюда, немцы держат резервы. Резервы расположены в два эшелона: около пятнадцати танков и до двух батальонов пехоты в первом и батальон средних танков и до дивизии пехоты — во втором. Батальоны, как можно предположить, подошли. Танки они могут пустить только отсюда, с фронта. И только на их взвод.
— Карим, слушай внимательно, — предупредил он командира бронебойщиков. На фланги не отвлекайся. Твое дело — танки. Пока их нет, слушай, наблюдай и протирай патроны.
— Задача ясный, — коснулся обреза каски степняк.
Ротный, видимо, обрывал все телефоны. Через минуту шквал артиллерийского огня накрыл пустошь и березняк справа и слева от траншеи, занятой штрафниками. Черная стена взрывов шла, продвигаясь в глубину немецкой обороны, пошатывалась из стороны в сторону. Некоторые снаряды, будто выпадая из геометрии заданных траекторий, падали возле окопов первого взвода.
По ходу сообщения, который вел в тыл, прибежал связной с НП командира роты. Связист нес «маузер» с оптическим прицелом. Винтовка была завернута в пятнистую трофейную плащ-палатку. Воронцов сразу узнал этот длинный сверток.
— Товарищ младший лейтенант, велено вам передать. — Связист сунул в карман руку и выгреб оттуда горсть патронов. Потом другую. Патроны были облеплены крошками рыжего табака. — Вот все, что есть. Двадцать один.
Еще четыре в магазине, вспомнил Воронцов.
— А где лейтенант Гридякин?
— Ушел во второй взвод.
Связист потоптался в грязном, перемешанном с торфом снегу, посмотрел в сторону второго взвода, откуда тянуло толовой гарью. Не хотелось ему идти туда.
— Ему велено явиться на НП командира роты. Ротный ругается.
— Хорошо, передам. И скажи старшему лейтенанту Солодовникову, что мы ждем танковой атаки. Когда пойдут, пусть артиллеристы помогут нам.
— Так и передать?
— Слово в слово. Идите.
Воронцов распеленал «маузер», открыл затвор, дозарядил магазин. Расчехлил прицел и начал осматривать сарай, углы, дыры в крыше. Сарай лучше было бы сжечь. С его чердака наверняка хорошо просматривается наша траншея со всеми и основными, и запасными позициями пулеметчиков и бронебойщиков. Идеальный наблюдательный пункт для корректировки огня. На месте офицера, который решился бы на танковую атаку с фронта, было бы разумным послать на этот НП наблюдателя и корректировщика. У них каждый танк и каждый артиллерийский расчет оснащены радиостанциями. Знал Воронцов и другое: если во время боя командир подразделения начнет в полном объеме исполнять работу бойца, пусть даже снайпера, то кто же будет командовать подразделением? Но в бою Воронцов знал и это, наступает такой момент, когда никакие команды уже не влияют на ход стремительно развивающихся событий, и офицеры дерутся плечом к плечу с солдатами, и их главная роль сводится к тому, что они — рядом, в окопе, и так же, как и все, продолжают вести огонь.
Первая мина шлепнула с недолетом.
— Убрать винтовки! — скомандовал Воронцов. — Всем, кроме наблюдателей, лечь в траншею и приготовиться к бою!
— Сашка, что? Начинается?
Воронцов оглянулся. Перед ним стоял лейтенант Гридякин. Лицо его было бледным. То ли от усталости, то ли от того, от чего всегда бледнеет солдат перед атакой.
— Вам приказано прибыть на НП командира роты, — сказал Воронцов, стараясь не смотреть ему в глаза.
Лейтенант Гридякин это заметил. В такие мгновения, когда в человеке напрягаются все силы, и физические, и иные; видится многое и многие мысли приходят, и многие откровения охватывают душу, чтобы напоминать потом о себе всю оставшуюся жизнь. Если ее суждено прожить. Если жить человеку не до первого разрыва мины и не до первой пули…
— Чего ж ты отворачиваешься, Сашка? А? Уже заранее меня презираешь, да? Он, мол, сейчас в тыл поползет, шкуру спасать. Чтобы донесения писать, как мы тут храбро дрались. А нам — умирать… Ну, скажи честно, ты это подумал?
Воронцов посмотрел в глаза Гридякину. Губы лейтенанта дрожали.
— Никуда я не пойду. У меня еще два диска патронов, две гранаты.
— Бойцов у меня во взводе хватает. Тогда иди к Прохоренко. Он там один остался. Ему помощь нужна. — И Воронцов вытащил из противогазной сумки еще один диск и сунул в руки лейтенанту Гридякину.
Они обнялись. Лейтенант Гридякин, пригибаясь после каждого взрыва, пошел на правый фланг. А Воронцов вскинул винтовку и снова обшарил в прицел углы сарая. Наблюдателя-корректировщика он просмотрел. Или тот подполз со стороны леса и так же незаметно поднялся наверх. Или сидел там все время, пока рота обживала траншею, и просто не обнаруживал себя. Надо было послать кого-нибудь в разведку. То, что наблюдатель там, Воронцов знал точно: мины, прилетавшие откуда-то из-за гряды смешанного леса, ложились прицельно, плотно накрывая полосу траншеи, с каждым взрывом обжимая ее все плотнее и плотнее.
Воронцов осмотрел черные провалы в крыше. Их всего оказалось пять. Возле одного из них сейчас стоит немец, наблюдает за огнем своих минометов и передает поправки.
Уже слышались крики раненых.
— Санитара сюда! — закричали сразу несколько голосов.
Свист мины, раздавшийся совсем рядом, заставил Воронцова прижаться к стенке отводной ячейки. Немцы, видимо, начали рыть запасной ход сообщения, но не успели. И Воронцов теперь стоял на коленях в этом недорытом окопе и ждал взрыва мины. Взрыв! Мина взорвалась в двух шагах от него. Запахло толовой гарью. Осколков он не услышал. Заложило уши. Выглянул. Поднял винтовку. И раз за разом, быстро перезаряжая, положил пять пуль в нижний обрез проломов в крыше сарая. Перезарядил винтовку и зачехлил прицел.
Гула моторов он не услышал. В ушах еще звенело. Да и минометный обстрел продолжался, сдвигаясь на левый фланг, ко второму и первому взводам. Но крик командира отделения бронебойщиков услышали все:
— Танки! Расчеты! Приготовиться к бою!
Карим делал свое дело. Он знал, что наступил его час, что его работу, кроме его самого и расчетов бронебоек, не сделает уже никто.
Вот они, показались, красавицы… Воронцов смотрел в бинокль на дальний поворот дороги, где происходило основное движение. Справа и слева виднелся лес и перед лесом болотина. Там танкам не пройти. Вот и выползали они по дороге, чтобы потом развернуться здесь, на лугу.
— Расстояние триста метрий! — слышался гортанный голос Карима. В минуты боя акцент степняка становился еще сильнее. — Стрелят подождит! Подождит!
Карим рисковал, стараясь подпустить танки на верный выстрел. Он выстраивал свой бой, и Воронцов понимал, что в его тактику сейчас лучше не вмешиваться. Карим воевал с сорок первого. Под Тулой сжег первый танк и получил орден. Затем был ранен. Вернулся снова в один из ИПТАПов[35], подо Ржевом попал в окружение. Плен, Вяземский концлагерь, русская рота в составе РОА…
— По головному направляющему! — зло заревел Карим. — Залпом! Пли!
Все три бронебойки вздрогнули, поднимая перед окопами облачка снега и порохового дыма.
— Целься в гусеница!
Снова загремели бронебойки, теперь уже не так дружно.
— Взвод! — закричал Воронцов. — Приготовиться! Пулеметчики молчат до моего приказа! До сарая и гряды ракит — только огонь из винтовок! Когда пройдут ракиты, всем взять трофейные автоматы и приготовить гранаты!
Глава тридцать восьмая
В бинокль Воронцов хорошо видел маневр немцев, начинавших атаку. Три танка шли колонной, один за другим, соблюдая одинаковые интервалы. За ними — по взводу пехоты. Дальнейшее можно было предположить заранее: как только минуют лесную дорогу, сразу за болотиной начнут развертываться в цепь. Вот когда их бить! Пока идут колонной! Да где же там артиллеристы?
И в это мгновение несколько фосфоресцирующих трасс низко прошли над головами взвода и исчезли за грядой старых ракит. Одна из них ударила в головной танк, и тот развернулся и пополз к лесу, разматывая по снегу гусеницу.
— Боковой броня! Боковой броня! Беглый огонь! — Это, почувствовав неожиданную добычу, кричал Карим своим бронебойщикам.
Через минуту танк уже горел. Из моторной части начало вытягивать клочковатый черный дым. Открылся верхний люк. Воронцов мгновенно сдернул с прицела чехольчик, вскинул винтовку. Над башней маячила сгорбленная фигура в черном комбинезоне. Он взял ее в прицел, выстрелил. Танкист скатился вниз. К танку кинулись пехотинцы. Двое запрыгнули на броню. Видимо, пытались помочь танкистам. Но из люка больше никто не появлялся. Воронцов взял на мушку одного из пехотинцев и плавно надавил на спуск. Каска, выкрашенная в белое, так и слетела с его головы. Остальные тут же сыпанули вниз. Бывалые солдаты, они поняли, что стреляет снайпер и что снайпер охотится за одиночными целями. Поэтому, сбившись в кучу, они тут же хлынули за танк.
Но железные коробки оказались плохой защитой. Потому что очередные три трассы, хорошо заметные в ранних сумерках, ударили стальными 76-миллиметровыми болванками, срывая с брони T-IV[36] надстройки и срубая куски брони. Один из бронебойных снарядов, миновав танк, скользнул над покореженным крылом гусеницы и исчез в колонне пехотинцев.
Немецкие танкисты поняли, в какой ситуации внезапно оказались. Пехота расступилась, и танки на большой скорости помчались вперед, стараясь выйти из зоны огня ПТО.
И в это время загрохотало на флангах и в тылу. Позиции артиллеристов накрыло черным дымом. В стороне НП командира роты тоже началась стрельба. Рота пополнялась до самого последнего дня. Когда все четыре взвода были укомплектованы под завязку, со сверхштатными отделениями ПТР и пулеметными расчетами «максим», с группами санитаров из расчета один санитар на каждое отделение, ротный начал формировать резерв. Его он держал при себе. Часть использовал в качестве боевого охранения при артбатарее и минометчиках. Судя по всему, в бой вступили боевые охранения. А это означало, что и артиллеристам, и минометчикам теперь не до танков. Там шел ближний бой. И ротного надо было выручать.
— Прорвались!
— С тыла прорвались!
— Окружают! — донеслось с левого фланга.
Окруженцы заволновались первыми. Они-то хорошо знали, чем грозил выход противника в тыл.
Власовцы Воронцова молчали. Бледные лица смотрели то на него, то в сторону гряды ракит, за которыми уже рассыпались в цепь немецкие пехотинцы.
— Кому чего, а цыгану — сало… — проворчал пожилой боец. Он торопливо свертывал большую самокрутку, такую бойцы назвали «семейной» — из последнего табака, на все отделение. Пальцы у бойцы дрожали.
— Чинко! — приказал Воронцов помкомвзвода. — Бери пять человек с пулеметом и — на НП командира роты. Если они там справляются, бегом назад.
Шесть человек с ручным пулеметом тут же ушли в тыл, где все гремело и откуда тащило понизу черный дым. В траншее тут же заняли опустевшие ячейки. Каски теперь торчали реже. Бронебойки продолжали огонь. Резкие и частые сухие их удары пытались остановить гул танковых моторов. Танки и пехота уже развернулись в правильный фронт и густой глубокой цепью двигались на штрафников. Команды открыть огонь не поступало. Наконец в небо взлетели одна за другой две красные ракеты. Должны были взлететь три. Сигнал к началу огня — три красные ракеты. Но, видимо, на НП что-то произошло такое, что помешало сигнальщикам сделать все так, как надо.
— Взво-од, слушай мою команду! — Воронцов посмотрел вправо и влево. Его бойцы уже стояли, привалившись к стенке траншеи и положив винтовки на снежные брустверы и закоченевшие трупы немцев, замерли, нащупывая и поглаживая закоченевшими пальцами спусковые скобы. — По атакующей цепи! Два! В пояс! Первым — залп, затем часто… — Воронцов сделал паузу, прислушиваясь к тому, что происходило на флангах, во втором и четвертом взводах, и рявкнул что было сил: — Огонь!
Цепь приближалась к гряде ракит. Один из танков начал отворачивать левее. Пулемет его плескал клочковатым пламенем. Вот остановился, повел коротким стволом. Выстрел! Крайнюю бронебойку подбросило вверх, разметало искромсанные тела бойцов.
— С фланга! С фланга! Так вы их не возьмете! — Воронцов подбежал к командиру бронебойщиков. — Карим! Давай туда! Стреляйте только в боковую броню и по гусеницам! Занимайте окопы стрелков!
— Понял, командир! За мной! — тут же скомандовал он своим расчетам.
Воронцов вскинул винтовку, взял в прицел бегущего в передней цепи с пистолетом. Ни один мускул его не дрогнул. Тело стало послушным и спокойным, как железо. Он надавил на спуск и увидел, как немец откинул назад голову и начал падать. Перезарядил. Провел прицелом по цепи. Вот еще один. Этот был с автоматом. Он часто жестикулировал и крутил головой по сторонам, видимо, подгоняя цепь. Этого тоже — в горло. Он подвел прицел чуть выше центра груди и надавил на спуск. Приклад толкнул в плечо. Дальше он выстрелил еще несколько раз. Магазин опустел. Он зарядил новую обойму. И через минуту снова зарядил винтовку. Когда выстрелил последний патрон, быстро зачехлил прицел, замотал винтовку в плащ-палатку и сунул ее под труп немца, лежавшего за снежным бруствером.
Наступали немцы грамотно. Встретив прицельный ружейно-пулеметный огонь, они сломали цепь и теперь толпами бежали за двумя танками. Танки часто останавливались и стреляли из пушек. Снаряды ложились точно. Вскоре осталась всего одна бронебойка.
Атакующие разделились на две группы. Первая шла на взвод Воронцова. Вторая — на правофланговый четвертый взвод.
— Карим! Стреляй по тому! — И Воронцов указал на танк, который приближался к траншее четвертого взвода, подставляя им бок.
— Он не наш! Не наш, командир!
— Стреляй! Приказываю! — И Воронцов, сам от себя не ожидая, начал расстегивать кобуру пистолета.
Ни разу он еще не стрелял из своего новенького ТТ.
— Ты что, командир?
— Стреляй! Видишь, борт подставил!
— Почему молчит батарея?
— Делай свое дело!
Карим со своим вторым номером тут же переставил ружье и повел огонь по танку справа. Бронебойщики остановили его в нескольких десятках метров от четвертого взвода. Гусеница, отчаянно разбрызгивая снег, начала съезжать с резиновых бандажей дисков. Танк резко развернуло, и в него полетели связки гранат и бутылки с зажигательной смесью. Четвертый взвод в несколько минут расправился с железной махиной, которая еще мгновение назад казалась неуязвимой. Немецкая пехота тут же рассыпалась в цепь и залегла. Открыла огонь.
— Отсекай пехоту! Отсекай! Стрелять прицельно! — Воронцов сам стрелял из автомата и поменял уже второй диск.
«Максим» рубил длинными очередями. Но немцы продолжали приближаться под прикрытием танка.
— Убери-ка голову, взводный. — Пожилой боец, тот самый, который перед началом огня скручивал «семейную» самокрутку, похлопал Воронцова по плечу. В руках у него была противотанковая граната. Вторая стояла вверх ручкой тут же, в песчаной, обметанной инеем нише. — Ты еще молодой. Поживи. А мне, старику…
Воронцов невольно присел, заглянув в глаза бойца. Наступило то мгновение, когда различия в звании и должности перестают иметь какое-либо значение и все решает другое.
Танковый пулемет стрелял непрерывно. Пехота, прижатая огнем взвода вплотную к стальной машине, начала рассыпаться в цепь. Пехотинцы перебегали вперед, с колена прицельно вели огонь, снова передвигались вперед. Танк взревел и увеличил скорость, сразу оторвавшись от пехоты сопровождения.
— Ну вот и сдали твои нервы, — стиснул зубы боец, неподвижным взглядом следя за приближением танка.
И в это мгновение вихрь трассирующих пуль ударил по бровке траншеи. Воронцов и боец упали вниз.
— Живой? А, взводный? — услышал Воронцов голос бойца.
— Бросай гранату! Ну? Чего ждешь?!
— Рано, — спокойно ответил боец, вытягивая шею и отползая в другую сторону. И вдруг закричал: — Ползи туда! Подальше отсюда! Я его буду пропускать!
Воронцов подхватил автомат и на четвереньках пополз вправо. Перелез через труп, лежавший поперек траншеи, забился в пустую боковую ячейку. Тут же подумал: почему никого нет? Куда все ушли? И тут же догадался, что все так же, как и он, старались укрыться от танка и отползли подальше от него. Значит, справа и слева от танка образовалась незанятая брешь, в которую вот-вот хлынут немецкие пехотинцы. Он встал, вскинул автомат. Танк уже наваливался на траншею. Пулемет выплескивал трассирующую струю куда-то в тыл, в пустоту. Башня с коротким стволом медленно поворачивалась в сторону.
Сейчас остановится на линии траншеи и начнет добивать его взвод из пушки, мелькнула в голове Воронцова страшная догадка. Но ему уже было не до танка. Немцы накатывали сплошной волной и находились уже в тридцати-сорока шагах от траншеи.
— Огонь! Огонь! Мать вашу!..
И тут с запасной позиции, через их головы ударил левофланговый «максим» третьего взвода. Калюжный! Какой ты молодец, Калюжный! Воронцов оглянулся. Но ничего, кроме трассы, уходящей в сторону бегущих немцев, не увидел.
Диск вскоре закончился. Автомат сразу стал непривычно легким. В сумке лежали заряженные. После боя в траншеях он зарядил все диски и сложил их в сумку. В нише ячейки он увидел несколько гранат. Четыре Ф-1 лежали рядком, с запалами. Он бросил пустой автомат, схватил две гранаты, выдернул чеки обеих. Первую швырнул прямо по фронту. Вторую правее. Две других — левее, по следу танка. И тут же начал перезаряжать автомат. Два сильных взрыва качнули воздух и секанули по лицу и рукам снегом и землей взрывной волны. Значит, старик успел бросить гранаты, догадался Воронцов, но оглянуться туда, где раздался двойной взрыв, чтобы удостовериться в своей догадке, он не успел. Белые каски и расстегнутые шинели уже мелькали в десяти-пятнадцати шагах от него. Он вскинул автомат и, стараясь удерживать мушку в середине корпуса бегущих, надавил на спусковую скобу и повел вдоль цепи. Позади, с перелетом, и правее, в самой траншее, разорвались две гранаты. И сразу несколько взрывов вздыбили снег, перемешанный с землей и кровью, под ногами немецкой цепи. Цепь начала распадаться на отдельные группы. Некоторые из этих разрозненных групп тут же залегли и начали отползать, яростно отстреливаясь. «Максим» Калюжного продолжал рубить отступающих, увеличивая их потери.
Диск, как показалось Воронцову, опустел в одно мгновение. Пока он перезаряжал автомат, немцы вскочили на ноги, подхватили своих раненых и, отстреливаясь, побежали в сторону сарая и гряды ракит.
— Не ослаблять огня! Не ослаблять! — И он вскинул свой ППШ и начал прицельно стрелять в спины отступавших.
Вскоре стрельба из автомата стала бесполезной. Потеряв еще с десяток человек ранеными и убитыми, немцы укрылись за ракитами и сараем.
— Ну что, товарищ младший лейтенант, кажись, отбились. — Сержант Чинко стоял в соседней ячейке и вставлял в приемник МГ новую ленту. Ствол пулемета раскалился, и снег под ним стал ноздреватым и грязным.
Только теперь Воронцов увидел и танк, вовсю горевший в тылу, в двадцати шагах от траншеи, и сержанта, возившегося со своим раскаленным пулеметом, и его группу, и пожилого бойца в расстегнутой телогрейке. Старик сидел на дне траншеи и курил «семейную» самокрутку. Время от времени он поглядывал на разгоравшийся танк и что-то говорил сам себе и усмехался. Кровь крупными каплями капала из рукава его телогрейки, и он изредка стряхивал ее в грязный снег.
— Вы ранены?
— Теперь это не имеет значения. — Власовец снова стряхнул на снег кровь.
— Давайте я вас перевяжу.
Власовец начал снимать телогрейку.
Перевязав старика, Воронцов снова сел, опустил усталые руки на колени. Хотелось спать. Но надо было вставать. Действовать дальше. По обстоятельствам. Выяснить, какие потери и чем взвод располагает. Уцелела ли последняя бронебойка Карима и сам Карим? Без противотанковых ружей им тут долго не продержаться. Нужно раздать гранаты. Еще одна такая атака…
Воронцов встал, вышел в траншею.
— Чинко, спасибо тебе.
— Да что там…
— Ротный жив?
— Жив. К ним наши пробились. Окапываются. Фланги раскрепляют.
— Артиллеристы?..
— Все орудия кверху колесами. Одно, кажись, цело. Откатник пробило. Жидкость вытекла. Но они вроде уже отремонтировали. Запчастей там у них много… — И вдруг Чинко улыбнулся и сказал: — А вы видели, как Иван Николаич танк уделал? Вот тебе и Старик Хоттабыч!
Воронцов вспомнил этого пожилого бойца, этого старика с седоватыми усами, обметанными рыжим табачным налетом. Старик всегда отставал, путал команды и никогда не делился с товарищами табаком. Именно его прозвали Стариком Хоттабычем. Но сдержанный Чинко звал пожилого бойца Иваном Николаичем.
Воронцов подошел к старику. В нише, наполовину заваленная комьями земли и снега, стояла винтовка. Воронцов разгреб снег, вытащил винтовку, проверил затвор. Затвор был пуст, а закопченный патронник пах пороховой гарью.
— Иван Николаич, спасибо вам. Я отмечу это в представлении. — И он протянул старику винтовку с примкнутым штыком.
Старик сделал затяжку и протянул самокрутку Воронцову:
— Сорок…
Воронцов хотел сказать, что он не курит. Но взял самокрутку, затянулся и закашлялся.
А Иван Николаевич достал из кармана протирку и принялся чистить свою винтовку.
Когда стемнело, принесли термосы с горячей кашей. А еще через час приказ: общая атака дивизии отменяется, роте скрытно отойти на исходные; третий взвод остается в прикрытии; первый, второй и четвертый взводы оставляют дежурные пулеметы, при них — первый и два вторых номера; порядок отхода: первый взвод, второй взвод, четвертый взвод; место сосредоточения…
Воронцов отправил в тыл раненых. Убитых выложили на бруствер. В строю оставалось шестнадцать человек.
Зимняя заря гаснет скоро. Уже не осталось и следа малинового заката на морозном горизонте, закрашенном зеленой акварелью. Через несколько минут и зеленое зарево стало выцветать, переходить в чернильную синь.
Взводы уже снялись и начали отход. Немцы на флангах бросали ракеты, постреливали из пулеметов. Иногда выпускали две-три мины и затихали.
Когда шорох и шевеление в тылу прекратились и Воронцов понял, что в траншее остались одни они, со стороны НП пришел связной и передал приказ ротного: сниматься через полчаса и быстро отходить к первой траншее.
Все повторялось в его жизни. Однажды он уже исполнял подобный приказ. Но тогда он должен был держаться со своей группой гораздо дольше. Теперь — всего полчаса. И теперь у него есть взвод и надежный союзник — ночь.
Полчаса тянулись томительно долго. Никто не спал. Воронцов отыскал свою винтовку. Танк прошел рядом с трупом немца, под которым лежал «маузер».
— Петрович, я вот что подумал…
— Что?
— Зря мы кашей животы набили.
— Почему? Ты ж еще утром свой сухпай приел.
— Пуля в живот попадет… Знаешь, что бывает? Хуже всего.
— Никто не может знать, что будет через минуту. И лучше об этом не думать.
Разговаривали в ближней ячейке. Во время отражения танковой атаки здесь сидели бронебойщики. Теперь Карим со своим вторым номером дежурил на левом фланге.
— А спать ты не пробовал?
— Пробовал.
— Не спится?
— Да не в этом дело. Уснуть-то я уснул. Но чуть не обхезался.
— Во сне, что ль? — засмеялся боец.
— Ну да. Немец приснился.
— Немца испугался? Да вон их сколько! Только перед нашим взводом двадцать один труп. Лейтенант сам считал.
— Это ж мертвые. Мертвые уже не страшны. А мне живой приснился. Штыком — прямо в живот… Проснулся, а кальсоны мои… Жалко — кальсоны новые. Вот отдежурим здесь, отведут во вторую линию. В баню сходим.
— В баню захотел… Слышь, Хоттабыч, Петрович в баню хочет. С веничком…
— Я тебе не Хоттабыч, — послышался глуховатый голос старика.
— Извини, Иван Николаич. А тебе, за танк-то, небось медаль дадут?
— Да, Иван Николаич сегодня этим танком и нас спас, и себя искупил…
— Поменьше бы вы языками мотали. — Старик встал, вытянул шею, прислушался. — Вот подползут… Горя вам нетути…
— Ну что там, Иван Николаич? Не ползет немец?
— Тихо. Он небось тоже кальсоны свои жалеет. — Иван Николаевич засмеялся сиплым смешком усталого человека.
— Слышь, Иван Николаич?
— Чего тебе?
— Табачку на сиротскую закруточку не удружишь?
Бойцы замерли, напряженно ждали реакции старика, известного своей прижимистостью.
— Ползи сюда, скреток, — отозвался старик.
— Правда, что ль?
— Ползи, а то передумаю.
Бойцы завозились. Запахло махоркой. И Воронцов вздохнул и посмотрел на светящийся циферблат трофейных часов. Трофей ему час назад принес один из бойцов. Подсумок с патронами для «маузера» и часы. Теперь они пригодились. «Командиру без часов нельзя, — сказал боец, видя, что взводный не хочет брать подарок. — Тем более что это ваш трофей. Вы его, товарищ младший лейтенант, сняли. Из винтовки». И вот он теперь смотрел на часы убитого им немецкого офицера: до начала отхода оставалось пять минут.
И в это время пришел наблюдатель и доложил, что со стороны сарая ползут немцы, возможно, разведгруппа.
— Что будем делать, товарищ младший лейтенант? Может, пугнуть их из пулемета?
— Подожди. Если они одни, надо выяснить, что им надо.
Прислушались. Слышался приглушенный скрип мерзлого снега. Три синие тени маячили на фоне черной дороги.
— Это не разведка. Убитых своих собирают.
Значит, до утра не сунутся, понял Воронцов. Сердце его радостно забилось.
Пришли пулеметчики, охранявшие фланги. Воронцов узнал Калюжного и Полевкина. Третий боец был незнакомый.
— Ну что, ребята, счастливо отдежурили?
— Слава богу, товарищ младший лейтенант. Нам с вами не впервой.
Чинко собирал свой МГ, заматывал вокруг затвора длинный конец ленты. Пустую металлическую коробку толкнул ногой в угол окопа.
— Что, старые знакомые? — спросил он.
— Вместе из окружения выходили.
— Понятно.
Отползали двумя потоками. Воронцов оставил с собой Чинко и расчет Калюжного. Они уходили последними. Полевкин вытащил из вещмешка три гранаты.
— Ты что? — спросил его Воронцов.
— Надо заминировать. Узнаем, когда они займут траншею. — И Полевкин взял первую гранату, выдернул чеку и, не отпуская скобы, подсунул ее под первый попавшийся труп.
— Немцы своих уносят. А мы бросаем. — Сказал это незнакомый пулеметчик, из расчета Калюжного.
Тело Степана лежало где-то там, в первой траншее, куда они теперь возвращались. Если его уже не вынесли. Если не вынесли, то сейчас надо это сделать самому, решил Воронцов.
Они взвалили на плечи разобранные «максимы» и, уже не прячась, пошли в тыл. Прошли мимо сгоревшего танка. От него еще веяло жаром. Земля вокруг обтаяла. Пахло горелым металлом. Демьян рассказывал, что, когда тела сгорают в танке, от них не остается ничего, кроме горстки пепла. Из этого танка не выбрался никто. Ни один люк не открылся.
— Восстановлению не подлежит, — крякнул кто-то довольно. — Вон как его разворочало.
— Снаряды грохнули.
— Кто ж его уделал? Бронебои?
— Хер там. Дед один.
— Власовец?
— Ну да. Тише ты. Сержант, рядом с лейтенантом, тоже из этих…
Глава тридцать девятая
Утро уцелевших штрафников застало внизу, под горой, за болотом, которое они накануне, еще полным своим составом, переползали, с опаской поглядывая на скаты, озаряемые осветительными ракетами.
Воронцов проснулся от того, что вдруг почувствовал страх: ему надо было бросить гранату, а запала, который он положил в другой карман, никак не мог нащупать…
Открыл глаза. Над головой черные сосновые бревна. Железная печь-полубочка посвечивала дотлевающими углями. Кто-то в углу на нарах задыхался и плакал:
— Уйди!.. Уйди!..
После того что они вчера пережили, хорошие сны не приснятся.
Он отыскал возле печки свои сапоги. Намотал портянки и обулся. Накинул на плечи шинель. Правая пола оказалась разорванной почти до кармана. Жалко, новая шинель, подарок подполковника Колчина. Надо будет почистить и зашить, решил он. Воронцов откинул старое армейское одеяло, заиндевевшее снизу, толкнул низкую дощатую дверь и сразу оказался в траншее.
Звезды еще стояли над землей. На востоке зеленела заря, снизу подрумяненная розовым сиянием близкого солнца. Немцы на горе уже не пускали ракеты. Пространство наполнялось прозрачно-синим светом утра.
По ходу сообщения из тыла прошла группа бойцов в новеньких камуфляжах. Они вышли в траншею, постояли немного. Старший некоторое время смотрел в бинокль в сторону высоты и заснеженных скатов. Вчера штрафники карабкались по ним вверх, забрасывали гранатами пулеметы. Сегодня в траншее, идущей по обрезу горы, вновь сидят немцы. Через день-другой снова заминируют склоны и окрестности болота, поправят проволочные заграждения. Возьми их тогда.
Бойцы в белых камуфляжах постояли еще немного, посовещались и пошли в сторону правого фланга. Последний закинул за спину немецкую винтовку и оглянулся на Воронцова. В наклоне его головы и в походке ему показалось что-то знакомое. Да нет, не может быть, успокоил себя Воронцов. Навстречу, пропуская вперед бойцов, шел старший лейтенант Солодовников.
— Воронцов! — крикнул он издали. — Что? Не спится? Я ж распорядился — сутки отдыхать!
От ротного густо несло вчерашним. Из первой траншеи они уходили вместе. Ротный все время матерился. А Воронцову было все равно. Главное, выбрались живыми, не попали в окружение, хотя все шло к тому, что роту штрафников вот-вот отрежут и додавят во второй траншее.
— Полковая разведка, — сказал старший лейтенант Солодовников, перехватив взгляд Воронцова. — То ли только что вернулись, то ли собираются… Рад тебя видеть живым и здоровым, младший лейтенант! — И ротный обнял Воронцова, снова обдавая сивушным перегаром.
— Взаимно, товарищ старший лейтенант. — И Воронцов, освободившись от объятий Солодовникова, козырнул и сдержанно улыбнулся.
— Строгий ты парень, Воронцов. Или на душе что лежит? Давай, расскажи.
— Да нет у меня никаких секретов. Все в личном деле. Все, что есть.
Ротный сдержанно засмеялся:
— Я же не особняк. Что ты передо мной… — Старший лейтенант Солодовников махнул рукой. — Пойдем-ка ко мне в землянку. Поговорим.
По ходу сообщения они прошли шагов триста, свернули в сосняк. В землянке было хорошо натоплено. В углу на топчане, сбитом из досок, кто-то спал. Воронцов узнал полушубок младшего политрука Каца. Ни в первой, ни во второй траншее, ни во время отхода он его не видел. И слава богу, подумал Воронцов, в бою лучше с такими не сталкиваться. Послышался глубокий кашель.
— Заболел мой печатник, — сказал ротный и махнул полевой сумкой в сторону топчана. — Не сходил за своим орденом. — И усмехнулся. — А на тебя я представление написал. Не веришь? Хочешь, прочитаю? Ну, как хочешь. Достоин ордена. Две контратаки отбил. Вперед грамотно продвигался. А главное, с пулеметами придумал здорово! Не зря тебя батя на заметку взял. У него глаз — алмаз! Он твой орден сразу подпишет. Если в штабе дивизии никакая сволочь не будет в твоем прошлом копаться…
Воронцова словно ударили сзади. Он весь напрягся, вытянулся.
— Ты чего побледнел? — Ротный снял шинель и бросил ее на свободный топчан. — Я говорю то, что есть. Ты на меня не обижайся. Я — мужик прямой. Зла ни на кого не держу. Доносов не пишу. Не моя это должность. — И старший лейтенант Солодовников выразительно посмотрел на занятый младшим политруком топчан. — Если что, скажу напрямую. А могу и в морду дать… Ты знаешь, за что мне очередное звание задержали? Вот, не знаешь. А батя меня ценит. Вот давай за батю нашего и выпьем.
Воронцов продолжал стоять. Он увидел в углу умывальник, сразу вспомнил, что сутки не умывался. Только снегом, когда вернулись в землянку после похорон Степана. Ротный понял его взгляд и кивнул:
— Умойся. Конечно. Я подожду.
Воронцов быстро сбросил шинель, стащил гимнастерку. Размотал расшитое полотенце, повесил его на гвоздь. Вода в умывальнике была холодная, но приятная. Он с удовольствием смыл с лица и шеи пот, копоть и присохшую кровь вчерашнего дня, сунул стриженую голову под неторопливую струю. Взял в руки полотенце.
— Подарок? Талисман?
Воронцов кивнул.
— Пишет?
— Она пока еще не знает моей полевой почты.
— Как не знает?
— Деревню ее только-только освободили. Там еще и почты, может, нет.
— Если освободили, то все наладится. А ты ей написал?
— Написал.
— Тогда остается ждать. Напишет. Тебе, да не написать! Орел! Хотя, скажу я тебе, женщина — существо причудливое. Никогда не угадаешь, как она поступит в следующую минуту. — Старший лейтенант Солодовников поморщился, вздохнул. — У тебя ее фотокарточки нет?
— Нет. Вот, только полотенце.
— Красивое полотенце.
— Да, красивое.
Воронцов так же быстро оделся. Полотенце аккуратно свернул и сунул за пазуху.
— Андрей Ильич, я хотел бы в представлении особо отметить действия сержанта Чинко, рядового Грибченкова, пулеметчика Калюжного и сержанта… Фамилию сейчас скажу. — И Воронцов, вдруг спохватившись, что фамилию Карима он так и не запомнил, начал расстегивать полевую сумку. Там лежал список взвода.
— Сержант Чинко? Разведгруппа?
— Так точно. Грибченков Иван Николаевич танк подбил. Двумя гранатами.
— Я все видел. Пиши.
— А Карим храбро дрался. Это он сбил гусеницу с танка, который на четвертый взвод шел.
Ротный налил себе побольше. Сказал, пряча под стол бутылку:
— Ты еще молодой. Да и построение через час. Батя приедет. Перья нам поправлять будет. — И ротный сделал выразительный жест.
— За что?
— За что… Дорогу-то мы так и не перехватили. До шоссе даже не дошли. Дальше оно было. Там, за тем сараем, метров триста. Ты его даже в бинокль не разглядел.
— Ясно. Именно оттуда танки пришли.
— Конечно. И неизвестно еще, сколько у них там еще танков имеется. Это мы только приблизились к осиному гнезду. — Старший лейтенант Солодовников вдруг задумался, будто прислушиваясь к себе, и сказал: — Знаешь, я еще немного себе налью. Тебе не буду. Не обижайся. Ты лучше поешь, поешь как следует. Тут тебя, кроме меня да старшины, никто не угостит. А пить — не надо. Батя унюхает — беда будет. С меня-то уже ничего не поимеешь. Дальше штрафной не сошлешь. — И ротный покосился на соседний топчан, на котором кашлял замполит.
— После того как мы взяли вторую траншею, должны были подойти соседние батальоны, занять нашу траншею, распереть фланги и мы — опять вперед, до шоссе. Но батальоны, как видишь, на скатах обосрались. И батя нашу атаку отменил. Так что ему в штабе дивизии тоже уже перья поправили. Так что нам с тобой свои реляции в штаб полка надо подавать не раньше, чем через двое-трое суток. Понял?
Ротный выпил, закусил бутербродом с тушенкой. И сказал:
— Пойдем-ка, я тебе кое-что покажу.
Вышли из землянки. Выпитое на старшего лейтенанта Солодовникова, казалось, совершенно не подействовало.
— Не хочу при нем говорить… И тебя хочу предупредить: при нем — ничего лишнего. Скользкий тип. Орден хочет получить. Но как, не знает. Думает, что я на него представление напишу. Просто так. До кучи. А я ему однажды возьми и скажи: возглавь, говорю, Семен Моисеич, атаку роты, я — на одном фланге, а ты, говорю, — на другом. Поднимем орлов и пойдем. Вот тогда, после боя, я на тебя реляцию и напишу. Обиделся. Ладно, ну его… Завтра-послезавтра пополнение поступит. А там, глядишь, опять на горочку ту попрем! Теперь уже до самого шоссе. Посмотрим, что у них там за осиное гнездо. Действительно ли сильный резерв держат. Или блефуют. — И ротный кивнул на гряду высот, уже окутанных утренней розовой дымкой. — Только отсюда уже нельзя…
И Воронцов понял, что их ближайшая судьба уже решена. Вот почему по передовой ходит разведка. Завтра-послезавтра оперативный отдел штаба полка определит новое место прорыва, и рота, пополненная новыми штрафниками и лейтенантами, пойдет вперед.
— Остатки роты я решил свести в один взвод. Восемьдесят два человека. Без лейтенантов. Этот взвод будет первым. И тебя, Воронцов, назначаю командиром первого взвода.
— А что с лейтенантом Могилевским?
— Убит. — Ротный закурил. — Зря я его ругал. Он из студентов. Человек не военный. Во второй траншее, во время рукопашной… Надо было мне его в замполиты роты перевести. И живой бы остался, и толк бы был, и мне легче.
Старший лейтенант Солодовников говорил еще что-то. Но Воронцов слышал его как будто сквозь туман. То ли вдруг подействовало выпитое, то ли нахлынули мысли о потерянных на высоте товарищах, о Степане, о том, что в полевой сумке лежит письмо его мамы и что ему предстоит написать ей о том, как погиб ее сын, и о том, где он его похоронил. Сквозь обметанные пушистым инеем ветви молодых сосен уже просачивалось позднее декабрьское солнце, золотило скаты высот. Он сунул руку за пазуху, потрогал край полотенца. Оно было еще влажным, как пальцы Зинаиды…
Он расчехлил бинокль и посмотрел туда: немцы деловито, как муравьи, уже сновали по траншее, выбрасывали на бруствер землю, расчищали завалы, приводили в порядок свою оборону.
Через несколько дней, где-то здесь, уже с новым составом штрафников они все начнут сначала.
До конца войны оставалось еще два с половиной года.
Никто из них не знал ни этих сроков, ни своей судьбы.
Примечания
1
Состав 5-й тд в тот период был примерно таков: в дивизию входила 5-я мотопехотная бригада, которая, в свою очередь, включала 13-й и 14-й мотопехотные полки; 5-я танковая бригада, включавшая 15-й и 31-й танковые полки; 119-й моторизованный артиллерийский полк; 53-й полк самоходной артиллерии; 89-й инженерно-саперный батальон; 8-й моторизованный разведбатальон; 77-й танковый батальон связи; 85-й интендантский отряд; 85-й полевой батальон. Штатная танковая дивизия того периода насчитывала 200–350 танков. 5-я тд оказалась на Восточном фронте в октябре 1941 года. Она была придана 46-му танковому корпусу. Корпус входил в 4-ю танковую группу (группа армий «Центр»). Участвовала в Московской битве. В 1942 году участвовала в различных оборонительных сражениях группы армий «Центр». Затем она присоединилась к отступлению из района Ржева. К осени 1942 года 5-я мотопехотная бригада была расформирована. Для более эффективной борьбы с советскими танками дивизии был придан 55-й зенитный батальон. В конце 1943 года 5-я тд принимала участие в боях в среднем течении Днепра. Затем отступала через Белоруссию и Польшу. Оборонялась в Восточной Пруссии. В апреле 1945 года пленена советскими войсками севернее Данцига.
(обратно)2
Глава 39-я Боевого устава пехоты Красной Армии называется «Снайпер».
Снайпер — меткий стрелок — имеет своей основной задачей уничтожение снайперов, офицеров, наблюдателей, орудийных и пулеметных расчетов (особенно фланкирующих и кинжальных пулеметов), экипажей остановившихся танков, низко летящих самолетов противника и вообще всех важных, появляющихся на короткое время и быстро исчезающих целей.
Для успешных действий в бою снайпер обязан:
— уметь уверенно поразить цель одним выстрелом;
— постоянно сохранять оружие и оптику в отличном состоянии;
— искусно использовать местность и средства маскировки;
— длительно и настойчиво наблюдать, выслеживая цели по самым незначительным признакам, и точно определять расстояние до них;
— осторожно и незаметно для противника подходить как можно ближе к избранной цели (в обороне выдвигаться вперед за передний край), терпеливо выжидать (иногда несколько часов) удобного момента и наверняка поражать цель, после чего так же скрытно сменять пост;
— действовать ночью, в плохую погоду, на пересеченной местности, в районе препятствий и мин.
Снайпер должен уметь также показать трассирующей пулей и другими способами пехоте, артиллерии, минометам и противотанковым ружьям важные цели, не уязвимые пулей: танки, ДОТ (ДЗОТ), орудия.
В нужных случаях снайпер должен доводить огонь до наивысшего напряжения (отражение атаки), а также умело действовать в рукопашном бою (гранатой, кинжалом, прикладом).
(обратно)3
Во время прорыва из окружения Западной группировки 33-й армии в апреле 1942 г. В составе штабной группы было два генерала: командующий 33-й армией генерал-лейтенант М. Г. Ефремов и командующий артиллерией 33-й армии генерал-майор П. Н. Офросимов. М. Г. Ефремов застрелился во время последнего боя, получив тяжелое ранение. П. Н. Офросимов был ранен в грудь днем раньше, во время очередной атаки на прорыв, в лесу, и вскоре умер.
(обратно)4
Курт, который час?
(обратно)5
Четверть седьмого.
(обратно)6
Поторапливайтесь!
(обратно)7
Курт, пожалуйста, меню!
(обратно)8
Заливное мясо! И… и луковый суп!
(обратно)9
Скажите, пожалуйста, входит ли завтрак в стоимость номера?
(обратно)10
Кто это?
(обратно)11
Я староста… господин офицер.
(обратно)12
О, хорошо, хорошо. Что вы хотите?
(обратно)13
Могу ли я поговорить с господином офицером Штрекенбахом?
(обратно)14
Боже! Очень скользко! Ну и погода!
(обратно)15
Гельмут! Что случилось?
(обратно)16
МТС — Машинно-тракторная станция. Станции были созданы в 30-е годы для помощи колхозам и совхозам. Вначале они создавались и укомплектовывались новой техникой в районных центрах, а затем в крупных селах и деревнях. За каждой МТС закреплялось несколько десятков коллективных и совместных хозяйств со своими пахотными землями. Одна МТС могла иметь несколько бригад, которые одновременно вели работы в нескольких хозяйствах. Станции были укомплектованы тракторами, зерноуборочными комбайнами, молотилками, сеялками, веялками и другой необходимой прицепной техникой. В МТС имелись также грузовые машины для подвоза горюче-смазочных материалов и перевозки людей. Кадры для станций — трактористы, механики, шофера, прицепщики — набирались из числа сельской молодежи, а также жителей районных городков и поселков. Профессия тракториста считалась очень престижной. В годы Великой Отечественной войны большинство танкистов было мобилизовано из МТС.
(обратно)17
— Господин солдат, пожалуйста… Можно вас попросить?
— Что там?
— Где я могу найти туалет?
(обратно)18
Вторая Ржевско-Сычевская наступательная операция. В отечественной историографии отражена слабо. Описания и выводы весьма противоречивы. Хронологическое совпадение ее со Сталинградской битвой, которая тоже носила «космическое» кодовое название («Уран»), не случайно. 10 октября 1942 года советские войска получили директиву на продолжение Ржевско-Сычевской операции силами Западного и Калининского фронтов с той же целью: окружение и уничтожение немецких войск, находящихся на Ржевском выступе. Выступ по-прежнему угрожал Москве своей близостью к столице и тем, что здесь была сосредоточена основная группировка войск группы армий «Центр», а именно — 9-я полевая армия под командованием «гения обороны» генерала танковых войск Вальтера Моделя. Ставка сосредоточила на ликвидацию ржевского выступа следующую группировку: 20, 29, 31 и 30-я Западного фронта и 41, 22 и 39-я армии Калининского фронта. Были также задействованы 1-й механизированный корпус генерала Соломатина и 3-й механизированный корпус генерала Катукова. В резерве: 114-я сд и 39-й танковый полк. Группа армий «Центр» к тому времени успела основательно пополнить свои силы, подтянув в район Ржевско-Вяземского выступа 39-й танковый корпус (5-я танковая, 78-я и 102-я пехотные дивизии), 9-ю тд и 95-ю пд, а также 41-й танковый корпус. В резерве: 1-я тд и мотодивизия СС «Великая Германия». Севернее позиции занимал 23-й армейский корпус (110-я и 206-я пехотные, 14-я моторизованная дивизии). 27 ноября советские войска прорвали немецкие линии. В прорыв вошел 2-й гв. к. к. и танковые подразделения. Они перехватили шоссе Ржев — Вязьма. Вскоре немцы перегруппировались и контратаковали: 19-я и 20-я танковые дивизии, наступая с юга, клином врезались в порядки советских войск; навстречу им с севера двигался ударный клин 1-й танковой дивизии и подчиненная ей ударная группа дивизии «Великая Германия». С советской стороны в операции участвовало 1890 тыс. человек, 24 тыс. орудий и минометов, 3375 танков и 1100 самолетов. С немецкой: 72 дивизии — 1680 тыс. человек и 3500 танков. Повторилась трагедия февраля — апреля 1942-го, когда под Вязьмой была отрезана Западная группировка 33-й армии Западного фронта, с той лишь разницей, что на этот раз в «котле» оказалась более многочисленная советская группировка. Операция «Марс» с точки зрения собственно ее результатов оказалась неудачной. Но она, несомненно, помогла Красной Армии выиграть сражение под Сталинградом и в целом переломить ход войны. В случае же успеха, Ставка разработала новую операцию под кодовым названием «Юпитер». 5-я и 33-я армии Западного фронта должны были снова атаковать в направлении Вязьмы, захватить этот важный коммуникационный узел, а затем в составе сил Калининского и Западного фронтов прорваться к Балтийскому морю, уничтожив группу армий «Центр» и расчленив группу армий «Север». Планам Ставки не суждено было сбыться. Хронологические рамки Второй Ржевско-Сычевской операции: 25 ноября — 20 декабря 1942 года. В день РККА, по различным источникам, теряла 10 000 человек, включая и раненых.
(обратно)19
«Колотушкой» немцы называли свою противотанковую 37-мм пушку.
(обратно)20
Подольское пехотное училище.
(обратно)21
Военная область «Митте», созданная германскими оккупационными властями, в тот период была тыловым районом группы армий «Центр». Она включала в себя Смоленскую, Могилевскую, Брянскую, Витебскую, часть Орловской и Минской областей. Военная область, в свою очередь, была поделена на округа. Округа подчинялись комендатурам. Самой мелкой административной единицей была волость. Некоторые округа имели также уездное деление. Во главе «Митте» стоял «командующий областью» генерал фон Шенкендорф.
(обратно)22
— Трофей?
— Да.
— И он?
— Да.
(обратно)23
Родина.
(обратно)24
Доброе утро, госпожа Бальк!
(обратно)25
Доброе утро, девочка. Входи. Сегодня ветрено.
(обратно)26
Да, госпожа Бальк, и идет снег.
(обратно)27
Снова и снова… идет снег. Будто в России.
(обратно)28
Соборная улица
(обратно)29
Госпожа Бальк, я очень сожалею о случившемся. Я вам сочувствую. Мой отец… тоже, госпожа Бальк…
(обратно)30
Продовольственно-фуражный склад.
(обратно)31
Отдельная штрафная рота.
(обратно)32
Первые штрафные формирования в РККА в годы Великой Отечественной войны появились летом (28 июля) 1942 г., когда Сталин подписал приказ № 227, в котором потребовал прекратить отступление, «упорно, до последней капли крови защищать каждую позицию, каждый метр советской территории, цепляться за каждый клочок Советской земли и отстаивать его до последней возможности». В этом приказе, в частности, был такой пункт: «Сформировать в пределах армии от пяти до десяти (смотря по обстановке) штрафных рот (от 150 до 200 человек в каждой), куда направлять рядовых бойцов и младших командиров, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, и поставить их на трудные участки армии, чтобы дать им возможность искупить кровью свои преступления перед Родиной…» Данные статистики свидетельствуют: к концу 1942 г., т. е. в период, когда действуют наши герои, в РККА насчитывалось 24 993 штрафника. В 1943 г. — 177 694. В 1944-м — 143 457. В 1945-м — 81 766. За период с 1942 по 1945 г. в РККА было сформировано 1028 штрафных рот и 65 отдельных штрафных батальонов. Постоянный состав роты, т. е. офицерский, насчитывал 15 человек, включая командира роты. Переменный (бойцы), как правило, колебался от 200 до 350 человек. Постепенно офицерский состав сократился до 8 человек. Существенно уменьшилось число политработников: остался один агитатор.
(обратно)33
В историю Великой Отечественной, да и всей Второй мировой войны, битва подо Ржевом вошла как самая продолжительная и кровопролитная.
(обратно)34
Оклад командира роты, включая выслугу и полевые, составлял 1375 рублей в месяц. Выслуга шла один к шести. Соответственно и повышались звания. За один год, если пуля его минует, лейтенант мог дослужиться до капитана.
(обратно)35
Истребительно-противотанковый артиллерийский полк. Особенно много таких полков было создано в начале войны, в 1941 и 1942 годах, когда существовала угроза прорыва немецких бронетанковых и моторизованных колонн к Москве, Ленинграду, Туле, Сталинграду, Ростову и другим жизненно важным центрам и коммуникационным узлам, оставлять которые противнику было нельзя. В состав ИПТАПа входили также подразделения ПТР.
(обратно)36
Немецкий средний танк. Считался самым мощным танком в первый период войны, т. е. до 1943 года, когда вермахт в канун операции «Цитадель» (Курская битва) получил новые танки: тяжелый T-V — «Тигр» и средний T-VI — «Пантера». Затем — T-VIB — «Королевский тигр». Тем не менее производство T-IV не было остановлено. Напротив, в это время появился, в том числе и на Восточном фронте, модернизированный T-IV с улучшенными параметрами и боевыми качествами. До конца Второй мировой войны оставался самым массовым и распространенным танком рейха.
(обратно)



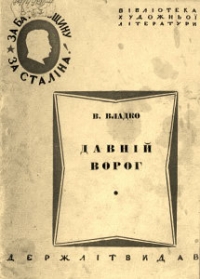








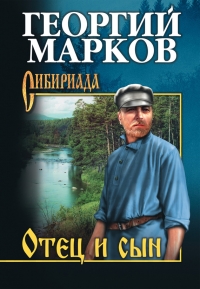
Комментарии к книге «Высота смертников», Сергей Егорович Михеенков
Всего 0 комментариев