Николай Асанов ОГНЕННАЯ ДУГА Повести и рассказы
ПОВЕСТИ
ОГНЕННАЯ ДУГА
Часть первая
Глава первая. Главное условие боя…
1
«16 февраля наши войска после решительного штурма, перешедшего потом в ожесточенные уличные бои, овладели городом Харьковом…»
Совинформбюро. 16 февраля 1943 г.В середине февраля майора Толубеева внезапно вызвали на госпитальную комиссию… Все эти дни раненые жили взволнованно-приподнято. Врачи с изумлением наблюдали, как, казалось бы, безнадежные пациенты вдруг начинали поправляться, интересоваться событиями в мире и на фронтах. Лежачие больные требовали костыли и сызнова учились ходить. А еще вчера считавшиеся «трудными» сегодня просились на выписку.
Но госпитальные врачи знали, что эти чудеса зависят совсем не от медицины, не от лекарств.
Это было всеобщее чудо возрождения, охватившее всю страну.
Всего лишь две недели назад, первого февраля, было опубликовано сразу ставшее достоянием истории знаменитое сообщение Совинформбюро, начинавшееся словами: «НАШИ ВОЙСКА ПОЛНОСТЬЮ ЗАКОНЧИЛИ ЛИКВИДАЦИЮ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК, ОКРУЖЕННЫХ В РАЙОНЕ СТАЛИНГРАДА».
Хотя последние месяцы Совинформбюро ввело новую рубрику «В последний час» и часто передавало радостные сообщения о победах на том или другом фронте, но нужно чувствовать себя солдатом, чтобы полностью представить себе масштабы этой победы под Сталинградом. И со второго февраля количество «чудесных» исцелений в госпитале все увеличивалось, возле репродукторов шла непрерывная дискуссия на тему: а какой фронт будет назван сегодня? — местные стратеги определяли по им только ведомым признакам участки, где начнется новое наступление, и все это естественно способствовало бодрости духа, которую даже скептики-врачи начали принимать во внимание, определяя ту или иную методу для лечения раненых.
Новые раненые в этот госпиталь не поступали: в нем долечивались те, кто получил тяжкие ранения еще в сорок втором году, в дни ожесточенных оборонительных боев во время серии фашистских ударов по Ленинграду, а затем при неудавшейся попытке прорвать блокадное кольцо под Синявино, в затяжных боях под Демянском, под Волховом. Этим бойцам, сражения которых не принесли видимой удачи, наверно, больше, чем кому бы то ни было, нужно было узнать, что их подвиги и даже страдания помогли другим бойцам выковать подлинную победу…
Майор Толубеев не хуже других понимал, что действия его батальона легких танков в те дни, даже и не принесшие настоящего успеха, все равно бросили свою долю на чашу весов, которая сейчас окончательно перевешивала всю могучую мощь фашистских армий. Но сам-то он был очень еще плох, чтобы надеяться на скорое возвращение к своим солдатам.
Вот почему вызов на госпитальную комиссию для него оказался неожиданным.
Пулевая рана в живот совсем еще недавно считалась смертельной. И Толубееву казалось, что ему необыкновенно повезло: его выходили, почти уже вылечили, только три последовательные операции чрезмерно истомили его. На комиссию он шел с полным пониманием того, что ничего утешительного врачи ему не скажут…
Комиссия, к удивлению майора, оказалась весьма представительной: присутствовали несколько госпитальных врачей, два каких-то крупных медицинских начальника и еще некий молчаливый остроглазый полковник, чрезвычайно пристально разглядывавший Толубеева.
Но сначала Толубеев не обратил внимания на этого человека. Его поразила новая форма офицеров: погоны, еще не обношенные, лежавшие дощечками на плечах, серебряные у медиков, золотые у военкома и остроглазого полковника. До сих пор Толубеев, как и другие ходячие больные, видел солдат и офицеров в погонах только через окно госпиталя, когда они проходили по улицам, еще и сами не узнавая себя, порой косясь на эти новые знаки различия на собственных плечах и необыкновенно пристально разглядывая их на плечах встречных военных. Погоны были только что введены и как-то необычно изменили вид любого воина…
Остроглазый полковник был поначалу интересен Толубееву только своими красивыми погонами с крупными серебряными звездами. Но тут майор уловил настороженный, изучающий взгляд полковника, и ему вдруг показалась, что он уже где-то видел это узкое, с высокими надбровьями, лицо, эти светлые прищуренные глаза, которые словно бы изучали его или, во всяком случае, запоминали, как запоминают чужой облик глаза художника, собирающегося писать портрет, а пока что исследующего натуру.
И внезапно Толубеев вспомнил: месяц назад, во время последней операции, когда он уже засыпал под наркозом, едва сопротивляясь слабости и тошноте, он услышал быстрые шаги, — они отдавались в усталом мозгу подобно барабанному грохоту, — и кто-то подошел к операционному столу, встал в ногах у Толубеева, пристально вглядываясь, спросил горячим быстрым шепотом:
— Ну, как?
— Надеемся! — сухо ответил госпитальный хирург, голос которого Толубеев узнал сквозь начинающееся забытье.
— Имейте в виду, он нам очень нужен! — решительно произнес неизвестный и словно бы растаял: это уже начинался глубокий обморок от наркоза.
«Хотел бы я услышать твой голосишко, — неприязненно подумал Толубеев. — Если это был ты, когда я на смертном одре лежал, — я бы тебя спросил: „А по какому праву ты мне умереть не позволял?“»
Впрочем, эта неприязненная мысль тут же и исчезла. Сейчас-то майор не на смертном одре лежал, а находился перед официальной комиссией, только чувствовал себя дурно. Он уже разделся до трусов и стоял перед столом, за которым сидели все эти люди, а тот, быстроглазый, похожий на гипнотизера, все так же пристально приглядывался к нему, но вопросов не задавал, живот ему не мял, — этим занимался госпитальный хирург, другие просто смотрели со стороны.
А рассматривать, на взгляд Толубеева, было что. Весь живот в шрамах, втянут куда-то внутрь, и мнилось Толубееву, что госпитальный хирург, прикасаясь к его животу, запросто прощупывает под бледной кожей позвонки, так живот стал пуст и тощ. И тут же услышал голос быстроглазого гипнотизера:
— Ну, как?
«Он! Точно, он!» — поразился Толубеев. Но тут же забыл, что собирался задать ему вопрос: «А что, мол, вам надобно, почему вы мне не даете спокойно умереть?» Во-первых, теперь он умирать не собирался, во-вторых, ему и самому хотелось услышать мнение хирурга о собственной персоне. А хирург, помявшись, недовольно буркнул:
— Ничего хорошего. Нужен длительный отдых для восстановления сил…
Вопрошатель умолк, уставившись взглядом в стол перед собой, и тут Толубеев приметил перед ним свое личное дело. Ему сразу стало не по себе. Выходит, это не посторонний человек! Личным делом обычно интересуются в двух случаях: или ты совершил ошибку, пусть ты и не знаешь какую, — там сами дознаются! — или в смысле кадровой передвижки. А ни того, ни другого Толубееву не хотелось: он уже совершил в своей жизни крупную ошибку и с той поры старался ошибок не совершать. А с передвижкой и совсем был не согласен: привык к полку, к дивизиону, с которыми воевал с тридцатого июня тысяча девятьсот сорок первого, сроднился с людьми и лучшего не желал…
И в эту минуту мелькнуло у него еще одно подозрение: а не сидел ли именно этот востроглазый человек в сторонке за столом, когда другой крупный начальник разбирал прежнюю «ошибку» Толубеева и грозил ему всеми карами за эту «ошибку» и обещал сломать ему если не всю жизнь, так «карьеру»? Но как это могло быть? То дело начиналось задолго до войны… И с легким сердцем Толубеев подумал, что это последнее видение именно привиделось, — просто не понравился ему этот худой, остролицый и остроглазый человек, по какому-то неясному поводу интересовавшийся личным делом заурядного офицера-танкиста, лежащего после тяжелого ранения в заурядном офицерском госпитале в Москве.
— Одевайтесь, майор! — сухо приказал хирург и попросил сестру пригласить следующего офицера.
А наутро тот же хирург, как-то робко и словно бы извиняясь, сказал на врачебном обходе Толубееву:
— Владимир Александрович, мы вас выписываем. Документы подготовлены, зимняя форма тоже. Советую сначала пообедать…
«Так. Но что же все это значит? Сначала явная немилость — выписывать офицера с незаживленными ранами, значит, обрекать его на скорое появление в другом госпитале, только тот будет похуже и поближе к фронту. А затем тут же зимняя форма и диетический обед. Конечно, попал он сюда осенью, зимняя форма необходима. Ну, а обед… Известно, какие сейчас обеды в столовой резерва… А может, меня прямо на вокзал?»
Все было удивительно, все было не так, как положено.
Обеда дожидаться он не стал. Если уж идти навстречу судьбе, так делать это надо без промедлений.
Не только погоны, но и шинель, шапка, сапоги — все было новенькое, с иголочки. Одевшись, Толубеев полюбовался на себя в зеркало, пощупал на плечах твердые дощечки погонов с двумя полосками и звездой меж ними, — подходяще, хотя и не так солидно, как у вчерашнего полковника, но, вспомнив полковника, поскучнел, пошел за документами. Сержант из выздоравливающих, почтительно козырнув погонам, предупредил:
— Тут для вас, товарищ майор, срочное предписание…
Толубеев взял плотный конверт с официальным грифом в углу: «Совершенно секретно!»
Он нетерпеливо вскрыл конверт. В нем лежала небольшая бумажка с тем же грифом, длинным казенным номером и совершенно не казенными словами:
«Уважаемый Владимир Александрович!
Звоните мне в начале каждого часа с любого телефона, какой окажется под рукой. Возможно, освобожусь очень поздно. Вам заказан номер в гостинице „Москва“. Талоны на питание получите вместе с ордером на номер. Мой телефон: К-4-42…
Дружески: Корчмарев».
И все. За тем лишь исключением, что никакого Корчмарева майор Толубеев никогда не знавал.
Сержант из выздоравливающих покопался в связке ключей и открыл дверь склада, где хранились личные вещи находящихся на излечении. Нырнул туда на минуту, вернулся и поставил у ног Толубеева лакированный чемодан с ключами, привязанными к ручке.
— Что это такое? — растерянно спросил Толубеев.
— Приданое. Приказано вручить при выписке, — отрапортовал сержант, глядя на Толубеева с тем почтением, какое вызывают события и вещи непонятные. Толубеев и сам смотрел бы столь же почтительно, случись все это с кем другим.
Тут он вспомнил о записке, которую все еще держал в руке, шагнул к телефону. Телефон отозвался длинными гудками, но трубку никто не поднял.
Толубеев попробовал чемодан на вес. Тяжел, собака. Но сержант предупредительно сказал:
— Не беспокойтесь, товарищ майор. Машина начальника госпиталя в вашем распоряжении до двенадцати ноль-ноль. — И крикнул в дверь: — Устинов! Отвезите товарища майора!
Тотчас же появился лихой шофер, схватил чемодан и поволок к выходу, Толубееву ничего не оставалось делать, как кивнуть сержанту, все так же почтительно взиравшему на него, и выйти.
Дверь госпиталя захлопнулась, словно отрезала все, что было до сих пор, а вот что будет? Толубеев попытался было не думать об этом, глядя на зимнюю Москву, но под ложечкой посасывало…
2
«17 февраля на Украине наши войска в результате упорных боев овладели городом и железнодорожным узлом Славянском, а также заняли города Ровеньки, Свердловск. Богодухов, Змиев.
В Курской области наши войска, продолжая развивать наступление, заняли город Грайворон».
Совинформбюро. 17 февраля 1943 г.Неизвестный Толубееву Корчмарев отозвался только в двадцать три ноль пять.
Все это время Толубеев провел в гостинице, боясь отойти от телефона, — а вдруг тот зазвонит? Ведь телефоны для того и существуют, чтобы зазвонить в самое неожиданное время.
Правда, он спустился обедать в ресторан и был приятно поражен тем, что ресторан оказался настоящим, с проворными, хотя и весьма пожилыми официантами. За столами было много военных, но, судя по очень чистой форме, все это были тыловики. Прислушавшись к разноголосому гулу, Толубеев понял, что тут обедали корреспонденты, писатели, штабники, командировочные с фронта и из глубокого тыла, но эти люди тоже носили военную форму, а многие из них, как сообразил Толубеев, оказались в Москве лишь на несколько дней, а то и часов, и он понимал их стремление к этому маленькому осколку давно уже позабытой «мирной жизни». Было много женщин, — с мужчинами и по одиночке, — может быть военных вдов, которым стала тяжка одинокая жизнь, может быть, просто искательниц приключений, а может быть, и таких, кто напряженно прислушивался к разговорам военных, собирая «информацию». Слышалась и иноязычная речь: Толубеев понял, тут обедают и иностранные корреспонденты. Они постоянно поминали русское слово «сводки» и ставшее привычным всему миру название «Совинформбюро». Все было ясно: прошли те времена, когда корреспонденты гадали — недели или месяцы продержатся русские под натиском фашизма? Шел тысяча девятьсот сорок третий, только что сдался фельдмаршал Паулюс, и над Сталинградом снова взвилось красное знамя, были освобождены Курск и Воронеж, прорвана блокада под Ленинградом, и хотя положение на фронтах начало стабилизироваться, сводки Информбюро по-прежнему пестрели названиями освобожденных городов и населенных пунктов. Вот почему иностранные корреспонденты, судя по отрывкам их разговоров, гадали на своей кофейной гуще уже о будущем фашизма: как долго гитлеровцы продержатся перед небывалыми фронтальными и охватывающими ударами русских? Недаром они частенько поминали и еще одно русское словечко: котел. Но всю эту болтовню Толубеев оставил на совести самих иностранных корреспондентов, сейчас его больше занимал обед.
Оказалось, что неизвестный Корчмарев предусмотрел все: диетический обед и даже бутылку сухого вина. А позже, в двадцать часов, когда Толубеев спустился ужинать, его ожидала и вторая бутылка. Если так пойдет и дальше, то можно не торопить события. Однако ж неизвестный Корчмарев не на того напал! И Толубеев регулярно звонил по таинственному телефону «в начале каждого часа…».
И вот в двадцать три ноль пять телефон заговорил человеческим голосом.
— Вас слушают! — сказал он устало и неприветливо.
— Я прошу товарища Корчмарева! — пытаясь скрыть волнение, но так и не превозмогши его, произнес Толубеев.
— Одну минуточку. — Пауза. — Кто его спрашивает?
— Майор Толубеев.
Несколько неясных слов, произнесенных в сторону от трубки. И затем широкий радушный голос:
— Владимир Александрович? Очень рад. Я — Корчмарев. Как ваше самочувствие?
— Хотел бы доложить при встрече.
— Понимаю, понимаю. Одну минуточку! — «Черт бы их побрал с этими „минуточками“!» — подумал Толубеев, жадно вслушиваясь в слова. — Подождите у телефона. — Опять уходящий в сторону голос. И снова к Толубееву: — Ну что же, машина будет у вас через тридцать минут. Шофер позвонит в номер, так что до звонка не спускайтесь, сегодня довольно холодно, да и шофер не найдет вас. К тому же, комендантский час…
— Благодарю… — с облегчением произнес Толубеев. Ему показалось, что все тайны наконец окончатся. И чем скорее, тем лучше.
Он вернулся к содержимому чемодана, который таил его «приданое». Днем он уже рассмотрел штатский костюм, несколько отличных сорочек, галстуки, запонки, булавки, золингеновскую бритву и электрическую «Филипс». Все это наводило на определенные размышления, но так «размышлять» было пока что опасно. Поэтому он просто достал «Филипс» и побрился еще раз, открыл флакон какого-то одеколона, протер лицо и почувствовал себя как будто лучше.
Телефон зазвонил. Конечно, шофер. Назвал номер машины.
Толубеев спустился в вестибюль.
В вестибюле толпилось несколько человек — мужчин и женщин, по-видимому, пропустивших комендантский час. У них проверяли документы. Однако Толубеева пропустили без расспросов. Краем глаза он заметил какую-то фигуру, которая словно бы сделала знак проверяющим, на так торопился, что не стал разглядывать. И только подойдя к названной машине, приметил, что шофер идет следом. Вероятно, этот человек уже знал его в лицо и дал ему возможность выйти не задерживаясь.
Действительно, шофер открыл дверцу перед ним, усадил рядом с собой, и машина покатила по пустым улицам.
Вместе вошли они в какое-то бюро пропусков. Толубеев предъявил свое предписание, выданное Корчмаревым. Вахтер повертел бумажку, сказал:
— Водитель проводит вас.
Лифт вознес их на седьмой этаж. «Коридоры в коридоры, в коридорах двери!» — вспомнилось Толубееву. Водитель вежливо постучал в одну из дверей, пропустил Толубеева и остался за порогом.
За двумя столами, друг против друга, сидели двое. Одного Толубеев сразу узнал: узкое длинное лицо, гипнотизирующие светлые твердые глаза, которые увидел перед тем, как заснул от наркоза, и еще раз — на перекомиссии, когда тот смотрел этими острыми глазами на худое израненное тело Толубеева. Второй показался Толубееву попроще и посимпатичнее. Довольно полный, седоватый, с крупными залысинами на высоком и без того лбу. Оба были в штатском, хотя все вокруг было строго по-военному, да и само здание больше всего походило на штабное.
— Майор Толубеев, явился по вызову товарища Корчмарева… — сказал он точно, строго, а глаза так и бегали с одного лица на другое, — кто есть кто? — как говорят англичане.
Полный, седовласый поднялся, пошел навстречу, протягивая руку:
— Здравствуйте, Владимир Александрович.
Потом указал на второго, знакомя:
— Полковник Кристианс.
Кристианс тоже протянул сухую твердую руку. Толубеев подумал: спортсмен. Гребец и теннисист. По-видимому, эстонец. Вот почему у него невыразительный голос. Он говорит не на родном языке.
— Мы пригласили вас… — начал Корчмарев, но взглянул на Кристианса и закончил другим тоном:… — на маленькое совещание…
Оба двинулись к двери, и Толубеев оказался как бы под конвоем: впереди — толстенький коротенький Корчмарев, замыкающим — длинноногий Кристианс. Так они и шли по длинному коридору, иссеченному безмолвными тихими дверями.
Коридор упирался в другой коридор, а уж в том показалась открытая дверь в большую приемную, где вскочил и щелкнул каблуками капитан, настоящий гвардеец по выправке, а из приемной в обе стороны еще двери — обитые кожей тамбуры. В одну из этих дверей, что справа, прошел Корчмарев, пробыл там минуту, — ни звука не слышалось оттуда, — потом раскрыл дверь, сказал с каким-то торжественным звоном в голосе:
— Прошу вас, Владимир Александрович!
Кристианс беззвучно замкнул шествие и закрыл за собой двери — и наружную, и внутреннюю.
В большом кабинете было полутемно: настольная лампа посреди пустынного стола, еще стол, придвинутый к первому торцом, и торшер в углу возле круглого столика, окруженного несколькими креслами. За главным столом сидел пожилой человек в штатском, еще трое ютились около торшера, стоя пили кофе, как будто не имели никакого отношения ни к человеку за столом, ни к тем троим, что вошли только что. Человек за столом поднялся, — Толубеев заметил, что выглядит он очень усталым, — протянул руку, назвал себя невнятно и указал на кресло перед собой. Корчмарев отошел к круглому столику, перекинулся несколькими непонятными словами со стоящими там, поколдовал немного и вернулся к длинному столу, поставил перед Толубеевым чашку дымящегося кофе. Кристианс остался в самом конце длинного стола, где было совсем темно.
Перед усталым пожилым человеком на столе лежала папка, и это опять было «личное дело» Толубеева.
Трое в углу примолкли, расселись вокруг столика, но торшер не столько освещал их лица, сколько затенял.
— Выпейте кофе, товарищ майор! — неожиданно звонким голосом сказал хозяин кабинета. — Вы, наверно, устали? — и сам принялся позванивать ложечкой в своей чашке.
Хотя впервые названное в этом кабинете скромное звание Толубеева призывало к строгим мыслям о войне и подчеркивало, кроме того, что все остальные тут, конечно, выше по званию, но офицер как-то вдруг успокоился. Может быть, оттого, что на войне дела решает приказ, его не опротестуешь, и тут уже все зависит от самого майора: сумеешь — выполнишь! Толубеев даже с удовольствием прихлебнул кофе из чересчур, по его мнению, маленькой чашечки.
— Вы ведь металлург по профессии, Владимир Александрович? — спросил хозяин, отставляя свою чашечку. — Почему же вы не воспользовались броней, которую вам предоставил наркомат обороны?
— В сущности-то я чрезвычайно узкий специалист, — несколько недоумевая, так не вязался вопрос с обстановкой, ответил Толубеев. — Я занимался редкими металлами, ну, а во время войны… Одним словом, руководство уважило мою просьбу…
— А вы полагали, что редкие металлы во время войны не понадобятся?
— Войны решают чугун, железо и сталь! — ответил Толубеев словами из своего давнего рапорта.
— А ванадий, вольфрам, марганец, одним словом, присадочные металлы и минералы? — спросил один из сидящих в углу.
— В сорок первом от каждого требовалось одно: быть на самом тяжелом участке.
— Да, психологически вы, вероятно, правы, — задумчиво произнес хозяин кабинета, и Толубеев благодарно взглянул на него.
— А почему в анкете добровольца вы ничего не сказали о знании языков? — вдруг спросил Кристианс.
— Ну какое там знание! — усмехнулся Толубеев. — Английский и немецкий — кое-как да норвежский — слабо. А с добровольцев знания языков и не спрашивали…
— Вы долго были в Норвегии? — спросил хозяин.
— С сентября тысяча девятьсот тридцать восьмого по десятое апреля тысяча девятьсот сорокового. Сразу после нападения Гитлера на Норвегию наше посольство предложило нам прекратить все закупочные операции и немедленно выехать на родину. Но выехать удалось только в конце апреля. Факт пребывания за границей в анкете отмечен, — осторожно добавил он.
— Только по этому факту в анкете вас и разыскали! — вроде бы даже с улыбкой сказал хозяин.
— А сколько времени искали! — сердясь на что-то, заметил Кристианс.
— Однако ж нашли! — миролюбиво остановил полковника хозяин.
— У вас остались в Норвегии друзья? — это Корчмарев берет быка за рога. Толубеев невольно опустил глаза и сказал слишком тихо:
— Да.
Из угла чей-то голос задумчиво произнес:
— Я помню ваш тогдашний доклад о состоянии норвежской и шведской металлургической промышленности и о захвате этих рынков немцами. Такой доклад без деятельных и умных помощников было бы невозможно составить. Как вы полагаете, ваши друзья не могли подвергнуться преследованиям?
— Ну, в Норвегии люди, которые мне помогали, никаких секретных фактов не разоблачали. Думаю, что немецкое гестапо ими не интересуется. А друзья — шведы в полной безопасности. Швецию немцы не захватили.
— А могли бы вы восстановить эти связи? — Это опять Корчмарев. Он, по-видимому, любит торопить события. Но ведь сначала Толубеев должен знать, чего от него хотят. Французы говорят, что и самая красивая девушка не может дать больше того, что она имеет. А у Толубеева нет ничего.
— Вы имеете в виду — восстановить их отсюда? — осторожно спросил он.
Сидевший в углу человек вдруг поднялся и вышел на свет. Он подвинул кресло и сел рядом с хозяином кабинета. Только тут Толубеев узнал его: заместитель наркома тяжелой промышленности. Когда-то этот человек оформлял его заграничную командировку. Заместитель наркома жестко сказал, будто с кем-то спорил:
— Я думаю, нам следует поговорить начистоту. — Но потом улыбнулся, словно хотел смягчить свою неожиданную резкость, добавил: — Туркмены говорят: «Сядем хоть наискось, но поговорим прямо…».
Хозяин кабинета вежливо сказал:
— Пожалуйста. Мы слушаем.
Заместитель наркома заговорил тихо, медленно, но так, словно хотел вбить в сознание Толубеева каждое слово:
— Владимир Александрович, вы, я вижу, уже поняли, что от вас ждут чего-то очень важного. Меня вы знаете. Эти товарищи руководят различными отделами разведки генерального штаба. Наш хозяин — генерал Коробов — занимается, в частности, запасами стратегического сырья, находящегося в распоряжении противника. Как раз он и поставил нас в известность, что у немцев происходит какая-то перегруппировка заказов на поставки сырья. А так как гитлеровские пропагандисты после сталинградского поражения не нашли ничего лучше, как хвалиться неким «несокрушимым» оружием, нам приходится принимать в расчет и эту похвальбу. Даже в гитлеровской пропаганде попадаются крупицы правды… А теперь, уважаемый товарищ Кристианс, ваши аналитические данные!
В руках у Кристианса появилась откуда-то кожаная папка, он встал в конце длинного стола для заседаний, и все передвинулись к этому столу.
— Первые данные о перегруппировке немецких заказов мы получили из совершенно достоверных источников в начале января. Норвежские и шведские промышленники вдруг начали разрабатывать даже нерентабельные рудники, строить обогатительные фабрики и отгружать в Германию по очень выгодным ценам большое количество марганца, вольфрама, ванадия. Примерно в это же время из Германии поступили сведения о введении на некоторых заводах Крупна особых условий секретности. Вначале это были только сталелитейные заводы. Затем те же правила особой секретности были распространены на металлообрабатывающие и сборочные цехи. Но самое любопытное в том, что этой чести удостоились только танкосборочные заводы и заводы самоходных орудий…
— Одним словом, мы полагаем, что речь идет о броневой стали особого качества, — резюмировал заместитель наркома.
— Что же должен сделать я? — тихо спросил Толубеев.
— Вы, конечно, помните рассказ о том, как Менделеев вывел формулу бездымного пороха по одним только накладным на грузы, поступавшие на завод? — заместитель наркома остро посмотрел на Толубеева. — Вам придется вернуться в Норвегию и сделать что-то вроде этого…
— Но ведь я-то не Менделеев! — воскликнул майор.
— Но вы известный металлург! — жестко ответил заместитель.
— Хорошо сказать — поехать в Норвегию! — но ведь Норвегия оккупирована и там хозяйничают фашисты… — Толубеев и сам почувствовал, что эта отговорка уже доказывает — он сдается! — но ему нужно было время для размышления, и еще ему нужны были знания: как собираются его перебросить; что он должен там делать; на кого он сможет опираться в этой новой и неожиданной для него роли разведчика… Но у заместителя наркома, казалось, были готовы ответы на все!
— Вы же сами сказали, что вряд ли норвежская полиция обратила какое-нибудь нежелательное внимание на вас и ваших друзей в то короткое времяпребывание в их стране, — значит, вы сможете кое-кого разыскать. Ну, а уж как туда добраться, решат ваши новые начальники…
Наступило длительное молчание.
Толубеев с некоторым смятением в душе думал о том, как странно сложилась его жизнь. Он довольно быстро добился успеха в своей профессии. Сложная металлургия, многокомпонентные сплавы только что нашли свое место в технике, и безвестный проповедник этих сплавов как-то внезапно оказался нужным и начальству и самому делу. Та командировка в Норвегию могла бы стать переломным моментом в его биографии. Он видел, что передовая наука постепенно перемещается с Запада на Восток. После Норвегии ему прочили поездку в Англию, потом в США. Это не было бы дипломатической карьерой — Толубеев был и оставался металлургом. Но он мог узнать секреты фирм и применить их у себя на родине, мог улучшить технологию получения некоторых сплавов, стать автором новых металлов, но одна его «ошибка» разрушила все.
На эту «ошибку» начальство торгпредства указало Толубееву еще в конце марта сорокового года и предложило молодому инженеру немедленно вернуться на родину. Он собрался выехать в Берген, чтобы сесть там на советский корабль, когда на рассвете девятого апреля в Осло-фиорде загрохотали выстрелы: береговые норвежские батареи отбивали атаку немецких кораблей… Гитлеровцы напали на малые страны, стремясь молниеносно окончить свою «странную» войну с Францией. Бывший военный министр Норвегии отставной майор Квислинг поднял свою «пятую колонну» и предал норвежские королевские войска. И все-таки немцам пришлось задержаться в этой маленькой стране с ее тремя миллионами населения почти на три месяца, тогда как могущественную Францию они разгромили за три недели.
Уехать из воюющей страны было трудно, и Толубеев выбрался оттуда только через месяц…
Но начальство на родине помнило о его ошибке. Он еще долго писал объяснительные записки, работу ему дали незначительную.
Когда немцы напали на Советский Союз, он запросился на фронт, так как думал, что только личное участие в битве вернет ему спокойствие духа. Он как-то и забыл, что с врагом можно сражаться и при помощи знаний, а не только пулей и штыком. Впрочем, время было такое тяжкое, что никто не мог ни посоветовать ему, ни просто приказать занять другое место в великом сражении. И он стал офицером.
Нельзя сказать, что он много сделал на фронте. Почти всю войну он просидел в обороне. Только осенью сорок второго года ему повезло: их фронт пошел на прорыв блокадного кольца под Ленинградом… Но и тут он воевал всего несколько дней, а очнулся перед самой смертью, ибо понял: ранен тяжело. Такие раны всегда считались смертельными, а то, что он не умер, было чудом.
А в это время его разыскивали по всем фронтам! Недаром же он увидел в госпитале перед началом третьей операции это худое, острое лицо с гипнотизирующими глазами, лицо полковника Кристианса! Но о чем думал тогда полковник, обретя искомого человека на смертном одре?
И вот сейчас он с полной убежденностью вспомнил, что именно этот человек, которого зовут полковник Кристианс, присутствовал при том тягостном разговоре в высокой инстанции, куда его пригласили в день возвращения на родину и потребовали объяснения в совершенной им «ошибке». Правда, Кристианс и тогда держался в тени, как вот сейчас, но теперь-то Толубеев вспомнил его…
Толубеев выпрямился в кресле, встать он побоялся, чувствуя противную слабость в ногах, и твердо сказал:
— Я боюсь, что у полковника Кристианса могут быть возражения против моей кандидатуры… — Так как все в молчаливом удивлении смотрели на него, он уже несколько спокойнее добавил: — Полковник Кристианс, по моем возвращении из Норвегии, утверждал, что моя главная ошибка, совершенная во время пребывания в этой стране, состояла именно в моей излишне, по его мнению, тесной дружбе с гражданами Норвегии. И он категорически заверил меня, что больше я никогда, ни под каким предлогом не навещу эту страну. Правда, Норвегия была уже оккупирована немцами, и я ничего не знал о судьбе моих друзей, — грустно закончил он.
— Но теперь он так же настоятельно требует вашего возвращения в эту страну, — тихо сказал генерал Коробов. — И именно он разыскал вас для этого разговора.
— Что же переменилось с того давнего времени? — словно сам у себя спросил Толубеев. И генерал спокойно ответил:
— Все. Полковник Кристианс сам признал, что без широких дружеских связей с гражданами страны всякий разведчик обречен на провал. И именно потому, что у вас эти связи были, он рекомендовал разыскать вас и сам принял участие в розысках…
Кристианс молчал, как будто боялся даже голосом ожесточить молодого офицера. И тогда Толубеев поднялся и тихо сказал:
— Я готов…
И то, что он сказал это не по-уставному, а раздумчиво, как бы глядя в будущее, заставило всех этих людей, собравшихся здесь ради него, взглянуть на него с особенным вниманием. И стало понятно, что ни изнурительная бледность, ни немощность израненного и изрезанного тела не сломили этого человека, дух его оставался спокойным и сильным. И все как-то оживились, задвигались. Кристианс встал и подал Толубееву еще чашку кофе, генерал открыл нижний ящик стола, достал бутылку коньяку, налил маленькую рюмку, подвинул Толубееву, уговаривая:
— Подкрепитесь, вы ведь только что из госпиталя!
— Мало того, я попросил выписать майора раньше времени. Мне он нужен именно такой: худой, тощий, даже больной. Но врачи уверяют, что через неделю-полторы он будет совершенно здоров!
— Но к чему я вам — больной? — попытался улыбнуться Толубеев, однако заметил строгий взгляд генерала, брошенный на Кристианса, и занялся кофе. Кристианс будто не слышал его вопроса.
Заместитель наркома стал прощаться, с ним ушли и два молчаливых его спутника. В кабинете остались генерал Коробов, полковник Кристианс, Корчмарев и Толубеев. Генерал обратился к Кристиансу:
— Теперь можете докладывать ваш план…
— Майор должен появиться в Норвегии как бежавший из фашистского лагеря для военнопленных, находящегося в северной части страны. Этот вариант и необходимая легенда нами подготовлены. Если он, опираясь на эту легенду, сумеет укрыться у кого-нибудь из своих прежних друзей и, особенно, сможет устроиться на работу, будет самое лучшее. Связь с нашим центром майор будет держать через нейтральное лицо, адрес и пароль для связи получит здесь…
— Норвегия! Но как я проберусь в эту страну?
— Мы найдем вполне комфортабельный и спокойный путь. Но то, что вы так измождены, создаст вам прекрасное алиби. Номерной знак советского офицера, бежавшего из фашистского лагеря в Норвегии, вы получите при отъезде…
3
«23 февраля на Украине наши войска, продолжая наступление, заняли города Сумы, Ахтырка, Лебедин.
В Курской области наши войска после упорного боя заняли город и железнодорожную станцию Малоархангельск».
Совинформбюро. 23 февраля 1943 г.Подводная лодка должна была выйти с базы Северного флота ночью.
Весь этот последний день Толубеев и Кристианс просидели взаперти вдвоем в комнате отдыха у командующего флотом. Обед, а потом и ужин, подавал молчаливый вестовой командующего, в комнате не задерживался, «гостей» не рассматривал, возможно, уже привык к неожиданным посетителям.
Кристианс и Толубеев разговаривали. Точнее, говорил полковник, а Толубеев изредка задавал вопросы…
— Разведчик, как минер, ошибается только один раз! — спокойно говорил Кристианс. — Но у вас есть дополнительные условия, которые, надеемся, помогут вам. Вы хорошо знаете страну, людей, город, в котором вам придется работать. Хотя немцы и чувствуют себя полными хозяевами этой маленькой страны, но Сопротивление там растет с каждым годом. И участвуют в нем не только крестьяне и рабочие, но и интеллигенция, и духовенство, и даже предприниматели. У самих квислинговцев в их разбойничьей семье не все ладно. Надежда на быстрое установление «нового порядка» во всей Европе уже улетучивается, возникает ощущение, что их, возможно, еще будут судить за государственную измену. И многие из них пытаются обезопасить себя хотя бы тем, что они, мол, не были жестоки, то есть такой-то лично и такой-то именно… К тому же, немцы не могут установить посты на каждом из двух тысяч километров морской границы Норвегии, солдаты им нужны для боев на севере, где они за все время войны не смогли сделать вперед и шага. Да и рыболовство Норвегии им тоже нужно, и работающие рудники, и заводы с их военной продукцией, и они время от времени вынуждены идти на уступки норвежским предпринимателям. Да вот, например, второго августа сорок первого года они объявили чрезвычайное положение во всей Норвегии… Норвежцы ответили молчаливым саботажем. Десятого сентября немцы ввели чрезвычайное положение в Осло и казнили группу патриотов. В ответ епископы лютеранской церкви заявили о сложении с себя сана в знак протеста против казней и жестокого обращения оккупантов с местными жителями… В прошлом году произошли волнения в городке Телевог, в декабре прошлого года такие же волнения начались в районе Арендаля и Блекке-фиорда, — и немцам пришлось посылать свои войска на помощь квислинговцам. В январе этого года во всех церквах был прочитан протест против зверств квислинговцев, и немцам пришлось снять чрезвычайное положение, введенное снова незадолго до этого…
— Смогут ли наши друзья достать мне какие-нибудь документы или мне придется жить скрытно? — спросил Толубеев.
— Документы для вас приготовят, а насколько свободно вы сможете передвигаться по стране, зависит от того, каких покровителей вы найдете. Во всяком случае, ваши бывшие друзья до сих пор пользуются большим весом.
— Их еще надо разыскать… — задумчиво выговорил Толубеев.
Но рассказы Кристианса как бы приблизили к нему страну. Он еще не очень узнавал свою Норвегию, родину рыбаков и рудокопов, лесорубов и мореплавателей, да и не сорвешь с нее дыма войны, чтобы пристальнее разглядеть это милое лицо. И лицо ее может быть так искажено страданиями, что его и не узнаешь…
— А как тот человек, который меня встретит? — спросил он.
— Немцы были вынуждены разрешить рыболовство, иначе им нечем было бы кормить три миллиона человек, да и самим им тоже нужна рыба… Но они обязали общины круговой порукой и объявили всех жителей заложниками на случай бегства какой-нибудь команды из страны. Следят за рыбаками и квислинговские уполномоченные. Однако некоторая свобода передвижения в прибрежных районах осталась. Вас встретит владелец маленького суденышка Август Ранссон. У него есть лицензия на право лова рыбы в прибрежных водах… Он единственный, кто знает вашу главную цель. Остальные, с кем вы встретитесь, должны знать только легенду…
Поздно вечером Кристианс проводил молодого офицера в порт. Он предупредил, что подводная лодка будет передвигаться и днем и ночью и займет этот путь несколько суток. Толубеев должен был заняться языком, изучением своей «легенды» о пребывании в немецком лагере военнопленных, картой, на которой был отмечен его «путь» от лагеря до рыбацкого поселка Альтен на берегу залива Бохус. Кристианс особенно настаивал на твердом знании имен рыбаков, их быта, — по «легенде» значилось, что бывший военнопленный, майор Толубеев, прожил в этом маленьком поселке у рыбака Иверсена несколько дней…
В бумагах, переданных полковником Кристиансом Толубееву, были подробные описания поселка, семьи Иверсена, его лодки, на которой якобы вывезли Толубеева из плена, и майор невольно подумал о том, какой же бесстрашный человек этот рыбак. Ведь легенда должна была опираться на факты, на подлинные имена. А что если гестапо захватит пленного и «выбьет» из него эти факты? Да и квислинговская полиция давно уже сотрудничает с немцами, а стоит немцам узнать имя рыбака, и он будет немедленно казнен. Кристианс говорил, что норвежцы часто помогают бежавшим из лагерей советским военнопленным, а немцам это — нож в горло! — всех схваченных ими участников Сопротивления они убивают так же просто, как и пойманных беглецов…
И Толубеев дал себе слово — пользоваться «легендой» только у друзей. Если же квислинговская или немецкая полиция заинтересуется им, ограничиться первой половиной «легенды» о пребывании в лагере и побеге, — никогда он не назовет героев Сопротивления, которых встретит там…
И все-таки после этих разговоров он почувствовал воздух страны, снова ощутил себя другом маленького смелого народа мореходов и открывателей, предки которых за четыреста лет до Колумба добрались до Америки и назвали ее «Виноградной страной»…
Днем лодка шла под перископом. Как ни трудно было дышать от запаха соляра, перегретого воздуха, Толубеев терпеливо занимался норвежским или, улегшись с закрытыми глазами на предоставленной ему койке механика, повторял про себя «легенду». Еще хорошо, что ему не переменили ни фамилию, ни факты его биографии. Он должен был обращаться к своим прежним друзьям именно как инженер Толубеев, который был в их стране, работал плечом к плечу и которого разлучила с ними только война.
С наступлением темноты лодка всплывала. К Толубееву являлся помощник командира и приглашал наверх, в боевую рубку. По-видимому, Кристианс предупредил помощника, что пассажир лодки только что из госпиталя, что переход для него будет труден. Толубеев надевал тяжелое кожаное пальто с капюшоном, шапку-ушанку, карабкался по узкой лесенке в горловине люка и выбирался наверх.
Последнюю ночь лодка шла под перископом. Толубеев попросился из любопытства на центральный пост и с удивлением увидел через перископ далекие огни берега. Ему, отвыкшему за годы войны от ночного света, видение это показалось удивительным.
Но тут шефствовавший над новичком помощник командира попросил его приготовиться к высадке. Толубеев вернулся в свою каюту.
Он переоделся согласно инструкции: две пары шерстяного белья, брезентовые брюки, грубошерстный свитер, куртка-штормовка, вязаный берет. В брезентовом рюкзаке, который он взял с собой, был тот, еще московский, костюм, белье и сорочки: все эти вещи были сделаны в Норвегии и носили знаки норвежских портных. Туда же он сунул обе бритвы.
Бумаги и книги он упаковал в заранее приготовленный резиновый мешок и передал их на хранение помощнику командира. Тот придирчиво оглядел его.
— Бледность вполне приличная. Худоба тоже. Сразу видно, что вы побывали в немецком лагере…
Послышался тихий шум продуваемых цистерн. Лодка всплывала. Помощник командира крепко обнял Толубеева и поцеловал его. Сказал почему-то шепотом:
— Ну, ни пуха ни пера…
— К черту, к черту… — пробормотал растроганный Толубеев.
Что-то резко стукнуло по борту подводной лодки, затем послышалось мягкое шуршанье. Помощник командира сказал:
— Пора!
Толубеев выбрался из люка. В опасной темноте, пробитой только гвоздиками звезд, из которых самыми яркими были Полярная и созвездие Большой Медведицы, все слышалось шуршанье дерева по металлу. Толубеева взяли за руку и подвели к навесному штормтрапу с веревочными ступенями. Прямо под собой он увидел, скорее даже почувствовал, палубу рыбачьего суденышка, елозившего кранцами из отработавших автомобильных шин по металлу. Снизу к нему протянулись другие руки, и он отдался в их власть.
Его осторожно поставили на шаткую палубу. Звякнул железный наконечник шеста, и рыбачье суденышко медленно отодвинулось от металлического борта. И сразу зарокотал судовой мотор, а все, что связывало еще Толубеева с родиной, — тень человека над морем, тень корпуса лодки, тени надстроек — все стало проваливаться в глубину и как-то мгновенно растаяло. В это время Толубеева подтолкнули осторожно вперед, колыхнулась дверь каюты, ударил в лицо яркий, как показалось Толубееву, свет, и он оказался в тесном закутке с подвесными койками, со столом, и перед ним стоял человек, протягивавший руку и произносивший первые для Толубеева за три года норвежские слова:
— Шкипер рыбацкого яла «Маргит». Меня зовут Рон Иверсен.
Толубеев покачнулся, не столько от волны, бросившей суденышко, сколько от неожиданности. «Легенду» он помнил назубок, но никогда не мог представить себе, что порой легенды становятся былью.
— Рад встретиться с вами! — сказал он по-норвежски.
Рон Иверсен подозрительно взглянул на него:
— Вы ожидали увидеть другого человека?
Темное, продубленное ветром и солью лицо его напряглось, сильные руки уцепились за борт подвесной койки так, словно он собирался сорвать ее с места. Толубеев осторожно ответил:
— Мне назвали ваше имя, но сказали, что я увижу вас уже в Норвегии, в Альтене.
— А! — рыбак вздохнул полной грудью, помолчал. — Вас должен был встречать Август Ранссон, но три дня назад его суденышко обстреляли с немецкого сторожевика. Сейчас Ранссон в больнице. Наш радист принял сообщение об этом несчастье. Но Скрытая Дорога должна существовать, хотя кондукторов иногда и убивают. Иначе немцы и в самом деле возомнят себя хозяевами Норвегии!
— Скрытая Дорога?
— Так в нашем Сопротивлении называют путь, по которому перебрасывают заподозренных бойцов и бежавших советских и английских военнопленных в нейтральные страны. Поэтому я здесь.
Он оглядел своего пассажира, цеплявшегося за стенку, сказал другим тоном:
— Садитесь, пожалуйста! Я вижу, вы очень устали.
Толубеев сполз по качающейся стенке на рундук, облегченно вздохнул и огляделся. В низкой каютке было тепло. На откидном столике, в деревянных гнездах — углублениях стояли откупоренная бутылка и два стакана. В рамке, окаймлявшей стол, позванивали, переползая от качки с места на место, тарелки с рыбой, горкой масла и белым пышным хлебом, какого Толубеев нигде, кроме Норвегии, не видал.
Рон Иверсен помог ему освободиться от брезентовой куртки. Коснувшись нечаянно его плеча, огорченно сказал:
— А вы и верно, как из лагеря. Мне пришлось повидать ваших людей, бежавших оттуда. На нашей станции Скрытой Дороги провалов не было, мы многих перебросили в Швецию и в Исландию. Там их, правда, интернируют, но немцам как будто не выдают. А теперь, после Сталинграда, шведам вообще придется подумать о своей политике… Уж слишком они были почтительны к немцам!
— Значит, после Сталинграда? — не удержался Толубеев. Как ни говори, но ведь отблеск этой победы падал и на него!
— Да! — твердо ответил Рон Иверсен. — А вы тоже были под Сталинградом?
— К сожалению, нет. Я был ранен под Ленинградом.
— О, это тоже город-скала! — восхищенно подхватил Иверсен. — Если бы не наши квислинги, и мы могли бы показать немцам в апреле сорокового, что норвежцы — не трусы!
— Вы уже доказали это! — твердо сказал Толубеев. Он понимал, что значит быть участником Сопротивления в оккупированной стране.
— Благодарю! — отозвался Рон Иверсен. — А то, что вы так отощали, даже к лучшему! — он улыбнулся. — Теперь даже фрекен жаждут подвигов. Они вас живо откормят!
Хотя шутка была грубовата, Толубеев принял ее весело. Она обещала удачу. А удача была ему так нужна!
На корме тихо рокотал мотор. Качка постепенно уменьшалась. Иверсен прислушался к ударам волн, бивших в левую скулу суденышка, удовлетворенно сказал:
— Заходим в залив. Прошу к столу.
Толубеев выпил полстакана крепкой жидкости, пахнущей самогонкой, закрепил перекладинкой тарелку с рыбой и принялся за ужин, больше похожий на завтрак. На его часах, еще с вечера переведенных на европейское время, было три.
Иверсен тоже выпил добрый глоток и пошел к выходу. Остановился на ступеньках у люка, предупредил:
— Я сменю помощника, пусть позавтракает вместе с вами. Парень пошел в такой рейс впервые, ему важно поглядеть на вас. Не опасайтесь, это мой сын. Его зовут Оле.
Тотчас же в люк скользнул помощник. Ему было от силы — шестнадцать. Толубеева удивила его молодость, но он тут же вспомнил, что в советских партизанских отрядах были тысячи таких юношей, и на душе сразу стало легче.
Оле нерешительно поздоровался. Толубеев ответил по-норвежски. Парень вдруг просиял. Оба сразу развеселились, дружелюбно поглядывая друг на друга. Пить Оле не стал, но ел с удовольствием. Объяснил:
— Не знаем, когда вернемся домой. Не знаем, когда высадим вас. Отец приказал: есть, чтобы хватило на все завтра.
— На все сегодня? — поправил Толубеев, показывая на часы.
— И на сегодня, и на завтра, — спокойно ответил парень. — Немцы днем ловят рыбаков. Будем прятаться в шхерах. Огня нет, стука нет. Лодка мертвая. Может, потопленная.
— Потопленная? А как же вы?
— Ну, не совсем, — парень улыбнулся, — Немножко потопленная. Мы в камнях. Там есть пещеры. А лодка тут, на виду, немножко мертвая.
— А я? Тоже немножко мертвый? — пошутил Толубеев.
— Зачем — вы? Вас ждут на берегу. А мы немножко спрячемся. От немцев. Завтра ночью вернемся.
Толубеев смотрел на румяное, еще почти по-детски розовое лицо парня, на его уже крепкие руки, широкие плечи и думал про себя, что он не имеет права не сделать то, чего от него ждут. Ждут там, на родине. Ждут здесь, на лодке. Вероятно, ждут и те, кто его будет встречать на берегу.
Глава вторая. И да поможет нам бог…
1
«На днях войска Северо-Западного фронта перешли в наступление против Демянской группы войск противника. За восемь дней боев наши войска освободили 302 населенных пункта, в том числе город Демянск и районные центры Лычково, Залучье».
Совинформбюро. 1 марта 1943 г.В четыре часа утра Рон Иверсен позвал Толубеева на палубу и указал на слабый луч света, рождавшийся где-то в прибрежных скалах. Сам он стоял у штурвала, мягко маневрируя судном. Но вот судно стало строго по световому лучу и замерло. На мгновение вспыхнул сигнальный огонь на клотике и погас.
К борту подвалила небольшая прогулочная лодка. Иверсен передал в чьи-то руки рюкзак Толубеева, сбросил в лодку штормтрап и обнял Толубеева за плечи. Голос у него стал хриплый, тихий:
— Да будет с вами удача и да поможет вам бог…
— И народ! — твердо ответил Толубеев и спустился в качающуюся лодку. Лодка бесшумно пошла к берегу, а суденышко «Маргит» растаяло в темноте. Только тут Толубеев спохватился, что не попрощался с Оле, сыном шкипера.
«Ничего, все встречи еще в будущем! Я обещаю сегодня и себе, и этим хорошим людям, что сделаю все, как надо! А если я это сделаю, то я смогу увидеть всех этих людей в более доброе и светлое время…»
Лодка шла бесшумно, и Толубеев видел лишь силуэт гребца перед собой на первой банке, а оглянувшись — силуэт пригнувшегося кормчего позади. Но тут лодка прошуршала по песку, гребцы выскочили в ледяную воду, один из них, ни слова не говоря, подошел вдоль лодки к Толубееву и поднял его на руки. Второй взял мешок.
Тот, что нес на руках Толубеева, удивленно сказал:
— Да он же легче пуховой перины!
Несший мешок Толубеева сухо заметил:
— А ты думаешь, что немцы откармливают своих пленных, как дядюшка Диомед свинью перед рождеством? Они их сначала морят, а потом добивают.
Вода перестала плескаться под ногами, носильщики шли уже по песку, но дюжий человек, несший Толубеева, не спускал его с рук. «Боятся оставить лишние следы», — подумал Толубеев. Он хотел было сказать, что понимает язык, но носильщики замолчали: дорога шла в гору.
Они прошли мимо каких-то строений. Толубеев увидел приткнувшуюся у стены автомашину. В машине, очевидно, услышали шаги, потому что в ней вспыхнул свет, открылась задняя дверца. Дюжий носильщик протолкнул Толубеева головой вперед в машину, там чьи-то руки помогли ему сесть. Потом к ногам упал мешок с вещами, оба носильщика в один голос сказали:
— Добрый путь!
Тот, что нес Толубеева, тихо добавил:
— Он очень истощен!
Шофер молча включил мотор, погасил внутренний свет в машине, и она мягко тронулась сначала по гравию, потом вышла на шоссе и ринулась на восток, навстречу чуть светлеющей полосе неба. «Если бы я верил в предзнаменования, — подумал Толубеев, — я бы считал, что все предвещает удачу! Но я не верю в приметы, значит, должен строить удачу сам!»
Он спокойно сидел в углу машины, иногда, при поворотах и виражах, чувствуя плечо соседа. Но так как и шофер, и сосед молчали, он не считал возможным начинать разговор самому.
Шоссе было пустынно, да и весь этот край казался пустынным. Толубеев попытался представить карту Норвегии. Да, на этом побережье залива оживленно только во время курортного сезона. Значит, его везут подальше от побережья, в срединную зону. Конечно, это далеко от Осло, где он должен начать свою работу, но, очевидно, ему пока что дадут прийти в себя. Ведь для них он — беглец из плена. А дальше будет видно.
Они ехали не меньше часа, стало уже светать, когда машина резко свернула с шоссе, проскочила гаревую дорожку между кустами можжевельника, затем — настежь открытые ворота, которые тут же за машиной и закрылись, подошла к темному зданию и затормозила.
Шофер обернулся к Толубееву, спросил по-английски:
— Можете ли вы идти сами или вам нужна помощь?
— Сенк ю, — ответил Толубеев и открыл дверцу машины.
Но шофер, худощавый молодой человек, уже вышел и помог ему. Взяв под руку, он повел его к лестнице, успокаивая все так же по-английски:
— Это обычная слабость от волнения. Она скоро пройдет.
— Благодарю вас! — повторил Толубеев.
Небольшая усадьба, в которой он очутился, показалась ему довольно запущенной. По-видимому, зимой тут никто не жил. Хотя камин и горел жарким пламенем, пар от дыхания был явственно виден. Но в следующей комнате, куда его провели через большой холл с камином, топилась круглая широкая печь и было даже жарко. Через открытую дверцу виднелись крупные куски антрацита, затянутые синим огнем. Здесь стояли деревянная кровать, покрытая по местному обычаю периной, небольшой письменный стол, заваленный газетами на норвежском и немецком языках, гардероб, в который второй провожатый уже раскладывал содержимое толубеевского мешка, два кресла и перед кроватью маленький столик, уставленный какими-то лекарствами.
Второй провожатый, закончив выкладывать вещи из рюкзака, коротко сказал тоже по-английски:
— Переоденьтесь!
Шофер вышел куда-то, а второй провожатый, пожилой, очень крепкий и мускулистый, наклонившись к печке, принялся деловито заталкивать туда рюкзак. Толубеев послушно снял брезентовую робу, надел штатские брюки и пиджак. Второй — провожатый одобрительно оглядел его, взял рыбацкий костюм Толубеева и тоже принялся запихивать в печку. Когда одежда вспыхнула, он тщательно перемешал угли. Толубеев заметил, что он предварительно срезал с рюкзака и с одежды все металлические пряжки и пуговицы.
«Ничего не скажешь, люди с опытом!» — уважительно подумал он, глядя, как снова разгорается пламя в открытой печи.
— Сейчас вам дадут поесть! — все так же по-английски сказал второй. Первый, ведший машину, очевидно, занимался ею. За окном послышалось рычание прогреваемого мотора.
Они ни разу не спросили, не говорит ли он по-норвежски, как будто нарочно избегали этого вопроса. Впрочем, может быть, им лучше будет сказать при необходимости, что человек, которого они видели, говорил по-английски? Тогда можно утверждать, что это был английский летчик. Англичане теперь часто бомбят секретные заводы немцев и морские базы на побережье Северной Норвегии, и, естественно, их порой сбивают, а летчики после вынужденной посадки стремятся пробраться в нейтральную Швецию. Помочь английскому летчику не так уж опасно!
Второй мужчина еще раз перемешал угли в печи, поставил кочергу в угол, поднялся, поклонился, коротко сказал:
— Мы еще увидимся!
И вышел.
Толубеев благодарно посмотрел ему вслед, запоминая широкие плечи, мощные бицепсы, перекатывавшиеся под рукавами легкой куртки, длинные сильные ноги, седую шевелюру. Этому человеку было не меньше пятидесяти, и тем не менее он рисковал! Второй был моложе, ему и рисковать было легче.
Рокот машины утих вдали.
Послышался легкий стук в дверь. Толубеев ответил по-английски:
— Войдите!
Вошла горничная, в наколке, в маленьком передничке, в высоких рабочих башмаках, неся поднос на вытянутых руках. В комнате сразу запахло жареным мясом и свежим кофе. Она прошла к столу у кровати, осторожно сдвинула одной рукой пузырьки на край и поставила поднос.
— Пожалуйста! — тихо пригласила она, повернулась к гостю, делая легкий книксен, вдруг вздрогнула, чуть слышно проговорила: — Не может быть! Вы? Вольёдя!
Только по этому протяжному, не по-русски звучащему милому «Вольёдя!» Толубеев и узнал Виту. Во всем остальном она была похожа на молоденькую вышколенную горничную, каких можно встретить в любой барской усадьбе. Но теперь, когда она с трудом держалась на ногах, она была такой же, как в самый последний день в Осло, когда было совершенно ясно, что он вот-вот навсегда исчезнет из ее жизни.
А она все шептала, как шепчут: «О боже! О боже! О боже!», такое же тихое и сокровенное, только ей принадлежащее: «Вольёдя! Вольёдя! Вольёдя!», — пока наконец он не пересилил свою слабость, пока не сделал два шага до своего потерянного счастья, пока не ощутил на своих губах ее горькие слезы… И только тогда она поверила в то, что перед нею действительно он, потерянный так давно, нечаемый, неожидаемый, невозможный, потому что в этом страшном мире больше ни во что нельзя было верить, кроме разлуки на смерть. Ибо весь мир был разлучен, ибо весь мир страдал, ибо весь мир сражался…
И, отрываясь от нее на мгновение, он так же самозабвенно шептал выстраданное, отстоявшееся в мучениях ее имя: «Вита! Вита! Вита!» — как говорил бы, вероятно, «Жизнь! Жизнь! Жизнь!» — пусть это мгновение жизни было бы короче одного вздоха. Да и было ли будущее у их любви? Если тогда он был всего-навсего посланцем чужого мира, похожим для Виты и окружающих ее людей на марсианина, столь далека была от них Страна Советов, то сейчас он оказался рядом с нею изгоем, беглецом, преследуемым. И она действительно вспомнила об этом его состоянии, потому что руки ее вдруг охватили его голову, прижали к груди, словно она пыталась спрятать его от враждебного мира, спасти от напастей, его ожидавших, как ни слабы были ее силы.
Они сели рядом прямо на кровати, потому что не было ничего другого, где можно было бы сидеть обнявшись, наслаждаясь теплом любимого тела, где бы можно было прижать это второе существо так тесно, чтобы чувствовать себя слитно, и только тут она спросила:
— Так это о тебе шла речь? Боже, как я счастлива!
— Значит, ты тоже участвуешь в Сопротивлении?
— Как видишь! — она засмеялась нежным грудным смехом, похожим на воркование горлинки. Когда-то она часто смеялась этим тайным смехом, потому что часто была счастлива. Сейчас же и сама удивилась возвращению этого чувства, этого пения в груди, в сердце, вдруг смущенно оглядела свой наряд — нелепый для нее передник, нелепые высокие башмачки со шнуровкой, подняла даже руку и тронула гофрированную наколку, покраснела, воскликнула: — Прости, я сейчас! — выскользнула из его рук и побежала из комнаты.
— Куда же ты! — умоляюще воскликнул он, и она задержалась в дверях, шепнула громко:
— Долой эту конспирацию! Сегодня мой праздник!
Он растерянно огляделся. Громко гудела печь. За светло-зелеными шторами явственно приближался рассвет. Все предметы в комнате мирно стояли на местах — ничего не было от сновидения в этом неожиданном сне. Но он все еще не верил своим ощущениям, он все еще боялся, что вот-вот проснется и окажется, что он по-прежнему лежит в госпитале, привязанный на ночь по рукам и ногам, чтобы не перевернулся во сне на изрезанный живот, — тогда, в те тяжелые ночи только и могли сниться такие необыкновенные сны…
На глаза ему попал принесенный Витой поднос и на подносе — серебряный кувшинчик, длинноногий бокал возле него. Он налил дрожащими руками темный напиток в бокал, поднес к лицу, понюхал: коньяк. Его — несчастного беглеца принимали на уровне посла дружественной державы! Толубеев усмехнулся и медленно выпил бокал. По горлу клубком прокатился огонь, и тогда все встало на свои места: Вита здесь! Она принимает участие в движении Сопротивления! В Норвегии растет борьба против фашизма! Но какое это счастье, что он встретил именно Виту!
Он коротко всхлипнул и не понял, смех ли это или рыдание, потому что был близок и к тому и к другому. Встал с постели, поправил смятое покрывало: сидеть одному на кровати было неловко, да и зачем? Есть кресло. Есть стул. Есть, наконец, зеркало, к которому ты можешь подойти и увидеть себя глазами Виты.
Худое истощенное лицо глянуло на него. Худые, бледные до желтизны щеки. Запавшие виски с посеребренными волосами. Да сколько же тебе лет, товарищ Толубеев? Как смогла узнать тебя Вита? Разве что по глазам? — говорят, что глаза никогда не меняются. Но он-то знает, что в те годы, когда он впервые увидел Виту, у него были телячьи глаза, восторженные, уставленные в одну точку — на ее лицо. А теперь у него глаза измученного болью человека, может быть, даже мудрые глаза, а может быть, просто страдающие или ожидающие нового приступа боли. И Вита узнала его!
Он еще дивился этому чуду узнавания, когда распахнулась дверь и снова вошла Вита.
Теперь это была именно она. Такая, какой была тогда. Нарядное шерстяное платье цвета моря с высоким белым воротничком, маленькие туфли с золотыми пряжками, тонкие чулки, сквозь которые видна розовая кожа ног. Пышные белокурые волосы убраны в сетку. Сетку она придумала после первой тайной встречи с ним и тогда же объяснила: «Ты так любишь путать мои волосы, что мне придется причесывать их не меньше часа.
А теперь я уберу их в сетку, и никто не заметит, в каком они беспорядке…». Значит, она помнила каждое его прикосновение, если сберегла даже сетку…
— Я очень изменилась? — с беспокойством спросила она, глядя в его лицо.
— А я?
Она уловила страдание на его лице, быстро подошла и положила руки на его плечи, чуть отстранившись, как в танце, чтобы видеть его глаза. Сказала тихо:
— Ты — да. Но ты мужчина, воин. Я могу только воображать, что ты перенес за это время, но, наверно, никогда не сумею понять по-настоящему. Ты имеешь право быть старше возраста, но я должна быть вечно юной, иначе ты перестанешь меня любить.
Он улыбнулся — уж слишком по-детски прозвучало все это, но ведь ей и всего-то двадцать три! А он, если считать эти годы войны один хоть за три, что в сущности мало! — стал старше на шесть-семь лет.
— Но откуда здесь этот наряд? — спросил он, все еще разглядывая ее.
— Завтра я должна быть в городе. Не могу же я поехать туда в роли служанки?
— Как? Уже завтра? — он не сумел скрыть своего огорчения. Она радостно засмеялась:
— Вот теперь я вижу, что ты все-таки помнишь меня! — она остереглась произнести «любишь» и только приблизила глаза к его глазам, словно пыталась заглянуть в душу.
— Люблю! Люблю! — охотно подтвердил он.
— Почему же ты не поцеловал меня? — смущенно спросила она.
— Но ведь «завтра» еще не началось для нас! Ты же еще побудешь со мной?
— Да! Да! Спрашивай, я вижу, что тебе надо о многом спросить.
— Чья это усадьба?
— Одного из наших друзей.
— Кто эти люди, что помогли мне и привезли сюда?
— Наши друзья.
— Местная полиция не интересуется усадьбой?
— В местной полиции есть наши друзья.
— Могут ли твои друзья помочь мне перебраться в Осло?
— Пока тебе не следует делать это. Все, что тебе понадобится, я привезу сама.
— А если мне захочется встретиться с кем-нибудь?
Она задумалась.
— Я спрошу об этом, когда тебе понадобится встреча.
Он осторожно сказал:
— Я понимаю тебя и твоих друзей. Они пошли на крупный риск, помогая советскому военнопленному. Но ведь я солдат. И никто не освобождал меня от воинской присяги. Если я оказался на свободе, я обязан бороться.
— Ты обвесишься гранатами и нападешь на немецкуюказарму?
— Есть много способов борьбы, — задумчиво сказал он. — Вот почему мне нужно поблагодарить твоих друзей за помощь и как можно скорее исчезнуть.
— Ты только что встретил меня и уже хочешь исчезнуть? — жалобно воскликнула она.
— Что ты, Вита! — он сжал ее с такой силой, какой давно уже не чувствовал в себе. — Я только не хочу доставлять неприятности твоим друзьям. Но если мне удастся устроиться в Осло, разве мы не будем ближе друг к другу? Ведь ты не можешь надолго покидать дом, отца?
— Отец знает, где я, — гордо сказала она.
Толубеев вспомнил чопорного промышленника, в друзьях которого числились министры и сенаторы, которого с удовольствием принимал король, и тихо улыбнулся. Теперь друзьями промышленника стали друзья Виты! Удивительно меняет людей жизнь!
— Все! — решительно сказал он. — Ты меня убедила! Я подчиняюсь тебе и твоим друзьям и принимаю их помощь и твою!
Она радостно чмокнула его в щеку и вдруг с отчаянием воскликнула:
— О, твой ужин! Он же остыл совсем! И ванна! Ванна!
Выбежала из комнаты и скоро вернулась с серебряной спиртовкой. Взяла со стола спички, зажгла спиртовку и поставила что-то разогревать. В комнате запахло вкусной едой.
Вита поставила на столик вторую рюмку, наполнила ее и тихо сказала:
— Пусть следующая встреча будет по-настоящему счастливой!
2
«Несколько дней назад наши войска начали решительный штурм города Ржева. Немцы давно уже превратили город и подступы к нему в сильно укрепленный район. Сегодня, 3 марта, после длительного и ожесточенного боя наши войска овладели Ржевом».
Совинформбюро. 3 марта 1943 г.Когда он проснулся, Виты не было в комнате. Но на столике стояло блюдо с гренками, дымился кофе. Рядом лежала записка: «Позавтракай один. Я пошла к друзьям».
«Пошла, — подумал он. — Значит, эти друзья живут где-то рядом».
И удивился своим мыслям. Он думал не как влюбленный о возлюбленной, которую встретил после долгой разлуки, а как разведчик. И подумал о самом себе так же, как вчера — об отце Виты: «Удивительно меняет людей жизнь!» — и сам рассмеялся своим мыслям.
Да. Он разведчик, и это есть главное в его жизни. Все другое пока — преходящая радость или преходящая печаль. И думать ему надо о том задании, которое ему поручено.
Одевшись, выпив кофе, он медленно пошел из комнаты в комнату. Медленно и осторожно.
Все окна были закрыты плотными шторами, и это наводило на мысль, что обитатели маленькой усадьбы не напрасно прибегают к таким предосторожностям. Очень может быть, что в эту минуту кто-нибудь рассматривает усадьбу и двор в бинокль и ждет, не шевельнется ли штора на окне?
Но любопытство оказалось выше осторожности. Обойдя комнаты внизу, Толубеев поднялся на второй этаж. И еще с лестницы, ведущей из нижнего холла в верхний, увидел не столько свет, сколько сияние. Перед ним была заснеженная равнина, окаймленная с одной стороны невысокими горами, утекавшая так далеко на север, что недоставало зрения и высоты, чтобы заметить ее границы, и только на самом горизонте темнело что-то похожее на воду. Толубеев стоял поодаль от окна и все глядел и не мог насытиться этим беспредельным сиянием, пока наконец не прорезалась мысль: «Я знаю это место! Это озеро Треунген!»
Теперь он словно бы определился в пространстве: он находился в центре южнонорвежского полуострова, недалеко от городка Треунген, на озере, где у господина Масона, отца Виты, была усадьба. Когда-то господин Масон, принимавший работников торгпредства по поводу заключения весьма выгодного контракта на поставку руды, показывал фотографии озера и его крутых, похожих на бараньи лбы, скал. Там, где снег был сдут ветрами, скалы и впрямь походили на бараньи лбы. Были среди этих фотографий и снимки «усадьбы», и пляжа с купающимися, — эти фотографии привлекли его больше, на них он увидел Виту. Были там и фотографии других усадеб или вилл, домиков для отдыха, — все в цвете, ярко окрашенные, с широкими квадратными окнами, это была зона отдыха для привилегированных лиц…
Он сел в низкое кресло у стены и осмотрелся. Холл был прорезан широкими окнами, с трех сторон. Со своего наблюдательного поста Толубеев видел и озеро через среднее окно — с севера на юг, — судя по низкому зимнему солнцу, и крутую дугу побережья — сначала в восточное окно, потом в западное. На побережье были редко-редко разбросаны такие же усадьбы, окаймленные живыми изгородями из можжевельника и вереска. Конечно, где еще могла отдыхать семья Виты? Только там, где отдыхают члены стортинга и правительства, промышленная и дворянская знать страны. Пожалуй, если здесь и есть немецкие шпионы, то они не прячутся за живыми изгородями в снегу, они приходят на рауты, на вечерний чай, на балы и там вершат свои дела, тем более что многие из этих знатных норвежцев, из этих государственных деятелей преданы гитлеровскому райху душой и телом и уж, конечно, собираются принять участие в разделе завоеванного фашистами мира. В то, что фашизм может быть разгромлен, они еще не верят и поверят разве что в тот день, когда союзные армии ворвутся в пределы Германии. Но когда это будет? Еще и второго фронта нет, еще лучшие земли России находятся под пятой фашизма — что им беспокоиться, этим функционерам и помощникам Гитлера!
Он каким-то вторым зрением увидел Виту. Девушка на лыжах вдоль березовой рощи, похожей на привычные подмосковные, по самому берегу озера, шла быстро, легко. И хотя на таком расстоянии нельзя было рассмотреть ни лица, ни походки, хотя это могла быть и любая из миллиона женщин и девушек страны, он знал — идет Вита!
Он спустился задолго до того, как услышал стук оставленных лыж и палок, удары веника по башмакам. И тут распахнул дверь.
От нее пахло свежим снегом и морозцем. Раскрасневшееся лицо при виде его сразу окрасилось радостью, как будто она перед этим боялась, что уже не увидит его в доме. Но теперь, когда он был перед нею, она мягко выскользнула из объятий:
— Я должна переодеться и приготовить завтрак!
— Ты ждешь гостей?
— Но ведь ты тоже гость и такой долгожданный!
— Где ты была?
— У наших друзей. Я должна была посоветоваться об убежище для тебя. Завтра я должна быть на работе…
— Ты работаешь? — в голосе его прозвучало такое изумление, что она рассмеялась. Лукаво ответила:
— Все лояльные женщины Норвегии должны оказывать помощь великому германскому соседу…
— Военную?
— Ну, я до этого еще не дошла. Просто отец устроил меня секретарем в один из отделов своего акционерного общества. Ты ведь знаешь, он один из членов правления…
— Да, да, — машинально подтвердил он. — Еще в тридцать восьмом ты прочитала мне лекцию о том, что полсотни членов правлений главных банков Норвегии занимают в общей сложности почти триста важнейших постов в зависимых акционерных обществах и фирмах…
— Высший балл по экономике! Ты прекрасный слушатель!
Но так как он все еще не желал отпустить ее, она вынула из кармана лыжной куртки небольшой бумажник и протянула ему:
— Это друзья просили передать тебе!
Он открыл бумажник и увидел под целлофановой подкладкой личное удостоверение с собственной фотографией. Да и все удостоверение было его собственным: его имя и фамилия, только именовался он Вольдемар Толубеев, и было в удостоверении указано, что родился он в Нарвике, отец — русский, моряк, владелец судна, мать — из общины Нарвика, дочь владельца рыбного завода, произошло это событие в 1913 году, отец и мать скончались…
Трудно было оторваться от созерцания собственного перевоплощения. Он решительно спросил:
— Но почему — русский?
— Надо же чем-то оправдать твой акцент? — улыбнулась Вита. — А в Нарвике, в Ставангере всегда жило много русских норвежцев. Их там так и называли. И это были не эмигранты с нансеновскими паспортами, а давние поселенцы. Сейчас немцы выселили этих русских на Дафотенские острова, но их не интернировали, не загнали в лагерь. С таким паспортом ты вполне можешь жить в Осло… Хотя я совсем не понимаю, почему тебе хочется лезть в это осиное гнездо! — жалобно добавила она. — И друзья моих друзей, передавшие этот документ, тоже молчат.
— Я уже сказал тебе, Вита, что обязан продолжать войну, — мягко напомнил он.
— Хорошо, — грустно согласилась она. — А пока посмотри эти газеты! — она разложила веером на столе пачку газет. — Тут нет только советских. Но есть шведские, есть немецкие, французские, правда, только из оккупированной зоны. Есть и наши, но только квислинговские. Держать другие норвежские газеты здесь опасно.
— А такие тоже есть?
— Не меньше трех сотен, и половина из них выходит в Осло! — строго ответила она. — В четверть листа, в половинку; напечатанные на гектографе и написанные от руки; сделанные и в настоящих типографиях, и за обеденным столом. И их становится все больше! Мы ведь продолжаем нашу борьбу! — она выглядела очень гордой. — И восстанови свой норвежский! Ты теперь говоришь не лучше лапландца! — она помахала рукой и исчезла.
А он еще долго разглядывал свой «вид на жительство».
Да, друзья, которым поручили заботу о нем, подумали обо всем. А еще больше его поразило, что во внутреннем кармане бумажника оказалась пачка крон, — как он понял, — приданое на первые дни новой жизни…
Только после того как он запомнил все даты, сообщенные в его удостоверении, все знаки, цифры и подписи, он перешел к газетам.
Норвежская «Дагбладет» оказалась значительно тоньше прежней. Сводка с русско-немецкого фронта была трехдневной давности. Главным событием в ней было названо и выделено крупным шрифтом сообщение о наступлении гитлеровцев в районе Харькова. А вот об освобождении Демянска и ликвидации опасного демянского плацдарма, на котором немцы сидели целый год, ни слова. О советском наступлении на Кубани и на Украине — тоже. Но еще отвратительней выглядела лживая сводка немцев от двадцать третьего февраля о том, что русские якобы потеряли за двадцать месяцев войны восемнадцать миллионов солдат и офицеров, сорок восемь тысяч орудий и тридцать четыре тысячи танков — эта ложь была опубликована без каких-либо примечаний! А кто же тогда гонит немцев? Кто разгромил их армии под Москвой и под Сталинградом? Кто выгнал их из четырнадцати областей? По-видимому, квислинговцы все еще не понимают, что перелом в войне уже наступил!
Он сердито отшвырнул газету, даже не заглянув в сводки из Африки и Азии. Невольно подумалось, как же трудно пробивается правда о войне через немецкую цензуру!
Шведские газеты не изменились: такие же пухлые! Нейтралам хватало целлюлозы. Чувствовалось, что в стране кипит деловое возбуждение. Продавались и покупались имения, фабрики, заводы. Требовались служащие и рабочие. Морякам торговых судов сулили крупные премии за своевременную доставку грузов. Появилось множество каких-то смешанных немецко-шведских фирм: судоходных, торговых, промышленных. Гитлер не жалел марок и золота. Швеция стала его подлинным тылом. Тут бомбы не падали, промышленность и торговля развивались бурно.
Толубеев усиленно просвещался, раздумывая в то же время: как действовать? Вита сказала: «Наши друзья»! Но «наши друзья» помогают просто из человеколюбия и ненависти к захватчикам. А как быть дальше? Пробираться в Осло самостоятельно? Этот город стал главной перевалочной базой на пути в Германию. Или, может быть, пробраться на север, в область Финмарк, к Сер-Варангеру? Там главный центр по добыче железной руды. Но это тысяча километров пути! И там больше всего немцев, которые, несомненно, интересуются всеми приезжими. Городское самоуправление и вся полиция области, конечно, у них в руках. Человек, говорящий по-норвежски как «лапландец», вызовет опасные подозрения, как бы ни были хороши его документы…
Было о чем подумать.
А где-то на кухне резвилась Вита. Вот она прогремела сковородками. Вот запела. Вот оборвала песню, наверно, завтрак поспел.
И верно, Вита распахнула дверь, склонилась в книксене и певуче произнесла:
— Прошу господина Вольёдю к столу!
Да, не следует ее огорчать. Пусть хоть день, да будет принадлежать ей!
Он торжественно предложил руку и проследовал в столовую.
Завтрак был приготовлен царский: форель, кофе со сливками, плоские рюмки для коньяка, плоская коньячная фляга. Вита в ответ на изумленный возглас Толубеева церемонно произнесла:
— Не удивляйтесь, милый господин: контрабанда военного времени! Коньяк привозят немцы из Парижа и продают на черном рынке…
3
«4 марта западнее Ржева наши войска, продолжая развивать наступление, овладели городом и железнодорожной станцией Оленино, а также заняли крупную железнодорожную станцию Чертолино. Железная дорога Москва — Ржев — Великие Луки на всем протяжении очищена от противника.
В Орловской области наши войска после упорного боя заняли город Севск.
В Курской области наши войска в результате решительной атаки овладели городом и железнодорожной станцией Суджа».
Совинформбюро. 4 марта 1943 г.После завтрака они немного погуляли. Вита заставила его стать на лыжи. В доме было много лыж, башмаков, костюмов — на любой вкус. Было понятно, что хозяева навещают дачу и зимой, хотя никакой прислуги Толубеев не обнаружил. Угольную печь, находившуюся в подвале под домом, Вита топила сама. В камине и перед печами во всех комнатах дома лежали вязанки дров.
Толубеев спросил о прислуге.
— В доме есть истопник и его жена. Но они отпущены до вторника. Предполагалось, что человек, которого сюда доставят, будет стесняться лишних свидетелей… — Все это она проговорила в обычном своем шутливом тоне, а тут вдруг воскликнула, как молитву: — Но, боже, какое это чудо, что из небытия возник ты! — и заплакала совсем не счастливыми слезами, горько, навзрыд.
Только теперь он понял, как много страсти таилось за ее всегдашними ироническими шутками, которыми она поддразнивала его, «русского медведя», с самой первой встречи и до той трагической минуты прощанья, когда ему пришлось мешать правду с ложью, чтобы убедить ее, заставить ее понять: он не может взять ее с собой!
Теперь, на себе испытав, что такое война в Советском Союзе, увидев голод, холод, тысячи смертей, он бы, наверно, нашел более убедительные слова. Но тогда он был вынужден больше лгать, чем говорить правду.
Эти воспоминания были столь непереносимы, что, едва вернувшись с прогулки и еще не сбив снег с башмаков, просто вытянув их перед вновь запылавшим камином, он спросил:
— Могут ли твои друзья отвезти меня сегодня вечером в Осло?
— Так быстро? — грустно спросила она.
— Я не имею права подвергать тебя опасности.
— Так же, как я не имела права подвергать тебя опасности тогда! — глухо сказала она. Заметив, как дрогнуло его лицо, она сжалилась над ним и заговорила медленно, как будто повторяла давно затверженный урок: — Я понимаю, ты прибыл тогда сюда из суровой страны, которая уже готовилась к смертельной схватке. Я понимаю, что многие люди твоей страны считали всех нас, живущих в благополучном сытом мире, чуть ли не врагами. Но неужели ты не мог убедить их, что я люблю тебя! И ведь ты знал, что любовь не способна на предательство!
Голова ее опускалась все ниже, и она уже глядела только на огонь. Может быть, боялась увидеть его страдание? Он осторожно приподнял ее лицо за подбородок, взглянул в глаза.
Да, дорого обошлось ей то прощанье. Отблеск муки, как отблеск огня, прорывался из глаз, словно в них билась ее живая душа. Он осторожно прижался губами к ее щеке.
— Как же ты собираешься устроиться в Осло? — более спокойно спросила она.
— Может быть, твои друзья помогут мне?
— Наши друзья, — подчеркнула она, — постараются это сделать. Но они должны знать твои планы.
— Ну, что же, я охотно поделюсь ими и с тобой, и с ними, хотя, видит бог, сам еще не очень хорошо представляю свое будущее. Но я помню, что норвежцы в душе очень консервативны, не любят перемены мест, живут гнездами, из которых редко выбираются в полет. Хотя война добралась до вас даже раньше, чем до нас, можно все же надеяться, что многие из тех, с кем я был когда-то знаком, по-прежнему работают на своих местах, живут в своих квартирках. Я бы поискал мастера Андреена с шарикоподшипникового завода, — он жил на левом берегу Акерс-эльв, в Эстканте…
Эта небольшая речка, рассекающая Осло, была как бы негласной границей между городом богатых — Западным и городом тружеников — Восточным.
— Но это же ужасный район! — со всей непосредственностью хорошо устроенного человека воскликнула Вита.
— А где еще может приютиться беглый пленный? В районе бульваров, в Вестканте, где расположен особняк твоего отца? Вряд ли мне сдадут там комнату… А мастер Андреен не только работал в нашей конторе «Совэкспорт», но и по убеждениям примыкал к коммунистам. Я думаю, он поможет мне устроиться на работу.
— На работу?
— Но вот ты же устроилась? — усмехнулся он. — Будем вместе помогать великому германскому соседу…
— Но какую работу может предложить тебе мастер? Ведь ты же инженер!
— Сомнительно, чтобы кто-нибудь предложил мне пост инженера, — сурово заговорил он, пытаясь заставить ее оторваться от прошлых представлений. — Но, кроме того, я еще и термист, и механик, и, говорят, хороший. Вот, исходя из этого, я и стану строить свою новую жизнь.
— И я не увижу тебя? — жалобно проговорила она.
— Почему же? Когда у меня заведутся кроны, я приглашу тебя на танцы. Там, на левом берегу Акерс-эльв, были недурные дансинги для рабочих парней и их подружек, если немцы их не закрыли.
— Перестань! — воскликнула она. И вдруг заплакала, опустив голову на руки. Слезинки скатывались меж тонких пальцев.
Вот уж этого он не мог вынести. Прижав ее голову к груди и целуя плачущие глаза, он поклялся:
— Я всегда буду рядом с тобой! Если ты чуть-чуть посвистишь, я сразу прибегу…
И добился своего: она снова заулыбалась. Теперь уже разлука не казалась такой страшной.
— Но этот день и завтрашний ты отдашь мне? — только и попросила она. И сама же успокоила: — А завтра вечером наши друзья отвезут тебя в Эсткант. И у тебя будут мой служебный телефон, и мой домашний телефон, и будут еще телефоны наших друзей.
— Отлично! — весело воскликнул он. — По крайней мере мне не грозит безработица. У дядюшки Андреена тоже есть телефон, и я буду сутками сидеть возле него.
— Не шути так жестоко! — попросила она.
И он сам испугался, увидев ее такой, как в самый последний день в Осло, когда было совершенно ясно, что он вот-вот исчезнет навсегда из ее жизни, хотя было совершенно не ясно, удастся ли ему добраться до родины? — немцы, невзирая на свои торговые договоры с Россией, к русским, оказавшимся в Норвегии, отнеслись очень враждебно.
Вот такой же растерянной была Вита в те два дня, что еще подарила им война. Все было не ясно: позволят ли немцы вывести из норвежских портов советские корабли с рудой и машинами, с отъезжающими советскими работниками посольства и торгпредства и нескольких закупочных комиссий, — все страны раздвинулись, все границы ощетинились, мир оказался разделенным воюющими армиями…
И вот сейчас он снова показался ей солдатом, а не возлюбленным, и это опять потрясло ее, уже поверившую, что счастье вернулось к ней.
И он поклялся, что не станет огорчать ее. И два дня держал свою клятву…
А в понедельник, перед самыми сумерками, приехали гости.
Толубеев, наблюдавший из окна, сразу узнал и машину, и людей. Те, что встречали ого на взморье.
Вита побледнела, услышав шум подъезжающей машины. Теперь она не боялась, просто представила еще одно прощание.
Молодой человек, который помогал тогда Толубееву выйти из машины, сейчас, в отлично сшитом костюме и мягких зимних башмаках, мог оказаться и профессиональным спортсменом, и профессиональным политиком или адвокатом. Старший, широкоплечий, массивный, с тяжелой челюстью, был похож на боксера.
— А вы прекрасно выглядите! — воскликнул младший по-английски.
— Рад поблагодарить вас, господа, за помощь! — приветствовал их Толубеев на норвежском.
— Как, вы знаете наш язык? — растерянно спросил старший.
— Господин Толубеев два года работал в нашей стране торговым представителем по импортно-экспортным операциям. Он — известный русский инженер, специалист по черным рудам и металлам… — пояснила Вита. Об этой рекомендации они договорились заранее.
— Приветствую коллегу! — воскликнул старший. И поспешил представиться: — Свенссон, инженер-металлург. Сейчас руковожу небольшим опытным цехом, работаю на немцев! Впрочем, вы, вероятно, знаете наши шарикоподшипниковые заводы?
— Да, конечно! — ответил Толубеев, пожимая протянутую руку. — В сороковом году я заказал у вас довольно много вашей отличной продукции.
— Немцы потребовали от руководителей концерна ликвидации этого заказа на следующий день после захвата Осло! — хмуро сказал Свенссон.
Младший все смотрел на Толубеева, как на говорящую лошадь. Только после того как Толубеев пожал руку и ему, он растерянно пролепетал:
— Севед Свенссон, бакалавр литературы…
— Мой сын! — гордо объявил старший.
— Мы были здесь в отпуске, когда нам передали приказ нашей группы Сопротивления встретить вас, — сказал младший.
— Не подумайте, что у нас действительно крупная группа, — старший Свенссон улыбнулся. — Настоящее Сопротивление базируется в горах.
Толубеев понял, что от него ждут такого же доверия. Вита пригласила гостей к столу, и Толубеев добросовестно пересказал все, что должен был рассказать беглец из лагеря. Не забыл он сообщить и о том, что принял его рыбак Рон Иверсен.
По живому вниманию гостей, по улыбкам, которыми они обменялись при имени Иверсена, Толубеев понял, что они ждали именно такого рассказа.
— Что же вы намерены делать дальше? — спросил Свенссон-старший.
Толубеев рассказал о своем плане: разыскать старого знакомого Андреена, мастера одного из шарикоподшипниковых заводов, и попробовать устроиться при его помощи на работу.
— Я бы посоветовал вам продолжить отдых! — строго сказал Свенссон-старший. — Хотя эти два дня и пошли вам на пользу, но условия работы на подшипниковом заводе далеко не санаторные.
— Я должен как можно скорее встать на ноги! — твердо отклонил его невысказанное предложение Толубеев. — Вы сделали столько же, сколько мог бы сделать сам бог, если бы попытался спасти меня. Но теперь богу лучше заняться своими делами. Длительное знакомство с нашим братом опасно, особенно из-за страха гестапо перед народным Сопротивлением. А при помощи Андреена я вполне смогу выдать себя за русского норвежца.
— Может быть… — задумчиво произнес старший.
Выехали поздно вечером. Свенссоны сидели впереди, Вита и Толубеев позади. Старший Свенссон сам вел машину. Он предупредил, что на шоссе расположены несколько полицейских постов. Хотя его машина и известна постовым, но лучше будет, если гость притворится, будто занят разговором с фрекен Витой.
Глава третья. Есть еще смелые люди на земле…
1
«12 марта войска Западного фронта под командованием генерал-полковника тов. Соколовского В. Д. после решительного штурма овладели городом и железнодорожным узлом. Вязьма».
Совинформбюро. 12 марта 1943 г.Все получилось даже лучше, чем Толубеев мог надеяться. Свенссон-старший признался, что когда-то знавал мастера Андреена, хотя давно уже не встречался с ним. Сказал он об этом довольно сухо: инженер и мастер— категории в обществе совершенно разные. Но Толубеева в разведку не пустил. Инженер может зайти к мастеру и без приглашения, это мастер к инженеру без приглашения зайти не может…
Толубеев улыбнулся этому объяснению, но возражать не стал. В конце концов, надежда на Андреена могла оказаться несбыточной…
Свенссон-старший, оставив машину в переулке недалеко от домика дядюшки Андреена, ушел. Через полчаса неторопливого разговора с Андрееном он упомянул имя старого знакомого дядюшки — русского инженера. А через десять минут сказал, что Толубеев, бежавший из плена, сидит в его машине и ему надо бы помочь. После этого старый мастер выскочил из дома, оставив растерянного Свенссона за чашкой кофе, а еще через минуту, не дав Толубееву даже проститься с остальными спутниками, увлек его в свой крохотный домик.
И вот он живет у дядюшки Андреена.
Целую неделю он не звонил Вите.
Он знал, что первые дни на чужой земле будут самыми трудными, и не хотел, чтобы его случайная неудача коснулась Виты. А шаги, которые он предпринимал, были достаточно опасны.
Прежде всего надо было выйти на связь, то есть дать знать, что он добрался благополучно. Полковник Кристианс сообщил Толубееву самый простой код: зайти в любую народную библиотеку, взять «Саги» на норвежском, издания тысяча девятьсот двенадцатого года, и просмотреть седьмую, семнадцатую и двадцать седьмую страницу. На седьмой странице он найдет имя искомого человека, на семнадцатой — название улицы, на двадцать седьмой — номер дома. Толубеев тогда подивился — зачем такие сложности, когда он мог просто запомнить адрес, но полковник Кристианс довольно сухо заметил, что то, что просто запоминается, так же просто, и забывается, а то и выговаривается… Больше того, «Саги» было запрещено даже купить. Именно — зайти в библиотеку, именно прочитать и тут же сдать, не делая никаких пометок…
И вот он сидел в народной библиотеке неподалеку от домика мастера Андреена и перелистывал толстую книгу…
На первой же указанной странице он с чувством какого-то острого предвидения нашел сагу, в которой упоминался рыжий великан, передвигавший горы и пробивавший новые русла для рек, и звали его… Ранссон!
Толубеев надолго застыл над страницей.
Он предполагал, мог, наконец, надеяться, что имя будет ему знакомо. Сопротивление всегда собирает под свои знамена самых лучших людей. Но Ранссон лежит сейчас в больнице для рыбаков, с пулевым ранением. И уж, конечно, он на подозрении у полиции…
Но, может быть, шкипер просто однофамилец того, кого Толубеев должен разыскать?
Он внимательно просмотрел семнадцатую и двадцать седьмую страницы. На семнадцатой речь шла о волшебной мельнице. По-видимому, название улицы «Мельничная», а на двадцать седьмой никаких цифр, кроме обозначения страницы не было, значит, дом имеет номер 27.
Подойдя к висевшему тут же на стене плану Осло, Толубеев довольно быстро нашел Мельничную улицу в одном из закоулков на берегу Акерс-эльв, разрезающей город. Все тот же район бедноты: рыбаков, моряков, докеров, рабочих. От домика мастера Андреена рукой подать. Надо идти.
На Мельничной, 27 Толубеева встретила немолодая женщина. Лицо у нее было страдающее, глаза заплаканные. Услышав «лапландское» произношение посетителя, она чуть не бросилась на него с кулаками. Хорошо еще, что ее гневную речь никто не слышал, они стояли вдвоем на лестничной площадке второго этажа.
— Это из-за вас, из-за вас, подлых иностранцев, мой муж получил пулю в бок! — кричала она, тесня посетителя с лестницы. Толубеев надвинул шляпу поглубже на глаза и отступил.
Дома, когда дядюшка Андреен, придя с работы, поднялся в его каморку, чтобы пригласить к ужину, Толубеев осторожно спросил, не знает ли он рыбака Ранссона.
— Какой он рыбак! — насмешливо сказал Андреен. — Хвастает он и больше ничего! Он работает у нас на подшипниковом, а рыболовством пытается прирабатывать, только у него никогда ничего не получалось. А в прошлый раз не успел вовремя зажечь топовые огни, а на его суденышке заглох мотор, вынесло его в Скагеррак, и тут, на беду, немецкий сторожевик шарахнул по нему из пулемета. Немцы, они вежливости не признают. Правда, потом они сами же подтащили Ранссона к берегу, но ему-то это стоило пули в бок. Хорошо, что главный инженер недолюбливает немцев, приказал записать, что у Ранссона прогул по болезни, а могли бы и выгнать за милую душу.
Толубеев мрачно думал: Ранссон выходил в море, чтобы заранее отыскать точку рандеву с подлодкой. Значит, в этой беде виноват именно Толубеев!
— А я считаю, что это храбрый человек! — сдержанно сказал он. — И если бы вы, дядюшка Андреен, решили навестить Ранссона в больнице, с удовольствием пошел бы с вами.
— А ведь, пожалуй, вы правы, Владимир! — задумчиво признал мастер, поглядывая на своего гостя с какой-то хитринкой. — Что ж, завтра — среда, в больнице открытый день. Можно и навестить.
Больше они об этом не говорили, но в среду Толубеев заранее приготовил пачку хороших сигарет и маленькую бутылочку рома. Он сам так долго валялся в госпитале, что помнил: самой главной бедой считалось отсутствие курева и выпивки. Ему-то ни того, ни другого не полагалось, но если ранение нетяжелое, нет лучше лекарства!
Мастер ушел с работы пораньше, и в четыре часа они уже были в рыбацкой больнице. Здание было мрачное, старинное, похожее на дом призрения, но во дворе стояли и новые корпуса, в том числе и хирургический. Мастер Андреен действовал напористо, и их довольно быстро пропустили к больному.
Ранссон действительно оказался рыжим великаном.
Правда, теперь он горы не передвигал, реки не поворачивал, лежал скучный, но при виде гостей оживился. В палате было еще двое, но Ранссона, видно, уважали, — те двое поднялись со своих коек: один простучал мимо на костылях, другой — осторожно неся переломанную руку. Толубеев молча выложил на столик свои подарки. Андреен иронически подзуживал:
— Ну, как, рыбак, твой улов?
— Еще будет улов! — хмуро ответил Ранссон, с любопытством поглядывая на молчаливого второго посетителя.
— Какую же рыбку ты собирался поймать в Скагерраке?
— Перестань, Андреен, мне уже полицейские с этими вопросами надоели, да и немцы всю снасть переворошили.
— А им-то что до наших рыбаков? — нахмурился и Андреен.
— Мы для них давно не люди! — отрезал Ранссон. — А что, твой дружок — немой?
— Говорит, но плохо. Это русский норвежец, господин Толубеев. Будет работать на нашем заводе. Услыхал, что ты с немцами поцапался, решил — герой! Вот И попросил взять с собою…
— Русский? — Ранссон приподнялся было, охнул и снова опустился на подушку. — Что же вы здесь делаете, господин русский? — он так и впился пристальными глазами в худое лицо Толубеева.
— Пока изучаю язык, — ответил Толубеев. — Только что прочитал «Саги», седьмую, семнадцатую и двадцать седьмую…
— Да! — протянул Ранссон. — Хорошая литература! Особенно двадцать седьмая!
— Женщина там очень печальная, все тоскует о муже.
— Как вы сказали, вас зовут?
— Владимир Толубеев.
— Ну, благодарю вас за визит. Думаю, Андреен поможет вам с устройством.
— А я у него и живу. Завтра иду первый раз в цех. В общем-то друзей у меня довольно много.
Ранссон повернулся к Андреену:
— Прости, мастер, устал я что-то. Да еще письмо надо написать, чтобы страховая касса перевела мои кроны старухе. Заходите еще!
Рука у него как-то ослабла, стала вялой. Толубеев, пожимая эту вялую руку, подумал: «Переволновался! Да и как иначе? Он же думал, что из-за этой дурацкой встречи с немцами вся операция провалилась!» — но глаза Ранссона улыбались.
Когда они вышли из больницы, Андреен сухо сказал: — Ну что вы с ним о сагах говорили? Надо было сказать что-нибудь о себе! Он храбрых людей любит…
2
«В Тронхейме норвежские патриоты бросили бомбу в немецкий пароход. В результате взрыва было убито и ранено много гитлеровцев. В районе Ставангера группа вооруженных норвежцев совершила налет на военный склад. Истребив немецкую охрану, норвежцы подожгли складские помещения. Огнем уничтожено много снаряжения и различного военного имущества немецких оккупантов».
Совинформбюро. 14 марта 1943 г.Мастер Андреен устроил Толубеева термистом на заводе.
На заводе работало много иностранцев.
Это были латыши, эстонцы, бежавшие с родины при установлении Советской власти, в сороковом году. Появление «русского норвежца» никого не заинтересовало, никаких дополнительных документов не потребовалось, просто мастер поручился за своего постояльца.
Для решения главной задачи, которая волновала Толубеева, завод не так уж много значил. Но заводское удостоверение давало кой-какое право на пребывание в столице, а так как вся продукция завода поступала в Германию, можно было при случае выяснить, какие же новые сорта стали запрашивают немцы? А пока что термист Толубеев закаливал подшипники разных размеров, смутно надеясь, что не все они пойдут в артиллерийские системы и в танки, которые немцы будут применять в следующих сражениях.
Через неделю он позвонил Вите.
Звонил он из автомата, в служебные часы, и Вита сама подняла трубку телефона:
— Отдел перевозок! — бодро, как и полагается энергичной секретарше, произнесла она.
— Вита, это я, — тихо сказал он.
— Господи, Вольёдя! — испуганно-радостно произнесла она. По-видимому, в комнате кто-то был, так как она заговорила по-русски: — Немедленно скажи, где я тебя увижу и когда?
— В шесть часов вечера у парка Фрогнер! — быстро произнес он давно приготовленную фразу.
— Хорошо! — так же торопливо сказала она, и телефон отключился.
Без четверти шесть он добрался до парка. Парк Фрогнер всегда нравился ему своими чудесными статуями работы скульптора Вигеланда, поставленными по всем аллеям. День был теплый, снег на статуях и дорожках таял, капало с деревьев, скамейки были сухие. Взъерошенные воробьи и жирные голуби склевывали крошки, которыми кормили их престарелые женщины в темных пальто с меховыми воротниками, в черных перчатках, с муфтами, в которых они отогревали склеротические руки. Белка спрыгнула с дерева, пробежала по дорожке и резво ухватила из рук старушки кусочек булки, а затем серой молнией вознеслась обратно на кривую от морских ветров сосну. Толубеев нашел свободную скамью, сел и внимательно огляделся.
Под ногами лежал голубой узкий фиорд, в который как бы скатывался город с каменных высот. За фиордом чернели очень близкие крутые горы. По улице за воротами парка проходили тупорылые немецкие военные машины, проходили по двое, по трое немецкие солдаты и офицеры, — в одиночку они не появлялись в городе даже днем, по-видимому, исполняли приказ командования, за эти годы было слишком много таинственных исчезновений одиночных солдат и офицеров, — темные и глубокие воды фиордов не открывают своих тайн. Патрулировали город и полицейские в норвежской форме, но держались они довольно тихо.
Поблизости ничего подозрительного не было. Сидели несколько парочек в разных укромных уголках, тесно прижавшись друг к другу и согреваясь теплом своих плеч или держа руки подруги в руках, так как погода была еще не для влюбленных. Но Толубеев позавидовал им и их, хотя и временному, покою.
Но нет, не так уж тут спокойно! Вот пробежал мальчишка с вечерними выпусками газет, и все старушки, все влюбленные одинаковым жестом принялись рыться в карманах, в кошельках, отыскивая тусклые монетки по три-пять эре, и вот уже у всех в руках зашуршали газеты, хотя воздух начал остывать, пора бы и по домам…
Толубеев тоже купил «Дагбладет», которую и следовало читать почтенному рабочему, может быть, члену социал-демократической партии, функционеру.
Он уткнулся в газету, пытаясь понять по сводкам немецкого командования, что делается на фронтах. Немцы продолжали писать о наступлении на харьковском направлении, Армии «Центр» и «Север» улучшали свою «эластическую оборону». Это словечко появилось в немецких сводках недавно и обозначало оно, как правило, отступление под давлением советских войск. Но звучало почти оптимистически…
Путаясь в длинных высокопарных фразах ведомства Геббельса, Толубеев не услышал шагов. Привел его в себя только милый голос:
— Так-то вы, господин Вольёдя, встречаете любимую? А где же цветы?
Он вскочил, роняя газетные листы. Но она уже прижалась к нему, опустив руки на его плечи, приподнялась на цыпочках, поцеловала в губы. Он осторожно усадил ее.
— Гадкий человек, почему ты так долго не звонил? — спросила она, все еще пытаясь продолжать игру, но голос был ломок и неуверен.
Он невольно выбранил себя за то, что доставил ей столько беспокойства.
— Фрекен Вита, ваш покорный друг сдавал экзамены! — попытался он продолжить ее игру.
— На бакалавра?
— Нет, на термиста шарикоподшипникового завода.
— Фу, как грубо!
Она по-детски обиделась, и он молча взял ее руки в свои. Ей нужно привыкнуть к мысли, что он совсем не тот блестящий инженер из далекой России, за которым ухаживали ее отец, ее старшие друзья, к каждому слову которого почтительно прислушивались сверстники. Тогда он представлял государство. А сейчас для нее он должен остаться частным человеком.
Она вздрогнула от порыва холодного ветра, и Толубеев торопливо вскочил:
— Вита, пойдем в кафе! Мне просто необходимо что-нибудь выпить.
— И мне! Хотя бы кофе.
Он торжественно позвякал в кармане серебряными кронами.
— Ты слышишь эту музыку? Моя первая получка!
Она огорченно оглядела его худое лицо, фигуру, на которой только что приобретенное пальто висело, как на вешалке.
— Ты должен был взять у меня немного денег и отдохнуть хоть месяц! — укоризненно произнесла она. — Не понимаю, как тебя могли принять на работу! Ты же все еще похож на скелет!
— А, были бы кости, а мясо нарастет! — беспечно сказал он.
— Как? Как?
— О, это русская пословица! — объяснил он.
— Ты произносишь свои пословицы, как молитвы, — пожаловалась она. — Ты же знаешь, я не понимаю идиоматические выражения!
— Больше не буду!
Он увлек ее к тихому ресторану, который высмотрел, когда шел на свидание. Ресторан находился в переулке, и, сворачивая туда, он оглянулся. Ему показалось, что какой-то хорошо одетый человек хотел было последовать за ними, но потом раздумал и повернул обратно. Впрочем, он тут же забыл об этом постороннем человеке.
Они долго сидели в обманчивом одиночестве — по обе стороны столика стояли китайские ширмы с розовыми драконами, скрывая их от соседей и соседей от них, ресторан находился рядом с парком, в котором назначались большинство свиданий между жителями Осло, и хозяин сумел учесть это. Потом немного танцевали, — только солидные медленные танцы вроде чарльстона и танго, — еще долго пили кофе, потому что за окном завихрилась весенняя метель, мокрая, скользкая, и чувствовали они себя, как в первые дни своей любви — бездомными, одинокими, первыми людьми на пустой еще и неготовой для радостей земле…
Уже прощаясь у ее дома — гранитного куба, приспособленного больше для официальных приемов, нежели для семейного жилья, так искусно были спрятаны жилые комнаты в глубине этого здания, в той части, к которой примыкал небольшой внутренний сад, — он вдруг ощутил на губах ее губы и затем услышал горячий шепот:
— Завтра опять суббота! Мы поедем в усадьбу! Я заеду за тобой в час дня, только скажи — куда?
— Я буду у парка! — только и выговорил он.
3
«15 марта наши войска после многодневных и ожесточенных боев по приказу командования эвакуировали город Харьков.
В Смоленской области наши войска, продолжая наступление, заняли город Холм-Жирковский.
На остальных фронтах наши войска вели бои на прежних направлениях».
Совинформбюро. Вечернее сообщение 15 марта 1943 г.В восемь часов утра он был на своем рабочем месте.
В этот короткий рабочий день руководители цехов словно взбесились и гнали продукцию так быстро, что казалось, они решили за четыре часа работы выкатить шарикоподшипников больше, чем за обычный день. Термическая печь, у которой дежурил Толубеев, была загружена сверх нормы, и он сообщил об этом дежурному инженеру.
Инженер просмотрел счетчики, паратермометры, махнул рукой:
— Сойдет!
Сойдет, так сойдет. Инженер, по-видимому, надеялся, что контролерам из немецкой приемной комиссии тоже хочется побыстрее убраться с завода. А Толубееву каждый день хотелось, чтобы вся закаливаемая им продукция превратилась в брак. И хотя он знал, что не имеет права рисковать, отчего не рискнуть, если инженер благословляет?
В девять утра к нему подошел взволнованный мастер Андреен.
— Камрад Владимир, вас вызывают к сменному инженеру…
Толубеев сбросил запятнанную кислотами спецовку, надел пиджак, хранившийся в рабочем ящичке, и последовал за мастером. Он только выглядел спокойным, но сердце билось глухо и торопливо.
Андреен, проводив его до кабинки сменного инженера, отступил и исчез за станками. Толубеев подумал: «Будет стоять тут хоть до второго пришествия и ждать, выведут ли меня под конвоем или отпустят к станку…».
В конторке никого, кроме дежурного инженера, с которым Толубеев только что разговаривал, не было. Инженер кивнул на снятую трубку телефона:
— Трубка ждет вас, господин Толубеев! — и посмотрел на рабочего с таким удивлением, будто на его глазах происходило чудо. Вряд ли в эту конторку когда-нибудь приглашали к телефону рабочего…
— Я слушаю, — медленно и ровно сказал Толубеев. Впрочем, выглядеть спокойным ему помогало стремление говорить по-норвежски чисто и благозвучно.
— Господин Толубеев? — голос был мягкий, женский, очевидно, секретарский. — С вами будет говорить господин Арвид Масон…
Он чуть не выронил трубку. Ее отец!
— Господин Толубеев? — он всегда бы узнал этот низкий, словно бы заплывший жирком, голос власть имущего человека без излишних сомнений.
— Да, — внезапно став по-настоящему спокойным, ответил он.
— Прошу вас заехать ко мне в управление через тридцать минут.
— Простите, господин Масон, боюсь, что меня не отпустят с работы.
— Я уже договорился с начальником цеха. Моя машина ждет вас у проходной завода.
— Благодарю. Буду.
Он положил трубку. Сменный инженер все еще глядел на него, как на Валаамову ослицу, которая всю жизнь неблагозвучно кричала и вдруг заговорила человеческим языком.
— Это в самом деле господин Арвид Масон? — только и спросил он.
— Вы же, вероятно, с ним говорили?
— Не я. Начальник смены. Я только получил приказ разыскать вас и вызвать в конторку к телефону.
— Да, господин Арвид Масон, — устало сказал Толубеев. Ему и без этих дурацких расспросов было о чем подумать. Чтобы отвязаться, он коротко буркнул — Я предложил господину Масону одно маленькое изобретение…
— О! — в глазах инженера сияла почти божественная благодать.
— Я могу покинуть рабочее место? — деловито спросил Толубеев, пытаясь погасить это небесное сияние в Глазах инженера.
— Конечно, конечно! Вы свободны на всю смену! — поторопился тот.
У дверей конторки из-за станков вывернулся Андреен. Схватил за руки и увлек в проход, подальше от конторки.
— Что произошло?
— Ничего, дорогой Калле! Просто девушка! Она вымолила мне отпуск до конца смены!
— Ну, ловкач! — восхищенно воскликнул дядюшка Андреен. — И на эту удочку он пытается поймать меня, старого кита! Впрочем, молчу, молчу! Лишь бы все кончилось хорошо!
Толубеев покинул его и поспешил к своему рабочему ящику. На площадке у термической печи уже возился другой термист. Толубеев надел пальто и побежал к выходу.
На проходной его уже ждали. Охранник отщелкнул на автоматических часах время ухода и вернул пропуск. Второй человек в проходной оказался шофером Масона. Толубеев по-мальчишески порадовался тому, что, помня об уик-энде, надел сегодня свой единственный выходной костюм. Пусть потом хоть потоп, но перед господином Масоном он предстанет «в форме».
Шофер не заговаривал. Он гнал машину в деловую часть города со скоростью не меньше ста.
Молоденькая женщина-секретарь встретила его восхищенным взглядом. Раньше здесь работала суровая дама, не умевшая улыбаться.
— Господин Толубеев? Господин Масон вас ждет.
Он вошел в знакомый кабинет. Ничего тут не изменилось. Арвид Масон, все такой же подтянутый, чуть больше поседевший, встал из-за стола, протянул руку.
— Здравствуйте, господин Толубеев.
Толубеев физически ощутил его оценивающий взгляд. Неизвестно, каким ожидал Масон увидеть своего бывшего заказчика, но взгляд его стал спокойнее: Толубеев изменился только физически, но одет прилично, держится так же уверенно, как и в те времена, когда подписывал с Масоном миллионные контракты на доставки высококачественной стали.
— Как вы оказались в Осло? — спросил Масон.
— Бежал из немецкого лагеря на севере Норвегии.
— А вы не могли выбрать другую страну? — язвительно спросил Масон.
— В Финляндии тоже немцы.
— Могли бы перебраться в Исландию. Там довольно гостеприимные люди.
— Мне больше нравится Норвегия.
— Признаться, я всегда боялся, что вы еще встанете на моей дороге. Большевики — люди неожиданные.
— Благодарите Гитлера. Если бы не он, я бы работал на своем Урале и не беспокоил вас. Но как вы меня разыскали?
— Очень просто. Вот! — Масон положил на стол несколько снимков.
На снимках были изображены он и Вита. На первом— возле ворот парка. Затем — идущие по улице. И еще — в ресторане.
— Ловко работают ваши сыщики!
— А что делать? Вита — одна из самых богатых невест в стране. А вдруг это были бы не вы, а какой-нибудь прощелыга? Вас я хоть знаю и знаю, что вам не разрешены браки с иностранками…
— Так это вы пожаловались на меня чиновнику из нашего посольства?
— К сожалению, да.
— О чем же вы теперь сожалеете?
— Надо было подождать несколько дней, и война сама списала бы вас с горизонта. А теперь я вынужден вновь заниматься вами… Хотите кофе? Коньяку? — Он нажал кнопку, сказал появившейся в двери секретарше: — Кофе и коньяк. — Когда секретарша вышла, продолжал: — А выглядите вы ужасно! Я не верил, что в немецких лагерях так плохо, но отныне буду осторожнее в выводах.
Молча выпили кофе с коньяком. Толубеев понимал, что этому великану есть о чем подумать. Мать Виты умерла несколько лет назад, но Арвид Масон не женился больше. Он действительно отдал Вите все свои личные чувства. И недаром он помянул о том давнем происшествии в посольстве. С таким же хладнокровием он может передать неблагоприятный отзыв о русской в полицию, а если этого покажется мало — прямо в гестапо. С Арвидом Масоном ухо надо держать остро…
— Что вы намерены делать, господин Толубеев?
— К сожалению, я не могу выехать в Россию, придется ждать нашей победы…
— Победы? — господин Масон казался чрезвычайно удивленным. — А вы знаете, что немцы снова заняли Харьков? Вы вообще что-нибудь знаете о положении на фронтах? — он встал из-за стола и прошел к простенку, затянутому синим шелком, дернул за шнурок, и перед Толубеевым оказалась карта мира со множеством флажков: английских, американских, японских, немецких, русских…
Толубеев подошел к карте. Ничего не скажешь, промышленник Арвид Масон чувствовал себя по меньшей мере начальником генерального штаба. Воюющий мир получал его оценку, по-видимому, не реже двух раз в сутки, согласно утренним и вечерним сводкам.
— Возможно, что немцы действительно потеснили нас на юге, — холодно сказал Толубеев, — но зато мы так далеко отогнали их от Москвы, от Сталинграда, от Майкопа и Грозного, что каждое их следующее наступление неизбежно превратится в их поражение!
Арвид Масон хмуро посмотрел на Толубеева и задернул карту. Вернувшись к столу, он заговорил сухо, жестко:
— Собственно, вас следовало бы вернуть обратно в лагерь. Но вы были отличным партнером в те далекие времена, когда мир мог торговать свободно. Оставаться на заводе вам опасно: там довольно много беженцев из Латвии, Эстонии и Литвы. А они относятся к русским с такой же мстительностью, как и немцы. Я полагаю, что вы остались инженером? И вероятно, у вас есть особый интерес к нашему экспорту? Я оставлю вас у себя в конторе инженером-консультантом по экспорту руды. Но Виту я увезу завтра в Германию…
Нанеся этот удар, он искоса взглянул на Толубеева. Толубеев опустил глаза.
Масон подождал, потом снова вызвал секретаршу:
— Господин Толубеев будет работать у нас. Передайте ему ключи от помещения номер шесть. Приготовьте и передайте господину Толубееву все отчеты по экспорту руды за прошлый год и помесячные за этот.
Господин Толубеев подчиняется мне. Приказ бухгалтеру я передам сам.
Секретарша внесла в свой блокнот распоряжения Масона и вышла.
Масон продолжал:
— Обратите особое внимание на нашу переписку со шведским акционерным обществом «Трафик». Нам пришлось пойти на сделку с ними, чтобы немцы не вздумали конфисковать наши рудники. Иногда они разрешают себе такие вольности. А шведы обмениваются с нами заслуживающей внимания информацией! — Он помолчал и перешел к другому: — Думаю, жить вам лучше у ваших друзей. Переезд в гостиницу вызовет много лишних хлопот. Сегодня уладьте ваши дела на заводе, а в понедельник с утра приступайте к новым обязанностям. Я увижу вас через неделю.
Прощался он озабоченно, думая уже о чем-то своем. Толубеев пришел в себя только на улице.
Он не понял — хотел ли господин Масон держать его при себе, чтобы обезопасить свое гнездо, или ему кто-то посоветовал приютить бедного беженца. Но кто? Вита? Свенссоны?
Из ближайшего автомата он позвонил Вите.
— Я должен тебя увидеть и как можно быстрее, — тихо сказал он.
— Мы же отправляемся в усадьбу на уик-энд! — возразила она. И добавила: — Правда, мы пробудем только до утра: отец будет ждать меня к двенадцати. Я заеду за тобой в час дня…
Он еще успел съездить на завод и получить расчет. Мастер Андреен с явным беспокойством встретил его сообщение о том, что он снова превращается в инженера,
4
«В течение ночи на 16 марта ваши войска вели бои на прежних направлениях».
Совинформбюро. 16 марта 1943 г.Вита была весело возбуждена.
Усадив Толубеева рядом, она спросила:
— Ты был у отца?
Он внимательно посмотрел на нее. Она осторожно вела машину в потоке вырывавшихся за город состоятельных людей. Менее состоятельные стояли в очередях на автобусы, и каждый держал в руках лыжи, а за спиной — рюкзак с продуктами, а то и собранную подобно парашюту палатку. Весь город уезжал на лыжную прогулку.
День был мягкий, светлый. Магазины закрывались, чтобы вновь открыться в понедельник, и девушки, стайками выбегавшие из дверей, были в брюках, в лыжных свитерах. Так повелось уже давно: конец субботы и все воскресенье— были отданы спорту и загородным прогулкам, и завоевание страны немцами как будто не мешало этому обычаю.
Вита нашла в зеркальце лицо Толубеева, пояснила:
— Утром я увидела на столе у отца наши фотографии. По-видимому, я чем-то выдала себя, иначе он не поручил бы следить за мной. Тогда я сказала, что он должен помочь тебе…
— А ты знаешь, что он завтра увозит тебя в Германию?
— О, это всего на неделю. Я всегда езжу с ним.
— Ты не знаешь, какая программа этой поездки?
— Отца пригласили на какое-то торжество у Круппов. А почему это тебя занимает? — она на мгновение отвела взгляд от осевой линии шоссе и взглянула на Толубеева.
— Пожалуйста, осторожнее! — жалобно сказал он. За эти два года он совсем отвык от шумного городского движения, и ему все казалось, что встречные машины вот-вот раздавят маленький автомобиль «БМВ», который вела Вита. В город шли только мощные грузовики: завозили свежие продукты и товары на будущую неделю.
Вита опять устремила взгляд вперед, но маленькая морщинка меж бровями показывала, что ее что-то заботит.
Поток машин понемногу разбегался в стороны, ехать становилось легче.
— Вольёдя, — жалобно сказала она, — отец сказал, что ты скоро исчезнешь. Это правда?
— Я уже говорил тебе, что я солдат и что никто не освобождал меня от присяги. Я должен воевать вместе с моим народом…
— А как же я?
— После войны я обязательно приеду к тебе…
Про себя он подумал: «Если полковник Кристианс не запретит…», — но говорить этого не стал.
— Я знаю, что у вас трудно выехать за границу, — печально сказала она. И вдруг оживилась: — Но ведь я уже совершеннолетняя, и я могу приехать к тебе…
Он подумал о том, какой выйдет страна из войны, как трудно будет этому избалованному ребенку среди всеобщей разрухи и уничтожения, но спорить не стал. Может быть, она и на самом деле рискнет. А сам он, вернувшись, не будет таким мямлей, чтобы позволять кому-то другому решать за него его собственную жизнь. Он любит, и этого достаточно для того, чтобы отстаивать свое право на счастье.
— Мы будем вместе! — твердо сказал он.
— Что тебе, советскому человеку, нужно здесь? — строго спросила она. — Я ведь вижу, что ты чем-то обеспокоен!
— Я хочу помочь моей стране победить!
— Это называется шпионаж? — спросила она.
— Нет, это называется разведка.
— Против маленькой побежденной Норвегии?
— Против вашего «великого соседа», которому вы так успешно помогаете.
— А что может сделать наша маленькая страна?
— Однако ж твои друзья борются?
— Разве это борьба? Так, игра в «Красный Крест». Борются те, кто начиняет снаряды песком вместо тринитротолуола, кто снабжает авиабомбы пустыми взрывателями.
— Разве ты знаешь таких?
— В газетах их называют саботажниками, а суды Квислинга приговаривают их к расстрелу…
Она прикусила губу и увеличила скорость, словно испугалась своих слов и пыталась убежать от них. Толубеев замолчал.
Шоссе вынырнуло из рощ и перелесков на берег озера. По прибрежному льду, покрытому мягким снегом и исчерченному множеством лыжных следов, двигались толпы лыжников — это были те, кто уже начал свой отдых. Появились виллы и усадьбы, маленькие рестораны, кафе. Возле дверей этих заведений были наставлены десятки лыж, цветные палки стояли шпалерами.
Неожиданно появилась и знакомая усадьба. Ворота были гостеприимно распахнуты.
Вита остановила машину у крыльца, и Толубеев помог ей выгрузить сумки, чемодан, свертки. Вита открыла гараж и завела туда машину.
Никто не встречал их, но в доме было жарко натоплено, в столовой накрыт стол на два куверта. Стояли бутылки вина и бутылки виски, вода, фрукты, в теплящейся слабым газом духовке виднелись ароматно пахнущие кастрюли.
Настроение у Виты опять изменилось, она оживленно запела: «Обедать, обедать, обедать!» — побежала умываться, а когда вышла к столу, Толубеев с восхищенным изумлением увидел ее в вечернем платье.
— Это наш маленький праздник! — воскликнула она и пожалела — Почему ты, Вольёдя, не в смокинге? Хотя, я помню, советские никогда не надевали вечерних костюмов. Почему?
— У нас это просто не принято…
— Суровая простота? — поддразнила она.
— Если хочешь — да. — И процитировал запомнившиеся стихи — «Тяжелую науку мы прошли, как строить города в лесах косматых, водить в морях полярных корабли, навстречу солнцу плыть на стратостатах. Не плача, мертвых хоронили мы, на праздник часто только воду пили, встав на пороге смертоносной тьмы, у господа пощады не просили. Мы только думали богато жить, и лучшим другом нам была надежда, и девушек просили нас любить — какими есть — в рабочей прозодежде…»[1]
— Да, суровая простота! — задумчиво повторила она. — Но, может быть, это лучше нашего суетного и безжалостного мира? — она посмотрела на Толубеева с надеждой.
— Это просто — мой мир! — напомнил он. — И я не хочу другого.
— Значит, я должна принять твою веру, — тихо сказала она. — Как девушка протестантка, полюбив католика, переходит в его веру…
Он промолчал. На протестантку она никак не походила, да и весь уклад этого дома, этот торжественный обед, это прекрасное и, наверно, очень дорогое платье, — все это было в таком противоречии с ее словами, что превращало их в игру.
Но она и сама оборвала разговор, принялась угощать его, ухаживать за ним, изображая любящую жену, наконец-то дождавшуюся мужа и стремящуюся доставить ему максимум удовольствия. И он невольно подчинился и этой милой игре.
И весь уик-энд был чудом: с лыжами, с долгим сидением у камина, с ласковыми словами, с веселым ужином около полуночи.
Утром он проснулся оттого, что она пристально и даже сурово разглядывала его лицо, сидя возле кровати на низеньком стуле. Она была уже одета по-городскому, и он невольно взглянул на часы. Было десять.
— Что ты так смотришь на меня?
— Хочу понять.
Нагнулась, поцеловала долгим поцелуем, выпрямилась, пошла к двери.
— Поторопись к завтраку!
Он торопливо побрился и вышел в столовую.
Сейчас она была задумчивой, немного грустной. Он подумал: «Жалеет о разлуке!»
После завтрака она сказала:
— Ты можешь остаться на весь день. Я позвоню Свенссонам, чтобы они захватили тебя на своей машине.
— Нет, я поеду с тобой.
— Спасибо.
Убрала посуду, приготовила свой чемодан. Владимир изредка ловил ее задумчивые взгляды. Потом присела к пустому столу, положила подбородок на ладони, долго смотрела, вдруг спросила:
— Что тебя интересует в Германии?
— Ты хочешь быть моими глазами?
— Нет, твоей душой! — ответила она слишком серьезно.
Он подумал: больше ты никому не можешь довериться! Любимый человек — это и есть твоя душа. Ты знаешь ее душу, почему же ты полагал, что она не узнает тоску твоей души? Господин Арвид Масон — не столько ее отец, сколько твой противник. А она — твоя порука и твоя защита. Пусть она будет твоими глазами и твоей душой, может быть, ей будет даже легче жить.
— Почему ты молчишь? — спросила она.
— Я думаю. То, о чем я могу попросить тебя, опасно…
— А ты думаешь, что состоять в Сопротивлении не опасно? Я ведь не знала, кому помогаю. Предыдущая группа на нашей станции Скрытой Дороги осенью прошлого года приняла английского летчика и переправила его в Исландию. А через неделю он оказался в Берлине и выдал всех, кто ему помогал. Они получили по десять лет тюремного заключения!
— Надеюсь, что их освободят значительно раньше…
— Ты убежден в этом? — строго спросила она.
— Дорогая моя, за нашими плечами не только наша сила и сплоченность, но и наша история! И разве вы, работающие в Сопротивлении, не видите этого?
— Мне кажется, что многие участники Сопротивления действуют по странному принципу: болеют за слабую команду.
— А ты?
— Я болею за тебя… Но это только поможет мне выполнить твою просьбу!
— Ты уверена, что у меня есть особая просьба?
— Но ведь ты сам сказал, что ты солдат и никто не освобождал тебя от присяги!
— Да.
— Тогда говори.
— Хорошо. — Он собрался с мыслями, а она нетерпеливо смотрела в его глаза, словно пыталась прочитать эти мысли. Тогда он заговорил так же, как говорили с ним самим. Тут не было места недомолвкам.
— Я знаю, что немцы переориентировали вашу горную промышленность. Они закупают не только железную руду, но и большое количество таких материалов, которые нужны для создания особо качественных сталей. С моей точки зрения, это значит, что они начали выпускать особо опасные для нас танки и самоходные пушки. Мне нужно знать, так ли это, и услышать хотя бы приблизительное описание этих возможных машин. Твоего отца, несомненно, пригласят на заводы, которые съедают норвежскую руду и руду «Трафика», — это принято у промышленников, а немцам, после недавних поражений, крайне необходимо похвалиться своими силами. Они знают, что твой отец не выдаст их секретов. Но если ты пожелаешь, ты можешь увидеть все это моими глазами…
— И только-то? — но тут же устыдилась необдуманного ребяческого восклицания и сказала значительно, строго: — Я буду твоими глазами там!
Это прозвучало как клятва.
Все другие слова показались бы легкомысленными, поэтому она заторопилась к машине.
Только когда они подъезжали к городу, она вдруг спросила:
— Неужели это так важно для тебя?
— Видишь ли, — осторожно объяснил он, — немцы потерпели крупнейшее поражение за всю войну. Сейчас у них идет перегруппировка сил. Они считают, что решающее сражение, а вместе с ним и их победа, произойдет летом, когда танки смогут маневрировать без помех. Мы должны встретить их во всеоружии и разгромить их до конца! Возможно, это сражение не будет еще концом войны, слишком далеко они прорвались в Россию, но оно должно стать началом их конца, как Сталинград стал могилой их армий…
— Я понимаю и все-таки чувствую себя странно. Неужели я могу сделать что-то такое, от чего будет зависеть ход истории?
Он улыбнулся и пошутил:
— У нас говорят, что ход истории от отдельной личности не зависит, но каждая личность участвует в историческом процессе на той или другой стороне борющихся сил.
— Но ведь есть же нейтральные страны, люди, личности?
— Нейтральная Швеция так много дала Гитлеру, что я судил бы ее за этот нейтралитет! — жестко ответил он.
— Да, ты прав, — грустно ответила она.
Она остановила машину у парка, прильнула на мгновение, тихо отстранилась, сказала:
— Я сделаю все, что смогу! — и это тоже прозвучало клятвой.
Глава четвертая. Выстрел из темноты…
1
«На железных дорогах Франции резко увеличилось количество актов саботажа и диверсий. Французские патриоты изо дня в день наносят чувствительные удары по коммуникациям, которыми пользуются немецкие оккупанты. В районе Марселя за одну неделю пущено под откос 6 немецких поездов с военными грузами. Близ Лиона железнодорожники организовали столкновение немецкого воинского эшелона с товарным поездом. В Парижском районе только в феврале месяце выведено из строя 68 паровозов»
Совинформбюро. 20 марта 1943 г.Неделя, о которой говорила Вита, не пропала даром. Толубеев проштудировал данные о вывозе различных руд норвежскими промышленниками и «Трафиком» за весь тысяча девятьсот сорок второй год и за первые два месяца сорок третьего. Что ни говори, а заместитель наркома, вспомнивший при прощании с Толубеевым великого русского химика, был прав. Имей Толубеев такое же гениальное прозренье, какое было у Менделеева, он бы, наверно, смог понять, что за пиво варят немцы против русской браги…
Так он думал и говорил про себя в уме, уничижая себя от ярости, ибо не все было доступно пониманию в скупых цифрах отчетов. Но тем не менее кое-что он понял, кое-что высчитал, некоторые вещи просто угадал. К концу недели он, опираясь на процентное исчисление поставленных немцам присадочных материалов, вывел, например, формулу «сверхвязкой» стали, которую могли бы отлично варить немцы. Такая сверхвязкая сталь могла быть весьма опасна, если бы немцы пустили ее на броню. Восьмидесятивосьмимиллиметровый бронебойный снаряд-болванка при ударе по листу такой стали, всверливаясь в нее, начисто терял бы скорость. Но тут Толубееву представился такой танк, похожий на ежа из торчащих из него снарядных хвостов, и он просто записал поразившую его формулу: вязкая и сверх вязкая сталь могли пригодиться тоже, если не на поле войны, так в мирных условиях.
Он строил формулы стали ванадиевой, марганцевой, молибденовой, вольфрамовой, но все это были только догадки, не подкрепленные опытом лаборатории.
Однако в пятницу Толубеев, сократив формулы до предела нескольких строк, снова отправился в больницу навестить рыжего великана Ранссона. Так же, как и в прошлый раз, прихватил и сигарет и выпивки.
Ранссона он нашел в приемной. Рыбак уже переменил больничный халат на цивильное платье, только рука была еще на привязи. На вопрос Толубеева, почему рыбак поторопился выписаться, Ранссон, криво улыбаясь, ответил, что профессиональный союз рыбаков отказался оплачивать лечение.
— Заявили, что пулевое ранение не есть трудовая травма! — пояснил он.
— Неужели немцы вмешались? — удивился Толубеев.
— В профсоюзах и своих фашистов хватает! Особенно среди бонз!
Это была новая сторона вопроса. Кажется, деятели норвежских профсоюзов должны были бы помнить судьбу своих собратьев в Германии, где фашисты начисто разгромили всю оппозицию, загнав функционеров в концлагеря…
— А кое-кто из наших бонз считает, что авторитарный фашистский профсоюз лучше множества разобщенных и всем недовольных рабочих организаций! — усмехнулся Ранссон.
От больничной передачи он не отказался, записку Толубеева сунул в карман, сказал:
— Ко мне лучше не заходить — старуха считает, что я ввязался в грязное дело. Правда, она думает, что я занялся контрабандой, но моим дружкам от этого не легче, готова помелом гнать. Я вам буду звонить сам каждую среду от одиннадцати до двенадцати: пароль — инспектор надзора. Почему не отремонтирована ваша лодка? Под такой грозный рык можно без опаски уговориться о свиданье.
Он помахал здоровой рукой на прощанье и побрел по длинной портовой улице, не оглядываясь. Толубеев, смотря в его широкую спину, невольно подумал, что этот человек товарища никогда не подведет.
Суббота прошла в тоскливом ожидании вестей от Виты. И она позвонила, но… из Берлина. Фрекен Сигне — секретарь Масона, — с неистребимым любопытством наблюдавшая за таинственным русским, опрометью вбежала в его комнатушку номер шесть, торопя:
— Вас к телефону! Берлин!
Странно далекий, милый тоскующий голос звучал словно из марсианской пустыни:
— Вольёдя, милый, я задерживаюсь! Но я помню, помню!
В Берлине она не осмелилась говорить по-русски, но он и так понял, что ее «помню, помню» относится не только к тому чувству, которое она и не хотела забыть и избыть, а и к тому разговору, которым он приобщил ее к своим заботам. На вопрос: «Когда ты вернешься?» — она жалобно ответила: «Не знаю, не знаю!» — и он подумал, что Арвид Масон, наверно, постарается удержать ее в Германии до старости или, во всяком случае, до того, пока Толубеев не исчезнет навсегда. Толубеев даже спросил: «Но ты вернешься?» — и с чистой радостью услышал страстное: «Да! Да! Да!»
В час дня к нему поднялся Севед Свенссон и пригласил к себе в усадьбу на уик-энд. Оказалось, что Вита позвонила и ему и попросила позаботиться о «госте». Толубеев спрятал свои бумаги и с радостью отдался дружескому гостеприимству Свенссонов.
Старший Свенссон, сидевший на машине, встретил его не только любезно, но даже изумленно:
— О, да вы совсем поправились!
Толубеев и сам чувствовал себя совершенно здоровым. Вероятно, главным лекарством все-таки было огромное нервное напряжение, которое он испытывал все это время, но многое зависело и от того, что Андреен и его жена тщательно заботились о нем, кормили до отвала, а нужная работа, как бы ни была она сложна, еще никого, говорят, до могилы не доводила. И Толубеев уже привык к тому, что торчавшие во все стороны мослы снова обросли мясом. Но для Свенссонов, не видавших его с того самого памятного дня, перемены, происшедшие с ним, казались чудом.
Усадебка Свенссонов скорее была похожа на крестьянский хутор. Но Толубеев провел уик-энд прекрасно. Много ходил на лыжах, сытно ел, дружески разговаривал с людьми, которые, если и не все его мысли понимали и принимали, так хоть старались добросовестно понять. В воскресенье вечером они так долго засиделись с этими разговорами за столом, что разошлись уже прямо в постели.
Он не знал, что сделал Ранссон с его записями, но надеялся, что они уже на столе у Корчмарева, а то и у заместителя наркома. А если это так, то там, в России, их уже рассматривают специалисты, а возможно, в какой-то лаборатории кто-то уже пытается сварить сталь по этим рецептам. И это в известной мере успокаивало его…
Но следующая неделя текла очень медленно и тоскливо. Снова и снова Толубеев проверял свои выводы, но ничего нового в документах больше не было. Он уже подумывал было съездить в Нарвик и в Киркенес, на самый север Норвегии, чтобы посмотреть на месте, что там добывают рудокопы, но благоразумие пока еще удерживало его от этого опрометчивого шага. Из Киркенеса можно было просто не вернуться, а он не имел права рисковать, пока не закончит операцию. Потом — пожалуйста, но сейчас его жизнь принадлежала не ему…
В один из праздно текущих дней он вспомнил, что есть смысл наведаться в транспортную контору Масона.
Диспетчер, явно заинтересованный в новом инженере, с радостью вручил Толубееву документы о работе пароходных линий за последние три месяца. Толубеев медленно перебирал их и вдруг словно бы запнулся: немцы, по старой привычке, получали руду с рудников Масона вместе с присадочными материалами, как говорят дипломаты, — в одном пакете… Вот эти-то пакеты, судя потому, сколько руды было погружено в судно, — и могли дать разгадку новой стали! Толубеев взял данные на три тысячи тонн руды, на пять и десять тысяч тонн…
Попрощавшись с диспетчером, Толубеев поехал к дядюшке Андреену. Но как ни складывали они эти цифры, — разгадка не нащупывалась.
Все-таки Толубеев встретился с Ранссоном в баре и попросил передать эти сведения. Вдруг он что-то не понял, не доглядел? Ведь у них с дядюшкой Андрееном не было под рукой лаборатории…
В среду позвонил грубый мужской голос, спросил, когда он отремонтирует свою лодку, она похожа на девку после беспутной ночи, инспекция сдерет с владельца штраф, который раз в десять превысят стоимость ремонта. Голос был не знаком Толубееву, но он обрадовался и грубому тону — все-таки о нем кто-то беспокоился… Между двумя фразами грубияна Толубеев сказал, что ждет наследства по завещанию покойного дядюшки из Берлина, а уж потом примется за ремонт. В трубке инспекторский голос проворчал:
— Поторопитесь, а то будет поздно! Ваши объяснения мы переслали в главную инспекцию!
Такие грубости Толубеев был готов слушать хоть с утра до вечера. Но голос исчез. Теперь он появится только в следующую среду. Однако он успел передать, что все формулы Толубеева уже доставлены куда надо…
В субботу он уже ожидал только звонка Свенссонов: не оставят же они его изнывать в пустом городе, В половине первого телефон действительно зазвонил:
— Не соблаговолит ли господин Вольёдя разделить со мной уик-энд?
— Господи! Вита! — чуть слышным голосом, — перехватило от волнения горло! — прошептал он.
— Господин Вольёдя простужен? — все еще шутливо, но с отчетливым оттенком беспокойства спросила она.
— Нет, нет, Вита! — теперь уже слишком громко и радостно закричал он.
— Я жду вас у парка, господин Вольёдя, — сразу повеселев, продолжила она свою шутливую игру. — Бросьте все ваши дела, если вы еще помните меня!
Он так и сделал: пошвырял в сейф папки и бумаги, — потом разберемся! — и проскочил мимо фрекен Сигне, не замечая ее изумленных глаз. До сих пор он казался ей образцом служебной выдержки, а сейчас промчался так, словно за ним гнались.
Вита открыла ему дверцу машины. Он не успел даже пожать ей руку, так резко она погнала машину.
— Как ты себя чувствуешь? Все ли у тебя в порядке? Почему ты не позвонила, что выезжаешь?
— Потом, потом! Надо выбраться из города, пока не начался час пик!
Она смотрела только на дорогу, обгоняя машины одну за другой, а он снова испытывал то самое чувство страха, которое ему уже пришлось пережить в первый раз, когда она усадила его в свою машину.
— А я думал, что отец оставит тебя в Германии до того дня, когда мы окружим Берлин… — пробормотал он, когда они вырвались наконец в голову бегущей из города колонны машин.
— А ты все еще уверен, что вы окружите Берлин? — сухо спросила она. — Разве ты не читал сводки немецкого командования о разгроме ваших войск между Северным Донцом и Днепром? Там уничтожены девять стрелковых дивизий, шесть стрелковых бригад, четыре кавалерийских дивизии, сколько-то моторизованных бригад и двадцать пять танковых… — все это она перечислила так, будто цифры навеки врезались в память, и потом горестно воскликнула: — Вольёдя, это очень много, правда?
— На бумаге — да, много! — сказал он. — Но на деле гитлеровцы лгут. Они потеснили наши войска на харьковском направлении и в районе Курска, только и всего. У них так давно нет ощутимых побед и столько поражений, что теперь они решили воевать на бумаге. Кто же тогда разбил их под Вязьмой, под Гжатском? Жаль, что у меня нет карты, я бы показал тебе, как далеки они теперь и от Москвы, и от Сталинграда…
— В усадьбе есть карта, — тихо сказала она. И Толубеев понял, что перед ее глазами все еще стоят эти проклятые цифры, что она не только запомнила их, но и представила страшные поля сражений, где эти сухие цифры превратились для нее в такие горы трупов, каких не оставлял на своем пути даже Тамерлан.
— Пойми, Вита, — попытался он объяснить, — это их пропагандистская месть в ответ на разгром под Сталинградом. Там они потеряли целую армию, после чего им пришлось объявить траур во всей стране, а теперь, воспользовавшись маленьким частным успехом, они пытаются внушить и собственным согражданам и всему миру, будто все так же сильны, как в первые месяцы войны. Но это уже игра с краплеными картами. Конечно, они еще принесут много страданий нашему народу, они еще будут сопротивляться, а порой и одерживать мелкие победы, но тем необходимее разгромить их до конца. Но они знают, что такое вот беспардонное хвастовство пока что удерживает наших союзников от открытия второго фронта, держит на привязи их собственных обеспокоенных союзников. Это просто война нервов!
Она была безучастна, только губы страдальчески сжаты, брови нахмурены, и он вдруг понял, что она испытала в Германии нечто такое, что, наслоившись на эту паршивую фальшивку, тяжело ранило ее.
Оживилась она только в усадьбе. Заспешила с вещами, с обедом, с переодеванием. Стол, как и в прошлый раз, был накрыт, прислуга отпущена, и Вита с радостью принялась исполнять обязанности хозяйки. Но до того, как сесть застоя, все-таки повела Толубеева в комнату отца, где висела копия той карты, что Толубеев видел в его кабинете, правда, без флажков. И только когда Толубеев взял карандаш и прямо на карте начертил линию фронта на десятое ноября тысяча девятьсот сорок второго года и линию фронта, как он ее понимал сегодня, в марте, Вита вдруг как-то повеселела. Должно быть, ей, жительнице маленькой страны, которую можно было пересечь поперек в автомобиле за три-пять часов, а возле Нарвика и пешком в течение одного часа, только теперь стали ясно видимы огромные масштабы территории, где шла ожесточенная борьба двух гигантских армий.
— Ты меня убедил, Вольёдя, — воскликнула она с тем прежним оттенком юмора, с каким встречала, как это она называла, «подрывную пропаганду». — О, Вольёдя, ты всегда говоришь так убедительно, что в конце концов сделаешь из меня коммунистку, и я пойду национализировать рудники моего отца! — это была ее старая шутка, и он обрадовался, что то мрачное, что потрясло ее и в сводке, и, наверное, в самой Германии, понемногу покидает ее.
Но он боялся расспрашивать и во время обеда рассказывал, как гостил у Свенссонов, как был рад ее заботе о нем, одиноком. Но после обеда, убрав со стола, она сказала сама:
— Почему ты не спрашиваешь, что я видела, когда была твоими глазами?
Ты была моею душой! — поправил он. — Теперь расскажи, как же ты провела там эти две недели?
— О, нас принимали на уровне королевской семьи! — беспечно бросила она. И тут же поддразнила — Там оказался племянник знаменитого Стиннеса, друга и соперника Круппов, он в первый же вечер предложил мне руку и сердце. А потом уже не отходил ни на шаг!
Толубеев поразился, как это ее маленькое хвастовство ранило его. И конечно, Вита поняла или увидела его смятение. С той же беспечной шутливостью она сказала:
— Знаешь, он из породы немецких красавцев! Высокий, светловолосый, чистая нордическая раса!
— Твой успех у этих нордических господ я могу представить и без описания подробностей! — хмуро сказал он.
— Но я хотела обязательно показать его тебе и даже сфотографировала! — похвалилась она. — Вот, посмотри!
Она покопалась в своей сумочке и выбросила на стол снимок.
Толубеев совсем не хотел смотреть на этого племянника стального магната фашистского государства. Но что-то привлекло его внимание, а затем он схватил снимок и уже не мог оторваться. На снимке справа, почти вне фокуса, стоял какой-то молодой оболтус в мундире полковника СС, а за его спиной, очень четко очерченный, по полигону двигался тяжелый танк. Толубеев никак не мог оторвать от него взгляда.
Это был именно тяжелый танк, еще невиданной Толубеевым конструкции. Скошенная лобовая броня его даже на снимке казалась особенно мощной. Почти таким же мощным был и левый борт машины. И пушка, торчавшая дулом вперед, в боевом положении, была мощнее прежнего танкового вооружения. Уж на прежние танки Толубеев достаточно нагляделся, чтобы сразу понять это.
— Как же тебе это удалось, Вита? — пораженный, спросил он.
— Ну, я же снимала родственника господина Стиннеса! — она как будто даже не поняла, чем он встревожен. — А этот господин даже и не видел, что машина, которую пригласили нас смотреть, уже вышла на полигон. А потом я уже не бралась за аппарат.
— Значит, тебя все-таки предупредили, что снимать нельзя?
— Естественно! Мы же были приглашены на боевые испытания танка. Впрочем, приглашен был только отец, а я просто мило улыбнулась снятому тут господину, когда он проверял список приглашенных. Не забывай, пожалуйста, что я одна из самых богатых невест в Норвегии! Ведь отец просвещал тебя на этот счет? — поддразнила она снова.
— Что значит — боевые испытания? — спросил он, отстраняя этим вопросом ее шутливый тон.
— Ох, это было страшно! — она даже побледнела.-Неужели ваши солдаты и на самом деле бросаются под танки с простыми гранатами?
— Бывает! — сурово сказал он. — Иногда даже просто с бутылками бензина.
— Они привезли на полигон батарею, или как это называется, — словом — три советских противотанковых пушки. Этот танк поставили метрах в восьмидесяти от пушек, экипаж вылез…
— Ага, значит, они все-таки боялись? — заметил Толубеев.
— Нет, им просто приказали! А командир танка настаивал, что пойдет прямо на батарею и раздавит все пушки!
— Что же было дальше?
— Солдаты начали стрелять из пушек советскими бронебойными снарядами. Все это мне объяснял этот болван-эсэсовец. Они сделали двадцать один выстрел, и снаряды отскакивали от танка, как будто он был заворожен…
— Просто хорошо забронирован! — хмуро сказал Толубеев.
— Потом, когда пушки увезли, нас пригласили к танку. На нем были только вмятины, и то всего две-три…
— Может быть, пушки стреляли холостыми?
— Нет, нет! Эти снаряды при ударе о танк ужасно визжали! Нас даже попросили перед стрельбой спуститься в блиндаж.
— Для чего же они это показывали?
— Но там были не мы одни. Там были два японца, турок, личный представитель болгарского царя, представитель Франко, итальянский посол, группа промышленников, несколько офицеров вермахта…
— Так, значит, они пытаются убедить своих союзников в непобедимости нового оружия и заставить их раскошелиться на эту проигранную войну…
— Но это было действительно ужасно! — воскликнула она.
Он долго молчал, обдумывая, какой же силы удар могут нанести фашисты? И где они могут нанести его? На Москву? Но эти тяжелые танки в лесах и болотах Гжатска и Вязьмы могут оказаться беспомощными. Для действий такой армады нужны просторы, оперативные возможности. Южный фронт? Новый удар по степям на Сталинград? Удар на Курск? Если они наладили массовый выпуск этих танков два-три месяца назад, — а именно это вытекает из немецких закупок рудных материалов! — то к лету у них окажутся десятки новых танковых корпусов численностью в несколько тысяч машин. Он-то знает, как умеют немцы организовать производство!
А Вита смотрела на него с робкой надеждой, как будто он мог сделать что-то такое, после чего все увиденное ею в Германии окажется просто кошмарным сном…
— Вам показывали заводы? — спросил он.
— Да. И даже правку броневой стали новой марки. Да вот, посмотри сам! — она протянула тонкую розовую руку, на безымянном пальце которой было черное кольцо. — Разве ты не заметил? — упрекнула она. — А ведь это мое обручальное кольцо, которое подарил мне тот самый эсэсовец! Он имперский уполномоченный на этом заводе!
Толубеев без большого любопытства посмотрел на кольцо. Но опять что-то толкнуло его снять с пальца девушки этот чужой подарок. Украшением такое кольцо быть не могло, скорее — памятным подарком. Но когда он взял его в руки, глаза его засверкали. Не от злобы на того, кто осмелился вручить его любимой памятный подарок, а от того, что это было стальное кольцо!
— Вита, но как ты сумела сделать это?
— Просто попросила этого влюбленного болвана отлить мне в экспресс-лаборатории из последней пробы перед выпуском плавки этот маленький сувенир! Ну неужели я не заслужила даже простого русского «спасибо»! — с комической грустью спросила она.
Он схватил ее на руки и закружил по комнате, крича:
— Заслужила, заслужила!
Она вырвалась из его рук, отобрала кольцо и снова надела на палец.
— Сейчас же отдай его мне!
— Вот этого я не могу сделать! — спокойно возразила она.
— Почему?
— Откуда я знаю, что светловолосый господин с пустыми очами не поручил кому-нибудь взглядывать ежедневно на эхо кольцо? И откуда я знаю, что случится с тем из моих друзей, у кого это кольцо найдут, если я его потеряю? Поэтому ты получишь его только с моей рукой! Ты ведь когда-нибудь женишься на мне, Вольёдя? — шутливо, но в то же время и жалобно спросила она.
— Да, да, да! — поклялся он, целуя руку, левую, на которой темнело проклятое стальное кольцо. И попросил — Но ты никогда не потеряешь это кольцо, теперь уже не ради светловолосого расиста, а ради меня! И в тог час, когда оно мне понадобится, вручишь его мне! Не как подарок какого-то немца, а как дар твоей души моему народу!
— Ох, Вольёдя, сколько ты ставишь условий! А ведь я никогда ни о чем не просила тебя! — она вздохнула устало и грустно, потом улыбнулась через силу, добавила: — Я ведь оберегаю только тебя!
Да, она оберегала его. Но очень может быть, она обережет и тысячи тысяч других русских людей, если только Толубеев успеет доставить этот бесценный дар ее души на родину. А ведь это опять будет бегством от нее, ударом по ее смятенному сердцу, да и по своему сердцу это тоже будет ударом…
2
«Недалеко от гор. Туль (Франции) вольные стрелки совершили нападение на немецкий отряд. В завязавшейся схватке убито и ранено 28 гитлеровцев. В Омикуре французские патриоты взорвали немецкий эшелон с военными материалами».
Совинформбюро. 26 марта 1943 г.В среду он нетерпеливо ждал звонка из «морской инспекции».
В полдень тот же грубый голос, который он уже слышал однажды, спросил:
— Как дела с вашей лодкой?
Толубеев поспешнее, чем следовало бы, наверно, ответил:
— Лодка готова! Я хотел бы испытать ее как можно скорее!
После паузы голос мрачно сказал:
— Хорошо, я передам главному инспектору вашу просьбу и позвоню к вечеру.
Перед концом рабочего дня позвонил сам Ранссон:
— Господин Толубеев? Я жду вас на восьмом причале в порту…
Толубеев запер комнату, сдал ключ фрекен Сигне и бросился на улицу.
Таксист, чрезвычайно ловко ныряя меж машин, высадил его у шестого причала. Как ни мал был опыт Толубеева в работе разведчика, столько-то он понимал: не обязательно, чтобы таксист знал, куда он спешит. К сожалению, шестой причал был пуст, и таксист даже спросил — не подождать ли господина?
Толубеев отослал его и только после этого заторопился на восьмой. Было крайне неприятно заставлять больного Ранссона ждать.
Осло-фиорд тяжело и медленно накатывал серые волны на серый бетон причала и заградительных бон. Было холодно, резко ветренно, неуютно. Но фиорд все равно дышал удивительной свободой, хотя Толубеев знал, что не так далеко по нему бродят немецкие сторожевики, а в приграничных водах с той же страстью к поиску, ловле и убийству шныряют норвежские таможенные катера, перенявшие немецкую манеру стрелять без вопросов.
Ранссон сидел на холодной каменной причальной тумбе и неспешно курил сигарету. Завидев Толубеева, он встал и пошел, не оборачиваясь, и Толубеев, уже один рассмотрел маленький рыболовный, а при нужде — и прогулочный катерок с золотыми буквами «Сигрид». Почему, черт возьми, все эти принадлежащие грубым рыбакам и контрабандистам лодки, яхты и катера носят такие нежные женские имена? Неужели рыбак, даже и погибая, помнит о жене или дочери, в честь которой названа его опасная посудина?
Он заспешил вдогонку за Ранссоном, который все еще носил левую руку на перевязи и двигался не очень-то уверенно, как будто у него кружилась голова. Но тут Ранссон нырнул в маленькое кафе с пестрыми индюками и фазанами, нарисованными прямо на окнах, и Толубеев, остановившись закурить и оглядеться, шагнул за ним в вертящуюся дверь.
Здесь Ранссон, видно, чувствовал себя в полной безопасности, так как поднял правую руку и приветственно помахал Толубееву.
Толубеев заказал душистого, как видно, совершенно химического рома и кофе и, когда хозяин поставил перед ними все эти блага, торопливо сказал:
— Мне нужно домой и как можно скорее!
— У вас есть здесь друзья, на которых вы можете положиться? Дело в том, что с моей покалеченной рукой один я с лодкой не справлюсь.
— Попрошу тех, что приняли меня…
— А, господа Свенссоны! Что же, это приличные люди, и к тому же отличные мореходы.
Толубеев удивленно взглянул на рыбака. Тот отмахнулся:
— А, мы были обязаны знать каждый ваш шаг. Пока ошибок не было. Главной ошибкой будет, если мы попадем в лапы к нашим таможенникам или к немцам.
— А можно вооружить ваше суденышко?
— После прошлой встречи с немцами я уже подумал об этом. Можно поставить на корму крупнокалиберный пулемет «Бофорс» Дымовые шашки я уже заготовил.
— Пойдут ли на это Свенссоны?
— Они приличные люди, я уже сказал. А это значит, что они храбрые люди. Да и не обязательно попадаться всяким ищейкам.
— Когда?
— Сегодня наш радист испросит рандеву и сообщит, что это очень срочно! Завтра не отлучайтесь никуда из вашей конторы, возможно, кто-нибудь позвонит вам.
Они выпили химическое зелье, и Ранссон ушел. Толубеев посидел еще, попробовал английский, по всей видимости контрабандный, чай и отправился к дядюшке Андреену. Вот еще неожиданная задача: как исчезнуть, не обидев мастера? Он решил написать ему письмо, спрятать в чемодан. Дядюшка Андреен не пойдет в полицию искать своего исчезнувшего жильца, он сначала посмотрит, нет ли записки. И ему будет достаточно нескольких теплых слов.
Распорядившись так всем своим имуществом, Толубеев почувствовал себя спокойнее.
А на следующий день утром знакомый грубый голос произнес:
— Испытание лодки назначено на субботу. Капитан будет ждать вас в Черном фиорде в восемь часов вечера. Свенссоны доставят вас на судно и проводят до места.
Если бы Толубеев увидел этого грубоголосого человека, то, наверно, обнял его и поцеловал.
Но голос исчез, и все эмоции пришлось оставить при себе.
Значит, подводная лодка вышла сразу по получении сигнала. Сейчас она где-то под водой, а ночью опять всплывет и двинется дальше, мимо берегов Норвегии, мимо радаров, мимо сторожевиков и противолодочных кораблей. А ночью в субботу она вынырнет в условной точке пролива Скагеррак и примет на борт советского офицера Толубеева. Так Толубеев снова покинет эту милую страну, и теперь уже надолго…
И чувство жалости и горечи охватило его. При чем здесь Вита? Почему она, едва найдя его, снова должна мучиться разлукой? И, может быть, навсегда!
Тогда, в тридцать восьмом, это налетело на них как пожар, как смерч, как чудо. Они оба пытались честно сопротивляться, но все было против их рассудка и все было за их любовь…
Вита только что окончила русский факультет университета: отец давно понял, что будущее норвежских промышленников — в торговле с Россией и заранее подготовил себе переводчика, который будет защищать его интересы.
Когда молодой советский инженер Толубеев появился в акционерном обществе, Арвид Масон — один из директоров концерна — принял его не только любезно, но и крайне заинтересованно. Толубеев был приглашен на курорт в Телемарке, в виллу господина Масона. Хотя Толубеев и говорил по-норвежски, но запас слов у него поначалу был действительно не больше, чем у лапландца. Масон представил гостю свою дочь и предложил ей взять на себя роль переводчицы при советском инженере. Ожидалось много деловых переговоров, выезды в Нарвик, в Киркенес, затем в Швецию, в Кируну, где находились самые богатые рудники «Трафика», встречи с акционерами, директорами рудников, заводов, владельцами торговых судов…
Девушка смотрела на советского человека так изумленно, как будто он прилетел с Марса. Потом, уже позднее, она говорила, что ожидала увидеть дикаря. А он оказался сильным, мужественным, проницательным человеком, каких в обществе, окружавшем ее, найти было трудно. Все эти молодые люди были детьми или внуками и правнуками миллионеров, как и сама она была дочерью и внучкой самых богатых людей в Норвегии. Но она нашла себе интересную профессию, вдумчивую и умную литературу великих русских писателей, у нее было дело, а у окружавших ее сверстников — безделье, возведенное в принцип…
Впрочем, все эти ее мысли Толубеев узнал значительно позже, когда вел, как выражалась Вита, «подрывную пропаганду», то есть когда они стали подлинными друзьями и могли часами разговаривать со все возрастающей нежностью и откровенностью.
В апреле сорокового года положение в стране внезапно резко изменилось. Гитлер, одним ударом заканчивая «странную войну», обрушился на малые страны. Дания и Норвегия подверглись оккупации. В эти тревожные дни Вита пришла к Толубееву.
Она тщательно охраняла свое счастье от посторонних глаз. Но Арвид Масон, никогда и ни в чем не ограничивавший свою единственную дочь, наблюдал за нею, как выяснилось позже, с пристальной тревогой. Прошлой осенью у него произошел первый разговор с Витой.
Отец настаивал, чтобы Вита уехала в Германию продолжать образование. Вита отказалась. Тогда он прямо спросил:
— Из-за русского инженера?
И Вита так же прямо ответила:
— Да.
Он не решился применить к ней суровые меры: это могло привести к полному разрыву с дочерью. И всю зиму Вита и Толубеев встречались более свободно. Но в апреле началось то самое «дело», о котором Толубеев напомнил Кристиансу, когда ему предложили снова поехать в Норвегию. Тогда он пытался скрыть от Виты, что именно из-за нее ему приказано немедленно покинуть эту страну и вернуться домой. Но любящего человека обмануть невозможно. Она поняла все. И только внезапно нагрянувшая война помогла им пережить то оскорбительное недоверие, с каким отнеслись к их чувствам те, от кого зависело сделать их по-настоящему счастливыми.
Так почему же он опять должен нанести ей этот страшный удар?
Он несколько раз порывался позвонить Вите, но, набрав номер телефона до предпоследней цифры, одумывался и бросал трубку. В один из перерывов между этими несостоявшимися звонками телефон резко и гулко позвонил, и послышался испуганный голос Виты:
— Свенссоны мне только что сказали… — и сдерживаемые слезы перехватили голос.
— Вита, если можешь, поедем в усадьбу. Все равно я больше ничего ее могу делать…
— Я тоже, — призналась она, — Выходи к воротам парка, я сейчас подъеду…
Она и на этот раз оказалась мужественной, эта хрупкая голубоглазая девушка. Только щеки побледнели, только в уголках губ прорезались морщинки, только молчаливее стала она. Упрямо склонившись к рулю, она гнала машину вперед, как будто там, за крутолобыми горами, за редкоствольными березовыми рощицами еще надеялась догнать свое счастье.
Прислуга была снова отпущена, только невидимый истопник где-то внизу, в подвале, гремел железной кочергой, разбивая шлак в паровом котле отопления. Опять обедали вдвоем, только этот обед был еще грустнее того, прощального, три года назад, когда она все спрашивала— почему он должен уехать?
Вечером внезапно нагрянули Свенссоны. А может быть, Вита заранее сговорилась с ними? И профессор, и сын его, магистр изящной словесности, были встревожены: они уже поняли, что Толубеев совсем не тот, за кого себя выдавал, а задать главный вопрос они стеснялись или, может быть, просто боялись.
Только после ужина, уже за кофе, Севед Свенссон спросил:
— Куда вы хотите исчезнуть?
И Толубеев коротко ответил:
— Домой. Мне еще долго воевать…
Севед Свенссон сказал:
— Мне всегда казалось, что пленный человек выбывает из игры.
— Эта война совсем не похожа на игру!
Старший Свенссон хмуро сообщил:
— Я слушал сегодня немецкое радио: ваши войска оставили Белгород. Немцы хвастают, что это крупный город в центре России, в одной из самых плодородных областей страны.
— Да, это большой город…
— Немцы говорят, что военное счастье снова на их стороне. По их подсчетам получается, что советские войска потеряли в этих операциях под Харьковом и Белгородом за восемь недель сто шестьдесят дивизий и бригад…
— Бумага все стерпит!
— Как? Как? — не понял Севед Свенссон.
— Русская идиома, — объяснила Вита. — Господин Вольёдя говорит, что написать или напечатать можно все, что угодно. Он не верит немецким сводкам…
Свенссоны уехали сразу после ужина. Уже на пороге, прощаясь, старший Свенссон спросил:
— Итак, в субботу вечером?
— Да.
— Хорошо, мы с сыном выполним поручение, хотя я так и не уяснил, что вам было нужно в нашей стране?
— Только немецкий экспорт!
— О, наши промышленники продали немцам всю страну! — с горечью признал Свенссон.
— Но людей продать они не смогли! — ответил Толубеев. — И чем скорее мы разгромим немецкие армии, тем быстрее вы освободитесь от этой рабской зависимости…
— Боюсь, что эта война превратится в Тридцатилетнюю! — вымолвил Свенссон.
— Ее конец уже предрешен, и напрасно немцы похваляются своими мнимыми победами!
— Да будет так! — торжественно подхватил старший Свенссон, и Севед молча склонил голову, присоединяясь к нему.
3
«Датские патриоты за последнее время усилили борьбу против немецких оккупантов. В первой половине марта в Копенгагене взорвано три цеха на одном крупном заводе. 26 марта произошел взрыв на другом машиностроительном заводе, выпускающем продукцию для немецкой армии. На днях группа патриотов ночью подожгла казарму, в которой находились немецкие солдаты».
Совинформбюро. 31 марта 1043 г.В пятницу они ненадолго съездили в город. Толубеев позвонил мастеру Андреену на завод, сказал, что отправится на неделю в Киркенес по делам концерна, заехал в его домик и взял из чемодана самое необходимое, оставив в нем прощальную записку, в которой обещал встретиться «в шесть часов вечера после войны». Вита поехала за письмами отца.
Когда он сел в машину возле ворот парка, ему бросились в глаза крупные свертки в упаковке с магазинным клеймом. Дома Вита торжественно преподнесла ему один из свертков:
— Пожалуйста, надень это, я хочу посмотреть, как ты будешь выглядеть?
У него не хватило духу обижать ее отказом. Поднявшись к себе, он распаковал сверток. В нем оказался рыбацкий костюм из какой-то плотной материи, подбитый гагачьим пухом: и куртка, и брюки, и высокие сапоги с ремнями под коленом и на щиколотке, «скифские», — как называли эту обувь заядлые яхтсмены, — шерстяные толстые чулки. Когда он надел все это обмундирование и подошел к зеркалу, он и сам себе показался настоящим «морским волком».
Выйдя в этом наряде в столовую, он остановился пораженный. На Вите был точно такой же наряд, правда, более изящный, но на Вите все выглядело изящно.
— Тебе-то это зачем? — изумленно спросил он и вдруг ощутил холодок в груди. Она, кажется, решила идти в море вместе с Свенссонами!
— Я буду с тобой до последнего мгновения! — твердо сказала она.
Возражать он не мог.
Полюбовавшись на себя в зеркало, она ушла к себе и сменила этот маскарадный костюм на обычное платье. Он тоже переоделся, но легче от этого не стало. Все думалось: долгие проводы — лишние слезы.
Весь этот вечер и весь субботний день она была необычно тиха, послушна, ухаживала за ним, как за больным. Из дома они не выходили, да и Толубеев остерегался: теперь, когда все было готово для возвращения, надо было притаиться, замереть. И Вита как будто поняла это его желание…
Он сидел в верхнем холле, перелистывал газеты, прислушивался к движениям Виты, собиравшей на стол внизу: сегодня она не пела, лишь звенела столовыми приборами. Но когда она пригласила его к столу, удивился: обед был необычайно пышный, праздничный. Заметив его удивление, грустно пошутила:
— У нас же не было ни помолвки, ни свадьбы! Пусть будет хоть прощанье!
Долго сидели за столом, выпили бутылку белого мозельского вина, но он не почувствовал ни вкуса, ни запаха. Все его чувства и ощущения как будто перегорели, осталась зола. Во всяком случае, весь мир казался серым, как зола.
В шесть часов вечера приехали Свенссоны. Оба были в грубой рыбацкой робе. Костюм Толубеева, в который он переоделся к вечеру, похвалили, Виту попытались отговорить от поездки, но безуспешно… В туристско-рыбацком своем костюме она была холодна, как настоящий викинг. Свенссон-старший сказал наконец:
— Я еще не знавал ни одного мужчину, начиная со времен Адама, который мог бы уговорить женщину не делать глупостей, но мир как будто не пострадал от этого. Оставьте ее, молодые люди!
В машине она сидела рядом с Толубеевым, такая же тихая, грустная. Он все время чувствовал ее плечо и руку, и это было похоже на прощальное объятие.
В полной темноте они спрятали машину за стеной старого хутора, где она стояла и в прошлый раз. Опять появились два человека, один — рослый и плотный, похожий на Свенссона-старшего, другой — худой, длинный. Их лодка стояла на мостках, над морем. Ее скатили на воду, рыбаки, стоя в воде, держали ее за борта, Свенссон-старший сгреб Толубеева и перенес по воде в лодку, Севед Свенссон взял на руки Виту и усадил рядом с Толубеевым. Потом они влезли сами, за ними — рыбаки, и лодка тихо поползла по черной воде фиорда.
Оглянувшись, Толубеев снова увидел тонкий лучик света, пробивавшийся откуда-то, как из зашторенного окна. А взглянув по направлению луча вперед, заметил лежавший в дрейфе катерок. Это было судно Ранссона «Сигрид».
Пересаживались тихо, здоровались шепотом. Виту сразу провели в каютку на носу, доставившая их лодка беззвучно исчезла, Ранссон поднял косой парус, и весенний, хотя и холодный ветер с берега толкнул суденышко. Сразу исчез направляющий луч, каменные громады фиорда словно раздвинулись, и суденышко вышло в залив. Ранссон включил мотор.
Рокот мотора тревожил, возбуждал. Казалось, что его слышно на обоих берегах залива. Поэтому Ранссон прижимал суденышко ближе к скалам.
Но едва появлялись огоньки прибрежных городков, как Ранссон уводил суденышко мористее, по-видимому, опасался нечаянной встречи. Около десяти часов вечера миновали Арендаль, распластавшийся глубоко по берегу. В это время Вита выглянула из каюты, увидела этот тающий и расплывающийся свет и что-то сказала в сторону города. Толубеев изумленно посмотрел на нее, ему показалось, что она произнесла что-то похожее на «Прощай!».
Они были на выходе в пролив Скагеррак, когда из берегового укрытия наперерез им ринулся длинный, похожий на хищную рыбу катер береговой охраны. Он был освещен топовыми огнями и сильным прожектором, установленным на носу. Катер несся, казалось, бесшумно, потому что Ранссон попытался форсировать свой мотор, едва завидел это светящееся привидение. Но скорости были несравнимы. «Сигрид» как будто стояла на месте, а таможенный катер резал темноту и пространство, как брошенный сильной рукой стальной нож.
С катера прострочила предупреждающая очередь пулемета. Ранссон крикнул:
— Дымовые шашки!
Отец и сын Свенссоны бросились на корму, где на борту были разложены дымовые шашки. Отец зажигал запальные шнуры, а сын швырял эти дымящиеся гранаты одну за другой, С катера дали вторую очередь, теперь там целились по носу «Сигрид». Толубеев заставил Виту лечь между сложенными сетями, а сам кинулся к Ранссону:
— Где пулемет?
— На корме под брезентом! — буркнул тот, измеряя взглядом расстояние между «Сигрид» и таможенным катером. Оно все сокращалось.
Толубеев выдернул из ножен рыбацкий нож и бросился на корму.
Он полоснул по веревкам и брезенту и открыл тело пулемета.
Это был «Бофорс», неизвестный ему пулемет, с колесиками и рукоятками для прицеливания. Но разглядывать устройство было некогда. Толубеев развернул пулемет руками, целясь в прожектор, и дал резкую сильную очередь. Прожектор погас, и в тот же момент Ранссон выключил мотор. Катер вошел в облако дыма.
В следующий миг, под брань и крики таможенников, их катер тоже скрылся в дыму. И тогда с их палубы дал очередь спаренный пулемет. Толубеева ударило в плечо и отбросило к борту. Он еще вскочил сгоряча и тут же рухнул навзничь.
Вита вскрикнула, но Ранссон так властно прошипел: — «Тихо!» — что она замолчала. Катера разошлись в дыму, брань таможенников стала еле слышна. Тогда Ранссон шепотом приказал:
— Фрекен, перевяжите русского! Бинты в аптечном ящике в каюте.
Севед Свенссон приподнял раненого, пытаясь остановить кровотечение. Подоспела Вита. Она сняла куртку с Толубеева, разорвала шерстяное белье и принялась бинтовать вялое непослушное тело. Катер таможенников исчез где-то в темноте, и Ранссон снова включил мотор.
Как видно, Ранссон не напрасно выводил свой катер в море по ночам. Никто так и не понял, каким образом ему удалось выйти в точку рандеву. Но перед ними выплыл из темноты борт подводной лодки, послышался осторожный оклик.
— Помогите поднять раненого русского! — властно приказала Вита.
С лодки сбросили в катер штормтрап, молодой моряк спрыгнул на борт катера и помог Севеду Свенссону поднять обмякшее тело. Вслед за Толубеевым на подводную лодку поднялась Вита.
— Я ухожу с вами! — резко, отвергая все возражения, сказала она. — Все данные у меня! А жизнь вашего офицера в опасности, и я должна быть при нем. Я его жена!
Команда «Сигрид», не понимающая русского языка, с удивлением слушала страстную речь девушки. Но вот она обернулась к ним, сказала:
— Я остаюсь с господином Толубеевым. Передайте отцу, мы вернемся, когда наступит мир.
Матросы вносили раненого в лодку. За ними решительно спустилась девушка. И человек, отвечавший за рандеву, молча пожал плечами.
Часть вторая
Глава первая. Хороший разведчик стоит армии…
1
«31 марта с. г. Красная Армия завершила зимнюю кампанию против немецко-фашистских войск.
За время зимней кампании советские войска нанесли вражеским армиям тяжелые военные поражения. Красная Армия нанесла немецко-фашистским войскам крупнейшее в истории войн поражение под Сталинградом, разгромила немецкие войска на Северном Кавказе и Кубани, нанесла ряд тяжелых поражений врагу в районе Среднего Дона и Воронежа, ликвидировала вражеские плацдармы на Центральном фронте (Ржев — Гжатск — Вязьма) и в районе Демянска, прорвала блокаду Ленинграда».
Совинформбюро. 2 апреля 1943 г.Он ничего этого не слышал. Подводная лодка шла и ночь и день в крейсерском положении, потому что принятый на борт раненый был очень плох. Военфельдшер, оказавший ему первую помощь, доложил командиру, что пуля прошла рядом с сердцем и застряла в левой лопатке, но операцию делать он не рискует. Иностранная женщина, — сказал он, — и сама находится в шоковом состоянии, но не желает покинуть раненого…
Ответ на радиограмму поступил через тридцать минут. Командиру предписывалось доставить раненого как можно быстрее, «пренебрегая опасностями пути…». И лодка шла, не отстаиваясь, шла в наводном положении, потому что раненому и его спутнице был необходим свежий воздух. Дежурили пулеметчики у крупнокалиберных зенитных установок, дежурили офицеры и впередсмотрящие, дежурили акустики, а лодка прорывалась мимо берегов Норвегии, «пренебрегая опасностями…».
Подводники и сами не могли понять, почему им так повезло. Может быть, норвежская морская полиция потеряла следы маленького суденышка, обстрелявшего их катер из пулеметов, и решила, что беглецы или контрабандисты прорывались в Исландию или в Ирландию, и не сообщила сотрудничающим с ними немцам об этой случайной встрече в море. А может быть, немецкие военно-морские силы были отвлечены преследованием какого-нибудь морского каравана, идущего из Англии или Америки к берегам Советского Союза. Но Вита знала, что это ее молитвы, ее любовь укрыли подводную лодку от врагов…
Лодка вошла в порт утром, и на пирсе ждала санитарная машина с двумя врачами и сопровождающим их офицером. После короткого разговора врачи сделали раненому поддерживающие уколы и согласились сопровождать его до Москвы. Тихая женщина, не проронившая ни слова, ни слезинки, только все время державшая то руку раненого, то край его носилок, села рядом с ним в санитарную машину на неудобный откидной стульчик и поехала на аэродром, стискивая зубы каждый раз, как машину встряхивало на обледеневшей дороге и раненый коротко стонал.
И в самолете, который, к счастью, оказался теплым, она сидела рядом с подвешенными носилками и только раз удивленно взглянула в иллюминатор, увидев, что их самолет сопровождают еще несколько других — остроносых, с короткими крыльями, летящих то спереди, то по сторонам. И тут она вспомнила, что самолет еще должен лететь долго-долго, а в воздухе каждую минуту могут показаться самолеты врага… Вспомнила и тут же забыла.
И Москву она не видела, сидя за окрашенными в белый цвет окнами санитарной машины. Она все ждала, — когда же будет больница, когда будет операция, когда ей скажут, — выживет ли он, что лежит рядом с нею, безгласный, бесчувственный.
Она удивилась еще раз, что привезли их не в больницу, а в какой-то жилой дом, но тут раненого снова понесли куда-то на носилках, и она опять держалась за край этих носилок, как будто боялась, — отпусти, — и он исчезнет!
Но все-таки там, куда наконец вошли: санитары с носилками, она, держащаяся за носилки, сопровождающие врачи, офицер, — там была наконец больница: операционный стол, профессора в белом, сестры милосердия, ясный свет бестеневых ламп. Ей никто не мешал, только сестра милосердия вывела на минуту в соседнюю комнату, где в гардеробе висели платья, ящики были полны свежим бельем, — сказала, чтобы фрекен переоделась, ведь на фрекен все тот же рыбацкий костюм, пропахший соляром и бензином, помогла ей, подала такой же белый халат, и снова проводила туда, где уже на столе, под простыней, лежал раненый, и профессора, врачи, сестры что-то делали с ним, а в углу лежали остатки его изрезанной одежды.
Это продолжалось час-полтора-два. Вита смотрела порою на часы, но все равно не запоминала времени, а окна были закрыты глухими черными шторами, и трудно было понять, день ли за окном или ночь. Но вот самый старый из профессоров подошел к Вите, спросил, понимает ли она по-русски, и на ее кивок сказал:
— Ваш муж, милая, счастливец! Он будет жить!
И тут она впервые зарыдала, но это были уже облегчающие слезы, а профессор кивнул сестре, и та, ловко отвернув рукав ее халата и платья, сделала какой-то укол, и Вита вдруг ушла из этой комнаты. Но так как она была опять с Вольёдей, — они шли по снежному Треунгену на лыжах, — то ей все казалось прекрасным, счастливым. И она, уже не чувствовала, как сестра раздевала ее, поворачивала на большой кровати, укладывая поудобнее, она все шла рядом с Вольёдей, и он был здоров, был не такой, каким она увидела его так недавно в Треунгенской усадьбе, а еще таким, каким увидела его впервые и полюбила сразу и на всю жизнь…
Проснулась она от чужих голосов, но все равно пробуждение было прекрасным, так как вокруг было светло, большие окна излучали в комнату синеватый свет, и она сразу поняла, что ночью выпал снег и это, наверно, самый последний снег этой долгой и трудной зимы. Дверь была приоткрыта, и в ней стояла сестра милосердия, та самая, что вчера помогала ей переодеться, и в комнате пахло кофе, свежим хлебом, и когда сестра увидела ее открытые глаза, она подошла и сказала, что барышня должна сначала позавтракать, что ванна уже готова, что товарищ Толубеев чувствует себя хорошо, хотя разговаривать с ним еще нельзя.
— Но увидеть? Увидеть? — вскричала Вита.
— Что вы говорите? — спросила сестра.
И тут Вита поняла, что всю ночь говорила с Толубеевым по-норвежски и с сестрой заговорила на родном языке, хотя и поняла, что с ней говорили по-русски. С трудом вспомнила она нужное слово и снова вскричала.
— Увидеть его!
— Только после завтрака и ванны! — строго сказала сестра и вышла, плотно прикрыв за собой дверь.
За дверью снова послышались чужие голоса, но они были тихи и мирны, и Вита успокоилась. Она только застеснялась немного, что одета в непривычную необыкновенно длинную сорочку, а не в пижаму, но запах кофе уже возбуждал, и она вспомнила, что не ела двое, а может, и трое суток, что она в холодной России, но что Вольёдя чувствует себя лучше, значит, и она должна чувствовать себя лучше, и торопливо принялась за кофе, понимая, что от нее самой зависит, когда ей разрешат свидание с ним.
Больничных кнопок со звонками ни над кроватью, ни на столике не было, но стоял телефонный аппарат, и Вита подняла трубку. Далекая женщина спросила: «Кого?»— и Вита робко попросила: «Сестру милосердия!» — и сестра тут же появилась в комнате. Вита поднялась было с постели, но у нее закружилась голова, и сестра сама принялась выбирать для нее белье, чулки, платье, туфли… Если это приготовили ей как приданое, то тут было довольно много всего. Потом сестра помогла ей пройти в ванну и помогла там, потому что Виту все покачивало из стороны в сторону, но сестра успокоила ее, сказав, что все это пройдет через десять-пятнадцать минут.
И верно, время, текущее то быстро, то медленно, какими-то странными прыжками, начало успокаиваться, и Виту провели в ту самую комнату, где профессора что-то делали с Вольёдей в день их приезда сюда, только непонятно было, вчера или несколько дней назад. Комната была та же, но ни операционного стола, ни бестеневых ламп уже не было: просто такая же светлая комната с диванами, цветами, и в углу на широкой кровати лежал Вольёдя и глядел на нее изумленно-радостно, так что она опять не выдержала и заплакала. Но сестра уже закрыла дверь, провела ее в другую комнату, где сидели и пили кофе двое русских.
Русские встали, здороваясь, назвали свои имена, но она была еще так возбуждена, что не запомнила их. Однако она снова почувствовала себя хозяйкой — ведь это теперь был дом ее и Вольёди, и «товаричи» пришли навестить ее. Она опустилась на стул, приглашая и их присесть. Вошла та самая сестра милосердия, но теперь уже без халата, принесла кипящий на спиртовке кофейник и чашку для Виты, молочник со сливками и вышла. Вита предложила гостям еще по чашечке свежего кофе, налила себе.
Один из гостей, высокий, костлявый, узколицый, вежливо заговорил на плохом норвежском:
— Фрекен говорит по-русски?
— О, я, я! — ответила она.
Тот с облегчением перешел на русский:
— Фрекен, вы сказали командиру принявшей вас подводной лодки, что все данные у вас… Что вы имели в виду?
— То, что мы с Вольёдей получили там, — она неопределенно махнула рукой куда-то в сторону. Ей не хотелось называть ни свою страну, ни Германию.
— Владимир Александрович Толубеев еще долго не сможет побеседовать с нами, а нам хотелось бы рассмотреть ваши… данные…
Он как будто не очень верил в эти данные. Второй гость, грузный, с усталым и обеспокоенным лицом, тоже попросил:
— Да, мы хотели бы видеть.
Ее вдруг взволновало это невысказанное недоверие. Неужели они уходили под градом пуль из пустой похвальбы? Неужели Вольёдю чуть не убили из-за какого-то пустяка? Она гордо выпрямилась и сухо спросила:
— А почему я должна передать эти данные вам? Кто есть вы?
Гости переглянулись. Грузный, с озабоченным лицом, вынул из кармана пиджака бумажника небольшое удостоверение в красной коже и подал его Вите. Вита открыла книжечку, там была фотография грузного мужчины и несколько строк: «Заместитель народного комиссара тяжелой промышленности», заверенных печатью и подписью. Она с уважением взглянула на грузного, переводя на свой лад: заместитель министра! В Норвегии для нее и министры были просто друзьями отца. Но Россия, наверно, в пятьдесят раз больше Норвегии. Здесь и министр, наверно, в пятьдесят раз важнее. Но на его спутника тоже взглянула требовательно.
Тогда и узколицый подал свое удостоверение, не такое роскошное, но тоже в кожаной обложке, и там она прочитала еще более короткую запись: «Полковник Кристианс М. А.». И вспомнив, что полковник обратился к ней по-норвежски, подумала: «Возможно, он начальник Вольёди, только не имеет права сказать об этом…». Взглянув еще раз с любопытством на этого хмурого человека, она вышла из комнаты и прошла к себе.
Вся ее одежда висела в гардеробе. Она вскрыла потайной карман и достала небольшой каучуковый мешочек. Ощупав его, она решительно вернулась к гостям и положила его на стол.
Полковник Кристианс стал вскрывать его, и Вита заметила, как у него дрожали руки. «Боже, неужели это действительно так важно? — подумала она и тут же остановила себя: — А Вольёдя? Разве он пошел бы на все эти испытания, если бы не особая важность всего того, что он делал?» Меж тем полковник Кристианс вынул и положил на столе записи Вольёди, черный пакетик с памятной фотографией из Германии и черное маленькое кольцо…
— А это что? — спросил он, взвешивая кольцо в руке.
— О, это мое обручальное кольцо! — лукаво ответила она.
Но он не заметил ее усмешки, отложил кольцо и вскрыл конверт с фотографией.
Он вдруг застыл, став похожим на сильную остроклювую птицу, так близко поднес к лицу снимок, затем длинно вздохнул, сказал: «Вот это да! Это действительно подвиг!» — и передал фотографию заместителю наркома. Тот тоже внимательно взглянул на фотографию и затем — удивленно — на Виту.
— Тот самый танк? — спросил он, глядя на нее восхищенно.
— Да! — кратко ответила она.
Затем Кристианс вскрыл пакет с записями Вольёди.
Они были сделаны на четвертушках бумаги бисерным почерком, без шифровки, Вита сама помогала писать их, и он читал страничку за страничкой, передавая листочки заместителю наркома, а тот, прочитывая, бережно укладывал их снова в пакет. Но вот они рассмотрели все, и полковник Кристианс спросил:
— У вас есть какие-нибудь устные дополнения?
— У меня есть вещественные дополнения! — смело сказала она.
— Какие же? — удивленно спросил Кристианс.
— Образец новой бронетанковой стали, достаточный для анализа. Так сказал мой муж — господин Толубеев.
— Где же образец?
— А это? — она подвинула к нему кольцо.
Боже, как они оба изменились в лице! Они склонились над кольцом голова к голове, передавали кольцо из рук в руки. Потом Кристианс бросился к телефону, позвонил кому-то, воскликнул: «Госпожа Толубеева привезла образец стали для анализа!» — потом потребовал машину с охраной, — и из всего этого Вита поняла самое главное: ее признали достойной помощницей Вольёди и признали его женой.
За окном взревела машина, и гости поспешно откланялись. Вита была безмерно удивлена: оба мужчины поцеловали ее руку, — а ведь она думала, что русские здороваются и прощаются друг с другом ударами по плечу. Во всяком случае, так делали русские моряки, так показывали русских в тех немногих кинофильмах, которые ей удалось посмотреть на родине. Она подошла к окну и увидела, как оба гостя усаживаются в машину, а рядом стоит другая, с вооруженными солдатами. И только тут она наконец поняла, что все сделанное ею совсем не игра, пусть и захватывающая, но что-то такое большое, отчего, может быть, изменятся судьбы народов.
Взволнованная, чувствуя, как подкашиваются ноги, она присела на широкий подоконник, глядя со второго этажа вниз, на чужой город, который она выбрала как вторую родину. Город был тих, заснежен, и снег был белый, как на даче, и редко проходили под окнами прохожие, почти все они были одеты в солдатские шинели — и мужчины, и женщины, и шли они быстро, как будто в этом городе, во всей стране был совсем иной ритм жизни, — и она с еще большей силой поняла: она находится на войне, пусть и не на передовой, но в воюющем городе.
Пришел врач. Он разрешил ей взглянуть на спящего Вольёдю, а затем строго приказал ложиться в постель. И опять та же сестра милосердия, опять в белом халате, покормила ее обедом, а потом подала какое-то лекарство, и Вита не успела додумать свои мысли, пси тому что ее закачало, как в подводной лодке, когда она сопровождала своего раненого мужа, — там, на подлодке, это понимали все! — и ушла в забытье.
2
«В течение 7 апреля на фронтах существенных изменений не произошло.
…В Парижском районе (Франция) скрывается много немецких солдат, дезертировавших из армии, как только они узнали, что их части перебрасываются на советско-немецкий фронт. Специальные отряды эсэсовцев и жандармов день и ночь охотятся за дезертирами. В конце марта в Париже и его окрестностях задержано около 300 дезертиров. По приказу генерала фон Рундштедта расстреляно 90 немецких солдат, дезертировавших из своих частей».
Совинформбюро. 7 апреля 1943 г.На следующий день Виту посетил полковник Кристианс. Он горячо поблагодарил за ее помощь Толубееву, попросил передать ему привет, когда это будет возможно, и с удовольствием выпил кофе, которое подала им сестра милосердия Лидия. Теперь Вита уже знала ее имя и пыталась улучшить свой русский язык, беседуя с нею. К Толубееву ее пускали только в те часы, когда он спал, Кристиансу и вообще не пришлось повидать раненого.
После кофе Кристианс сказал:
— Вам, должно быть, скучно, фрекен Вита? Я спрашивал врача, он считает, что вам пока не следует выходить на улицу, вы еще слишком слабы от пережитого. Но у меня есть просьба к вам: напишите подробные воспоминания о своей поездке в Германию. Это и развлечет вас, и поможет нам. Даже лучше будет, если вы их продиктуете. Я пришлю вам завтра с утра стенографистку…
— Пусть она привезет мне книги и учебники русского языка. Я так плохо говорю по-русски! — пожаловалась Вита. Про себя она подумала, что если Вольёдя, вернувшись в Норвегию, говорил как лапландец, то сама она говорит по-русски хуже лопарки. Кажется, так называли русские лапландцев, обосновавшихся на их территории.
Стенографистка приехала и привезла книги и учебники. Вместе с нею появилась и учительница русского языка. Но так как ни стенографистка, ни учительница не знали норвежского, то занятия с записями и уроками проходили медленно. Впрочем, Вита не жаловалась: она хоть чем-то была занята, а Вольёде понемногу становилось лучше. Он чаще приходил в сознание, улыбался ей, хотя врач по-прежнему запрещал ему разговаривать.
Вита внимательно слушала радио, просматривала все газеты, какие посылал ей полковник Кристианс, в том числе и норвежские. О скандале с ее бегством в газетах не было ни слова. Отец, по-видимому, оставался еще в Германии, может быть, там ему легче перенести этот удар.
В сводках с фронтов Вита с удивлением читала, что вся война словно бы застыла на одной и той же полосе. Изо дня в день сообщалось, что на фронтах изменений не произошло. Интересовали ее известия о движении Сопротивления, которые какими-то путями попадали через все фронты в Россию и иногда публиковались в конце сводок информбюро. Как ни мало понимала она русский, по ясно было одно: Сопротивление во всех захваченных немцами странах расширялось, начинались настоящие боевые действия. И она молилась богу, чтобы немцев поскорее разбили, чтобы Вольёде не пришлось больше рисковать жизнью, хотя и понимала, что война решится не этими мелкими стычками, не войной англичан с немцами в Африке, а все равно здесь — в России.
И упорно пыталась объяснить стенографистке каждое свое слово, потому что и ее слова тоже служили будущей победе. В конце концов через неделю ее отчет был готов, и стенографистка пообещала передать его полковнику Кристиансу.
И вот наступило наконец счастливое время, когда ей разрешили быть рядом с Вольёдей, читать ему газеты, книги, разговаривать, но пока еще так, как разговаривают с малыми детьми: только отвечала на его вопросы…
По-видимому, врачи, следившие за Вольёдей, давали Кристиансу ежедневные сводки о его здоровье, потому что в тот день, когда Вольёдя впервые сел на постели, утонув в подушках, приехал и полковник Кристианс.
Он зашел только на минуту, был хмур и озабочен чем-то, но о Витой и Толубеевым поздоровался радостно, справился о здоровье и тут же спросил:
— Можете ли вы завтра принять товарищей, которые дали вам «добро» на поездку?
— Да, — ответил Вольёдя.
И Вита поняла, что все эти неведомые ей люди ожидали улучшения его состояния с такой же тревогой и нетерпением, как и она сама.
Утром на следующий день Вита помогла мужу переменить сорочку, сестра Лидия, безотлучно находившаяся в их доме, побрила его, убрала комнату и поставила несколько стульев и столик.
— Их будет так много? — испугалась Вита за мужа.
— Нет, только пятеро. Маленькое совещание.
— Но Вольёдя не выдержит!
— Он будет только слушать.
— А я?
— Надо спросить у полковника Кристианса.
Кристианс приехал первым и привез с собой стенографистку. К Вите он обратился сам:
— Я хотел бы, чтобы вы приняли участие в нашей беседе…
Вскоре появился заместитель наркома и с ним еще три человека.
Вита прошла к мужу. Толубеев чувствовал себя хорошо и с нетерпением ожидал посетителей.
Она пригласила гостей.
Гости здоровались с Толубеевым почтительно, и это очень понравилось Вите. Все-таки она несколько побаивалась этого торжественного визита.
Когда все расселись и стенографистка разложила свои карандаши и тетрадки, полковник Кристианс произнес:
— Наше совещание не является официальным. Мы просто обменяемся мнениями по известному вопросу, пользуясь некоторым улучшением здоровья подполковника Толубеева…
— Подполковника? — удивился Толубеев.
— Позвольте мне первым поздравить вас с внеочередным присвоением звания и орденом Ленина, которым вы награждены за выполнение особого правительственного задания. Вита Арвидовна Толубеева награждена за беззаветную помощь вам в выполнении этого задания орденом Красного Знамени…
Вита вспыхнула от удовольствия. Собственно, не за себя даже, а за Вольёдю. Но и признание ее заслуг было также приятно. А особенно приятно снова подтвержденное ее право быть женой Толубеева. Ведь она понимала, представляла, знала, как трудно будет в этой воюющей стране ей, иностранке, человеку без документов и прав.
И вот ее право на любовь и на жизнь с русским мужем признано!
А ее Вольёдя то бледнел, то вспыхивал. Сестра Лидия встала на пороге и строго сказала:
— Профессор просил не волновать больного!
— Милая сестра, еще никто не умирал от радости! — сказал Кристианс.
— Может быть, — непримиримо сказала сестра, но притворила дверь. И Вита подумала: Лидия будет вот так сидеть за дверью все это время, чтобы в случае необходимости помочь Вольёде, а может быть, и попросить всех покинуть его, И снова ей стало радостно: ведь это оберегают ее мужа!
— Против медицины мы бессильны! — усмехнулся Кристианс. — Поэтому будем по возможности краткими. Первое слово заместителю наркома…
— Владимир Александрович, мы произвели анализ «образца»! — он подчеркнул это последнее слово и достал из своего портфеля маленькую коробочку. — Сталь сверхтвердая. В эту минуту на одном из московских заводов идет первая плавка этой стали. Через неделю мы построим опытную коробку и попробуем испытать на ней наши бронебойные снаряды. Но Вита Арвидовна в своих записях сообщает, что немцы при ней испытывали новый танк на пробойность нашими противотанковыми орудиями калибра восемьдесят восемь. Снаряды оставили только вмятины. Не сомневаюсь, что вы уже думали об этом. Нет ли у вас особых предложений?
— Да. Новые пушки.
— Перед вами инженер одного из уральских пушечных заводов, — указал он на молодого еще человека, скромно устроившегося в уголке. — Они наладили выпуск стодвадцатидвухмиллиметровых орудий. Работу этих пушек мы испытаем на нашей «коробке» через неделю. Что вы можете предложить еще?
— Каково основное назначение новых орудий?
— Полковая артиллерия.
— Это не даст необходимого эффекта… — Толубеев внимательно посмотрел на молодого инженера. — Сколько новых орудий вы можете выпустить в месяц?
Инженер взглянул на заместителя наркома. Тот пожал плечами:
— Если мы решим, что эта пушка наиболее эффективна, мы можем передать заказ на несколько заводов…
— Теперь уже можно с уверенностью сказать, что немцы будут иметь к середине лета несколько тысяч новых танков. Так как эти машины очень тяжелы, немцы выберут самое сухое время для своей танковой атаки, и вероятнее всего их новым плацдармом окажется степная местность, без мелких рек, без лесов и болот. Возможно, это будет Курск или еще южнее — Сальская степь. Во всяком случае, эти новые пушки, разбросанные по полкам переднего края, не смогут отбить массированную танковую атаку. Необходим заслон из самоходных орудий крупного калибра, которые могут быть немедленно переброшены на любой угрожаемый участок фронта, и надо вооружить этой пушкой наши тяжелые танки «ИС».
— Самоходки со стодвадцатидвухмиллиметровой пушкой? Танки? Но они будут очень тяжелы! — задумчиво сказал заместитель наркома.
— Почему же? — вдруг оживился инженер. — Ведь задача значительно упрощается! Поскольку большинство атак будут проходить на сближающихся курсах, пушку можно облегчить. В пехотных порядках останутся пушки прежнего образца, а для самоходок и танков мы изготовим модернизированные.
Молчаливо сидевший рядом с заместителем наркома генерал вдруг оживленно поддержал инженера:
— Если мы соберем две-три тысячи таких самоходок и танков, новые танки Гитлера будут пылать, как пылали старые!
— Две-три тысячи… — Толубеев прикрыл глаза ладонью. То ли он представил себе это небывалое по масштабам танковое сражение, то ли не мог поверить, что сражающаяся страна может совершить такой подвиг. А у Виты захолонуло сердце, когда она вдруг поняла, что эти люди вот так, спокойно, говорят о будущих сражениях, в которых погибнут тысячи людей.
— И две, и три, и четыре! Сколько потребуется! — сердясь, сказал генерал. — Слишком многое поставлено на карту! И заметьте, подполковник Толубеев, мы научились верить нашим разведчикам. Если вы доставили такие доказательства возможного танкового нашествия гитлеровцев, то уж давайте рассчитывать это сражение так, чтобы выиграли его не гитлеровцы, а мы! — он резко встал и обратился к остальным: — Кажется, мы пришли к нужному выводу. Я позволю себе еще раз поблагодарить подполковника Толубеева и Виту Арвидовну за огромную услугу, которую они оказали армии и народу. Дадим теперь подполковнику отдохнуть. Надеюсь, что он будет участвовать в испытании нового орудия!
Все стали прощаться. Заместитель наркома подошел к Вите и подал ей маленькую коробочку, которую достал в начале беседы из портфеля.
— А это, Вита Арвидовна, вам, взамен вашего бывшего обручального кольца. То кольцо пришлось, к сожалению, расплавить…
Он открыл коробочку, и Вита увидела в ней два обручальных кольца. Они были золотые, одно — мужское, другое — женское. Она надела маленькое кольцо на палец, и оно пришлось как раз впору. Другое она подала мужу, и Толубеев тоже удивленно взглянул, как ловко оно пришлось к его руке.
— Но где вы взяли размеры? — воскликнула Вита.
— Старые разведчики! — добродушно усмехнулся генерал.
Днем пришли два солдата с мотками проводов и телефонными аппаратами. Сестра Лидия, а с нею и Вита, запротестовали против этого вторжения. Но солдаты неумолимо стояли в коридоре и повторяли одно: по распоряжению генерала они обязаны установить телефон у постели больного подполковника Толубеева. В конце концов пришлось сдаться. Хорошо еще, что второй аппарат установили в комнате сестры Лидии: звонок звучал у нее, потом она должна была посмотреть, как чувствует себя больной, и лишь после этого соединить его с абонентом. А еще лучше было то, что телефон звонил нечасто.
Вита попыталась однажды послушать, кто беспокоит ее больного мужа. Но аппарат оказался эрикссоновским, замкнутым, того типа, который называется «секретарь — директор». Когда включался аппарат Толубеева, трубка сестры Лидии молчала.
Но звонки, видно, волновали Вольёдю. Он начал вставать с постели, пытался ходить, хотя пока что у него ничего не получалось, кроме обмороков. Вита пожаловалась профессору, по-прежнему навещавшему больного почти ежедневно. Профессор прошел к Толубееву, побыл с ним несколько минут, вернулся и сказал:
— Мы должны поставить его на ноги, и как можно быстрее.
Вита не могла поверить, что какое бы то ни было изнурение может помочь, а не повредить больному. Но примерно через неделю, после одного из этих неожиданных звонков, Толубеев вдруг попросил, чтобы его одели. У сестры Лидии, как оказалось, давно уже была подготовлена новая форма. Толубеев с удовольствием оглядел себя в зеркале. В погонах подполковника он, со своим худым лицом, с седыми волосами выглядел очень внушительно. «Слишком внушительно!» — пожаловалась Вита Лидии.
А через несколько минут пришла машина, — хорошо еще, что санитарная! — подумала Вита, и ей пришлось сопровождать своего мужа, которого опять несли на носилках, а она шла с краю и держалась за эти носилки, снова боясь, что он вдруг исчезнет. К счастью, поездка была недолгой, машина вошла в какой-то огороженный двор, и там ее встретили полковник Кристианс, заместитель наркома и тот самый генерал, что был у них однажды, и инженер, которого она тоже знала, а за ними еще десятка два человек, которые с удивлением глазели на подполковника, выгруженного из санитарной машины и усаженного тут же в плетеное камышовое кресло, на женщину в нарядной шубке и шляпке, что держала подполковника за руку, словно боялась, что он вот-вот убежит от нее. И тут Вита поняла, что они на заводском полигоне…
Но как все здесь было скупо, буднично, просто!
Рабочие в грязной прозодежде выкатили откуда-то из-за ворот металлическую махину, похожую на танк, но даже не поставленную на гусеницы. У противоположной стены стояли два орудия, — одно Вита узнала: похоже на то, что стреляло по танку при испытаниях нового чудовища в Германии, другое — незнакомое.
Металлическую коробку опустили в земляной капонир, закапчивавшийся высоким песчаным валом. Генерал позвонил по телефону, к нему подбежал офицер, командовавший пушками. Они о чем-то поговорили, потом офицер вернулся к орудиям. И генерал негромко скомандовал по телефону:
— Огонь!
Орудие негромко выстрелило, снаряд с визгом ударил по нелепой коробке и врезался в песчаный вал. Генерал внешне спокойно приказал снова:
— Огонь!
На этот раз прогремели три выстрела, и все снаряды попадали в дурацкую лоханку, она даже покачивалась на своих жиденьких колесах, но снаряды с визгом втыкались все в тот же песчаный вал, и Вите вдруг стало страшно.
Теперь-то она понимала, что испытывается тот самый танк, который она когда-то сфотографировала, и эта железная коробка так же сопротивлялась снарядам…
Генерал сказал еще что-то, и вдруг все пошли к этой коробке, а два солдата взяли кресло с Толубеевым за приделанные к нему ручки и понесли, как китайского богдыхана, на паланкине, Вита шла рядом с паланкином, держа мужа за руку и утешая его какими-то самой ей неясными словами. Но вот все остановились, и офицеры принялись измерять и описывать вмятины, а коробка была почти такой же, какой ее вкатили на полигон.
Возвращались на наблюдательный пункт мрачные, молчаливые. Там их уже ждал офицер, командовавший стрельбой. Он что-то доложил генералу, и тот разрешающе махнул рукой. Офицер побежал бегом к пушкам. И совсем буднично довернул вторую пушку, артиллеристы загнали снаряд в казенную часть орудия, офицер взмахнул рукой. Грохнул несильный выстрел, коробка качнулась, и вдруг по ней пополз синий огонек, словно металл начал плавиться. Несколько секунд все стояли безмолвно, а потом вдруг закричали по-русски: «Урра!» — и Вита не заметила сама, что тоже кричит и теребит руку Толубеева, а тот тоже кричит, хотя и слабо, болезненно, и только тут она опомнилась, зажала ему рот рукой. А остальные продолжали кричать и бежали к пылавшей синим пламенем коробке. Толубеев окликнул солдат, и те подхватили его кресло и тоже бросились бежать, так что Вита выпустила руку мужа и бежала уже одна.
Глава вторая. Инженерное решение боя
1
«В течение 21 апреля на фронтах существенных изменений не произошло.
…Югославские партизаны заняли несколько городов. В Оточаце и Бринье патриоты захватили полтора миллиона патронов, два вагона снарядов, 13 тысяч литров бензина и много оружия. Партизаны разгромили сильную вражескую колонну, прорвавшуюся в город Невесинье. Город полностью очищен от гитлеровцев. Противник потерял только убитыми более 100 солдат и офицеров. В Словенском приморье партизаны совершили успешный налет на итальянские укрепления. Истреблено 80 итальянцев. Захвачено в плен 69 солдат противника. Взяты трофеи: 14 пулеметов, 100 винтовок и много патронов».
Совинформбюро. 21 апреля 1943 г.В комнате, где лежал больной, образовалось что-то вроде штаба. Порой Вита не могла побыть наедине с мужем и пяти минут в день.
В соседнем кабинете теперь стояли телеграфный аппарат, три телефонных, там постоянно дежурили два солдата-связиста, ожидали разговора с Толубеевым какие-то штатские люди, и все это больше походило на офис, нежели на жилую квартиру. Впрочем, Толубеев и на самом деле руководил штабом, хотя с трудом мог подняться с постели. Полковник Кристианс, словно бы извиняясь за причиняемое Вите беспокойство, объяснил:
— Вита Арвидовна, ваш муж получил новое назначение: он является военным представителем при наркомате танковой промышленности.
— Но он же болен! — жалобно сказала Вита.
— Попробуйте в такое время отстранить его от дела, и он не выдержит недели! — решительно сказал Кристианс.
— Но ведь на фронте затишье! — настаивала Вита. — Вот, смотрите, — она протянула полковнику газету и процитировала без запинки ставшую привычной фразу: «В течение ночи на 23 апреля на фронтах существенных изменений не произошло».
Полковник взял у нее газету, поискал что-то в ней глазами и спросил:
— А вот этот абзац в сводке вы читали?
Да, она читала. И пыталась осмыслить, что бы это значило? «Пленный летчик 2 группы 1 бомбардировочной эскадры обер-фельдфебель Генрих Титьен рассказал: „Два отряда второй группы с Брянского аэродрома и два отряда третьей группы с Орловского аэродрома получили задание 11 апреля подвергнуть бомбардировке город Курск. На подступах к городу наши самолеты были рассеяны советскими истребителями. Мне, как и большинству летчиков, не удалось достигнуть Курска. Самолет был подбит русскими зенитчиками, и я даже не успел сбросить бомбы. Недавно я побывал в Германии. Тотальная мобилизация была в полном разгаре. В армию призвали новые тысячи людей. Они должны заполнить бреши, образовавшиеся зимой в рядах немецких войск. Но то, чего не могли добиться отборные кадровые дивизии, тем более окажется не под силу глубоко штатским людям, теперь призванным в армию. Все эти пожилые торговцы и служащие, лакеи и кельнеры, наспех одетые в солдатские мундиры, не отвечают суровым требованиям войны на Востоке и будут перемолоты в первых же крупных сражениях“».
— Ну и что? — спросила она. — Судя по рассказу этого немецкого летчика, немцам некем пополнять армию!
— Нет, этот обер-фельдфебель не так уж глуп! Он отлично знает, что все эти кельнеры и лакеи, пожилые торговцы и служащие призваны в армию совсем не для того, чтобы залатать дыры на Восточном, как немцы называют, фронте. Эти, действительно дрянные, дивизии будут отправлены на Западный фронт, а оттуда будут переброшены на Восток отдохнувшие, сытые, пополненные дивизии и армии. И, — тут уж этому Генриху Титьену не повезло, — он даже указывает примерно, где эти дивизии бросят в мясорубку — под Курском! Мы не знаем пока только одного: когда это произойдет? В мае? В июне? Еще позже? Но мы должны быть готовы в любой момент встретить и отбить этот удар…
— Но при чем тут Вольёдя? — с горечью спросила она.
— Владимиру Александровичу и группе окружающих его производственников поручено инженерное решение этого будущего боя, — суховато сказал Кристианс и поторопился откланяться.
2
«В течение ночи на 1 мая на фронтах существенных изменений не произошло».
Совинформбюро, 1 мая 1943 г.Но теперь Вита научилась читать сводки. В этой же сводке, после нескольких боевых эпизодов, она опять наткнулась на показания пленного. «Пленный солдат штабной роты 85 полка 5 немецкой горнострелковой дивизии Арнульф Реймунд заявил: „Тотальная мобилизация — это последняя отчаянная попытка отодвинуть час окончательного разгрома немецкой армии. Германия собрала свои последние людские резервы. Однако многие немцы считают, что тотальная мобилизация не может предотвратить надвигающейся катастрофы“».
А еще ниже публиковалось письмо русской девушки, насильно вывезенной в Германию. Судя по всему, немцы давно уже перешли во многих отраслях промышленности на рабский труд пригнанных из всех стран Европы людей. И тогда понятие тотальная мобилизация расширилось для Виты еще больше: получалось, что Гитлер мог снова оперировать миллионными армиями, как было в начале войны…
А противостояли ему во всей Европе одни лишь русские армии.
В эти дни Толубееву разрешили ходить.
Наконец наступила настоящая весна, дождаться которую Вита уже не надеялась.
В этой суровой военной Москве весь апрель лежали горы снега, трамваи и троллейбусы еле ползли между сугробами, но вот снег намок, почернел и исчез в одну из ночей, в палисадниках перед домами зазеленела трава, которую никто не подстригал, на газонах появились желтые цветы, ничем не похожие на садовые, но все-таки скрашивавшие запущенные парки. Первого мая Толубеев организовал у себя обед для всех своих помощников. Заехал на несколько минут заместитель наркома, наведался Кристианс с месячным прогнозом погоды, — почему-то Вольёдя очень интересовался этими прогнозами. А вечером Вольёдя сказал, что вылетает завтра на Урал.
Вита бросилась к телефону, отыскала полковника Кристианса, — он опять был на работе, — и заявила ему, что никуда мужа, одного, без себя, не пустит. Кристианс рассмеялся в ответ и сказал, что подполковник Толубеев летит не один: с ним летят несколько инженеров, сестра Лидия и, если Толубеев этого пожелает, его личный секретарь Вита Арвидовна Толубеева. Там, куда едет подполковник, помощь Виты Арвидовны ему будет необходима…
Толубеев стоял рядом и улыбался, но Вита даже не рассердилась на него: она была нужна!
На следующий день к вечеру они были на знаменитом пушечном заводе, название которого Вита слышала каждый раз, как у Толубеева собирались инженеры.
Были поразительны пространства этой страны: они летели целый день, а добрались только до средней линии России. И еще более удивительно было то, что огромный город был полон светом, как будто тут и не вспоминали о войне. Но люди на улицах были плохо одеты, плохо обуты, с худыми утомленными лицами, и это горше всего напоминало о войне. Только дети остались такими же шустрыми, хотя, может быть, и голодными. И все радовались весне.
В распоряжение группы Толубеева предоставили маленькое общежитие на берегу реки, со столовой, с комнатой отдыха, со спальными комнатами, — видно, их здесь ждали. Правда, директор завода, тучный человек с тяжелыми бровями, попытался отговорить Толубеева от немедленной поездки на завод, но подполковник настоял на своем.
Ночь была белая, как в Норвегии, в Киркинесе, вечерняя заря пламенела на западе, а на востоке уже пробивался первый свет недалеко скатившегося солнца. И завод в эту пору, меж днем и ночью, выглядел еще могущественнее, огромнее, чем если бы смотреть его днем. Дальние цехи пылали огнями на всхолмлениях за пять-шесть километров от центральной проходной. Инженеры по этому заводу не ходили, а ездили на машинах, потому что пешком его было бы не обойти и за весь день. Директор посадил Толубеевых в свою машину, туда же сел тот молодой инженер, что был на первом совещании у постели раненого Толубеева, и они въехали через металлические кованые ворота на территорию завода.
Машина остановилась у дверей какого-то цеха, длинного, из бетона и стекла, здания, наверное оно было в полкилометра, и молодой инженер помог выйти Толубееву, подал руку Вите, их окружили сопровождающие военные и инженеры, и все вошли в цех.
Вита увидела что-то похожее на большие телеграфные столбы, лежащие пачками один на другом, может быть, стволы деревьев, как их называют по-русски? Бревна? И только тут догадалась, что это именно стволы, но — стволы орудий. Чуть дальше эти стволы плыли по воздуху на цепях многочисленных кранов, один за другим. Краны останавливались, стволы опускались на металлические подставки, и возле них возились рабочие, что-то проверяя, приделывая к ним, а потом они плыли дальше. И когда Вита вслед за Толубеевым добралась до конца цеха, она увидела, как там эти стволы ставили на бронированные гусеничные машины, в машину быстро и ловко взбирались четыре солдата, исчезали за бронированными люками, взревывал мотор, и массивная эта установка выкатывалась за высокие ворота, в белую прозрачную ночь, и на ее месте появлялась новая гусеничная машина, и опять тяжело ложился ствол, — уже готовая пушка, — и снова начиналось превращение машины в самоходное орудие. И опять появлялись четыре солдата, ревел мотор, машина выходила за ворота, и под нею сотрясалась земля, бетонный пол качался, как будто начиналось землетрясение.
Они стояли долго, и Толубеев, отвернув обшлаг гимнастерки, следил по часам, как быстро и умело происходило это последнее действие в создании могучего орудия, и потом он удовлетворенно пожал руку молодому инженеру, который тут был самым главным человеком, не исключая и директора завода, который тоже прислушивался к каждому его слову.
Когда они вышли из ворот, их машины стояли уже тут, и молодой инженер предложил всем поехать на полигон.
Полигон находился на берегу реки, а за рекой виднелся изуродованный лес, и там, в лесу, отлично видимые в рассветной заре, двигались какие-то темные предметы, отдаленно напоминающие танки. На полигоне стояло десятка два самоходок, и когда Толубеев со своей инспекторской группой подъехал сюда, пушки уже стреляли по тем двигающимся предметам. Толубеев прошел в небольшой блиндаж, и Вита услышала, как телефонист, принимавший донесения с того берега, после каждого выстрела то преувеличенно радостно восклицал: «Есть попадание!», то смущенно бормотал: «Цель не накрыта!» Но она уже подсчитала, что обрадованных возгласов было больше, и успокоилась за мужа.
К ней подошел директор, сказал, что товарищ подполковник еще задержится, и пригласил в свою машину. Он отвезет ее в общежитие, там будет что-то похожее на ужин, впрочем, скорее это будет завтрак, не поможет ли Вита Арвидовна немного по хозяйству? Она поняла, что у Толубеева привычное деловое совещание, на котором ей не следует присутствовать, и села в машину.
Сестра Лидия уже командовала несколькими девушками, накрывавшими праздничный стол. И хотя кушаний было не так уж много, но стол был украшен цветами, приборы блестели, вина и водки стояло столько, что Вита сначала испугалась, однако сестра Лидия успокоила ее: Владимир Александрович ничего, кроме бокала шампанского, не выпьет. А Вите Арвидовне лучше всего принять сейчас ванну: окалина и масляная пыль, висящая в воздухе на заводе, проникают даже сквозь брезентовые костюмы.
Толубеев, его инспектора, инженеры, руководители завода вернулись именно к завтраку, в шесть часов утра. Вита уже спала, но, услышав шаги мужа, проснулась. Он, видимо, только что принял душ и расчесывал мокрые волосы. За стеной слышалось тихое звякание посуды, размеренные голоса. Она оделась и вышла вместе с мужем в столовую.
В маленькой комнате рядом со столовой сестра Лидия диктовала солдату-телеграфисту длинные ряды цифр. Вита улыбнулась: Лидия имела слишком много профессий, чтобы быть простой сестрой милосердия. Надо бы расспросить ее, где она выучилась шифровальному искусству? Впрочем, может быть, сестра Лидия успела побывать за линией фронта? В сводках Информбюро она с особым вниманием читает краткие сообщения с той стороны фронта…
За столом все принялись поздравлять молодого инженера. Он смонтировал новое самоходное орудие за одиннадцать дней! Директор сказал, что если немцы дадут им, пушкарям, еще хоть месяц сравнительного спокойствия, то заказ наркомата обороны будет выполнен со значительным превышением. И инженеру, и директору долго аплодировали, но жила в их сердцах и тревога, потому что репродуктор, стоявший на окне, не был выключен, и когда послышались в семь утра позывные, все замолчали, стало так тихо, что у Виты защемило сердце.
Голос Левитана спокойно сказал:
«В течение ночи на третье мая на фронте ничего существенного не произошло…».
Через две недели, когда Толубеев вместе со своей инженерной группой был уже на южном Урале, где новый танковый завод выпускал тяжелые танки «ИС» со стодвадцатидвухмиллиметровым орудием, их нагнал полковник Кристианс.
Он летел всю ночь, благо ночи были светлые, короткие, а поздоровался с Витой и Толубеевым так, словно вошел из соседнего номера гостиницы, в которой они тут жили уже десятый день. Распахнул двери, улыбнулся, сказал:
— Вита Арвидовна, я вижу, вы прекрасно отдохнули!
А вот мне и Владимиру Александровичу не помешает чашечка крепкого кофе по вашему рецепту…
— Здесь нет кофе! — жалобно сказала Вита.
— Генерал Коробов услышал ваши жалобы! — строго сказал полковник и поднял руку к потолку, словно указывая на всевышнего и всевидящего. — Вот! — и вынул из портфеля пакет драгоценных зерен и турецкую медную мельничку с каменными жерновами.
Лидия, с улыбкой наблюдавшая эту встречу, бросилась на пакет и мельничку, как наседка, закрывающая цыплят от коршуна. Пожалуй, она одна знала, как трудно было Вите без привычной чашки кофе. Да и Владимир Александрович, оказывается, снова пристрастился к этому напитку. Завладев драгоценным подарком, сестра Лидия немедленно исчезла. Тут Кристианс внезапно посерьезнел, достал из портфеля пакет с какими-то документами, выложил на стол.
— Вот, посмотрите, Вита Арвидовна! — пригласил он, взламывая сургучные печати и вскрывая тяжелый, плотный конверт.
На столе перед Толубеевым и Витой лежали два десятка фотографий «тигра».
«Тигр» был новенький, сияющий свежей окраской даже на черно-белой фотографии, как будто его снимали на полигоне. Окраска была светлой. — Кристианс пояснил, — оливковая, под цвет пустыни, для африканского корпуса генерала Роммеля, снят он был во всех ракурсах: сбоку, спереди, сзади, сверху, — видно было, что тот, кто делал эти снимки, не торопился и любил свою профессию фотографа. Оба — и Вита и Толубеев — глядели изумленно на эти снимки, вспоминая с горечью маленький любительский снимок Виты, который обошелся Толубееву чуть не ценой жизни, а Вите мог стоить жизни.
— Английская разведка? — предположил Толубеев.
— Вы судите по окраске? — усмехнулся Кристианс. — А присмотритесь-ка к фону? — предложил он.
Фон был смыт на всех снимках, но все-таки что-то от него осталось. Толубеев поднял один из снимков и взглянул сквозь него с обратной стороны на свет. Вита тоже принялась рассматривать снимки перед окном. На одном из снимков явственно возникли дальняя граница леса, размытые изображения русских крестьянских изб…
— Это же наш север! — пораженный, воскликнул Толубеев.
— Да, это Россия! — подтвердила и Вита. Теперь она уже знала северную Россию, знала Приуралье и никогда бы не спутала эти пейзажи с другими…
— Да, Россия! — торжественно сказал Кристианс. — Но это не все. Посмотрите еще эти документы…
Он достал из пакета несколько листков машинописи. Толубеев развернул их веером: это было техническое описание танка, его параметры, толщина брони, устройство дизельного мотора, электрооборудование, вооружение, уязвимые места и прочее и прочее. Это была работа целого инженерного коллектива, ибо о каждой особенности танка говорилось языком знатока…
— Но как это возможно? — растерянно спросила Вита.
Лидия принесла кофе.
Когда она ушла готовить вторую порцию на маленькой мельничке, Кристианс тихо заговорил:
— После получения вашего снимка, Вита Арвидовна, генерал Коробов распорядился, чтобы все зафронтовые разведчики обратили внимание на появление в местах их действий новых танков. Выяснилось из перехваченных в разное время документов немецкого командования, что у немцев есть не только «тигры», но и танки другого типа «пантеры», — словом, почти зверинец. А к ним прибавились самоходные пушки «фердинанд». Но все эти новинки немцы держали далеко от фронта, очевидно, уповая на «неожиданность». И вот несколько дней назад на Волховском фронте разведчики внезапно обнаружили два полка новых танков в резерве командующего армией фон Бальца. Что они должны были делать на этом болотистом плацдарме, понять было трудно. Там еще в полной силе водополье, болота, поймы рек и речушек, озера, на которых еще не полностью растаял лед. Но наш генерал знал, что фон Бальц — любимец фюрера. Уж, наверно, он хотел показать своему обожаемому фюреру эти игрушки в действии. А кроме того, фон Бальц — истерик, подражающий Гитлеру во всем, даже в истерике…
Вита не поняла, какое значение имеют личные недостатки генерала фон Бальца, но Толубеев почему-то усмехнулся. Она удивленно взглянула на мужа.
— Дальнейшее можно описать просто, — сказал Вольёдя, — на фон Бальца нажали с фронта, и он швырнул эти «игрушки» в бой!
— А вы еще говорили, что больше инженер, чем командир! — с усмешкой, но вполне довольный, отметил Кристианс. — Все именно так и произошло. Коробов и полковник Корчмарев обратились в Ставку Главного, Командования, объяснили положение, и Ставка дала «добро». Они вылетели на фронт, изучили на месте условия, а пять дней назад «нажали» на фон Бальца. Там есть межозерное дефиле с насыпной дорогой. За ночь наши войска захватили это дефиле и вклинились в немецкие позиции больше, чем на пять километров. В эту же ночь саперы выкопали на дамбе волчьи ямы, замаскировали их, а когда фон Бальц швырнул в бой свои «тигры», — правда, всего пять штук, — наши сначала попятились, а потом отсекли танки от пехоты. Три танка улизнули обратно, один был подожжен, а пятый — вот он! Еще вытащили целехоньким, выволокли в наш тыл, а потом тихонько вернулись на свои старые позиции.
— Сколько же солдат там погибло? — вдруг спросила Вита, глядя на мужчин расширенными глазами.
— Они спасли жизни многих тысяч других, — хмуро ответил полковник.
Толубеев опустил глаза.
Вита мысленно поблагодарила мужа за то, что он не стал читать ей эти мужские проповеди о том, что война требует жертв. А Кристианс замолчал, как отрезал. Но ведь он уже прошел не один круг этого ада, в который ввергли весь мир гитлеровцы. А ей хотелось заплакать…
3
«В течение 23 июня на фронте существенных изменений не произошло.
…Западнее Белгорода подразделения Н-ской части вели разведку обороны противника…».
Совинформбюро. 23 июня 1943 г.Вечером двадцать четвертого июня они вернулись в Москву. Группа Толубеева осталась, но его отозвали. Полковник Кристианс не забыл любезно добавить в вызове: «С личным секретарем Витой Арвидовной Толубеевой». К этому времени Вита уже разобралась, что всякое путешествие в воюющей стране связано с обязательным пропуском и вызовом или предписанием.
За эти полтора месяца они облетели и объехали весь Урал и почти всю Сибирь. Вита с удивлением видела, что в тех местах, где, по ее представлению и по сообщениям газет всего мира, по улицам городов ходят живые медведи, чаще всего проходили с заводов на вокзалы колонны отгружаемых на фронт танков, с аэродромов, спрятанных в глухой тайге, взлетали новенькие самолеты и устремлялись на запад, навстречу им, едущим с запада, — если они ехали по железной дороге, — шли сотни составов… Правда, их «литерный поезд» обычно пропускали без задержек дальше и дальше на восток, но случалось и так, что приходилось часами стоять на разъездах, потому что навстречу шли эшелон за эшелоном впритирку. Тогда Вита выходила вместе с сестрой Лидией из вагона, и на таких глухих разъездах они собирали раннюю землянику или пахучие цветы багульника, а иногда и купались. Толубеев обычно в это время спал. Он так уставал во всех этих «инспекциях», что порой возвращался в номер гостиницы или заводского общежития совсем больной. Тогда сестра Лидия укладывала его в постель, делала уколы или давала снотворное, и обе женщины чутко следили за его отдыхом. В такие дни сестра Лидия становилась неприступной: какой-нибудь директор или главный инженер мог сколько угодно кричать на нее, она выслушивала все, не поднимая глаз, отвечала, не повышая голоса: «Подполковник болен. Он будет разговаривать с вами завтра в таком-то часу!» — и точно называла час, в который Толубеев поднимется снова здоровым и сильным.
Для одного только человека сестра Лидия делала исключение — для полковника Кристианса. Полковник Кристианс ежедневно присылал Толубееву короткую зашифрованную телеграмму. Сестра Лидия расшифровывала ее и, как только Толубеев просыпался после своего беспамятного сна, подавала ему шифровку. И все время их путешествия по военным заводам шифровка сообщала, что все без изменений.
Прошел именно тот месяц, о котором мечтал в мае директор пушечного завода, когда вдруг Лидия, расшифровывавшая очередную телеграмму Кристианса, охнула, взглянула на Виту какими-то слепыми глазами, — вряд ли она даже видела Виту, — бросилась в комнату, где только что напичканный снотворным спал Толубеев, и принялась его будить. Толубеев с трудом раскрыл слипающиеся веки, и она подала ему телеграмму, решительно и жестко крича: «Да проснитесь же, Владимир Александрович!»
Толубеев машинально прочитал, но Вита видела, что он еще спит.
— Владимир Александрович, Владимир Александрович! — тормошила его сестра Лидия, но он уже опять опустил голову, и глаза его закрылись.
— О, господи! — воскликнула сестра, кинулась к шкафчику, вытащила бутылку водки, прикрикнула на Виту: — Кофе! Скорее! — резко сжала больному щеки, так что у Толубеева приоткрылся рот, и влила чуть не половину бутылки в этот все норовивший сжаться рот. Вита принесла кофе, но Толубеев уже проснулся, он сидел на кровати с блестящими глазами и снова перечитывал телеграмму. Вдруг он охнул, схватил чашку кофе, выпил, обжигаясь, попросил:
— Вита, помоги мне одеться! — Крикнул Лидии: — Что же вы стоите? Вызывайте всех сюда! Если я сделаю шаг, я упаду. Сколько вы влили в меня этого зелья? — он с отвращением смотрел на бутылку, стоявшую на его ночном столике.
— Граммов двести, наверно, — растерянно ответила сестра.
Ничего себе! — проворчал он и снова прикрикнул: — Звоните же!
Лидия выскочила к телефону, а Вита помогла ему одеться. От водки и снотворного он был похож на маленького обиженного мальчика и ничего почти не мог делать сам. Когда она застегнула на нем гимнастерку, он тихо сказал:
— Кристианс сообщает, что немцы наметили участок для наступления: от Белгорода на Курск и от Орла тоже на Курск. Они собираются срезать наш Курский выступ… Но какой он молодец, у нас еще не меньше недели, а все новые орудия уже на железнодорожных платформах вблизи от фронта…
В рабочую комнату начали сходиться помощники Толубеева. И Вита поразилась; еще только что казавшийся немощным и бессильным, ее муж вдруг стал решительным, собранным. Его немногословные распоряжения сыпались, как град, словно состояли из одних твердых согласных. Офицеры один за другим покидали кабинет, за окном рокотали моторы, развозя их на завод, на аэродром, на вокзал. Через полчаса никого вокруг не было.
Солдат-телеграфист принес новую шифровку. Кристианс предлагал вернуться в Москву.
Москва оказалась жаркой, в тополином пуху, в липовом цвете. На бульварах девушки в военных гимнастерках поднимали в темнеющее небо сигары аэростатов. В этот приезд Москва и москвичи казались более спокойными: по-видимому, привыкли к тому, что вот уже несколько месяцев сводки убеждали: на фронте все спокойно. А зимние победы так отодвинули немцев, что те перестали показываться даже в московском небе…
Толубеевых привезли в ту же самую квартиру, где они поселились впервые. Сестра Лидия, сопровождавшая их, позвонила куда-то по телефону, и в квартире немедленно появился профессор. Вита сочла самым благоразумным послушать, что он скажет о здоровье мужа.
Профессор довольно долго выстукивал и выслушивал Толубеева, проверил давление; сестра Лидия взяла кровь и тут же произвела анализы. Просмотрев ее записи, профессор удивленно сказал:
— Современная медицина переживает странные открытия. Во время войны у больных людей начисто исчезают язвенные поражения желудка, тяжелые экзематозные явления, колиты, гастриты и еще десятки болезней…
— Это не удивительно, — смеясь, сказал Толубеев. — Желудочные заболевания проходят от голода и грубой пищи. В ней нет таких раздражителей, как в деликатесах.
Когда вы, профессор, последний раз ели черную икру?
— Да, пожалуй, именно перед войной, — ответил профессор. — Но меня занимает другое: судя по анамнезу, вы недавно перенесли три операции на желудке. Затем вам прострелили легкое, едва не попав в сердце. Я выпустил вас из-под наблюдения на весь этот месяц только благодаря административному нажиму. Что я ожидал увидеть? Полное истощение организма, малокровие, если хотите, инвалидность. А что я увидел? Совершенно здорового человека, правда, переутомленного, но это уже не следствие болезни, а следствие большой физической нагрузки. Вы, подполковник, спутали мне все карты, но я со спокойной душой подпишу акт о полном вашем выздоровлении и о возвращении к боевой деятельности…
И он с недоумением посмотрел на Толубеева, спутавшего все его медицинские предположения.
Позже приехал Кристианс.
Кристианс, которого Толубеев и Вита во всех обстоятельствах привыкли видеть непроницаемо спокойным, на этот раз показался им похожим на натянутую струну. Тронь его неосторожно, и он взорвется. Боясь, как бы такой взрыв не отразился на муже, Вита принялась готовить кофе, принесла от сестры Лидии немного спирта для мужчин, потом присела в уголке, стараясь быть незаметной. Но Кристианс после рюмки неразведенного спирта и чашки дымящегося кофе несколько отошел.
— Вам, Владимир Александрович, — уже без звона в голосе, довольно спокойно сказал он, — придется командовать бригадой тяжелых танков «ИС» из резерва Главного Командования. Я только что прочитал рапорт профессора о состоянии вашего здоровья и, прямо говоря, рад. Ваше новое назначение задерживалось только из опасения, что вы еще нездоровы. Ваша бригада уже подтянута в район Курска. Там есть широкая возможность маневра: железные дороги позволят перебросить бригаду и на южное и на северное направление, в зависимости от того, где немцы предпримут главный удар. Хотя, честно говоря, я боюсь, что для них оба направления — главные. Если они собираются срезать наш Курский выступ и попытаются устроить нам «немецкий Сталинград» в Курске, то они будут атаковать с обоих направлений. А это выраженьице: «немецкий Сталинград» наши разведчики уже зафиксировали…
— Как это произошло? — спросил Толубеев.
— Мы получили сразу несколько предупреждений: одно — из «Центра», то есть непосредственно от наших людей, работающих в Берлине; второе — из Лондона, — там наш человек связан с английской разведкой; третье — от зафронтовых разведчиков, сообщивших о массовой переброске новых танков в район Орла и в район Белгорода. Кроме того, партизаны взорвали один особо охраняемый эшелон, и в нем оказались танки, каких им до этого не приходилось видеть. Три дня назад самолетом были доставлены снимки из этого партизанского соединения. Вот, взгляните!
Кристианс вынул из портфеля и бережно положил на стол несколько снимков. Пленка была крупнозернистой, при увеличении снимки много проиграли в четкости, но ни Вита, ни Толубеев не могли оторвать взгляда. Да, это был тот же танк, который русские солдаты захватили под Волховом, который, на глазах у Виты, не брали советские противотанковые пушки. И сделали эти снимки люди, скрывавшиеся с оружием в руках в тылу у немцев, подрывавшие их эшелоны, взрывавшие их склады. А как просто писали о них составители сводок!
«Партизанский отряд, действующий в одном из районов Украины, из засады обстрелял двигавшуюся по шоссе немецкую автоколонну. Убито до 50 солдат и офицеров противника. Подрывники из действующего в Барановической области отряда имени Чапаева пустили под откос немецкий эшелон. Разбиты паровоз и 31 платформа с танками и автомашинами».
Это сообщение Вита прочитала в день второй годовщины войны и передала газету сестре Лидии. И вдруг увидела, как вспыхнуло лицо Лидии. Но на прямой вопрос: знает ли она этот партизанский отряд — Лидия не ответила, заговорила о чем-то другом, словно и не слышала.
Тут она вспомнила, как холодели у нее самой руки, когда она, желая стать глазами Вольёди, сфотографировала на немецком полигоне этот танк. Может быть, немцы ее не казнили бы, как казнят советских партизан или соотечественников, обвиненных в военном саботаже, но возможно, ни заступничество отца, ни влюбленность эсэсовца не помогли бы ей. И ее вдруг охватила гордость за себя. Она тоже помогла Вольёде и его стране. А мера ее помощи стала ей понятна из подвига солдат под Волховом, вот из этого подвига партизан, которые с оружием в руках сражались за родину в тылу у немцев, презирая и мучительную смерть, и силу разъяренного врага, обрушившего на их маленькие отряды свои дивизии и полки.
Она подумала о людях, которых полковник Кристианс назвал одним словом «Центр». А разве эти люди не были героями? Они находились где-то на территории Германии, как видно, в самом Берлине, они были окружены фашистами, эсэсовцами, может быть, сами были вынуждены изображать фашистов и эсэсовцев? Вита помнила по себе, как трудно играть такую роль свободно думающему человеку, но ведь ей-то было легче, она была просто богатой невестой, едва ли не самой богатой в своей стране, ее отец всегда пользовался уважением фашистских бонз, ведь он не говорил ни слова о их политике, особенно — неосторожного слова, — и они, проговорись она, — выслушали бы ее с усмешкой, не больше, а может, и просто с улыбкой, — что возьмешь с красивой фрекен, которая ничего не понимает в политике! А вот каково было там советскому человеку, как бы ни учили его сдержанности!
И она неловко спросила:
— Кто же они, эти люди из «Центра»?
— Простые советские люди, — усмехнулся Кристианс. — Вы с ними познакомитесь в шесть часов вечера после войны…
— Если они будут живы, — сухо напомнил Толубеев.
Кристианс не рассердился, не вспылил. Он сразу погрустнел и тихо повторил слова Толубеева:
— Да, если они будут живы…
Разговор внезапно оборвался, и Вите пришлось приложить некоторые усилия, чтобы прогнать вызванные ею самою видения. Она наполнила рюмки спиртом, налила даже себе немного, долила водой, предложила свежий кофе, но мужчины вяло благодарили и умолкали. Казалось, все страхи войны, войны особенной, войны одного против всех, окружили их и заставляли думать не о себе и о своих трудностях, а только о тех, кто далеко от родины выполнял свой долг.
Наконец она встрепенулась, вспомнив те главные слова, что все еще не сказала, когда услышала о новом назначении мужа. Как, он оставит ее в этой все еще малопонятной стране одну, уедет туда, где каждый день убивают тысячи? Конечно, ее Вольёдю не убьют, слишком много он уже отдал этой проклятой войне, да и Вита будет молиться за него, но что, если?.. При одном представлении об этом «если» она готова была заплакать, но голос ее зазвенел, когда она сказала:
— Я еду вместе с мужем!
Кристианс взглянул растерянно, муж восхищенно, но оба отрицательно покачали головами. Она подумала: никто-никто не поможет ей, если она сама не поможет себе. Старательно выговаривая слова, она гневно возразила:
— Я умею стрелять, как всякий охотник. Я могу носить мужской костюм. Я с шести лет хожу на лыжах, бегаю на коньках, у меня есть тренинг. Я с двенадцати лет вожу машину и могу разобрать и собрать мотор, как настоящий механик. Ваш тяжелый танк я тоже могу водить, а стреляет из пушки отдельный человек-стрелок, но я могу научиться стрелять из нее в течение часа. И, наконец, я знаю немецкий язык со всеми диалектами и могу быть переводчицей, ведь вы же собираетесь побеждать, значит, у вас будут пленные и вам надо будет опрашивать их? И еще: я сейчас же буду звонить генералу Коробову, полковнику Корчмареву, заместителю народного комиссара и пожалуюсь на вашу жестокость, на ваше безразличие к моей судьбе и скажу им, что я была офицером связи в нашем Сопротивлении! И последнее — я прошусь не на отдых, а на войну…
Они улыбались, слушая ее, но она видела, что за этими толстыми, истинно мужскими черепными коробками идет внутренняя работа. Нет, она не хотела обижать этих мужчин, она просто давно уже поняла, что мужчины с их буйволовыми мозгами не сразу улавливают главную идею, им всегда приходится немного подумать, чтобы понять самое простое предложение. Другое дело — дело: тут они на высоте. Они реагируют мгновенно и сразу сбивают с ног противника. Но чувства, чувства очень часто оказываются выше их разумения, и, пока до них дойдет смысл, самая глупая женщина успеет и посмеяться и поплакать… Но Вите не хотелось плакать из-за извечной мужской тупости. Она просто подошла к телефону и набрала номер.
— А ведь она права, Михаил Андрианович! — просительно сказал муж и опустил руку на рычаг телефона.
— Но мы же ничего не успеем сделать! — уже сдаваясь, ответил полковник.
— А ничего и не надо делать, — удивительно терпеливо объяснял Толубеев. — Она пишет заявление о том, что просит принять ее добровольцем в танковую бригаду, которой командует ее муж, перечисляет те самые достоинства, которыми щеголяла перед вами только что, а там уж ваше дело — оформите ли вы ее переводчиком или просто шофером. В одном случае она будет при штабе, в другом — станет водить мою машину.
— И не забудьте, товарищ Кристианс, — запальчиво добавила она, — я ведь вступила в эту войну еще в тысяча девятьсот сороковом году, в первых отрядах Сопротивления, и всегда воевала на вашей стороне!
— Да, это самый лучший ваш аргумент, — задумчиво сказал Кристианс. Помолчал немного, добавил — Хорошо, пишите ваше заявление и укажите, что вы участвовали в норвежском Сопротивлении с сорокового года и были офицером связи. В конце концов, если бы мы могли, мы наградили бы всех ваших бойцов, потому что все вы рисковали жизнью, как рискует каждый советский солдат!
Она написала требуемую бумагу четким деловым почерком по-русски. Кристианс бегло прочитал ее, уложил в планшет и ушел.
4
«В течение 27 июня на фронте существенных изменений не произошло.
…За истекшую неделю, с 20 по 20 июня включительно, в воздушных боях, огнем зенитной артиллерии и войск уничтожено 211 немецких самолетов. Кроме того, большое количество вражеских самолетов уничтожено и повреждено в результате налетов советской авиации на аэродромы противника. Наши потери за это же время 74 самолета».
Совинформбюро. 27 июня 1943 г.Муж должен был вылететь на фронт двадцать восьмого. Она готовила его в дорогу, вдруг всхлипывая над каким-нибудь носовым платком, который подрубала, сидя с сестрой Лидией и безмерно удивляя ее этим внезапным плачем.
— Вот уж не знала, что женщины во всем свете одинаковы! — осуждающе говорила сестра Лидия.
— Да, а эти семьдесят четыре самолета, которые сбили немцы? — возражала Вита.
— Но ведь Владимир Александрович не на бомбежку летит… — отвечала Лидия, но Вита видела, что и у нее тоже навертывались слезы. — Ах, все это оттого, что женщинам слишком часто приходится отправлять мужей на войну… — но тут же встряхивала стриженой головой, восклицала — Ничего, на этот раз от вас он не убежит… Мне в штабе говорили, что… — и вдруг умолкала. Видно, штабные новости для Виты не предназначались.
Часов в шесть вечера, когда они уже собрали все для Толубеева, появился и он сам в сопровождении неотлучного Кристианса. Кристианс нес какой-то большой пакет, Толубеев — маленький. Толубеев от порога воскликнул:
— Встать!
Сестра Лидия мгновенно выпрямилась, как солдат. Вита смотрела на мужа удивленно — неужели пьян? Но в голосе был торжественный гул, глаза смотрели строго, и она, медленно поднялась, глядя на него уже растерянно. А он повернулся к Кристиансу и все так же гулко произнес:
— Товарищ полковник, бойцы вверенного мне соединения построены!
Кристианс опустил свой сверток на стул, взял из рук Толубеева меньший, вынул оттуда планшет, а из планшета погоны, воинское удостоверение, торжественно сказал:
— Вита Арвидовна, поздравляю вас с присвоением воинского звания!
Слова его прозвучали по-дружески, но очень торжественно.
Вита приняла из его рук погоны с тоненьким золотым просветом и маленькой звездочкой и только тут поняла: она — офицер советской армии! Пусть чин самый маленький, но она будет вместе с мужем. Она не удержалась и вдруг бросилась на шею полковника, а тот поцеловал ее и подтолкнул к мужу. А сестра Лидия уже распаковывала второй сверток. В нем оказались гимнастерка и юбка военного образца. Тут уж сестра Лидия воззвала к Вите: ведь надо было примерить новый костюм, пришить подворотничок, подогнать все по росту, прикрепить погоны, тем более, что полковник Кристианс торопил: Вита должна была через час вместе с мужем представляться генералу Коробову.
Вита прижала к сердцу воинское удостоверение, в котором указывалось, что отныне она офицер воюющей великой армии, побежала за сестрой Лидией. Мужчины улыбались, но едва женщины исчезли, посуровели. Они-то хорошо знали, что такое война…
За стеной лязгали ножницы, раздавались ахи-охи, но когда через сорок минут Вита вышла в новом своем костюме, мужчины решили, что красивее этого младшего лейтенанта в армии, наверно, нет. Даже пилотка отлично сидела на непокорной белокурой копне волос.
Они медленно ехали по вечерней, очень тихой Москве. Редко-редко слышались детские голоса. Эвакуированные в суровую осень сорок первого года дети и матери еще не возвращались, хотя количество жителей неуклонно возрастало. Вернулись наркоматы, некоторые заводы, редакции газет, издательства… Но это был суровый город взрослых, город воюющих людей.
Опять поднимали в небо аэростаты, по улицам проходили взводы и роты противовоздушной обороны, почти сплошь девичьи, и девушки внимательно оглядывали Виту, сидевшую рядом с шофером, и от этих взглядов ее бросало в жар. Ведь это были ее будущие подруги на много лет, а как-то они поймут друг друга?
В бюро пропусков она так неловко козырнула дежурному, что тот невольно потянулся к телефону: уж не враг ли прошел в штаб? Но полковник Кристианс, видно, успокоил его.
И в приемной она чувствовала себя чрезвычайно стесненно. Офицеры вытянулись по стойке «смирно», и она не понимала, от удивления ли при виде ее или от почтения перед ее мужем и полковником. К счастью, дежурный офицер сообщил, что генерал ожидает их, и они прошли в кабинет, где она уже была однажды с полковником Кристиансом, когда обсуждали ее отчет о поездке в Германию…
Генерал и на этот раз был не один: знакомый заместитель наркома, которому она собиралась жаловаться, если ее не пустят с мужем, еще какой-то генерал, несколько офицеров. Коробов встал навстречу им, твердо пожал руку Виты и без лишних предисловий сказал:
— Позвольте мне от имени Советского правительства вручить вам. Вита Арвидовна, орден Боевого Красного Знамени, которым вы награждены за заслуги в борьбе норвежского Сопротивления и за вашу помощь в выполнении важного правительственного задания…
Все встали и зааплодировали, а генерал принял из рук дежурного офицера маленькую красную коробочку, раскрыл ее и неловко прикрепил орден к гимнастерке. Затем он принял из рук офицера пистолет, вынул его из кобуры и показал золотую пластинку, на которой была выгравирована нынешняя фамилия Виты и ее инициалы.
— Я знаю из вашего рапорта, что вы умеете отлично стрелять. Пусть же это оружие послужит вам для защиты правды и справедливости, — прочувствованно сказал он.
Генерал взял ее под руку и проводил в соседнюю комнату, где почему-то находилась сестра Лидия, еще какие-то девушки в военной форме, а на столе стоял русский самовар, окруженный стаканами, и торт.
— Это пир в вашу честь, Вита Арвидовна, — сказал генерал, — И извините нас, мы несколько задержим Владимира Александровича…
Он вышел, а девушки окружили Виту, защебетали о красивой форме, о том, как идет ей орден, и Вите пришлось вместе с сестрой Лидией подойти к зеркалу. Ничего нельзя было сказать — орден и форма очень шли к ней. Это она видела и сама.
Глава третья. Навязать противнику свою волю…
1
«В течение 4 июля на фронте ничего существенного не произошло».
Совинформбюро. Вечернее сообщение 4 июля 1943 г.«В течение ночи на 5 июля на фронте ничего существенного не произошло.
…В районе Белгорода разведчики установили, что на переднем крае противника скапливается для атаки вражеская пехота. Ночью гвардейское минометное подразделение совершило огневой налет и точно накрыло скопление гитлеровцев. Противник понес большие потери, Вражеская атака была сорвана».
Совинформбюро. 5 июля 1943 г.Бригада тяжелых танков «ИС», вооруженных новыми дальнобойными стодвадцатидвухмиллиметровыми орудиями, которой командовал подполковник Толубеев, расположилась в двух полуразрушенных селах восточнее Прохоровки. Танки были укрыты в колхозных ригах и фермах, в откопанных за ночь капонирах по берегу извилистого оврага с мелкой речушкой внизу, во дворах брошенных жителями домов. Всякое передвижение днем было прекращено: в воздухе постоянно висели немецкие разведывательные самолеты, а уж им-то совсем ни к чему было знать, что в этой военной пустыне, именно здесь замаскировалась крупная танковая часть. Тихо было и в эфире. Прямая телефонная связь поддерживалась только со штабом фронта…
Что таких отдельных соединений — танковых, самоходных пушек, артиллерийских, механизированных пехотных, — подчиненных Главной Ставке, в степи укрылось много, Толубеев мог только догадываться. Ведь его собственная бригада тоже никому не видна. Но это молчание и тишина были похожи на затишье природы перед грозой…
Второго июля командующие фронтами получили предупреждение Ставки Главного Командования, что немцы перейдут в наступление предположительно между третьим и шестым июля.
Третьего июля немцы молчали.
Четвертого никаких изменений не произошло.
Вечером Толубеева вызвали в штаб фронта.
Он уже несколько дней изучал передовые позиции, где можно было ожидать удара немцев. Конечно, им выгоднее всего было ударить в основание Курского выступа со стороны Белгорода с юга и со стороны Орла с севера. На обоих направлениях в их распоряжении были восстановленные железнодорожные пути, шоссейные дороги и подготовленные исходные позиции… Да и сама степь, высохшая до звона, стала отличным плацдармом для тяжелых танков.
Но Толубеев видел и другое: никогда еще не было столько орудий во всех эшелонах обороны, столько гвардейских минометов, столько противотанковых расчетов, столько, наконец, войск, приготовившихся встретить противника и огнем и штыком. А внешне степь казалась пустынной, безлюдной, только линии замаскированных траншей, противотанковых рвов и ловушек, минные поля, одиночные ячейки противотанковых расчетов показывали, как густо заселена эта степь, в каком страшном напряжении живут люди, каким ожесточенным может стать будущее сражение.
Толубеев подъехал к штабу глубокой ночью. Шофер остановил машину возле шлагбаума, высадил Толубеева и съехал в овраг. Там, под накатом, присыпанным землей, стояло уже довольно много машин. По поселку, где устроился штаб, на машинах не разъезжали, чтобы не привлечь внимания разведывательных самолетов.
Толубеев прошел к начальнику разведотдела. Под яркой маленькой лампочкой с трепещущим, бьющимся, как будто живым, светом сидел полковник Кристианс.
Он протянул сухую холодную руку, уныло сказал:
— Если разведчики сегодня ночью не добудут языка, хоть сам иди в разведку! Сидим с закрытыми глазами. — И переменил разговор — Как Вита Арвидовна? Привыкла к форме?
— К особистам она никак не может привыкнуть! — проворчал Толубеев. — Понравилась, что ли, кому-то из начальства. Сначала стали перетягивать в штаб, я было прикрикнул, тогда прислали особиста, тот чуть ли не с пристрастием принялся допрашивать, почему говорит с акцентом да кто произвел в офицеры иностранку…
— Я этому особисту шею сверну! — угрюмо сказал Кристианс. Он записал что-то в блокнот. Толубеев успокоился. Ему действительно было противно это штабное заигрывание с его женой, а особист — просто глуп. Но Кристианс этого не забудет. Нервы у всех и без того напряжены, а какой-то болван разыгрывает сверхбдительность. Сползал бы в немецкие окопы да притащил языка, если уж так руки чешутся…
Кристианс, как видно, приехал надолго. В комнате начальника отдела была уже поставлена вторая койка, на маленьком столике — два стакана, две бритвы, под койкой чемодан. Кристианс уловил взгляд Толубеева, брошенный в отведенный для сна угол, сказал:
— До конца операции буду здесь. Начальник ушел к командующему, просил, если явитесь без него, обождать.
Он шагнул к койке, достал из чемодана плитку шоколада и пачку московского «Казбека». Вернулся к столу:
— Это вам и Вите Арвидовне. Да не я, не я, генерал послал.
Толубеев спрятал подарки в планшет.
Вернулся начальник отдела. Поздоровался хмуро.
Толубеев понимал, что все в штабе измучены ожиданием. Ощущение примерно такое: над тобой висит гиря, а веревка, на которой она подвешена, постепенно расползается, одна прядь, вторая, третья. Но когда она упадет, эта гиря?
Резко звякнул телефон. Начальник отдела торопливо схватил трубку.
— Взяли? Когда? Где? Перескажите устно показания! Пленного потом доставить мне. Что? — послушал немного, положил трубку, снова поднял, попросил: — Соедините с командующим. — Подождал, заговорил: — Докладывает седьмой. Только что взяты пленные минеры противника. Во всех немецких частях прочитан приказ Гитлера о переходе в наступление в три часа пятого июля, в понедельник. Задача: отрезать, окружить и уничтожить советские войска на Курском выступе. Гитлер приказал коротко: «Немецкий Сталинград». Пленного скоро доставят. Ефрейтор Бруно Формелло. Вместе со своим взводом был направлен проделать прохода в минных полях, прикрывающих немецкую оборону… Да, это неопровержимо. Наши разведчики проверили показания ефрейтора, — немцы действительно снимали мины на своем поле…
Он вздохнул с каким-то облегчением, как будто то, что должно было теперь, начаться, казалось ему более легким, чем само ожидание. А начаться должно было одно из самых великих сражений, в котором погибнут десятки тысяч людей, и было еще неизвестно, чья чаша весов перетянет…
— Ну, вот и дождались! — все так же удивительно весело сказал он, поглядывая на Толубеева и Кристианса с улыбкой. — Да, Владимир Александрович, вот ваша диспозиция. — Он достал из сейфа карту и передал Толубееву. — А сейчас мы попытаемся смешать карты господам немецким генералам. Прошу — за мной. Начинается совещание у командующего!
2
«С утра 5 июля наши войска на Орловско-Курском и Белгородском направлениях вели упорные бои с перешедшими в наступление крупными силами пехоты и танков противника, поддержанных большим количеством авиации. Все атаки противника отбиты с большими для него потерями, в отдельных местах небольшим отрядам немцев удалось незначительно вклиниться в нашу оборону.
По предварительным данным, нашими войсками на Орловско-Курском и Белгородском направлениях за день подбито и уничтожено 586 немецких танков, в воздушных боях и зенитной артиллерией сбито 203 самолета противника.
Бои продолжаются».
Совинформбюро. 5 июля 1943 г.Совещание у командующего фронтом окончилось в 1.30. Командиры резервных частей торопливо разъезжались по своим штабам. Шла томительная ночь пятого июля…
Подполковник Толубеев попросил у командующего фронтом разрешения выехать на передовые позиции армии, которой была придана его бригада. Возможно, на этом именно участке фронта придется сражаться и ему…
Юркий броневичок, подарок Горьковского завода, доставил его к месту назначения. Только начинало светать, когда Толубеев, оставив броневик в расположении танкистов. направился в штаб дивизии. Первые птицы подавали робкие голоса, купались в росе, свисавшей, тяжелыми ртутными каплями с каждой травинки, с каждой ветки на лесопосадках. Толубеев шел за провожатым и думал о том, что через час, не более, воздух содрогнется от артиллерийского грома, птицы замолкнут, роса осыпется на землю, и в этот жаркий день всем захочется пить, а степь будет полна огнем и дымом, и нигде ни капли воды…
Провожатый сержант спрыгнул в траншею, и Толубеев, следя за ним, шел таким же кошачьим шагом, будто провожатый боялся разбудить немцев, которые спали или, скорее, готовились к предстоящему бою совсем недалеко от русских позиций, в такой же земляной траншее.
Точно так же готовились к бою и русские пехотинцы, чутко прислушиваясь к грозной тишине. Особенно много тут было бронебойщиков со своими длинными ружьями. Они уже знали, что Гитлер пригнал под Курск новые танки «Тигры», читали еще несколько дней назад «Наставление» по борьбе с ними. В «Наставлении» этот новый немецкий танк был даже изображен, хотя самой машины никто из них еще не видал. Но они уже воевали с немецкими танками под Сталинградом и знали, что любая железная махина, как бы ее ни называли немцы, останавливается от умелого выстрела, и взрывается, и горит. И сейчас терпеливо ждали этой встречи, укрываясь поглубже в земле, исконном убежище солдата…
Толубеев прикинул мысленно, как глубоко эшелонирована оборона на этом танкоопасном направлении, и подивился: но примерным его расчетам получалось, что противотанковые средства обороны уходят в глубину километров на десять, а там уже стоят танковые корпуса, противотанковые самоходные пушки, тяжелая артиллерия, резервные части всего Степного фронта и вся эта военная мощь готова к бою в первые же часы, если немцам удастся прорваться сквозь первые линии обороны фронта.
В штабе дивизии никого, кроме дежурных офицеров, не оказалось. Во всех частях читали приказ Главнокомандующего, проводили партийные и комсомольские собрания, заканчивали инструктаж по борьбе с новыми танками гитлеровцев. Дежурный предложил Толубееву чаю, намекнул, что можно бы еще вздремнуть минут тридцать, но Толубееву ничего не хотелось.
Начали возвращаться офицеры. В блиндажи они не торопились, стояли в траншеях и укрытиях, поглядывая на небо, теперь уже резко голубевшее над головой, но еще белое на горизонте. И в тот же миг над головами пронесся первый вздох боя.
Это было «упреждение», о котором говорилось в кабинете командующего. Вся артиллерия русских войск открыла мощный огонь по немецким позициям, где в эту минуту заводили танки, строили для атаки батальоны, рассаживали по бронетранспортерам автоматчиков, что должны были прорываться следом за танками через советские позиции. И в тот же миг над головами русских солдат и офицеров пошли волна за волной пикирующие бомбардировщики, истребители, тяжелые самолеты, и в расположении противника, за час до начала им спланированного наступления, раздались бомбовые удары, слившиеся в общий гром с орудийной стрельбой, с разрывами «катюш», с лаем тяжелых и легких минометов.
— Начали! — сказал невысокий плотный генерал, командир дивизии. — Отлично начали! — повторил он. И добавил — Главное, светло, немцы видят, что у них происходит. Кое у кого такой пейзаж отобьет охоту к атаке… — И приказал — Товарищи офицеры, по местам! — Повернулся к Толубееву — Прошу вас, товарищ подполковник, на мой КП. Там обзор отличный…
Наблюдательный пункт расположился на невысоком кургане, насыпанном, вероятно, еще скифами над могилой своего вождя. Таких курганов тут было несколько, и немцы, конечно, пристреляли их, но саперы дивизии ухитрились врезаться в курган сбоку и пробились в верхнюю каменную камеру кургана, где когда-то был захоронен скифский вождь, его слуги и жены. В амбразурах кургана стояли несколько стереотруб, на спицах, вбитых в стенку, висели бинокли, в углу, на столике, стояли телефоны полевой связи, возле которых дежурили телефонисты.
Артиллерийско-бомбовый удар советских войск все продолжался, а немцы с методическим упорством ждали сигнала к наступлению. Ведь сам Гитлер сказал им, что утром начнется последнее решительное сражение за русские просторы, которое окончится их сокрушающей победой, и русские наконец-то побегут за Урал, где и погибнут на веки вечные…
И вдруг Толубеев увидел в стереотрубу далекие клубы пыли, как будто катившиеся от горизонта к советским окопам, увидел вспышки огня в этих клубах и как-то даже спокойно сказал:
— Танки!
Это и было спокойствие после долгого нервного напряжения.
Командир дивизии отдал несколько распоряжений. Впрочем, наступающую железную орду видели со всех наблюдательных пунктов дивизии и из всех окопов и противотанковых ячеек, вынесенных вперед.
— А вот и «тигры»! — сказал Толубеев, глядя в пыльное марево впереди.
Легкие танки противника, выступившие первыми, вдруг развернулись в обе стороны, и в вершину наступающего клина выдвинулись массивные, окрашенные в оливковый цвет пустыни тяжелые танки «тигр». Было непонятно, почему их не перекрасили в более сливающийся с местностью зеленый цвет, может быть, танкисты «тигров» до последнего часа не знали, что их отправляют не в пустыню к Роммелю, а в среднерусские степы к генералу фон Шмидту? А может быть, Гитлер лишь в самые последние часы перед сражением решил бросить на стол этот свой козырь?
Эти машины были длиннее и шире средних и легких танков. И орудия их оказались длиннее, крупнее калибром. Но самым страшным для солдат зрелищем была кажущаяся неуязвимость «тигров». Уже сотни орудий стреляли по ним, а они все приближались с каким-то противоестественным спокойствием, словно снаряды отскакивали от них, как камни от железной стены. Толубеев знал, что лобовая броня этих машин была доведена до четырехсот миллиметров и снаряды из привычных противотанковых орудий действительно не могут пробить ее, но он знал и другое: кумулятивные снаряды и бронебойные снаряды новых орудий будут дырявить эти чудовища, как только они повернутся к орудийным позициям бортовой броней…
Но пока танки шли в лоб, расстреливая артиллерийские позиции русских.
Справа от наблюдательного пункта стояла замаскированная батарея новых противотанковых орудий лейтенанта Калинина. В течение этих дней подготовки Толубеев был у Калинина не один раз. Он знал, что сейчас Калинин, тщательно замаскировавший свои орудия, готовится к встрече с «тиграми». Они договорились, что Калинин не станет демаскировать свою батарею, если не появятся «тигры». Против легких немецких танков должны были действовать две другие батареи, разместившиеся слева и справа от батареи Калинина. И Толубеев ждал, выдержит ли Калинин в эти первые минуты боя…
«Тигры» все приближались. За ними шли гусеничные бронетранспортеры, набитые солдатами, как стручки гороха зернами. Следом, понемногу отставая, бежали автоматчики. Батарея Калинина молчала.
— Огонь! — негромко скомандовал генерал.
Но раньше, чем вступила в бой батарея новых противотанковых орудий, танки встретились с бронебойщиками. Эти бесстрашные люди, закопавшиеся по двое со своими длинными ружьями, похожими на дедовские пищали, выждали, когда танки поравнялись с их земляными гнездами, и открыли огонь по бортовой броне «тигров». Пулеметчики, выдвинувшиеся вперед, ударили из пулеметов по бронетранспортерам и автоматчикам. В этот миг заговорили пушки батареи Калинина.
Толубеев увидел, как вспыхнул огонь на броне переднего «тигра». Танк все еще шел, а снаряд как бы ввинчивался в его броню, затем показалась вспышка синего огня, что-то гулко охнуло, раздался взрыв, и танк замер. Никто не выскочил из него.
Второй «тигр» на видимом пространстве вспыхнул от пули бронебойщика. Так же вспыхнул и третий. Но танки шли все гуще и гуще.
Высокая железнодорожная насыпь, к которой прижал свою батарею Калинин, не давала немцам возможности взять ее в лоб. И они пошли в обход.
Сначала на батарею обрушились десяток танков и два десятка бронетранспортеров. Калинин ввел в бой третье орудие. Перед его позицией горели уже шесть танков, но немецкие автоматчики, подвезенные на транспортерах, ринулись в атаку. Калинин перенес огонь на лощину, в которой они сгруппировались, и рассеял атакующий батальон. Тогда немцы бросили на Калинина еще пятнадцать танков. И только тут батарея Калинина заговорила во всю мощь. Перед позицией батареи горели уже четырнадцать танков…
Немецкие автоматчики залегли в лощине.
Толубеев вытер пот со лба и взглянул на часы: прошло пятнадцать минут.
Он посчитал остановленные батареей Калинина танки и сказал:
— Товарищ генерал, лейтенанта Калинина следовало бы представить к ордену…
— Если мы уцелеем! — меланхолически сказал генерал.
«Если мы уцелеем!» — Толубеев взглянул налево и понял, о чем подумал генерал: слева от кургана в глубину советской обороны, оставляя за собой горящие танки и бронетранспортеры, врывалась еще одна колонна немецких танков.
Как только «тигры» скрылись за лесными посадками, на прорванной передовой началась отчаянная стрельба из пулеметов, автоматов и винтовок. Тотчас же присоединился басистый рык минометов. Толубеев с чувством облегчения заметил, что немецкая пехота, сопровождавшая танки, залегла. Через линию обороны прорвались только бронетранспортеры, шедшие вслед за танками.
— Мы еще поживем! — весело воскликнул он, показывая генералу на правую линию обороны.
Генерал прильнул к стереотрубе.
В этот миг над полем боя появились вертящиеся карусели самолетов.
Их было несколько. Это были «этажерки», из перемешавшихся «слоев». Внизу, как можно было различить, кружились немецкие бомбардировщики, видно, вызванные танками на помощь. Над ними в несколько слоев крутились истребители, и советские и немецкие. То одна, то другая машина, клюнув носом, устремлялась к земле. Бомбардировщики, летевшие с тяжелым грузом бомб, взрывались на тех же бомбах, которые не успели сбросить. Истребители, сбитые в бою, падали подобно подбитым птицам, вращаясь вокруг оси и нелепо роняя отрывающиеся крылья. И еще одно заметил Толубеев: самолетов с черными крестами, падающих перед ним, было больше.
Но какая-то часть самолетов прорвалась к советским позициям, и курган вдруг всколыхнуло, словно началось землетрясение, которое Толубеев пережил мальчиком в Крыму. Он еще успел подумать, что «второй снаряд в ту же воронку не падает, вторая бомба рядом не ложится!» — как страшный взрыв обрушил на него потолок, а может быть, это встал дыбом пол, и он потерял сознание.
Очнулся он оттого, что молоденький связист надтреснутым голосом умолял его, встряхивая за плечо:
— Товарищ подполковник, очнитесь! Очнитесь! Генерала убило!
Толубеев встал и привалился к стене, так как пол под ним все раскачивался, как палуба штормующего судна. Генерал лежал рядом с амбразурой, и лицо у него было удивительно спокойное. На левой стороне гимнастерки темнело медленно расплывающееся пятно. Возможно, он был так спокоен потому, что не успел увидеть ни воздушную карусель, ни прорвавшихся танков. Если это так, то Толубеев мог только позавидовать покойному.
Наконец до него дошел смысл причитаний связиста, который все тем же дребезжащим голосом продолжал:
— Со штабом связи нет. Рация наша разбита. Санбат не отвечает. Полки просят указаний. Я никому не говорил, что генерала убило…
Он и сейчас, в бою, был исполнен уважения к своему убитому начальнику. Он не говорил: «Генерал убит», он мог только сказать: «Генерала убило». Толубеев, держась за стену, подошел к зуммерившему телефону.
— Говорю по поручению первого, Толубеев. Доложите обстановку в хозяйстве!
Звонили с правого крыла дивизии. Во время первой танковой атаки полк сильно потеснили, но потом положение восстановилось. Прорвавшиеся на стыке между вторым и третьим полком немецкие танки, по-видимому, наткнулись на штаб. Сейчас все прорвавшиеся глубоко танки уничтожены, но связные, посланные в штаб, не возвратились. В поселке, где размещался штаб, слышна стрельба. На выручку туда брошен батальон из резерва и две самоходных пушки.
Левофланговый полк, неся потери, отступил на вторую линию обороны. Бой продолжается на улицах населенного пункта. Немецкие танки и автоматчики пытаются отсечь деревню, но артиллеристы действуют успешно, сожжено и подбито много танков и бронетранспортеров противника.
В проеме кирпичной кладки появился запыленный связист. Он откозырял незнакомому офицеру, посмотрел на убитого генерала, сказал:
— Связь со штабом дивизии восстановлена. Штаб перебазировался в Яблоневку. Там был бой. Есть убитые и раненые.
Подойдя к столу с телефоном, взял трубку, подул в нее, тихо сказал:
— «Маргаритка», я «Тюльпан». С вами будут говорить, — и протянул трубку Толубееву.
Толубеев услышал знакомый голос начальника штаба дивизии.
— Толубеев слушает. Генерал убит, — раздельно произнес он.
Начальник штаба помолчал, что-то сказал в сторону, наверно, тем, кто окружали его, потом снова заговорил в трубку:
— Принимаю командование на себя. Вас разыскивает Васильев, приказано вернуться во вверенную часть. Ваш броневик в танковом резерве. Связист вас проводит. Кратко доложите, как положение на КП?
— Два прямых попадания бомбы, но работать можно.
— До свидания, товарищ подполковник. Если повезет, еще увидимся!
«Да, если повезет! Всего полчаса назад об этом говорил генерал».
Толубеев позвал связиста и вышел в узкую траншею, что вела в тыловые порядки войск.
3
«В течение 6 июля наши войска на Орловско-Курском и Белгородском направлениях продолжали вести упорные бои о крупными силами танков и пехоты противника. Наступление противника поддерживалось большим количеством авиации.
На Орловско-Курском направлении все атаки противника отбиты с большими для него потерями.
На Белгородском направлении противнику, ценой больших потерь, удалось незначительно продвинуться на отдельных участках.
По неполным данным, нашими войсками на Орловско-Курском и Белгородском направлениях за день боев подбито и уничтожено 433 немецких танка. В воздушных боях и зенитной артиллерией сбито 111 самолетов противника. Взято в плен 22 немецких летчика».
Совинформбюро. 6 июля 1943 г.Толубеев внимательно прослушал всю сводку и все боевые эпизоды, включенные в нее. О появлении в боях новых немецких танков «тигр» и «пантера» ничего не говорилось. Если бы он сам не видел, как артиллеристы лейтенанта Калинина расстреливали это «чудо немецкой техники» вчера утром, он мог бы подумать, что ни немцы, ни мы не ввели в продолжающийся бой никакого нового вооружения. А может быть, это дезинформация для немцев? Вы, мол, выпустили на поле боя целый зверинец, а мы этого даже не замечаем, бьем и «тигров» и «пантер», как зайцев? Но ведь мы сообщаем всему миру, что немцы все-таки потеснили нас на Белгородском направлении? Однако и сами немцы ни слова не сказали о своем начавшемся наступлении. Сводка немецкого командования тоже лежала на его столе, — Кристианс позаботился, — но в ней не было ни слова о боях на Брянском направлении, как они именовали этот участок фронта…
Ночью в бригаде объявили «готовность № 1». Это означало, что немцы наращивают свои силы. Вероятно, им пришлось в первые же сутки боя ввести многие из резервных частей, которые были приготовлены не для прорыва, а для развития наступления. Внутренняя фронтовая сводка называла новые дивизии и танковые корпуса, опознанные в боях в ночь на шестое.
А успехи у немцев пока что небольшие: у Томаровки они продвинулись на шесть-восемь километров и вклинились во вторую линию обороны. Орловская группа немецких войск, пытавшаяся прорваться на Поныри, успеха не имела.
За эти двое суток Толубеев спал от силы три часа, но вот странно: чувствовал себя бодрым, сильным. Даже вчерашняя контузия не отозвалась. Он понимал, конечно, что потом, когда это затяжное сражение окончится, он, если уцелеет, доставит хлопот госпитальным врачам. Сейчас он жил нервным напряжением, как и всякий солдат во время боя.
Он вышел из спрятанного в зарослях полевого укрытия. Танки по-прежнему невидимы. Немецкие самолеты пока что обходили эту полупустыню стороной, у них было много дела и на линии фронта. Иногда лишь вырывался гонимый советским истребителем «юнкерс» или «фокке» и удирал, прижавшись почти к самой земле, или падал, оставляя за собой черный шлейф дыма. Не только стрелять по самолетам, но и появляться на дорогах, полянах, на берегу оврага строго запрещалось.
Толубеев прислушался: тяжелый гул сражения доносился равномерно, и то там, то здесь по горизонту поднимались черные столбы дыма.
В первые дни войны он, услышав где-то канонаду боя, рвался туда со всем нетерпением молодости. Ему казалось, что он просто обязан быть там, где погибают его товарищи. Теперь же он хладнокровно высчитывал, когда может наступить момент, в который пригодится он со своими танками. И если гул сражения не передвигается с юга на север, это означает, что он должен спокойно ждать, учить своих людей главному искусству войны — выдержке, — ведь многие из них впервые принимают участие в бою.
Он не спеша шел через лесопосадку, придирчиво вглядываясь в маскировку танков, в лица солдат, так же, как и он, прислушивавшихся к рокоту ближнего боя, здоровался с ними и проходил дальше. Все шло как будто нормально, люди отдыхали посменно и готовились к бою.
Возвращаясь, он опять увидел сквозь ветви деревьев воздушный бой. И хотя всем спрятавшимся в этом лесу хотелось разглядеть подробности боя, никто не выскочил из-под деревьев и не нарушил маскировку, а немецкий самолет — это был «мессершмитт» — стремительно уходил от нашего истребителя на запад, в сторону Белгорода.
В штабном блиндаже тихо зуммерил телефон, кто-то спокойно отвечал на вызов, и Толубеев снова подумал: «Научились воевать! Никто не кричит, не паникует, не грозит, не ругается! И хотя у всех нервы напряжены до крайности, держатся люди отлично! Ну, теперь берегись, господин Гитлер! Ни уничтожить нас, ни запугать ты не смог!»
Он шагнул в открытую дверь блиндажа. Начальник штаба поднялся, офицеры приветствовали командира весело и непринужденно и снова обратились к своим делам: они знали, что Толубеев не любит бестолочи и суеты.
Начальник штаба сказал:
— Вита Арвидовна просила вас позвонить: привезли новых пленных.
Телефонист затараторил на своем сигнальном языке: «Пчела», «Пчела», вас вызывает «Улей»! — и передал трубку подполковнику. И тотчас же послышался милый голос Виты, от которого волна нежности хлынула к сердцу. Но говорила она деловито, чуть щеголяя этой служебной подчиненностью.
— Товарич подполковник, привезли нескольких пленных танкистов с «тигров» и летчика. Полковник Кристианс просил вас познакомиться с их показаниями…
«Она еще долго, может быть, всю жизнь будет говорить с этим акцентом, — подумал он. — Но ее „товарич“ звучит теперь так же естественно, как и у каждого из нас „товарищ“. И она привыкнет к своей новой стране и будет делить с нею все ее радости и горести…» — и вдруг поймал себя на том, что ему хочется сказать вслух: «Если мы уцелеем…».
Это была слабость, недопустимая, опасная, потому что он тем самым как бы примеривал все беды войны к ней, к Вите, такой хрупкой и слабой, и эти беды становились огромными, непереносимыми, какими никогда не казались относительно его самого, его солдат и офицеров. И снова, в какой уже раз, посетовал на себя: почему не оставил ее в Москве? Тогда ему было бы легче здесь…
Пункт опроса пленных, которых привозили в штаб бригады по распоряжению Кристианса «для знакомства с настроениями», как любил полковник говорить, — находился в полутора километрах от лесопосадок, в полуразрушенном доме отдыха. Подъезд к нему разрешался только со стороны шоссе, с востока, чтобы скрыть от случайного взгляда расположение танкового полка. Но подполковник предпочитал пешую прогулку по руслу речки и оврагу, где в зарослях лещины и терновника мог затеряться не только пешеход, но и всадник. И Толубеев нырнул в зеленую прохладу.
В бывшей столовой дома отдыха — низком приземистом отдельном здании — под охраной лежали на охапках сена и сидели на скамейках вдоль стен несколько десятков пленных. Они уже отвоевались и чувствовали себя в относительной безопасности. Правда, к гулу самолетов они прислушивались со страхом.
На дворе, под густолистым дубом мирно стояла полевая кухня, и они поглядывали сквозь распахнутые двери туда с надеждой и любопытством. Некоторые были в плену уже второй и третий день и знали, что русские пленных не бьют, не расстреливают и даже кормят, а новички, которые еще не очень верили в эти толки, сейчас напряженно ожидали, что будет с ними дальше: расстрел или… обед?
Подполковник прошел в маленький деревянный домик, где Вита опрашивала пленных.
Рядом с Витой сидела Лидия, записывавшая показания длиннолицего немца в прожженном до дыр мундире. Вита переводила фразу за фразой. Сержант, охранявший пленного, прислушивался к переводу, склонив голову набок. Толубеев подумал: «Солдатская почта! Вернувшись с дежурства, сержант порасскажет кое-что однополчанам. А этот гитлеровец так напуган, что сержанту будет что рассказать!»
Завидев офицера с большим чином, гитлеровец вскочил так стремительно, что сержант сдернул с шеи автомат. Вита и Лидия улыбнулись: одна — доверчиво-радостно, другая снисходительно, как будто подтверждая: «Я же говорила, что все будет в порядке!»
— Продолжайте! — приказал он.
Вита доложила: Курт Блюме, унтер-офицер тридцать пятого танкового полка. Взят в плен сегодня утром неподалеку от Томаровки.
— Садитесь! — приказала она пленному. И когда тот, боязливо оглядываясь на русского офицера, сел, сказала — Я слушаю.
Немец заговорил быстро, страстно. Как видно, он очень хотел убедить эту женщину-комиссара в офицерской форме с погонами младшего лейтенанта, а вместе с нею и всех других, в своей искренности.
Вита сухо переводила:
— Он говорит, что их четвертая танковая дивизия стояла в пятидесяти километрах от фронта. Офицеры говорили, что их новые танки «тигр» будут направлены в прорыв, когда русские побегут, и будут преследовать отступающих до тех пор, пока не соединятся с танковым клином, наступающим со стороны Орла. Тогда они повернут на запад, чтобы рассечь окруженные части и устроить русским «котел»… — тут она запнулась, посмотрела на Лидию — Что такое «котел»? Это русское слово?
— Окружение, — усмехнулся Толубеев.
— А, знаю, «Сталинград»! — Вита кивнула.
Пленный опять заговорил. Вита методически переводила фразу за фразой.
— Унтер-офицер говорит, что видел у командира полка Штромера карту, на которой была схема немецкого наступления. Место встречи танковых соединений — Курск. Затем один клин вырывается на северо-восток в направлении Москвы, а четвертая дивизия ликвидирует «котел».
— Как он попал в плен? — спросил Толубеев.
Вита перевела вопрос. Пленный замялся.
Вита повторила вопрос.
Тогда пленный вдруг взорвался. Толубеев понял, что он ругает свое командование. Вита усмехнулась, стала переводить:
— Унтер-офицер зол. Вместо того чтобы послать их в прорыв, их послали прорывать, — так это говорится? — обратилась она к Лидии. — Он считает, что это был обман. Прорыв должен был открыться еще вчера, а сегодня они были брошены на Томаровку, перед которой уже было, как это? Да, сто тысяч тонн горевшего железа. Нет, горелого железа. Командиры говорили, что великий немецкий танк не пробиваем русскими пушками, а в танк командира полка Штромера попал снаряд и сразу заклинил башню. Штромер приказал унтер-офицеру прикрыть его танк, повернувшись лобовой броней к русским, пока он со своим экипажем исправит повреждение. Унтер-офицер повернул танк, и тут в бортовую броню ударил снаряд, — какой? — спросила она у немца, — да, зажигающий! Он сделал такой удар, что ввертелся, как черт, в броню… Разве черт вертится? — беспомощно спросила она у Толубеева. Тот ответил: — Кумулятивный снаряд, ты же видела их действие! — О, я, я, — вертящийся черт! В танке вспыхнул пожар, и они выскочили в окоп. Тут танк Штромера тоже вспыхнул, он не знает, как это произошло, грохнул взрыв, и все для тех кончилось. Тогда они переползли в оставленную русскими траншею и пошли по ней с поднятыми руками, пока не наткнулись на русских, которые взяли их в плен.
Пленный молчал, глядя на свои обожженные и плохо перевязанные руки. Толубеев сказал:
— Отправьте его в полевой госпиталь. И скажите об этом, а то он решит, что его ведут расстреливать.
Вита перевела. Пленный удивленно взглянул на нее, потом вдруг поверил, с благодарностью посмотрел на Толубеева, но тот уже расспрашивал другого пленного.
Этот пленный оказался летчиком. Толубеев подумал: Кристианс отправил его к нам для разнообразия. Действительно, показания пленных танкистов были удивительно похожи. На танки «тигр» немецкие командиры посадили «элиту». Тут были и эсэсовцы, и отличившиеся в прежних боях водители, и командиры других немецких танков. В плену они выглядели все одинаково испуганными, держались униженно и ничем не напоминали прежних победителей Европы, какими выглядели, даже попав в плен, в первый период войны. И больше всего их пугало то, что все расчеты их командования, все утверждения Гитлера и его знаменитый приказ о «решительном наступлении», все оказалось мыльной пеной, жидкой волной, разбившейся о неприступную оборону русских. Они уже не верили или утверждали, что уже не верят Гитлеру…
Летчик был подавлен так же, как и танкисты. Но показания его были интереснее.
Обер-лейтенант Гофман получил приказ вести воздушную разведку в ближнем тылу русских. Дважды, а то и трижды в день он пролетал от белгородского фронта до орловского, там, на своем аэродроме, отдыхал и отправлялся обратно. Командование приказало ему особенно следить за «пробками» на тыловых дорогах, за отступлением разбитых подразделений советской армии. Утром восьмого июля его сбил советский истребитель.
Обер-лейтенант выбросился на парашюте и попал в плен.
Он показал, что когда к вечеру седьмого июля, на третий день немецкого наступления, сообщил начальнику разведки о том, что никаких «пробок» на тыловых дорогах русских не наблюдается, что все движение направлено не в тыл, а к фронту, то полковник, принимавший его рапорт, затопал в бешенстве ногами, упрекнул его в трусости: «Вы летаете не над дорогами, а над степью, чтобы вас не сбили русские зенитчики!» — и приказал вылететь на рассвете: «Может быть, русские отводят свои войска тайно, ночью? Тогда на рассвете вы еще успеете заметить их передвижение…» Этот вылет на рассвете восьмого оказался для летчика последним…
До обеда Толубеев опросил еще десяток пленных, но это уже было повторение пройденного: боязнь русской артиллерии; кумулятивный снаряд; уязвимость «тигров» и самоходных пушек «фердинанд», о которых говорилось, что они несокрушимы…
В два часа приехал Кристианс. Они спустились в заросшую кустарником балку к речке. Кристианс, поплескав холодной водой на лицо, вдруг сказал:
— А вы ведь знаете, Владимир Александрович, зачем я приехал?
— Так точно, товарищ полковник! Когда?
— Одиннадцатого-двенадцатого. Немцы продвинулись уже на тридцать километров. Решающее сражение, по-видимому, произойдет где-то в районе Прохоровки. Есть приказ Ставки, изматывать противника до этого дня, а потом перейти в наступление. В штабе фронта готовят новую дислокацию. Начальник штаба просил передать: ваша бригада тяжелых танков будет поставлена на решающее направление в острие наступающего танкового клина…
Толубеев ждал, что он еще скажет, но Кристианс снял гимнастерку и рубашку и поливал холодной водой сухое, поджарое тело…
Глава четвертая. Победу готовят затемно…
1
«Гитлеровская ставка промолчала о результатах первого дня крупного наступления немецких войск, начатого ими утром 5 июля на Орловско-Курском и Белгородском направлениях. 6 и 7 июля гитлеровское командование решило из „Савла превратиться в Павла“, из наступающей стороны превратиться в обороняющуюся, заявив, что наступление ведут не немцы, а Красная Армия.
Почему гитлеровская ставка вынуждена прибегнуть к этому трюку?
…новое немецкое наступление не застало наши войска врасплох. На обоих направлениях третий день идут ожесточенные бои, в ходе которых наши войска уничтожили до 30 000 солдат и офицеров, подбили и уничтожили 1539 танков и сбили 649 самолетов противника. Наши войска прочно удерживают занимаемые рубежи. Только на некоторых участках Белгородского направления противнику, ценой огромных потерь, удалось незначительно вклиниться в нашу оборону…».
Совинформбюро. 7 июля 1943 г.Никогда до сих пор в печати ее появлялось столь откровенного высказывания. Обходились лозунгом: «Победа будет за нами!» А сегодня объявляли всему миру, что это последняя попытка Гитлера выиграть войну и она провалилась в первый же день.
— О, тут есть о нас! — сказала Вита, читавшая сводку через плечо мужа. — Смотри!
Он оторвался от сообщения Главнокомандования и посмотрел на первый раздел сводки. Там сообщалось:
«На Орловско-Курском направлении наши войска в течение всего дня вели бои с наступающим противником. На участке Н-ского соединения группы вражеских танков, численностью от восьмидесяти до ста машин каждая, непрерывно штурмовали советские укрепления, пытаясь прорвать наш фронт. За танками следовали крупные силы немецкой мотопехоты. Наши войска отбили все атаки противника и прочно удерживают свои позиции. На отдельных участках несколько групп немецких танков, по 15–30 машин, прорвались через боевые порядки наших частей в глубину обороны. К исходу дня все прорвавшиеся танки были уничтожены. Среди подбитых и уничтоженных немецких танков более сорока танков типа „тигр“».
— Почему ты думаешь, что это о нас?
— Милый Вольёдя, но ведь о «тиграх» упоминается впервые!
Да, о «тиграх» упоминалось впервые. И это тоже наводило на размышление. Следовательно, новое оружие против этих пугающих, стреляющих и давящих все живое самодвижущихся металлических коробок признано настолько эффективным, что о нем, конечно, не называя его, уже можно объявлять вслух. А если это так, то немецкая похвальба любым «сокрушающим», «грозным», «тайным» оружием уже не будет приниматься с испугом, и, может быть, даже союзники поймут, что им пора вступать в эту войну. Ведь после поражения в Дьеппе, как будто нарочно организованном, чтобы сообщить немцам и всему миру о своей слабости, они еще и пальцем не шевельнули, чтобы помочь нам…
— А все-таки мы молодцы! — резюмировала Вита, дочитав сводку.
— Не мы, а Советский Союз — молодец! — остановил ее муж.
— Но и мы!
И он согласился с нею.
Гул сражения приближался к Прохоровке. Однако в резервных подразделениях войск все было спокойно, хотя отдельные группы немецких танков прорывались довольно далеко в советские тылы. Но эти тылы, начиненные средствами противотанковой обороны, как слоеный пирог, поглощали блуждающие машины и сопровождавшие их десанты автоматчиков.
За восьмое, девятое и десятое июля сводки Совинформбюро ежедневно насчитывали по двести с лишком уничтоженных немецких танков, по сотне, а в иные дни до двухсот самолетов. В шифровках полковника Кристианса назывались все новые и новые танковые, мотопехотные и просто стрелковые полки и дивизии, вводимые противником в бой. Порой казалось, что Гитлер бросил в эту мясорубку все свои резервы. Однако же противник все теснил советские войска. Уже от Томаровки до Прохоровки немцы врезались клином в расположение советских войск со стороны Белгорода, уже и со стороны Орла они пробились мимо Малоархангельска, почти до станции Поныри, и хотя эти новые немецкие «плацдармы» имели в глубину — с юга — от двадцати до сорока километров, а с севера — от десяти до двадцати километров, что по сравнению с их прежними победами было ничтожно малой величиной, все-таки они могли бы трезвонить об успехе, как бывало раньше, однако они молчали. И это затянувшееся молчание лучше всего доказывало, что они уже и сами не очень верят в успех своего летнего наступления, на которое возлагали такие надежды…
И все-таки они наступали…
По мере развития этого боя, этого руками людей созданного грома, превышавшего по мощности обычные летние грозы в этих местах, по мере скопления в атмосфере туч пыли, угарных газов, сама природа словно бы видоизменялась. По вечерам над полем боя появлялись зловещие зарницы фиолетового цвета, с самого утра сгущались тучи, закрывая солнце, умолкли птицы, перестала выпадать роса, сохла трава, и неубранный хлеб осыпался мелким зерном, желтели ничтожно малые яблоки и падали в сухую пыльную траву, жалко дробясь под каблуками военных сапог, вода в колодцах опустилась так низко, что привычные цепи на «журавлях» над колодцами стали коротки, солдатам приходилось надвязывать их ремнями, вожжами, подобранными в брошенных домах веревками. Но и вода была мутной, горькой, как будто постоянное сотрясение земли возмутило всю природу, взбаламутило весь осевший на дне колодцев ил. Речки в расположении сражающихся армий стали пересыхать, как будто железные чудовища выпили всю воду. Ветер приносил не освежение, а душно-сладковатый запах пороха, человеческого праха, отработанного бензина и соляра, сгоревшего металла. И все это были запахи не мира, но войны…
На седьмой день этого непрерывного напряжения Вита превратилась в тень. Запавшие глаза словно утонули в черных кругах. Она почти не могла есть, и если Толубеева не было рядом, то и не ела, только жадно пила горькую мутную воду, в которой уже появился солевой привкус, как бывает, при засухе. Но если Толубеев оказывался в час обеда рядом, она послушно жевала что-то, уже не имевшее для нее ни вкуса, ни запаха. И Толубеев понимал — ест она только потому, что боится: ее сочтут больной и отправят в Москву…
Одиннадцатого гул боя приблизился настолько, что казалось, танки противника вот-вот вырвутся из-за соседних холмов. Однако командование молчало. Приехал полковник Кристианс, — как понял Толубеев, — проверить готовность, а, может быть, просто успокоить его, — все, мол, идет по плану… Но можно ли планировать степень поражения? Ведь бывало и так, что спланированная битва вдруг превращается в хаотическое бегство…
Кристианс, как видно, понял его невысказанные мысли.
— Немцы усиливают нажим. Но в их штабах уже властвует неразбериха. Связь между армиями, дивизиями и полками постоянно нарушается. Наши «слухачи» то и дело принимают переданные открытым текстом просьбы о поддержке. В гитлеровской ставке примерно такое же положение: только что снят с поста командир второй танковой армии генерал-полковник фон Шмидт. В середине сражения Гитлер пытается менять генералов, как это было во время Сталинградской битвы… А вот и еще один радиоперехват… — он достал машинописный лист и передал Толубееву: — это их оценка нынешнего боя…
Толубеев прочитал:
«…земля дрожит и гудит, о сне нечего и думать. Фонтаны грязи взлетают в воздух, едва узнаешь лица. Здесь совершенно глохнешь, нельзя уже различить отдельные выстрелы и отдельные разрывы… За один день было израсходовано столько боеприпасов, сколько ушло на всю польскую кампанию, на другой день выпущено столько снарядов, как за всю французскую кампанию…».
Кристианс аккуратно сложил листок, убрал, потом спросил:
— А как вы сами оцениваете результаты их наступления?
— Но они все равно продолжают наступать! — воскликнул Толубеев.
— Да, — хладнокровно сказал Кристианс. — Очень похоже на игру их излюбленного музыкального инструмента— аккордеона: сначала аккордеон растягивается, потом сжимается. Но музыка, которую они играют, заказана нами!
— А люди! Люди! — у Толубеева перехватило голос.
— Что ж, в таких сражениях наступающие несут больший урон. Наших солдат бережет земля-матушка, а немцы на виду. Но если мы их не остановим и не разобьем сейчас, придется воевать еще лишний год!
Толубеев умолк. Он уже примечал и раньше, что полковник словно бы воспитывает его, приучает мыслить другими масштабами и понятиями. Как будто он назначен политкомиссаром к молодому командиру. И подумал: я и верно молодой командир. Всех моих знаний хватит, может, на роту, отсюда и мой кругозор. И тут же решил: когда этот бой кончится, я попрошу себе батальон, а бригадой пусть командует более опытный, волевой командир. Сам Толубеев всегда будет помнить о каждом отдельном бойце как о человеке. А командир крупного соединения должен, как видно, думать количествами.
Но и Кристианс умолк. Может быть, и ему представились судьбы отдельных людей, ведущих это сражение. И сколько человеческих судеб кончалось в это мгновение в тяжких страданиях или внезапным падением на пыльную землю, молниеносным переходом из бытия в небытие. Тогда уж лучше внезапно и бесчувственно.
Их молчание прервал шифровальщик: ночью бригада должна была выйти на боевые позиции.
2
«12 июля наши войска продолжали вести бои о противником на Орловско-Курском и Белгородском направлениях. Особенно упорные бон шли на Белгородском направлении.
Нашими войсками на Орловско-Курском и Белгородском направлениях за день боев подбито и уничтожено 122 немецких танка. В воздушных боях и зенитной артиллерией сбито 18 немецких самолетов.
По уточненным данным, за 11 июля на Орловско-Курском и Белгородском направлениях в воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбит не 81 немецкий самолет, а 71 самолет противника».
Совинформбюро. 12 июля 1943 г.Утро двенадцатого июля Толубеев встретил на командном пункте пехотной дивизии, прикрывавшей Прохоровку с юга.
Тяжелый танк командира бригады и связная «тридцатьчетверка» были замаскированы в небольшой дубовой роще у подножия холма. Вместе с Толубеевым на КП поднялись его радист, Кристианс и Вита. Вита надеялась опросить пленных, и, хотя это был несостоятельный предлог, Кристианс поддержал ее. Толубеев понял: просто побоялся оставить ее без присмотра, а тут, — как, должно быть, надеялся Кристианс, — при посторонних она будет спокойнее.
Одиннадцатого июля немцы с двух направлений прорвались к Прохоровне. Все их усилия прорваться западнее, под Томаровкой, не удались, и теперь они переменили направление удара, пытаясь выйти «на оперативный простор» восточнее Прохоровки с последующим ударом на город Обоянь. Командир дивизии показал карту с последними изменениями на фронте перед дивизией, и Толубеев перенес его отметки на свою карту.
Огромное поле сражения, затянутое не столько туманом, сколько гарью и пылью, было пока безмолвно, только изредка ухали тревожащие минометы, единственной задачей которых было не давать противнику покоя. Толубеев почему-то вспомнил «Слово о полку Игореве», когда воинов закрыло тьмой солнечное затмение, заметались птицы и звери, и таинственный Див закликал с вершины дерева, предупреждая Волгу и Поморье, Корсунь и Тьмуторокань о походе русских воинов…
Измученный, усталый командир полка, приютивший их в своем КП, все-таки заметил Виту и любезно уступил ей свое место у стереотрубы. И она впервые увидела поле боя…
Ни та, ни другая сторона не рисковали убрать с поля боя сожженные за эти несколько дней танки. Они так и стояли сизыми железными памятниками. Впрочем, теперь они служили отличным укрытием для пехотинцев, и, может быть, за одним из них укрывались просочившиеся ночью немцы, а за другим — русские, которые готовились выдержать новую атаку.
Все это объяснил Вите командир полка, потом отошел, присел на пустой снарядный ящик, прислонился к стене и сразу заснул.
Но Вита уже ничего не видела, кроме того, что именовалось «поле боя».
Странное сочетание этих слов вызывало в воображении поле, заселенное людьми так же тесно, как поле жатвы. И Смерть с косой на плече, приготовившуюся к косьбе на этом поле. Вита невольно вздрогнула, оторвалась на мгновение от стереотрубы и взглянула на мужа. Он спокойно разговаривал с командиром дивизии и Кристиансом. Возможно, они как раз обсуждали, в каком месте удобнее вырваться с тяжелыми танками и попасть под косу Смерти.
Но они были спокойны, и Вита снова прильнула к окулярам.
Между тем там, на поле боя, начиналось какое-то неясное движение. Сначала это были просто тени, может быть, души убиенных? Но командир дивизии вдруг шагнул к телефону и приказал кому-то: «Огонь!»
Послышались частые минометные выстрелы, но тени все сгущались, их становилось все больше, — Вита поняла: немецкие пехотинцы скапливаются в покатой лощине для атаки, и редкие мины, падающие с гулким уханием в эту лощину, не достигают до них. Командир дивизии, вернувшийся к стереотрубе, что-то крикнул, командир полка, мгновенно проснувшийся при первом минном разрыве, схватил трубку, сказал в нее какое-то слово, «молодцы» или «огурцы», и тут из-за редкой дубовой рощицы с диким ревом понеслись над самым полем боя длинные хвостатые молнии из синего огня и черного дыма, и в лощине вспыхнул грохочущий пожар, закрывший все пространство впереди огненной пеленой. И Вита поняла: это были советские «катюши»…
Немецкие орудия открыли яростный огонь по дубовой рощице, и Вита подумала: там уже никого нет в живых. Но живых не было в лощине, там еще дымилась земля, но никто не бежал, не выскакивал из этого дымного пламени, а радист, сидевший со своей рацией в уголке, что-то услышал в эфире, доложил командиру дивизии: «Дивизион РГК занял вторую позицию!» И в голосе его слышалось такое торжество, что Вита поняла: ракетчики сразу после залпа переменили позицию, и теперь обозленные внезапным налетом «катюш» немцы бьют по пустому месту.
И тогда появились тяжелые танки противника.
«Танки Дальнего Действия, гор громоносных гряда…» — вспомнила Вита какую-то строчку русских стихов.
Даже из безопасного укрытия было странно и страшно наблюдать это тяжкое, землеколеблющее движение сотни, а может, и двух сотен машин, шедших клином, все расширяющимся по мере того, как танки выкатывались из междухолмий и лощин, в которых они скрывались до начала атаки.
Они шли, не стреляя, как будто сидящие в них люди считали себя неуязвимыми и презирали жалкие окопчики русских, их мелкие траншейки, их пушки. Шли они железным клином, как когда-то немецкие, закованные в тяжелую броню конные рыцари наступали на плохо вооруженных шведов, датчан, поляков и русских, — да, русских, но ведь и тогда русские остановили их железные клинообразные орды на Ладожском озере простыми топорами, и под Грюнвальдом литовцы, поляки, чехи и те же русские остановили их железные орды топорами и косами, насаженными на длинные деревянные рукояти, так неужели сейчас эта клинообразная «свинья», как называли такое построение сами немцы, прорвется сквозь эти окопы, траншеи, пушечные батареи и раздавит тут всех и все?
Она оглянулась на мужа, но тот уже оторвался от амбразуры, взглянул на Кристианса, на командира дивизии, вдруг шагнул к Вите, сильно обнял ее и поцеловал, и странно бледный, но спокойный, с веселыми глазами, спрыгнул в траншею, а за ним спрыгнул его радист, и они исчезли.
Немецкие танки шли на небольшой скорости, они разыгрывали «психическую» атаку, они пытались подавить воображение русских солдат своей мощью, тяжестью, неуязвимостью, но вот задние ряды танков начали накатываться быстрее, и теперь уже образовалось два клина, три клина, а острие первого построения, казалось, нависло над передней траншеей, над мелкими, наспех вырытыми окопчиками охранения, и тогда танки открыли огонь, буравя русские позиции взрывами снарядов, всплесками пламени, грохотом взрывов.
И в это время заговорила русская артиллерия.
Эти бесстрашные артиллеристы, на руках выкатывавшие противотанковые пушки для стрельбы прямой наводкой, знали свое дело. Прямо перед собой, у подножия холма, Вита увидела, как часто затряслось от выстрелов небольшое орудие, как три или четыре солдата быстро-быстро задвигались около него, и головной немецкий танк вспыхнул, прошел еще несколько метров и замер, все сильнее разгораясь темным фиолетовым огнем. И в ту же секунду другой танк наехал на пушку, на людей, а когда он повернул вдоль линии траншей, на этом месте уже ничего не было: помятый ствол орудия, какие-то мокрые комья на земле. Но и этот танк недолго праздновал свою победу: из земли поднялся человек и швырнул в него что-то блеснувшее на солнце, и танк завертелся на месте, как вертится пришибленная собака. Но и человек упал и больше не поднялся.
Немцы, видно, определили, что на холме находится наблюдательный или командный пункт, потому что в подножие холма густо посыпались снаряды, и разрывы их все поднимались, уже с потолка текла земля, уже застучало по бетонным плитам осколками, и Кристианс взял Виту за руку и увлек за собой в запасное укрепление, а командиры остались в разрушаемом блиндаже, вокруг которого грохотала железная буря.
Они пробежали по глубокой траншее метров пятьдесят, и Кристианс ввел ее в другой блиндаж. Тут было попроще, потеснее, не было стереотруб, но монолитные амбразуры позволяли видеть поле боя. У одной из амбразур стоял майор, он оказался командиром другого пехотного полка, был тут и телефонист, и радист, и кто-то подал Вите бинокль, и она снова прильнула к амбразуре. За ее спиной полковник Кристианс тихо переговаривался с майором, и Вита, холодея от страха, услышала:
— Да, группа танков прорвалась, пятнадцать или двадцать машин…
Но офицеры говорили об этом так буднично-спокойно, словно речь шла о визитерах, пришедших нежданно-негаданно, но их тоже нужно принять достойно, и она также внезапно успокоилась: полковник Кристианс опытный человек, он сделает все, что надо. Ее душа опять была на поле боя, рвалась вслед за мужем, и тут она увидела его…
Конечно, она увидела не Толубеева, а его тяжелые танки. Они выходили со стороны невысокого еще солнца, с востока, и шли не клином, а лавиной, чтобы было удобнее, как поняла Вита, стрелять по немецким танкам. Они шли в правый фланг немецкому танковому клину, и немцы еще не видели их.
Тяжелые танки Толубеева быстро сближались с немецкими «тиграми», и Вите показалось, что они уже смешались с машинами противника. Тут немецкие танки развернулись по чьему-то приказу против нового врага, и оказалось, что их отделяют от русских танков еще триста или пятьсот метров. Но «ИС», вооруженные тяжелыми пушками, все шли на сближение, непрерывно стреляя, и вот вспыхнул один немецкий танк, второй, третий… Они пылали сизыми факелами под неярким утренним солнцем, и никто не выскакивал из них, не бежал по пустому полю. Но и в полку Толубеева уже вспыхнули несколько машин, вдруг останавливаясь после быстрого бега и замирая тяжелыми глыбами.
Но остальные «ИС» продолжали свой бег, рассекая немецкую колонну, а из дубовой рощи ударили самоходные пушки и противотанковая артиллерия, слева вырвались нестройной шеренгой «тридцатьчетверки», откуда-то из-за холмов показались еще две колонны тяжелых танков «ИС», и Вита со страхом увидела, как теперь уже две или три сотни машин одновременно стреляли, сходились и расходились на этом видимом пространстве, и ей показалось, что под ногами у нее качается земля, что грохот выстрелов и рев моторов возносятся до самого неба…
Она все пыталась отыскать и никак не могла найти командирский танк мужа с белой, крупно нарисованной на бортах цифрой «10», потому что «ИС» продолжали двигаться уже в самой гуще этого машинного боя, рассекая колонну «тигров», скрытые машинами врагов и черной пеленой боя от глаз Виты.
Но вот «ИС» разрушили немецкую железную «свинью» и сразу развернулись в две стороны — фронтом к еще шевелящимся и ползущим половинам чудовища, и Вита различила машину мужа. Толубеев теперь оказался на самом левом фланге колонны тяжелых танков, что ринулись уже с тыла на атакующие немецкие машины, прижимая их ближе к артиллерийским позициям русских, а вторая колонна преследовала отступавшие «тигры», и там, и тут все время вспыхивали фонтаны огня и земли, и там, и тут горели или останавливались, как вкопанные, немецкие танки и русские танки, но разорванное немецкое железное чудовище больше не могло срастись, и разрыв между отступающими и прижимаемыми к советским долговременным укрепленным позициям танками все расширялся. Иной немецкий танкист, уразумев, видно, что ему грозит быстрая гибель, вдруг разворачивался и шел назад, но тогда один, два или даже три из наших «ИС» бросались к нему, и он либо снова поворачивался и отступал еще ближе к русским позициям, либо продолжал пробиваться обратно, к своим позициям, но тут же замирал на месте, или вспыхивал, как вспыхивает бенгальский огонь детской елочной хлопушки.
Она потеряла танк мужа, а когда снова поймала его в перекрестье бинокля, вся судорожно сжалась. Пушка на танке торчала наискось, по-видимому, заклиненная прямым попаданием снаряда, и к нему подбирался «тигр» со свастикой и дубовым листом на броне. «Тигр» непрерывно стрелял, танк Толубеева со свернутой пушкой без выстрела шел на сближение с «тигром». Вита ничего не могла понять, губы ее беззвучно кричали: «Беги! Беги!» — но танк мужа все приближался к «тигру» и тут внезапно ринулся вперед и всей своей мощью ударил «тигра» в правый его борт…
Вита вскрикнула, как будто эта мощь многотонного удара пришлась по ее усталому, измученному сердцу или она сама нанесла этот удар и теперь умирала, истощенная последним усилием. Полковник Кристианс бросился к ней, выхватил из ее рук бинокль и прижался к амбразуре.
Она и без бинокля увидела, что у «тигра» сбита гусеница, но и «ИС» встал неподвижно, и ни из «тигра», ни из машины мужа никто не выходит.
Вокруг двух столкнувшихся машин образовывалась пустота, как возле гробов с покойниками: живые машины продолжали бой и передвигались к позициям, а погибшие, — то там, то здесь, — и немецкие и русские, — оставались на ноле неподвижными глыбами металла, но то из одной, то из другой вдруг выскакивали люди, иные в горящей одежде, другие — с оцепенелым однообразием движений, — но они еще жили, — катались по земле, сбивая с себя пламя, или шли к советским окопам с поднятыми руками, или бежали за этими, сдающимися, с автоматами в руках, но они жили, а две машины, сцепившиеся в жестоком столкновении, стояли неподвижно, и никто из них не появлялся. Тогда Вита с ожесточением крикнула полковнику Кристиансу:
— Что же мы стоим? Ведь тут рядом связной танк!
Он попытался схватить ее за руку, но она уже нырнула в знакомую траншею, побежала, слыша за собой догоняющий топот подкованных сапог, но не обернулась, страшась, что полковник схватит ее, остановит и не даст ей выполнить главное дело ее жизни, ибо без Вольёди ей больше нельзя существовать.
Она все опережала полковника, ведь она была молода, тренирована, а он стар, как ей казалось, — наверно, ему уже было больше сорока, и вот перед ней уже рощица, теперь с обитой листвой, со сломанными стволами, с перекореженными сучьями. И тут она увидела «тридцатьчетверку», в которой приехала на наблюдательный пункт вслед за танком мужа, и застучала по броне попавшим под руку камнем. Водитель открыл верхний люк, и тут она услышала отчаянный голос Кристианса:
— Вита, подождите, я — с вами! Вы же ничего не сможете сделать одна!
Мельком оглянувшись, уже влезая в люк, она увидела, как Кристианс машет ей автоматом, и подумала: «Он не застрелит меня! Или он поедет со мной, или я отделаюсь от него!»
Она хлопнула водителя по плечу, приказывая ехать, и Кристианс каким-то немыслимым прыжком оказался сзади нее. Мотор ревел, и она больше ничего не слышала и не хотела слышать. Тут Кристианс положил перед водителем танка развернутую карту местности, и она увидела пометки: «Отдельное дерево», «Ветряная мельница», «Холм», и холм был помечен крестом, а затем ломаную линию, сделанную толстым карандашом, и только тогда поняла, что полковник показывает водителю проход в минном поле. Она как-то и не подумала, что в своем нетерпении заставит водителя бросить машину на полной скорости через минное поле, и теперь благодарно кивнула полковнику. А водитель уже ориентировался на местности, разыскивая это отдельное дерево, эту ветряную мельницу, от которой давным-давно остался только фундамент в три наката бревен.
Но ее нетерпение, ее страстная молитва помогли ей увидеть эти незначительные приметы, которые понятны только с земли и только пешеходам, тем самым саперам, что ставили тут мины и должны были бы провожать постороннего человека тихим шагом, след в след через эти проходы. И водитель, повинуясь ей, резко вывернул машину возле холма, и тут Вита увидела поле боя снова, но теперь это было полем боя и для нее, потому что полковник Кристианс вдруг прильнул к пулемету, и она заметила впереди ленточку пыли от пуль, а за этой ленточной бежали им навстречу немецкие пехотинцы с разбитых бронетранспортеров, бежали в атаку, так как их уже отсекли от танков, и им некуда было больше бежать, как вперед, — а вдруг они еще победят? И «тридцатьчетверка» казалась им нестрашной, потому что они только что увидели сражение тяжелых танков и самоходок, и они все бежали навстречу танку, и только пыльная полоса, взбиваемая пулями уже не перед ними, а среди них, заставила их повернуть вправо, оставив с разметанными руками пять или десять человек в серо-зеленых мундирчиках на пути «тридцатьчетверки».
И тут Вита увидела тот танк и танк мужа. Она увидела их снизу, с поля, и «тигр» показался ей чудовищно огромным, а приземистый неподвижный и безжизненный танк мужа очень маленьким. Но больше всего ее напугало то, что «тигр» начал оживать: у нее на глазах медленно приподнялся верхний люк, и в отверстии показался человек в офицерском мундире. Он только взглянул на поле, увидел мчащуюся прямо на него «тридцатьчетверку» и тут же нырнул в танк. И тогда вокруг «тридцатьчетверки» поднялся шквал из земли и стали — немцы пытались расстрелять ее.
— Направо! Направо! — резко и гневно скомандовал Кристианс, и водитель подчинился этому приказу, а Вита только тут поняла, что они ушли из обзора танкистов, и Кристианс снова прильнул к пулемету.
Водитель резко затормозил рядом с «ИС», но Кристианс приказал ему податься назад, — ему было нужно видеть и верхний люк танка и нижний, — и водитель подал машину обратно, а Вита выскочила и бросилась к танку мужа. У нее ничего не было в руках, и она попыталась стучать по броне кулаками, пока Кристианс не бросил ей сумку с инструментами.
Вита выхватила какой-то тяжелый ключ и принялась выстукивать выученный когда-то радиосигнал: «Вита!» «Вита!» «Вита!» Больше она ничего не умела выстукивать радиосигналами, но ведь этот сигнал ей показал он, Вольёдя, и он должен понять, что рядом с ним не враги, а она, Вита…
Пророкотала очередь из пулемета Кристианса — это опять начал оживать немецкий танк, и Вита принялась еще сильнее бить по неподатливому металлу: «Вита!» «Вита!» «Вита!» — и тогда нижний люк отвалился, и она увидела измученные глаза Вольёди под окровавленной шапкой волос. Он смотрел ничего еще не понимающими глазами, а раненый водитель все пытался спустить его вниз, на землю.
Кристианс выскочил из «тридцатьчетверки» и помог Вите вытащить Толубеева, который тут же рухнул на землю. Кристианс поднял Толубеева на руки.
Он был бледный, худой, как в тот странный день, когда она увидела его в усадьбе на берегу озера Треунген, и Вите показалось, что она и одна подняла бы его в танк, по Кристианс не поверил в ее силы и сам втиснул его на сиденье. Потом они подняли водителя, — этот был хоть и невелик ростом, но плотен, тяжел, и Вите показалось, что они никогда не справятся с ним, но они уложили и его. И тогда Кристианс подошел к немецкому танку и постучал.
Он стучал долго, и, как поняла Вита, тоже какой-то радиоприказ, а она сидела за пулеметом, боясь, что вдруг люк внизу откроется и она не сможет выстрелить по человеку. Но открылся верхний люк и оттуда на землю упали три автомата, потом — два пистолета, потом — сумка с документами, и только тогда показались поднятые вверх руки. Но немцу было трудно вылезать с поднятыми руками, и он умоляюще крикнул:
— Мы сдаемся! Сдаемся!
Кристианс мотнул головой, и они начали вылезать один за другим, их там осталось в живых трое, в этой металлической коробке, и становились рядом, а Кристианс обшаривал их — нет ли спрятанного оружия. Потом он приказал им уцепиться за скобы для десантников, швырнул их оружие под ноги Вите, и «тридцатьчетверка» заюлила между сраженными танками и самоходками, и опять Кристианс мотнул головой, указывая на карту с проходами через минные поля, сказав:
— Осторожно! Мина взрывает и чужих и своих!
Сам он стоял в открытом люке и следил за немцами, которых качало на броне. Но они уже смирились со своей участью и совсем не хотели воевать.
Водитель остановил танк у первой траншеи. Навстречу бежал майор, командовавший полком, по траншее бежал из полуразрушенного командного пункта командир дивизии, какие-то люди с сумками на плече, и Вита поняла: санитары…
А совсем рядом продолжался танковый бой, а в глубине советских позиций грохотали взрывы, — там добивали прорвавшиеся немецкие танки, и были пыль в полнеба, дым, гарь, гром, и в то же время вокруг была жизнь, хотя и измученная, усталая, полная ожидания смерти. Но не всем было суждено умереть даже в этом страшном бою.
3
«12 июля наши войска нанесли мощный контрудар по вражеской группировке в районе Прохоровки. Здесь произошло невиданное по своему размаху танковое сражение. Одновременно с обеих сторон в нем участвовало более 1500 танков, сотни самоходных артиллерийских орудий и значительные силы авиации. После сражения поле боя было покрыто грудами металла. Только за один день враг потерял подбитыми свыше 400 танков. В этом сражении особо отличились бронетанковые и механизированные войска, которыми командовал генерал П. А. Ротмистров».
Очерки истории Великой Отечественной войны (1941–1945)Это им было суждено прочитать потом, много лет спустя. Но когда в тот далекий день Толубеев окончательно пришел в себя, было всего восемь часов утра, бой все еще продолжался, а его искал тот самый генерал Ротмистров, о котором потом люди будут читать в истории этой битвы. Два полка из тяжелых «ИС», вооруженных 122-мм пушками, ворвались в расположение противника, и генерал искал подполковника Толубеева, чтобы тот обеспечил начавшийся прорыв. И Толубеев, пришедший в себя, вызвал радиста, расположился рядом с медсанбатом и стал управлять боем своей бригады, а Вита, присев возле них на обрубке дерева, начала допрашивать командира танкового полка из дивизии «Адольф Гитлер», которого они с Кристиансом взяли в плен. Взял его, конечно, Кристианс, но в своем донесении назвал и ее.
Начинался перелом в одном из величайших танковых сражений века…
СВЕТ В ЗАТЕМНЕННОМ МИРЕ
1
Подполковник Масленников не любил женщин-военнослужащих. Особенно в действующей армии. И уж совсем не допускал их в отдел разведки, которым руководил.
Все радисты в его отделе были мужчины. Даже за пишущими машинками сидели усатые старшины из бывших журналистов. И почтой ведал фельдъегерь в два метра высотой и в полметра в плечах. В первый год войны это, пожалуй, было и правильно. Если случался прорыв немецких танков, отдел Масленникова в течение тридцати секунд превращался в боевое соединение и частенько выручал штаб из беды. Все солдаты и офицеры в отделе знали любое оружие и при случае могли действовать и винтовкой и пулеметом, а при особой нужде управляться и с полковой артиллерией, тем более что при прорывах противника приходилось стрелять прямой наводкой. И они стреляли до последнего снаряда, а последний снаряд чаще всего заряжает подносчик, больше у орудия не остается никого…
Однако теперь, на четвертый год войны, в подобное положение попадали только штабы противника. И чаще всего сдавались без особого сопротивления. Но точка зрения подполковника Масленникова на женщин-военнослужащих не менялась.
Сам он отдал разведывательной работе всю свою сознательную жизнь, лет этак двадцать пять. И все эти годы, едва заслышав о какой-нибудь неудаче у товарищей по отделу, злобно-презрительно повторял известную французскую поговорку: «Cherchez la femme!»[2]
У него лично неудач не случалось. Разве что незначительные. И репутация у него установилась давным-давно. Никто из сослуживцев уже и не помнил, с чего она начиналась. Да и служили с ним теперь люди молодые, не очень оперенные. Но, докладывая о результатах какой-нибудь операции по начальству или делясь опытом с молодыми сотрудниками, подполковник заканчивал свою речь всегда одинаково:
— Женщины в деле участия не принимали.
Над ним втихомолку посмеивались. Вслух вряд ли кто решился бы упрекнуть подполковника за эту невинную слабость, — человек он был весьма уважаемый. Но некоторые из молодых офицеров отдела при случае, с этакой задумчивостью на лице, спрашивали:
— А может, подполковник и прав? Есть же такое правило на флоте: не брать на корабль женщину. Или у горняков: не пускать женщину в шахту…
Вольнодумцы принимались опровергать эту домостроевскую точку зрения. Но так как женщин в отделе, благодаря стараниям Масленникова, не было, спор превращался в схоластическую болтовню, похожую на споры теологов о том, сколько ангелов может уместиться на острие иголки. А ссылаться на работы других штабов почиталось неприличным. Известно, тот штаб, в котором ты служишь, является самым лучшим из возможных…
Уже и то, что подобные споры могли возникать, что на них хватало времени, показывало: дела в армии идут отлично! И это было действительно так: армия вышла к границам Германии…
Масленников, конечно, догадывался, что такие споры за его спиной ведутся, но чужим мнением не интересовался. Он-то знал, о чем говорит! Один раз в него стреляли, — и это была женщина; другой раз пытались отравить, — и тоже подстроила женщина. В зарубежных разведках все шло в дело: соблазн, шантаж, убийство. А он предпочитая, чтобы трудное дело разведки делали мужские руки.
Сегодня Масленников был в отличном расположении духа. Он только что вернулся с передовой, где полковые разведчики проложили тропу через линию фронта, — вон она, Германия! — и показали ему через стереотрубу эту самую Германию. Багровая земля за шестью рядами колючей проволоки, поля бурого цвета, с которых так и ее был убран урожай, разбитые здания мызы Гроссгарбе, а дальше, за скатом горизонта, колокольня маленькой кирхи и монастырь — то, что осталось от бывшей крепости крестоносцев, которая именовалась Раппе… Из исторической справки подполковник знал, что когда-то это был страшный замок крестоносцев, о стены которого многократно разбивались волны восстаний литовского народа, в ворота которого уже трижды в истории вступали русские и готовятся теперь вступить в четвертый раз, и, наверно, уже В последний. Не может быть, чтобы Германии снова оставили право начинать войны…
Так вот какова была она, Германия, фюрер которой гордо провозглашал, что она завладеет всем миром и что солдаты вражеских армий ступят на ее землю только пленными, а жители других стран — только рабами…
А подполковник Масленников смотрел в стереотрубу и раздумывал о том, как перебросить туда, за линию фронта, своих разведчиков, чтобы они облегчили будущий поход армии. Все в мире меняется, пришло наконец и то время, когда шквал войны переменил направление. И фюреру уже не до чужих земель, и гитлеровцам не до владычества над миром. Возмездие близится: советские войска вышли на границу.
Масленников провел все утро на наблюдательном пункте, а в девять часов утра, когда немецкие наблюдатели, по присущей немцам аккуратности, начали завтракать, двинулся обратно. Он и сопровождающий офицер спокойно прошли простреливаемый участок и только позади услышали падение нескольких мин, а затем снова углубились в ходы сообщений, и к десяти подполковник уже вернулся в штаб.
Все эти дни подполковник испытывал живейшую радость: он ждал перемен.
Линия фронта на границе Германии, говоря штабным языком, стабилизировалась еще весной. С той поры все военные сводки касались южных фронтов. Здесь же шли только мелкие действия по «выравниванию» линии фронта, по «вклиниванию» в расположение противника, «разведка боем», то есть все те операции, из которых в сущности и состоит позиционная война, не дающая осязаемого успеха.
И лишь недавно начальник штаба фронта спросил Масленникова, готов ли его отдел к дальней разведке, а потом, по размышлении, добавил, что отдел решено усилить…
Это могло означать только одно: на участке, занимаемом армией, готовится крупная операция.
А вчера начальник штаба фронта сообщил, что направляет Масленникову обещанных офицеров и что они прибудут в отдел к одиннадцати ноль-ноль.
Масленников отпустил машину, прошел в левое крыло помещичьего дома, где разместился отдел.
Дежурный по отделу, толстенький, малорослый офицер с не идущей к нему фамилией Хмуров, почтительно поднялся, коротко сообщил, что никаких изменений за утро не произошло, Масленникова никто не вызывал, сводки получены и лежат на столе у подполковника, приезжие офицеры, которым надлежит явиться к подполковнику, завтракают, будут к одиннадцати, и выжидательно замолчал. Только на мгновение по лицу его скользнула улыбка, но улыбка могла означать и то бодрое состояние, в каком находился офицер, и надежду на близкие перемены, и, наконец, привычную приязнь к своему начальнику. Масленников молча выслушал рапорт и прошел к себе.
Подполковник просмотрел почту, сводки, разведывательные данные с разных участков фронта и, закончив эти неотложные дела, вызвал дежурного.
— Офицеры пришли?
— Так точно, товарищ подполковник.
— Пропустите.
Офицер откозырял и вышел. И опять подполковник заметил на его лице слабую тень улыбки.
Для старого разведчика это было уже слишком много. Хотя дела на фронте были и хороши, для такого отдела, как у подполковника Масленникова, рассеянно улыбающиеся молодые люди все равно не подходили. Придется, кажется, этого капитана отправить недельки на две на какой-нибудь наблюдательный пункт…
Он не успел продумать до конца свой оригинальный метод лечения молодых улыбающихся офицеров, как дверь открылась, и в кабинет, твердо печатая шаг, вошел «новенький», откозырял, щелкнув каблуками, и представился:
— Капитан Демидов. Прибыл с парашютно-десантным батальоном для дальнейшего прохождения службы.
Подполковник любил лихость и четкость движений, немногословную категоричность уставных слов и не без удовольствия рассматривал капитана. Был капитан молод, лет двадцати пяти, воевал, должно быть, хорошо, — об этом свидетельствовали орденские планки на груди.
Масленников принял из рук офицера сопроводительные документы и принялся не спеша перелистывать их.
— Садитесь, — любезно предложил он, искоса поглядывая, как офицер устраивается в кресле.
У подполковника была своя манера исследовать человека. В разведывательной службе всякий успех зависит от коллективных усилий. Но капитан Демидов держался отлично: и скромно, и в то же время уверенно. Он не развалился в кресле, но и не присел на краешек. Сидел спокойно, но мог и вскочить на ноги без лишних усилий и промедления. Одет отлично, все чисто, подогнано, но в меру, без щегольства, которое на фронте ни к чему и только отнимает лишнее время от службы или от отдыха. Глаза на смуглом лице серые, глубокие, в них виден интерес, оно и понятно — не всякому дается попасть в такой отдел…
Тут подполковник приметил, что вроде бы хвалится своим отделом, и несколько нахмурился, продолжая изучать документы Демидова.
Так. В парашютно-десантных частях капитан с первого дня войны. Принимал участие… Отлично. Участвовал в организации партизанского движения в тылу врага в Белоруссии. И сам родом из Минска. Понятно.
Дальше шли данные о новой части, которую привел капитан Демидов. Идея затребовать десантников-парашютистов принадлежала подполковнику. Ему же придется подготовить парашютистов к той роли, которую им предстоит выполнить. Да, он рад. Очень рад! Если судить по капитану, то батальон должен быть обстрелянным. Солдаты всегда похожи на своих командиров. Естественно, каков учитель, таков и ученик…
— Где расположили ваше хозяйство, капитан?
Демидов ответил.
— Меры к охране порядка и секретности приняты?
Демидов изложил перечень принятых мер.
— Отлично, — похвалил подполковник. Ему очень хотелось сказать что-нибудь приятное этому понравившемуся офицеру.
Он встал, открыл сейф и вынул оттуда альбом, обычный альбом в сафьяновом переплете, в каких тысячи семейств хранят фотографии. Но по тому, как осторожно, с внутренним колебанием, выкладывал подполковник этот альбом перед Демидовым, было понятно, как дорог он начальнику отдела.
— Здесь собрано все, что мы знаем о том участке, на захват которого будет нацелен ваш батальон. Нас больше всего интересует мост. Хозяйство ваше расположено в месте, которое очень похоже на интересующий нас участок. Река у вас тоже есть. Завтра вы займетесь строительством полигона, макетов и начнете учебные занятия в приближенных условиях. Просмотрите этот альбом.
Подполковник заметил, как напряглось и отвердело лицо офицера. Он взглянул на его руки: пальцы бережно отстегивали бронзовые пряжки переплета. Вот капитал увидел первую фотографию, и взгляд его словно бы застыл в неподвижности, — так замирает фотообъектив, вбирая в себя то, что требуется запечатлеть.
Демидов действительно запечатлевал.
Перед ним была фотография мирного городка с островерхими крышами, со множеством вывесок, даже немецкие буквы прочитывались на этих вывесках. Узкая, старинная улочка со множеством лавчонок и магазинов переходила в мост, вписанный в городской пейзаж своими древними башнями сторожевых ворот на концах моста, — тут, должно быть, размещалась когда-то рыцарская охрана, собиравшая пошлины за проезд по мосту и охранявшая его от нападения. Мост был длинный, он уходил в перспективу, и две сторожевые башни того конца выглядели совсем маленькими. Снимок был довоенный, из тех, что делается для туристов, только увеличенный нынешним фотоаппаратом, так что рябью проступило зерно пленки.
На снимке неподвижно замерли бюргерские пары: мужчины в котелках и дамы в длинных юбках; извозчики с плоскими пролетками, неуклюжие автомашины начала века. И эту старинную фотографию подполковник Масленников вручил как документ, как план к действию. Капитан невольно задержал дыхание, затем медленно вздохнул и весь как-то расслабился.
Масленников наблюдал.
Нет, этот парень все-таки не промах! Вот он опять напружинился, быстро вынул фотографию из альбома и перевернул ее. На обороте было все пусто и чисто. Даже название фирмы, выпустившей эту carta postale, и название города были тщательно счищены, очевидно, бритвой.
Демидов быстро перевернул следующую страницу.
Это был тот же мост, но уже в новой одежке. Вместо брусчатки улицы залиты асфальтом, сам мост тоже заасфальтирован, но башни те же, даже ракурс снимка тот самый, вон и похожие вывески. Только на иных готический шрифт заменен но во германским да извозчиков не видно, зато много машин, застывших в своем прерванном движении.
Теперь Демидов листал альбом безостановочно, стараясь сразу охватить все. Это правильно. Для изучения деталей времени у него вполне достаточно. И он, конечно, понимает, что подполковник даст ему все возможные справки.
Но вот Демидов покончил с фотографиями и перешел к другому разделу: печатным данным. Он понимал, что название реки и городка выпущено сознательно, но это он успеет установить и по карте. Как ни много за линией фронта таких городков и таких мостов, понять, какой из них интересует штаб армии, можно. Демидов интересовался главным: глубиной реки, судоходством, длиной моста, населенностью городка, тем, что могло помочь или помешать при исполнении задачи, которая ему предстоит. Отдел Масленникова потратил много сил, чтобы собрать эти данные, и Масленников относился к этому альбому как к самому дорогому детищу. И невольно крякнул, когда Демидов вдруг сказал:
— Да, но все эти данные, надо думать, устарели!
Вот всегда так, эти молодые люди не умеют ценить скрупулезность! Они еще долго не научатся понимать, что разведка начинается там, где учитываются все мелочи. И Масленников довольно хмуро сказал:
— Для создания полигона этого достаточно…
— Может быть, на полигоне рассчитывать вместо танков противника на этих вот извозчиков? — спросил Демидов и снова открыл первый снимок.
— Группа разведчиков специально займется изучением этого объекта! — резко оборвал неуместную шутку Масленников. Он понимал, что хотел сказать капитан: вы, мол, опять опаздываете! Но кто мог заранее представить, как сложится конфигурация фронта в результате сложных, затяжных боев? По ту линию фронта тысячи таких городков и мостов. Только когда линия фронта определилась, стало ясно, что наше командование могут заинтересовать лишь три или четыре из них. Но об атом знали и немцы! И уж они, конечно, подумали об укреплении этих объектов! И теперь надо было обмануть врага, выбрать как раз не один из трех или четырех возможных, с точки зрения немецкого генерального штаба, а такой, который они считают мало интересным для советских войск и штабов…
Нет, этот капитан положительно перестал ему нравиться. Он требует слишком многого…
— Где я получу необходимую документацию? — вежливо, но суховато спросил капитан.
— У меня, — ответил подполковник.
Он передал подготовленный заранее пакет. Демидов расписался и тут же вскрыл широкий конверт. В нем были те же самые фотографии, но, к изумлению Демидова, мост выглядел как макет — ни одной фигурки! «А, заретушировали!» — усмехнулся он. Ну и правильно! Интересно, как стал бы его помощник лейтенант Голосков строить полигон, если бы извозчики и бюргеры остались на снимках? Из своей любви к острой шутке он, чего доброго, нарочно поставил бы чучела на мосту в котелках и широкополых сюртуках, а уж для женских манекенов подобрал бы самые длинные юбки!
— Когда вы сможете закончить строительство полигона?
Капитан подумал и твердо сказал:
— Через шесть дней!
— Ого! — подполковник усмехнулся. Капитан опять начал нравиться ему. — Вы прямо как господь бог, на все строительство нового мира отводите шесть дней!
— Мои люди имеют достаточную саперную практику, — сухо сообщил капитан.
Он не стал добавлять то, что сразу же вспомнилось ему при упоминании о саперной практике: сколько полигонов было построено его батальоном, да так и не пригодились в настоящем бою. Люди строили, обучались, готовили операцию, а потом выяснялось, что лучше парашютистов приберечь для другого дела, а задачу решали обыкновенные пехотинцы или танкисты… Еще вопрос, как его офицеры и солдаты отнесутся к новой задаче! Хотя теперь-то, может быть, как раз и приспело то время, которого они так ждут! Перед ними Германия!
Это соображение примирило его с подполковником. Прощался Демидов уже сердечно, с надеждой глядя на подполковника. И Масленников тоже примирился с насмешливым характером капитана. Пожалуй, оно и лучше! Насмешливый человек всегда умнее инертного. И быстрее решает.
Он проводил капитана и снова вызвал дежурного. И опять неприятно поразился непослушной, рассеянной его улыбке. Что-то очень уж весел этот Хмуров! И наблюдательный пункт не место для лечения такого весельчака, там слишком много впечатлений. Ему надо поручить что-нибудь попроще и поскучнее. Ага, есть!
Хмуров направился к дверям, чтобы вызвать очередного «новенького», но подполковник остановил его:
— Товарищ капитан, завтра выедете в Ашлу и устроите там дом отдыха для резерва разведки. Ясно?
Хмуров вытянулся во весь свой маленький росточек, обратил на подполковника свои вытаращенные черные глаза и громко отрапортовал:
— Есть выехать в Ашлу и устроить дом отдыха для резерва разведки! — и улыбнулся еще шире. В третий или четвертый раз и в самое неположенное время! И никакого огорчения на лице! Этого Масленников уже не мог понять! Хозяйственные поручения все офицеры отдела принимали как великое наказание. А этот только осклабился во весь рот.
— Что это вам так весело, товарищ капитан?
— Жду дальнейших событий, товарищ подполковник! — невпопад ответил Хмуров, и улыбка совсем откровенно расползлась по его широкому лицу.
Фразу его можно было толковать как угодно. Масленников и сам ждал событий. Поэтому он лишь строго приказал:
— Давайте следующего!
Дверь за Хмуровым закрылась и затем распахнулась снова. Звонкий голос отчетливо доложил:
— Лейтенант Стрельцова по распоряжению штаба фронта прибыла в ваше распоряжение!
Масленников, широкоплечий, круто сбитый, медленно поднимался из-за стола, багровея на глазах. Сначала налились кровью уши, потом щеки, и, наконец, круглая, похожая на медный екатерининский пятак лысина. Он хотел что-то сказать и не мог. А к нему бесстрашно, не обращая внимания на его гневное лицо, приближалась молодая красивая женщина в форменной гимнастерке с погонами лейтенанта, в щегольских сапожках и в короткой, с заглаженными складками юбке, причем меж подолом юбки и голенищами сапожек белела еще полоска туго натянутых чулок. Волосы ее были коротко подстрижены и уложены в замысловатую прическу.
Она свободным движением подала подполковнику пакет с сопроводительными документами, и тот, так и не успев ничего сказать, взял их собственной рукой.
Так как она выжидательно смотрела на подполковника широко распахнутыми синими глазами, словно бы впечатывая его в памяти, он, с трудом гася гнев, пробурчал:
— Садитесь.
Она легко опустилась в кресло, отвела глаза от подполковника, методично оглядела кабинет, и он недовольно подумал: «Это ведь она нарочно, чтобы не смущать меня! Вот ведь пигалица!»
Резкий протест, который подполковник никак не успел выразить, все еще душил его, комом стоял в горле, но в то же время отчетливо подумалось: «Она-то при чем? Не ее надо бранить, а кадровика в штабе фронта. Что, он не знал, куда эту пигалицу сплавить?» И Масленников более спокойно взялся за документы «пигалицы», соображая, под каким таким предлогом проще всего показать ей от ворот поворот. А молодая женщина спокойно ждала, не тревожа больше подполковника своими пронзительными синими глазами. Даже длинные ее ресницы приспустились, словно она попала наконец туда, где можно отдохнуть.
— Хм! Гм! — прокашлялся подполковник: он уже стал бояться, не потерял ли голос от этого видения. — Скажите, пожалуйста, товарищ лейтенант, что имели в виду в штабе фронта, направляя вас ко мне?
— По возвращении из госпиталя, товарищ подполковник, — очень любезно сказала женщина, — я попросила направить меня туда, где мой опыт может пригодиться в ближайшее время.
— Ваш опыт!
Он не успел исправить интонации. Восклицание прозвучало как удар. Стрельцова чуть нахмурилась, но голос ее по-прежнему звучал ровно и спокойно:
— Да, некоторый опыт. Полагаю, что в документах все сказано.
Тут подполковник вспомнил о пакете, который вертел в руках. Ясно одно: без объяснений эту пигалицу не выгонишь! Значит, надо терпеть. Пока. Повернуть ее обратно проще всего после знакомства с документами. В них всегда можно найти что-нибудь такое, что оправдает твое поведение.
Он вздохнул, взял лежавший возле чернильного прибора стилет в форме плоской иглы — самый старинный инструмент для тайного убийства, возвращенный фашистами на вооружение своих шпионов, — вонзил его в угол пакета, провел по твердой бумаге, как по маслу, и пакет распался. Стрельцова смотрела на его руки с некоторым интересом. После того как он задал первый свой вопрос, она перестала отвлекаться. Но занимали ее не руки подполковника, так как она, словно бы про себя, сказала:
— Золинген. Сталь отравлена. Вкладывается в трость, в рукоятку зонтика, в духовое ружье. — И вдруг спросила: — Разве люди Гейнца у вас бывали, товарищ подполковник?
Он в это время хмуро разворачивал бумаги и только машинально буркнул:
— Да.
И вдруг что-то вспомнил, вздрогнул, выпрямился в кресле, взглянул прямо в синие прозрачные глаза, напряженно спросил:
— А вы разве встречались с ними?
— Три месяца назад у меня из спины вынули обломок такого стилета. К счастью для меня, он уже был в употреблении, яд стерся.
Глаза у нее потемнели, над переносьем прорезались две морщинки.
— Вы были… там? — неопределенно взмахнул рукой подполковник.
— Да. В пятый раз.
Подполковник вдруг с каким-то жадным любопытством снова оглядел эту женщину. «Нет, не так уж она молода! Лет двадцать шесть — двадцать восемь. Но… пять раз! А может, вовсе и не годы наложили этот суровый отпечаток, что сейчас почудился в ней? Ведь каждое путешествие „туда“, будь оно хоть в один день сроком, стоит порой нескольких лет!»
Он опять забыл о бумагах, правда, лишь на мгновение, но в это мгновение вспомнил все, что знал о «людях Гейнца». Тайная организация гитлеризма. Нечто вроде ордена убийц. Человек присуждается к смерти именем Фемы, тайного судилища, действовавшего когда-то в средние века. Можно обойтись в без упоминания судилища. Достаточно сказать, что убитый — враг фюрера и Германии. Да и Фемы-то никакой нет. Есть обычная для гитлеризма игра в тайну. А скольким людям она стоила жизни! Бот и эта женщина… Но ведь она была «там» пять раз!
Он спохватился и, чтобы не выдать своего волнения, углубился наконец в бумаги. Ну-ну-ну! — только и мог бы он сказать, если бы в этот момент его спросили о человеке, послужной список которого он изучал.
Во-первых, ей всего двадцать три! Во-вторых, она радист и в то же время отличный фотограф! В-третьих, знание немецкого со всеми почти диалектными особенностями, кроме швабского диалекта. Провела за линией фронта в общей сложности почти два года. Пять раз переходила линию фронта, а если посчитать, что обратно тоже надо возвращаться, получится — десять раз под пулями, минами и снарядами. Да иной раз не по одним суткам, а неделями, выжидая часа, когда наконец услышит на родном языке: «Стой! Кто идет?» Ну, а там, на той стороне? Разве там не страшнее, чем просто под пулями и снарядами? Ведь пули и снаряды поминутно не падают, и у солдата бывают часы, а то и месяцы отдыха: отведут на перегруппировку, просто во второй эшелон, и человек уже счастлив! А там?
Подполковник и сам бывал «там». Он знал, как дорого обходится вечное напряжение, как трудно контролировать себя, а контролировать надо все время, даже во сне. А можно ли приучить себя даже во сне думать по-немецки?
И все-таки не лежало у него сердце к этой затее. Туда бы мужика, спортсмена, проныру… Подвел, подвел его кадровик штаба фронта!
Он не знал, что сказать этой женщине, которая, несомненно, ждала какого-то участия, хотя и сделала холодное лицо.
— Как вы устроились? — вежливо поинтересовался подполковник.
— О, в штабе много женщин, — как-то безразлично сказала Стрельцова. — Мне дали койку в общежитии врачей.
— Завтра переедете в Ашлу. Там будет наш дом резерва. Займетесь изучением назначенного для вас участка.
— Благодарю вас, товарищ подполковник.
— Можете быть свободны, товарищ лейтенант. Утром обратитесь к капитану Хмурову. Он увезет вас.
— Благодарю.
«Теперь бы ей повернуться по-уставному, щелкнуть каблуками и выйти. Но она что-то медлит. Вот в этом отсутствии автоматизма движений и сказывается женская душа. А может, у нее еще что-то есть ко мне?»
Он не ошибся. Стрельцова, медленно и ярко краснея, вдруг сказала:
— Товарищ подполковник, я замужем. Мой муж — майор Сибирцев — сейчас на офицерских курсах. Он знает, что я на этом участке фронта, и, вероятно, попросится сюда. Помогите ему отыскать меня, когда он обратится к вам…
— Сделаю все, Марина Николаевна, — мягко сказал подполковник.
Он встал, подал ей руку, позвонил Хмурову. Усмехнулся, увидев, как удивился капитан, должно быть все это время ожидавший грозы. Так вот, товарищ Хмуров, грозы не будет! Она пройдет стороной! И сказал:
— Завтра увезете лейтенанта Стрельцову в Ашлу. И чтобы там был порядок! — И снова обратился к Стрельцовой: — Ну, желаю вам успеха!
Стрельцова вышла. За ней последовал Хмуров. Больше он не улыбался. Лицо у него было растерянное. Так ему и надо! Они привыкли думать, что начальник у них грубиян и самодур. А того не понимают, что женщинам действительно не место на войне. Разве допустимо, чтобы такая женщина, как Марина Николаевна, рисковала ежеминутно жизнью, жила в подполье, переносила такое, что не под силу и мужчине, и все потому, что гитлеризм обрушился войной на весь мир. Нет, это недопустимо, и подполковник не устанет повторять это…
Он машинально вызвал штаб фронта. Только услышав голос полковника, ведавшего кадрами, понял, что его беспокоит. Сердито спросил:
— Кого это вы, товарищ полковник, направили ко мне?
— А что? — Масленников понял, что полковник усмехается в трубку, но голос звучал деловито, — Наша лучшая разведчица.
— Что, у вас мужчин не было?
— Знаете, товарищ Масленников, за эту операцию мы отвечаем вместе. И отвечаем головой! И мы достаточно долго раздумывали и взвешивали. Лучше, пожалуй, не придумаешь! Женщине сейчас даже безопаснее, чем мужчине. Так что вам следует оставить возражения при себе! — Тут в голосе собеседника зазвучал металл, и Масленников понял, что не найдет сочувствия. Он со вздохом положил трубку.
Он вдруг взял в руки стилет, которым обычно вскрывал пакеты, согнул его пополам, отпустил, послушал, как звенит сталь, даже понюхал копчик лезвия, будто надеялся распознать запах яда, которым он был отравлен, потом открыл самый нижний ящик стола и сунул стилет туда. Стилет почему-то вызывал у него нервную дрожь после слов лейтенанта Стрельцовой…
2
В конце сентября Георгий Сибирцев кончил курсы.
На курсы он попал прямо из госпиталя, едва успев залечить третье ранение. На этот раз он был ранен не опасно и был убежден, что. скоро вернется в свою часть. Да и время было удачное: начиналась весна, дивизия, в которой он служил, оставила позади бывшую государственную границу родины и освобождала Польшу, продолжая преследовать врага. Другие фронты подступили к границам Румынии. Тут бы и догнать сослуживцев, снова принять свою роту, но… командование рассудило иначе. И Сибирцев превратился в школяра на целых шесть месяцев!
Он так и не мог победить внутренний протест, — зачем это командованию понадобилось отрывать боевых офицеров от фронта, обучали бы новичков, младших лейтенантов, — и даже не радовался тому, что курсы находились в Москве. Зато в день окончания испытал настоящее облегчение. А то, что отметки он получил отличные, было привычно — ведь до войны он только и делал, что учился: сначала в школе, потом в военном училище.
Несколько дней бывшие курсанты отдыхали. Ходили в кино, слонялись по Москве до комендантского часа, отсыпались и за полгода изнурительного ученья, и за все то время, которое недоспали на фронте. Но однажды утром их построили на плацу, и пожилой генерал с красными воспаленными глазами и хриплым голосом прочитал приказ о присвоении новых званий. Список был составлен по алфавиту, читал генерал без очков, далеко отставив руку, на некоторых фамилиях спотыкался, и Сибирцев боялся, что не расслышит, когда назовут его. Но все обошлось благополучно. Генерал поздравил его с присвоением звания майора, и Сибирцев почувствовал, как заколотилось сердце. Затем наступила пауза, после которой генерал прочитал небольшое дополнение: Сибирцеву, как отличнику, предоставлялось право выбрать по его личному желанию фронт для прохождения дальнейшей службы.
Голос генерала показался Сибирцеву необыкновенно звонким, солнце — ярким, бледное осеннее небо — голубым и глубоким. И он сразу подумал о Марине: она и на этот раз оказалась права!
В последнем письме Марина сообщала, что ее перебросили в Прибалтику. Из осторожных намеков можно было понять, что она служит в штабе одной из армий. Дальнейшее Георгий может выяснить и сам. И была в письме страстная надежда, что учится он отлично: хорошо сданный экзамен поможет ему получить назначение по выбору. Вот тогда они и увидятся…
Все получилось так, как могло только мечтаться. Теперь надо было торопиться к встрече.
С документами в кармане, с надеждой на счастье в сердце ехал Сибирцев по осенней Москве к аэродрому. На бульварах женщины-дворники сгребали золотой мусор листьев и разжигали дымные костры, и город вдруг запахнул фронтовым дымком. Да и вся жизнь вокруг была суровой, военной. Проходили колонны молодых солдат; крашенные в зеленый цвет грузовики, подъезжая к светофорам, еще издали начинали оглушительно гудеть, и регулировщики торопливо включали для них зеленый свет.
Сибирцеву вдруг захотелось остановить машину, пройти в парк и еще раз вдохнуть запах увядающих листьев. Именно здесь бродил он с Мариной в памятную первую военную ночь. Утром Сибирцев должен был уйти со своей частью на фронт, а Марина, в слезах, измученная долгим расставанием, убеждала его пойти к командиру части и уговорить взять и ее. Она — радист, она может быть стрелком, ведь для чего-то проходили школьники военное дело, неужели Георгий думает, будто она и в самом деле сможет спокойно учиться в институте, когда он будет там — на фронте!
Он до этого еще не знал, как мучительны женские слезы для самого твердокаменного мужчины. Ведь Марина и он поженились совсем недавно.
На следующее утро он сделал все, чтобы добраться до командира дивизии. Наверно, не столько дипломы об окончании осоавиахимовских курсов подействовали на грубоватого командира, сколько безутешное горе молоденькой девушки. И Марина пошла на войну.
Ох, как трудна оказалась военная дорога! За четыре года войны Марина и Георгий пробыли вместе вряд ли четыре недели! Правда, другие и вовсе не видали своих близких, но у тех было утешение: большинство из них знали — другой в безопасности! А Георгий никогда не знал, чье дело опаснее…
Марина постоянно оказывалась в отлучках и, вернувшись, никогда не говорила, что это были за «отлучки». Георгию оставалось только догадываться, каково ей приходилось «там».
Но сейчас как будто наступал просвет в темном небе. Война близится к концу. Конечно, пули будут убивать и в последний день, но насколько же стало теперь легче!
Машина свернула в проезд к аэродрому мимо узких двориков, построек и огородов, маскирующих летное поле.
Георгий выскочил из машины, помахал водителю рукой и торопливо миновал вокзал. На поле он огляделся. Двадцать человек шли к деревянному барьерчику, за которым начиналась голубая дорога.
Сибирцев невольно улыбнулся: маршрут самолета стал совсем мирным, большинство пассажиров — штатские, две женщины даже с детьми. Он заметил только одного офицера, завернувшегося в плащ-палатку.
Сибирцеву захотелось сесть рядом с этим человеком. Хорошо иметь доброго спутника в дальней дороге. Он обогнал медлительных пассажиров и взбежал по лесенке за военным. Тот сбросил плащ и устраивался на одном из задних сидений. Вот он повернулся лицом к двери, приглядываясь к спутникам. Сибирцев увидел капитанские погоны, молодое открытое лицо, длинный прямой нос, серые, чуть косо прорезанные глаза, удивился и вскрикнул:
— Демидов!
Капитан неуверенно поднял голову, посмотрел на Сибирцева, и вдруг лицо его порозовело от неожиданной радости.
— Георгий! — узнал он.
Сибирцева подтолкнули пассажиры, которым он загородил дорогу. Майор шагнул вперед и попал прямо в объятия Демидова.
Стоять между спинками кресел было неловко, и друзья присели рядом, повернувшись лицом друг к другу.
Демидов изумленно, внимательно разглядывал Сибирцева. На себе как-то не замечаешь возрастных перемен, все кажется, что остаешься прежним, пока вот так не увидишь бывшего школьного друга и не откроешь по его лицу, что юность давно позади, наступила зрелость. Годы не прибавили Сибирцеву ни роста, ни полноты, он так и остался небольшим, сухощавым, похожим на подростка, но плечи стали шире, грудь выпуклее, налились тяжелой силой мускулы, а лицо прорезали глубокие морщины. Глаза ушли глубоко. Даже сквозь улыбку в них проглядывала непроходящая боль, как будто Георгию и самому было тяжело нести на плечах бремя преждевременного постарения, которое принесла война. Так, должно быть, выглядел вновь помолодевший Фауст: старость и знание жизни остались в глазах, хотя лицо и фигура оказались молодыми. Недаром говорят, что месяц войны равен году мирной жизни!
Но постепенно глаза Демидова привыкли к новому, изменившемуся облику друга. Вот уже и морщинки казались не такими значительными. Только к глазам он не мог привыкнуть, так они потемнели. Демидов с трудом удержал невольный вздох, который так и рвался из груди, потом тронул новенький погон на плече друга, коротко сказал:
— Поздравляю!
— И я тебя тоже, — ответил Сибирцев. — Ты недалеко отстал.
Демидов отвернул шинель Сибирцева, оглядел орденские планки, покачал головой:
— О, с нами, брат, не шути!
Но Сибирцев только усмехнулся да кивнул на его собственную грудь, тоже украшенную несколькими знаками отличия. Кроме орденских планок, на груди Демидова были нашивки за ранения, как и у Сибирцева, — две красных и одна золотая. Демидов понял, о чем подумал друг, неловко усмехнулся:
— Это уже просто везение. В нашем деле ранен — значит убит, а я все еще живу…
Сибирцев знал, что многие военные профессии именно таковы: если ранен, значит, убит! Например, разведчики, минеры. Но спросить, в каких частях служит друг, не успел. Демидов сказал:
— А я недавно видел Марину…
— Где? Где? — закричал Георгий, не обращая внимания на то, что почти все пассажиры обернулись на его крик.
— В разведке. На нашем фронте, — коротко сообщил Демидов. Он понимал, что это известие не обрадует друга. Марина при встрече рассказала ему, как боится за нее Георгий.
Сибирцев и в самом деле умолк. Скулы напряглись, резко выступили буграми.
Демидов тоже молчал, с сочувствием поглядывая на Георгия.
— Что же, ты не мог остановить ее? — сухо спросил Сибирцев.
— Да разве ее остановишь? Я и не знал ничего, пока не встретился с нею. Но ты только подумай, ведь она на пороге Германии!
— Не все ли равно, где убьют! — махнул рукой Сибирцев.
— Ну нет! Я, например, счастлив, что дожил до того дня, когда мы подошли к Германии. И мне жаль тех, кто умер, так и не увидав врага на коленях!
Заработали моторы. Самолет пошел на старт, разбежался, оторвался от земли и стал набирать высоту. Пассажиры припали к окнам. Многие не могли сдержать удивления — под ними было поле боя.
Кругом чернели траншеи, воронки от снарядов и бомб. Среди полей так и остались стоять опаханные плугами танки, подобные валунам некоего нового гигантского ледника, откатившегося далеко на запад и оставившего их здесь ржаветь и истлевать. В некоторых местах земля была выжжена. То были квадраты, обстрелянные гвардейскими минометами, и участки, сожженные немецкими огнеметными танками. Чем дальше к западу, тем больше встречалось таких сожженных полей, тем длиннее и сложнее переплетались траншеи и ходы сообщения, видимые сверху с особенной графической четкостью, как почти никогда еще не видал их пехотный офицер Сибирцев. И он с волнением разглядывал эти следы войны, читая прошедшие здесь события во всей их взаимосвязи, как никогда не мог рассмотреть и увидеть их в бою. Там он видел незначительный отрезок пространства, ограниченный не только полем зрения, но и объемом поставленной непосредственно перед ним, офицером, задачи. Теперь же, пролетая над Ржевом, увидел он и те лесные дороги, по которым прошли легендарные гвардейцы-танкисты, чтобы ударить по тылам врага, и лесные поляны, где группировались конники, чтобы разорвать коммуникации противника. Увидел и эти коммуникации, на которых можно было с отчетливостью подсчитать все взорванные и уничтоженные мосты, потому что они теперь ярко выделялись среди пустыни своими свежими деревянными настилами и рыжим дорожным полотном недавней насыпки.
Пусто было на полях, не двигались возы с хлебом, не бродили стада, но урожай был собран, высились скирды, на токах работали молотилки, иногда виднелись группы людей с цепами в руках. Они стояли по четыре вдоль длинных рядов снопов и молотили вручную.
Самолет шел низко, на высоте примерно трехсот метров, как будто летчики решили показать пассажирам все, что оставила война на этой темной, суровой земле. И, охватывая взглядом окрестности, Сибирцев видел, что новая жизнь постепенно побеждает смерть. Он то и дело замечал новые крыши, белые, чистые, и казалось даже, что стоит открыть окно самолета, как донесется запах свежераспиленного дерева.
Вдруг все побелело. Самолет вошел в полосу тумана. Пассажиры оторвались от окон, поудобнее устраивались в креслах.
— Где же ты воюешь? — спросил Сибирцев, повернувшись к Михаилу.
— В особой ударной Второго Прибалтийского.
— А часть?
— Я теперь парашютист… — несколько смущенно ответил Демидов и вдруг, как бы оправдываясь, быстро заговорил: — Да ты не думай, что о нас ничего не слышно. Наши ребята воевали и в Крыму и при форсировании Днепра…
— Я ничего плохого и не думаю, — удивленно возразил Сибирцев.
Зато Демидов о своей военной судьбе думал с некоторой грустью.
О действиях парашютистов почти ничего не писали, и у фронтовиков постепенно сложилось мнение, что они не оправдали надежд. Это было и обидно, и, главное, несправедливо.
Уже второй год Демидов принимал участие в парашютных операциях, но об этих операциях ничего нельзя было рассказать, — во-первых, они были полны тайны, во-вторых, казались ему очень мелкими. А большого дела, которое вызвало бы общее восхищение, все не было. Он уже неоднократно осуждал себя за то, что пошел в парашютные части: ждал великих свершений, а получил одни огорчения.
— Вот ездил в командировку, — продолжал он после некоторого раздумья. — Подбирал пополнение. Такой народ, что ахнешь. Людям надоело сидеть по школам да на плацах. Каждому хочется в дело. А по всему видно, что дело уже близко! Ну, а ты как? Батальонный?
— Буду, если по дороге не перехватят, — сумрачно ответил Сибирцев и подумал о том, что вот и он, как Демидов, недоволен своей судьбой.
Действительно, чем кончится его представление по начальству? Пошлют ли на передовую или, сообразуясь с дипломом, оставят на штабной работе? Скажут — вы знаете немецкий и нужны здесь.
Оба замолчали, размышляя о будущем.
— Ты как думаешь добираться до фронта? — нарушил молчание Демидов.
— Голосовать придется.
— Так поедем со мной. Меня будет ждать машина, а от нашей базы не очень далеко до штаба. Как раз и хозяйство Хмурова, куда перешла Марина, возле нас…
Вот хорошо было бы! — обрадовался Сибирцев.
— Будет! — уверенно ответил Михаил. — Кстати, посмотришь, как мы живем. Курорт! — И вздохнул.
Они и не заметили, как долетели до фронтового города. Сначала показались руины, сожженные коробки вокзальных зданий, сотни остовов вагонов и паровозов, а чуть дальше — пустынные улицы, ограниченные с обеих сторон квадратами пепла и мертвого камня. Таким же увидел Сибирцев когда-то освобожденный Минск и сколько ни искал, не мог найти дом, в котором провел свое детство. Об этом подумал и Демидов, потому что вдруг сказал:
— Как в Минске!
Поздним вечером «виллис» доставил их в «хозяйство Демидова». Михаил предложил Сибирцеву переночевать, ссылаясь на то, что ночью трудно будет разыскивать хутор, где живут разведчики. Но Сибирцев не согласился.
— Ладно, пеняй на себя, если всю ночь прокружишься, — сердито сказал Демидов. И приказал шоферу: — Останешься в распоряжении майора. Да поторопись, видишь, майор собирается время обогнать!
Проплутав от регулировщицы к регулировщице около часу, они наконец разыскали затерянный в перелесках хуторок. Еще минут пятнадцать потратил Сибирцев на переговоры с дежурным штаба, который никак не хотел будить командира подразделения по требованию неизвестного офицера, не имевшего к тому же никакого предписания в их часть. В конце концов на шум вышел сам Хмуров, молодой капитан, фамилия которого никак не соответствовала широкому, веселому, хотя и заспанному его лицу.
— В чем дело, товарищ майор?
— Я хочу видеть лейтенанта Стрельцову! — сказал Сибирцев. Мысль о том, что вот сейчас перед ним появится Марина, что все препятствия уже преодолены, заставила его побледнеть.
— Никак нельзя, товарищ майор, — хладнокровно ответил Хмуров.
— Почему? Я ее муж…
— Не в этом дело, товарищ майор…
— В чем же?.. — рассердился Сибирцев.
— Лейтенант Стрельцова выбыла на задание, — все так же спокойно ответил Хмуров.
Сибирцев молча сел на стул. Хмуров стоял перед ним, поглядывая через открытую дверь в соседнюю комнату, где виднелась большая кровать, застланная сверху по-немецки периной.
Одеваясь, второпях капитан не застегнул китель и был похож почему-то на толстого добродушного доктора, спешно вызванного к больному.
— Когда она вернется? — уже тихо и спокойно спросил Сибирцев.
— Не могу знать, товарищ майор!
— Вы можете не называть точного часа, но день… Поймите, я же заехал только по пути… Я еду на фронт…
— Я понимаю, товарищ майор, но помочь ничем не могу…
— Ну все-таки, сколько мне ждать? День? Неделю?
— Ждать не следует, товарищ майор…
— Что это значит? — закричал Сибирцев, не в силах более сдержаться. — Вы понимаете, что я ее год не видел, год!
— Понимаю, — все с тем же убийственным хладнокровием ответил Хмуров. — Я не видел свою жену почти четыре года.
Сибирцев встал, прошелся по комнате. Потом, несколько успокоившись, протянул руку:
— Простите меня…
— Ничего, товарищ майор, бывает… Я передам ей, как только вернется. Передам…
Сибирцев, тяжело ступая, пошел к дверям. Рядом с ним шел Хмуров.
— Кто же знал такое? — тихо говорил он. — Пришло задание, ничего не поделаешь. А как только вернется, я скажу ей… Мы вас разыщем через отдел кадров. Вы ведь на нашем фронте останетесь?
— Да, — с трудом ответил Сибирцев.
— Вот и хорошо, вот и отлично.
Садясь в машину, Сибирцев увидел в освещенном квадрате двери широкое, полное лицо Хмурова, обращенное к нему с сожалеющей улыбкой, словно он все еще повторял:
«Вернется, скажу, как же, обязательно скажу…».
3
Офицеры, ждавшие нового назначения, разместились в бывшем помещичьем имении Озолмуйж, в тридцати километрах от передовой. Устроились они хозяйственно. Под начальством толстенького, очень подвижного и всегда веселого артиллерийского капитана Власова они заделали все пробоины, заколотили фанерой разбитые окна, повесили маскировочные шторы. Несмотря на то что комнат в помещичьем доме хватило бы на целую роту, все спали в одной, словно не могли обходиться друг без друга. Только для столовой была выделена еще одна комната — бывшая гостиная, в которой сохранилась даже мебель. Да капитан Власов, писавший какую-то работу по баллистике, устроил себе отдельный рабочий кабинет, в котором, впрочем, сидел лишь по утрам.
Эти места были освобождены несколько дней назад, и жители еще не успели вернуться, отсиживались в лесу, ожидая, когда фронт отодвинется подальше.
Сибирцева офицеры встретили радостно. Новый человек, да еще из Москвы, с курсов, — значит, предстоит долгая, интересная беседа.
Появление Сибирцева показалось старожилам резерва примечательным еще и по другой причине. Все они прибыли из госпиталей, некоторые уже недели две назад. Опытные в понимании всяких военных примет, они огорчались, что никаких надежд на крупные события пока не было. Приезд Сибирцева, направленного сюда из Москвы, прямо с курсов, был первым намеком на возможные перемены…
Сибирцеву любопытно было наблюдать, с какой ревностью следили офицеры за успехами на других фронтах. Едва получив газеты, они немедленно углублялись в изучение сводок. Все они побывали на разных фронтах, помнили наизусть двухверстки своих бывших участков и потому могли безошибочно определить по скупому перечислению населенных пунктов удачи соседей. Скоро возле карты начинался длительный спор с упоминанием высоток, хуторов, фольварков, причем выяснялось, что каждый из спорщиков имел свой собственный план наступательных операций. Так продолжалось часа два, а иногда и больше. Затем начинались сожаления, почему они застряли здесь, а не попали к Жукову, Рокоссовскому или Коневу, смотря по тому, кого из командующих фронтами упоминали на этот раз в приказах. Но Сибирцев видел: все они были страстными патриотами своего фронта. Целыми днями они изучали фронт. Казалось, дай им один только полк, или, как говорил тот же Власов, полчок, и они в пять дней возьмут Ригу и закончат операцию по освобождению Прибалтики, а то и прямо ринутся в Восточную Пруссию!
Вечером зажигали керосиновые лампы со смешными стеклами — маленький круглый пузырек с длинной и тонкой трубкой в полтора раза длиннее, чем у русских стекол. Время перед ужином было посвящено разным занятиям. Власов вычерчивал какие-то данные для своей будущей книги по баллистике, решал сложные задачи по стрельбе с закрытых огневых позиций. Старший лейтенант Ворон, двадцатидвухлетний украинец, высокий, прямой — «як тополя», — дразнил его Власов, — по два часа сидел над учебниками английского и немецкого языков, ежедневно чередуя их. По окончании войны он собирался идти в академию.
Лейтенант Подшивалов, танкист с обгоревшим лицом, писал письма. У него была самая обширная корреспонденция. Находясь в госпитале, он как-то обратился в радиоредакцию с просьбой помочь ему разыскать семью. Однако попытка эта ни к чему не привела. Родные, видно, погибли. Зато лейтенант Подшивалов получал теперь множество писем. Он возил их с собой и давал заимообразно всем, кто писем не получал. Иногда он раскладывал их и начинал читать по порядку, приглашая знакомых офицеров для сочинения ответов.
Писал он и своим коллегам по профессии. До войны Подшивалов был известным доменщиком и до сих пор хранил письма академика Бардина и мастера Коробова, с которыми задувал не одну домну на Украине и на Урале.
Танкист Яблочков с утра уходил в соседний танковый батальон и там отводил душу, принимая горячее участие в ремонте и осмотре машин. До войны он был шофером московского таксомоторного парка, офицерское звание получил за отчаянную храбрость, о ней же явственно свидетельствовали многочисленные ордена, которые он надевал только в самых парадных случаях, да еще в те дни, когда друзья делегировали его для переговоров с начальником административно-хозяйственной части или в военторг. В такие экспедиции он ходил с удовольствием и всегда успешно, так что вопросы дополнительного снабжения лежали на нем.
Из пехотных офицеров Сибирцеву понравился Серебров, бухгалтер по профессии, уже немолодой человек, призванный из запаса, очень тихий и покладистый, всегда готовый помочь товарищу. Целыми днями он читал все, что попадалось под руку. Сибирцев видел его то с томиком исследований о Пушкине, то с церковным календарем, то с уголовным романом, найденным на чердаке помещичьего дома.
Но однажды Власов попросил у капитана какую-то черную тетрадь. Серебров, смущенно покашливая, выполнил просьбу. Власов быстро перелистал несколько страниц, ища нужную ему запись. Сибирцев из-под его руки увидел тщательно выполненные наброски местностей, где, по-видимому, протекали операции роты Сереброва. На обороте этих точных зарисовок были перечислены фамилии бойцов, отличившихся в боях, указаны имена раненых и убитых, а ниже, под толстой жирной чертой, чем-то похожей на итоговую, подведены цифровые результаты боя. Строгой колонкой были перечислены подбитые танки, снятые мины, убитые немцы, и всегда сальдо этой своеобразной приходо-расходной книги было в пользу капитана Сереброва.
Этот незначительный случай вызвал у Сибирцева особый интерес к скромному капитану. Позже он имел случай внимательно изучить «кассовую» книгу Сереброва. И он убедился — капитан воевал прекрасно! В бой он вступил командиром взвода во время Курско-Орловской операции, а теперь это был смелый, думающий командир, который справился бы наверняка и с полком.
Но сам Серебров, ожидая, что его назначат командовать батальоном, говорил об этом с боязнью. Сибирцев спросил его, почему он боится повышения. Серебров ответил:
— А как же, товарищ майор, ведь батальон — это уже сложное войсковое подразделение! А если я не справлюсь? Подумайте, сколько людей под моей ответственностью?
— Ничего, — перебил его артиллерист Власов, — справимся! Теперь-то мы научились воевать! Мне вот тоже дают батальон, а уже полчок получить хотелось бы, все-таки можно больше дел наделать…
Серебров как-то даже испуганно помахал маленькой сухой рукой.
— Что ты, что ты, ведь это батальон! — Он поднял палец к уху, помахивая им и как бы прислушиваясь к звучанию слова, и вновь проговорил: — Батальон, это надо понять. А ведь я до войны только и учился что на летних лагерных сборах! Как же я буду командовать?
— Ну, знаете, капитан, — засмеялся Сибирцев, — вы такую военную академию прошли, что с вами ни один штабной не сравнится…
— Вы это серьезно говорите?
— Вполне.
Серебров подумал немного, потом вздохнул и сказал:
— Нет, все равно боюсь… — и ушел из комнаты, маленький, сухонький, склонив голову к правому плечу.
А на следующий день он был срочно вызван в штаб армии и уехал на фронт принимать батальон.
На другой день после ухода Сереброва старший лейтенант Ворон тоже добился, чтобы его отправили на передовые, и именно в батальон Сереброва. А вечером бывший шофер-лихач, а нынче отважный командир танковой роты, старший лейтенант Яблочков доложил остающимся, что за ним пришла машина — пора и ему на фронт.
4
Все разговоры о том, чтобы пойти «в полчок» или командовать батальоном, кончились. Начальство решило, что майор Сибирцев, знающий язык врага и специально обученный штабной работе, должен пойти в один из отделов штаба армии. А начальству виднее — как оно решило, так и будет.
Одно утешение осталось у Сибирцева: на этой работе он окажется ближе к Марине. Не расстоянием — оно осталось таким же далеким, — а сходством работы, общностью интересов. Теперь, казалось ему, немедленно и из первых рук получит он сведения о жене.
Но, представляясь своему будущему начальнику, он чувствовал предательские перебои сердца.
Внешний вид известного разведчика очень удивил Сибирцева. Перед молодым офицером стоял пожилой, усталый человек, с лысинкой, похожей на большую медную монету, с брюшком, откровенно выпиравшим из-под мундира. очень похожий на какого-нибудь начальника маленького треста, кабинетного деятеля, вся дорога которого — от стола до автомобиля. А Сибирцев уже был наслышан, что Масленников много работал за границей, знает четыре языка, во время войны не однажды совершал прыжки с парашютом в тыл противника… И это несоответствие между делами Масленникова и его обликом поразило Сибирцева.
Выслушав короткий рапорт молодого офицера и порасспросив его о прошлой службе, Масленников вдруг хмуро сказал:
— Вижу, наслушались баек о нашей работе! Так вот, запомните: все байки забыть, начинать с азов! За линию фронта вас не пошлют, и разоблачать вражеских шпионов будут тоже другие! Ваше дело будет тихое: получать собранные другими людьми данные и суммировать их. Тут вот в характеристике ваши преподаватели расщедрились, сообщают, что у вас развито аналитическое мышление. Вот и докажите, как оно развито…
Подполковник сел за стол и, как-то нечаянно задев локтем, повернул к Сибирцеву стоявшую на столе фотографию в рамке. На фотографии был изображен семнадцатилетний юнец, вооруженный кавалерийским карабином, с двумя гранатами-«лимонками» у пояса, в какой-то двухэтажной папахе. Сибирцев невольно уставился на фотографию. Подполковник перехватил его взгляд, усмехнулся, спросил:
— Не узнаете? А ведь это я… А для любого человека с аналитическим складом ума этот снимок — еще и диаграмма роста…
Сибирцев смиренно принял урок. Да, диаграмма была выразительной. А сам Сибирцев сейчас именно такой несмышленый юнец, какой изображен на фотографии. Но в то же время у него не было никакого желания стать впоследствии похожим на Масленникова, пусть он и трижды прославленный разведчик.
Разговор как-то оборвался, и несколько минут оба молчали. Подполковник сделал вид, что очень занят раскуриванием трубки, а Сибирцев соображал, что делать, если новые обязанности придутся ему не по сердцу.
Но вот трубка наконец раскурилась, и подполковник совсем другим тоном, как-то по-домашнему, принялся рассказывать Сибирцеву о его будущей работе. И тот невольно замер.
Каждую ночь линию фронта то тут, то там переходили разведчики. Иногда они не возвращались. Но те, что приходили обратно, приносили бесценные сведения о минных полях, об огневых точках, о системе обороны, о резервах противника. И все эти данные скапливались здесь, в центре, анализировались, перепроверялись, заносились на карты, становились точками зеркального изображения всей оборонительной системы противника.
С немецкой стороны время от времени появлялись перебежчики. Теперь, когда обещания фюрера лопались одно за другим как мыльные пузыри, неверие постепенно подтачивало воинский дух немецкой армии, и наиболее умные начинали думать о будущем… Показания перебежчиков тоже поступали сюда, но они требовали особо тщательной проверки и перекрестных опросов. Только после того, как не оставалось никаких сомнений в правильности этих показаний, они тоже становились дополнительными данными на зеркальном изображении обороны противника.
Летала воздушная разведка. Аэрофотоснимки поступали сюда. Они перепроверялись наземной разведкой и постепенно прибавляли новые данные к сумме ранее собранных.
В тылу действовала дальняя разведка. Редкие радиограммы, — за каждой неизвестной рацией немцы охотились с большим остервенением, чем за подпольными группами сопротивления, — еще более увеличивали глубину видения обороны, настроений, резервов и намерений противника.
После этого подполковник извлек из сейфа последние документы, карты, сводки и предложил Сибирцеву приступить к работе по суммированию и подбору этих материалов, что будет совсем нетрудно, «особенно если у вас действительно развито аналитическое мышление!» — не без язвительности добавил он.
Сибирцев замешкался.
— У вас есть еще вопросы, майор?
Сибирцев вытянулся, побледнев, как-то глухо сказал:
— Простите, товарищ подполковник, может быть, я и не имею права… Но моя жена служит в армейской разведке, и я хотел бы знать: когда смогу повидать ее?
Масленников испытующе глядел на новичка. Он не мог не признать, что у этого молодого майора есть выдержка. Он ждал этого вопроса с первого мгновения встречи, но офицер молчал, и Масленников подумал даже, что это просто однофамилец мужа Стрельцовой, а если и тот самый Сибирцев, то, может, не знает, где теперь служит жена, и даже собирался задать наводящий вопрос. Но нет, офицер знал и молчал. Сильный характер!
Тем более не следует ослаблять его волю.
И подполковник спокойно спросил:
— Фамилия?
— Лейтенант Стрельцова.
— Вспоминаю. Хороший разведчик. В настоящее время находится на задании. Я извещу вас, как только она вернется.
— Разрешите идти, товарищ подполковник?
— Да. И приступайте к работе.
Когда Сибирцев вышел, подполковник еще долго сидел за столом, подперев голову руками. Потом открыл нижний ящик стола, вынул оттуда заброшенный стилет, посмотрел на него и с нескрываемым отвращением швырнул обратно. Перед столом подполковника снова словно бы стояла Стрельцова, такой, какой она явилась к нему в последний раз за инструкциями. Красивая светловолосая женщина с синими глазами, смотревшими так, словно бы она запоминала все, что видела, запоминала навечно, чтобы потом когда-нибудь вспомнить и описать с точностью исследователя.
Подполковник тогда спросил ее о «людях Гейнца».
— О, они знали меня под другим именем и в другом месте! — равнодушно ответила Марина Николаевна.
— Но у них, видимо, есть ваши фотографии?
— Несомненно! Но ведь и они — люди, — значит, теперь им пришла пора думать только о собственной шкуре.
— А те, кто организует «вервольф»? Ведь они-то не уйдут до конца!
— Не думаю, чтобы у них что-нибудь вышло из этого «вервольфа»! Для партизанских действий нужны люди, верящие в свою правоту и пользующиеся полной поддержкой населения. А фашизм подорвал эту веру бессмысленной жестокостью. И потом фашисты собираются применить тактику «выжженной земли» даже и на собственной территории. Думаю, что при такой тактике у них не останется ни одного человека, который пожелал бы защищать фашизм…
— Я все-таки советую вам действовать осторожнее. Пока что фашисты не верят в наше скорое наступление. Значит, они тем более поддерживают свой хваленый порядок в ближнем тылу.
— На вулкане танцевать я не собираюсь, — усмехнулась Марина Николаевна. — Но если я должна быть в городе Дойчбурге, значит, там я обязана легализоваться. А это, несомненно, приведет к знакомству с полицией. Но я должна сказать, что «люди Гейнца» с полицией не сотрудничают. Только с гестапо. И потом, после покушения на самого Гитлера, у них слишком много работы среди военных. Вряд ли их заинтересует безвестная беженка — немка из Риги… У них на подозрении слишком много генералов…
«Пожалуй, Марина Николаевна права, — размышлял подполковник. — После генеральского заговора против Гитлера гестапо проверяет чуть ли не все офицерство. Документы у Марины Николаевны отличные. А поездка в Дойчбург просто необходима… И, пожалуй, женщине легче побывать там…».
Он уже понемногу забывал о своем извечном недоверии к женщине.
Проводив Сибирцева, подполковник встал из-за стола и долго ходил по кабинету, думая уже о том, что надо перебазировать авиационную разведку на дальние подступы, где выявлены какие-то неизвестные ранее рокадные дороги, идущие с севера на юг, параллельно линии фронта. И человек, который обсуждал сам с собой эти обстоятельства, был уже совсем не тот, который только что беспокоился о судьбе мало знакомой ему женщины.
Но, приняв молодого майора в свой отдел, Масленников уже не забывал о нем. Он часто вызывал Сибирцева к себе для долгой беседы. И когда майор обобщал собранные за сутки разведывательные данные, склеротическое, с красными прожилками на щеках лицо подполковника оживлялось, тонкие и бледные губы трогала улыбка. Это означало, что подполковник доволен — майор поработал отлично.
Через несколько дней Сибирцев знал почти все, что относилось к его прямым обязанностям. Часы вечерних собеседований становились короче, и однажды подполковник многозначительно пообещал молодому офицеру какие-то перемены…
Что это за перемены, майор не знал, но понимал, что речь идет о чем-то большом и важном. Через его руки проходят лишь разрозненные данные, которые потом сопрягаются с тысячами других, но к этой работе его еще не привлекали. Может быть, его допустят к обобщениям и тогда он наконец узнает, где находится Марина?
А она, несомненно, находится где-то на самом краю этой орбитальной системы разведки, проникающей к самым важным и особо охраняемым центрам вражеской обороны.
Ее не было на переднем крае, откуда приходили наблюдения визуальной разведки, сделанные с наблюдательных пунктов, во время ночных поисков, снайперами, из опроса пленных. Не принимала она участия и в разведывательных полетах над территорией врага, которые давали тысячи метров фотопленки, требовавшей тщательной расшифровки. Но в руки Сибирцева все чаще попадали материалы дальней разведки, и он незаметно для себя утвердился во мнении, что в числе этих данных, авторы которых скрывались под номерами, могли быть и такие, что добывала Марина… Особенно удачливым разведчиком считался номер «2-Зет», передававший сведения из глубокого тыла противника. И Сибирцев с каким-то странным трепетом ожидал данных этого неведомого разведчика, перемещавшегося по вражеской земле.
Однажды радиостанция разведчика замолчала, Сибирцев трое суток не ложился, ожидая позывных, но их не было. Масленников, вызвав майора на очередное собеседование, взглянул на него и отослал спать.
Однако майор пошел не домой, а к радистам. Всю ночь он провел в аппаратной, надеясь на чудо — вдруг «2-Зет» заговорит в неурочное время.
Но волна была мертва, хотя один из аппаратов был все время настроен на нее. Утром в аппаратную зашел Масленников, увидел Сибирцева и отругал за невыполнение приказания. Однако даже в гневном голосе подполковника Сибирцев неожиданно уловил сочувствие.
Следующие три дня Сибирцев самозабвенно работал. Подполковник почти не встречался с ним. От него приходил ординарец, забирал данные и исчезал, стараясь не глядеть на майора.
Однажды утром ординарец перехватил Сибирцева у входа в штаб и пригласил к подполковнику. Сибирцев вдруг почувствовал, как у него ослабели ноги. Он прислонился к косяку двери, постоял немного и последовал за солдатом.
Когда он вошел в кабинет, Масленников молча протянул ему расшифрованную сводку из квадрата 39-Г. Этим шифром обозначался район города Дойчбурга, находившегося далеко в тылу немецкой оборонительной линии, в глубине Восточной Пруссии. Район этот неизменно интересовал штаб, но до сих пор, кроме сводок авиаразведки, никаких данных оттуда не поступало.
Еще не дочитав сводку, Сибирцев взглянул на позывные разведчика. «2-Зет»! Сибирцев покачнулся и, забыв спросить разрешение подполковника, косо сел в кресло. Масленников нахмурил кустистые брови, но промолчал. И это молчание почему-то еще больше утвердило предположение Сибирцева, что в его руках письмо Марины. Она жива.
— Немедленно проанализируйте данные! — строго приказал Масленников. Но даже за этой строгостью Сибирцев почувствовал искреннюю радость.
Он бросился к себе. Снова и снова перечитывал слишком краткие слова сводки и видел за ними опасности, страдания, полные тревог дни и ночи. Видел лицо Марины. Теперь он знал, что она жива.
Позже Сибирцев понял, как много значило для него это незримое присутствие жены в те дни, когда он делал первые шаги на новом своем поприще. И день, который вернул Марину, стал для Сибирцева днем еще одной радости. Подполковник доложил начальнику штаба, что майор Сибирцев подходит, и вечером, когда другие сотрудники уже ушли отдыхать перед напряженными часами ночного дежурства, Масленников вызвал к себе майора.
Вот когда Сибирцев выяснил, что такое таинственное обещание Масленникова. Это было что-то вроде посвящения в главную суть работы.
Подполковник осторожно открыл тяжелый сейф, стоявший за его спиной и всегда скрытый портьерой, достал карту Восточной Пруссии с нанесенной обстановкой и разложил на столе. Едва взглянув на карту, Сибирцев уже не мог оторвать от нее взгляда. Он отчетливо понял, что если бы гитлеровцы знали о существовании такой карты, то не пожалели бы дивизии, лишь бы уничтожить ее. Трудами и жизнями многих людей были добыты те сведения, что нанес на эту карту подполковник Масленников. Штрихи красного карандаша на зеленых равнинах Пруссии даже и без усилия воображения могли быть сочтены за капли крови погибших разведчиков, потому что многие из них не вернулись обратно, и только эти данные остались как памятник их мужеству. Но у тех, кто уцелел, было великое упорство, заставлявшее их вновь и вновь идти туда, уточняя то, чего не успел узнать погибший товарищ.
На карте были нанесены пограничные укрепления, третьи и четвертые пояса оборонительных и опорных сооружений врага, его резервы, рокадные и подъездные дороги с их мостовыми сооружениями, дамбами по берегам рек, шлюзами на каналах, с пропускной способностью мостов и шлюзов, с габаритами, тоннажем и особенностями строительства их, минные поля, прикрывавшие доступы к населенным местам, количество оборонительных сооружений в хуторах, местечках и городах.
Сибирцев молча смотрел на эту карту и думал о тех людях, что прошли сквозь огонь для того, чтобы добыть необходимые сведения и помочь уничтожить врага. Ему казалось, что он понял Марину. Разве сам он не пошел бы на этот подвиг?
Масленников искоса взглянул на Сибирцева, затем медленно свернул карту и спрятал в сейф.
— Садитесь, майор, — сказал он, — поговорим.
Сибирцев сел напротив подполковника, спросил разрешения закурить.
За окном была темная осенняя ночь. Где-то рядом работала временная электростанция, пыхтел движок, лампа в кабинете помаргивала от неравномерной подачи тока.
Масленников устало откинулся на стул, провел по лицу рукой, сказал:
— Вот, Георгий Константинович, уточнение этой карты будет теперь вашей заботой. Теперь вы понимаете, как укрепили фашисты свои границы. Мы проделали пока только первую долю работы. Предстоит еще установить, какие части и с каким количеством оружия стоят на защите границы. Сейчас уже можно сказать, что одновременно с ликвидацией приморской группировки противника мы повернем фронт к Пруссии. Наша армия будет нацелена на город Дойчбург. Вот ваш участок работы. Кто защищает этот город? Как обеспечить захват мостов через реку Нордфлюсс? Вы обратили внимание на то, что все плотины на каналах в этой части страны заминированы? Значит, район подготовлен к затоплению. Как сорвать этот план противника? Вот те вопросы, которым вы должны будете отдать все ваше время и терпение…
— Понимаю и сделаю все, что смогу. Но у меня есть просьба, товарищ подполковник…
— Ну, в чем дело?
— Я очень прошу вас, — тихо начал он, не смея поднять взгляда, — очень прошу, когда начнется наступление, направить меня в одну из частей, нацеленных на Дойчбург…
— Похвальное желание, — суховато сказал Масленников. — Между нами говоря, такое же стремление есть у меня и еще у многих. Но нельзя забывать того, что кто-то должен организовать будущее наступление.
— Я ведь говорю о самой операции.
— Не спорю, не спорю, — согласился подполковник. — Но и во время операции кто-то должен наблюдать за нею и направлять ее. Впрочем, — строгие морщинки на его лице вдруг разгладились, он улыбнулся и неожиданно закончил — Впрочем, не исключена возможность, что ваше желание сбудется, хотя и не таким способом, как вы надеялись. Все зависит от того, как вы лично подготовились к будущей операции. Возможно, что в этих новых условиях, — он особенно подчеркнул последние слова, — нам придется направить некоторых работников штаба армии непосредственно в части прорыва…
Сибирцев потянулся к нему через стол с таким просительным выражением, что Масленников рассмеялся.
— Ну, хорошо, хорошо, я вас понял. Но это будет посложнее, пожалуй, чем командовать батальоном.
Подполковник помолчал, словно обдумывая что-то, затем спросил:
— Хотелось бы вам участвовать в захвате моста через Нордфлюсс?
Сибирцев вспомнил все, что стало ему известно об этом объекте. Мост в Дойчбурге обладал огромной пропускной способностью. Он обеспечивал четыре шоссейные и три железные дороги, расходившиеся веером к советской границе. Какой же мощи готовится удар, если речь идет о захвате столь удаленного города в первые часы наступления?
Он утвердительно кивнул головой.
— Вот и хорошо. Разведывательная группа, базирующаяся в лесах восточнее Дойчбурга, уже две недели назад получила указание о том, какие данные интересуют нас в ближайшее время. Ежедневно в восемь ноль-ноль вы должны передавать мне полученные от них сведения для нанесения на карту. У меня все.
Вернувшись к себе, Сибирцев долго еще сидел над картой фронта.
Из освобожденных районов Эстонии и Латвии к прусской границе подходили новые дивизии и корпуса. Это движение Сибирцев наблюдал еще по пути к фронту. Небо было очищено от немецких самолетов. За каждым одиночным разведчиком шла настоящая охота. Командующий фашистской группой северных армий генерал-полковник Шернер пытался остановить отступающие немецкие войска. Он отдавал приказы и выступал с обращениями, утверждая, что в Риге решается судьба Восточной Пруссии. Но все было напрасно — судьба этой немецкой провинции уже была решена волей советского главнокомандования.
Дойчбург. Сибирцев как будто видит этот первый немецкий город, в который он должен войти во что бы то ни стало. Видит узкие древние улицы, высокие здания с тонкими готическими башнями, с окнами, похожими на бойницы. Этот город и был немецкой крепостью на землях литовского племени пруссов в течение долгих семисот лет. И вот теперь к нему шло возмездие…
5
Легенда, выбранная для Марины, была проста, даже примитивна и понятна любому служителю фашистского порядка, начиная от полевого жандарма, из тех, что охотились за дезертирами, до самого высокопоставленного чиновника гестапо. Так, во всяком случае, считала сама Марина…
В самом деле, она всего-навсего молодая учительница музыки, немка, проживавшая два последних года в Риге, в семье директора акционерного общества «Форвертс», обеспечивавшего производство «чего-то военного», — что именно производило общество, знать учительнице музыки совершенно ни к чему, — сейчас пробирающаяся в Силезию, к домашним пенатам, уволенная с наилучшими рекомендациями и характеристиками. Семья ее бывшего хозяина выехала из Риги в Гамбург морем, так как всем немцам в Риге было предложено отправиться «нах фатерланд». Фрейлен Марта не сумела погрузить на пароход свою маленькую автомашину «оппель-капитан» и была вынуждена отправиться через Пруссию, «где такие отличные дороги». Пропуск на машину и паспорт фрейлен Марты в порядке…
В трех километрах от Дойчбурга мотор «оппель-капитана» вышел из строя. Фрейлен Марте повезло. По распоряжению одного из офицеров заградительного отряда злополучный «оппель» был прицеплен к военному грузовику и доставлен на автостанцию в городе. Там он и стоял в ожидании ремонта.
Отели в Дойчбурге были переполнены, спать пришлось в машине. Это оказалось довольно мучительно: патрульные то и дело будили несчастную беженку, требовали документы, а разглядев ее при свете фонарей, порой предлагали «погулять». Но фрейлен умела вызывать сочувствие случайных прохожих, а так как город был переполнен военными, не любившими полевую жандармерию и вообще полицию, «отсиживавшуюся в тылу», то уже на третий день патрули только освещали потрепанный «оппель» своими сильными фонарями, убеждались, что беженка все еще на месте, и проходили мимо.
Днем Марта много ходила по городу.
Трудно было с запасными частями для автомобиля. Она, кажется, успела надоесть всем местным жителям, и особенно полицейским, своими нелепыми расспросами.
В поисках бензина она обошла все окрестности города, добывая его где литр, где два, — впрочем, это было понятно: времена пришли такие, когда бензин стоил дороже французского коньяка; более счастливые владельцы машин покидали окрестности целыми колоннами.
Остальные разведчики базировались в лесу, километрах в шести от Дойчбурга.
Это был странный лес. Он был подметен под метелку, ни одной соринки, не то что сучка или шишки, прорежен так, что сквозь весь лесной квартал можно было увидеть козулю или лося. Животные в этом лесу были ручные, и, хотя теперь их часто подстреливали то солдаты, то сами егеря, они все еще не опасались человека. Скрываться в этом лесу было трудно.
Особенно трудно было радистам. Для передачи маленькой, из нескольких слов, радиограммы приходилось уходить от стоянки на десятки километров, чтобы станцию не запеленговали. Радист и его охрана обычно шли по лесу всю ночь, утром, перед рассветом, давали «сеанс», а затем возвращались на базу, измотанные до предела.
Зажечь костер в этом пригородном лесу было невозможно. Питались всухомятку, консервами, шоколадом, иногда Марта приносила в термосе суп или кофе. Но и ей все труднее было выходить из города: военные власти усилили наблюдение за гражданским населением.
Разведчики приготовили себе три убежища в разных местах: в заброшенном карьере, из которого когда-то брали песок для строительства шоссе; в овраге, спускавшемся к реке Нордфлюсс; в разрушенном погребе, что остался от сожженного домика лесника. Отдыхали каждый раз в другом месте.
Бесшумные и невидимые как тени, проскальзывали эти люди сквозь густые сети постов; сутками лежали в неприметных ложбинах возле шоссе и каналов, отмечая проходящие машины, танки, артиллерийские подразделения; выходили к спрятанным в лесу дальнобойным батареям; изучали противовоздушную оборону. А на рассвете новая радиограмма стучалась в приемник далекого штаба взволнованным писком морзянки.
Но главную задачу решала фрейлен Марта.
Старенький «оппель» был наконец исправлен, и это означало, что операция закончена. Пора было уходить на восток.
И в это время Марта почувствовала опасность.
Это было чисто интуитивное ощущение; кто-то следит за тобой! Не открыто, как этот полицейский на углу, которому вменено в обязанность наблюдать, чтобы на кладбище автомобилей не укрывались дезертиры, и не ответственный по дому, возле которого расположилась эта таборная стоянка несчастных, измученных, запуганных людей, которым больше всего хочется оказаться в сотнях километров отсюда, но бензина нет, и неизвестно, когда он будет, машина неисправна, и некому исправить ее. Среди этих людей у Марты было много знакомых, связанных общим желанием бежать как можно скорее. Наблюдало за ней какое-то другое недреманное око.
Марта давно уже изучила главный закон разведчика: при появлении такого неприятного ощущения в панику не впадать, но и не отмахиваться от него. Человек, недостаточно выдержанный, в условиях вражеского окружения может и сам себя уверить, что за ним следят, и товарищей подвести своим страхом. Сначала следовало определить размеры опасности, ее источник, а уж потом решать, как быть дальше.
На связь она в этот день на всякий случай но пошла.
Заперев отремонтированную машину, — Марте стоило немалого труда уговорить владельца мастерской заменить сломанный жиклер и севший аккумулятор, да еще при свидетелях, — она сообщила соседям по стоянке, что идет искать продукты на дорогу, теперь она может, наконец, выехать из надоевшего Дойчбурга…
Последний раз проходила она через мост, за которым наблюдала всю эту неделю. Минирование моста было закончено, камеры со взрывчаткой заштукатурены и даже тщательно затерты краской под цвет столетней пыли и копоти; провода, подведенные к взрывчатке, утоплены в кабельную сеть, только по цвету — желтому — можно было бы их определить, но попробуй сначала найди тот канал, по которому они проходят; второй взрывной вариант — бикфордов шнур — утоплен в реке, два его конца выведены на оба берега, чтобы мост могли взорвать либо защитники предмостного укрепления, либо, если их сопротивление будет сломлено неожиданно, дежурные саперы, отсиживающиеся на том берегу.
Да, все подготовлено с чисто прусской аккуратностью и методичностью, предусмотрены самые различные варианты, кроме, может быть, одного, который могли навязать им русские.
Марта перешла через мост в толпе прохожих и вышла на окраину городка.
Зенитных батарей прибавилось. Либо немцы чего-то опасались, либо просто решили на всякий случай утыкать каждый метр своей земли орудийными стволами. Пушки поставлены во дворах и прямо на улицах, — это не секретный объект, пусть каждый благонамеренный немец видит: его будут защищать! На крышах домов, а там, где крыши островерхие, — на чердаках, установлены зенитные пулеметы, владельцы домов не протестуют, лучше жить под защитой пулеметов и пушек, чем покинуть эти дома навсегда…
Марта шла с озабоченным видом, заходила в мелкие магазинчики, торопливо выходила, надеясь увидеть того, кто следит за нею, но все было напрасно. Либо по ее следу шел не один человек, либо это был очень опытный наблюдатель. И в то же время она чувствовала спиной подстерегающий взгляд.
Можно было использовать еще один прием. Если к ней до сих пор не подошли, значит, пытаются раскрыть ее «связи».
Mapтa остановилась на углу пустынного переулка, близоруко и долго присматривалась к вывеске на угловом доме, и, словно с трудом поняв, что это и есть нужный переулок, торопливо пошла, почти побежала по закрытому тенью тротуару. Шипуче зашуршали листья лип под ногами, — на шестую осень общенемецкой войны против всего мира даже добропорядочные немцы перестали подметать и мыть тротуары. Это было к лучшему: на каучуковых подошвах по чистому тротуару преследователь мог бежать за Мартой бесшумно, тут же листья скрипели, и Марта, не оглядываясь, узнала: за нею идут.
Она замедлила шаги, приглядываясь все так же близоруко и неуверенно к номерам домов, и вдруг решительно открыла калитку в небольшой садик. Уже давно, в предвидении опасности, она выбрала этот домик. Владелец этого дома с садиком любил речной спорт. За домом — Марта знала — была калитка к реке. Она даже проверяла калитку с той стороны, — без замка, на щеколде. Провожатый, несомненно, останется за воротами или побежит к угловому телефону вызывать помощь для обыска дома, — пусть уж бог сохранит его владельцев! — а Марта успеет уйти…
Она обогнула дом и увидела калитку. Рыжеволосый юнец лет пятнадцати натягивал возле калитки просмоленный парусиновый корпус байдарки на алюминиевый каркас. Он удивленно поднял голову, глядя на непрошеную гостью.
Марта слышала, как за спиной ее хлопнула входная дверь, — преследователь торопился. Юнец выпрямился, заслонив спиной выход.
— Простите! — сказала Марта, пытаясь обойти его и открыть спасительную калитку. Парень не двигался.
Марта опустила руку в сумку, висевшую на ремне, переброшенном через плечо. Парень будто понял что-то, распахнул калитку, поднял руки вверх и сказал шепотом:
— Направо открытый люк канализации. Стрелки на стенках показывают направление к реке.
Она проскочила мимо парня и, поворачивая направо, оглянулась. Парень все еще стоял с воздетыми к небу руками.
Открытый люк, огороженный железным треугольником с желтым флажком на вершине пирамидки, находился рядом. Во дворе послышался торопливый разговор, потом раздался удар, что-то упало. Марта нырнула под пирамидку и, ухватившись за скобы в колодце, повисла на руках. Дно было где-то далеко под ногами, и она прыгнула «столбиком», чуть согнув колени.
Грязь из-под ног обдала ее до головы. Она мельком увидела черную, несмываемую стрелку на стенке тоннеля, пригнулась и побежала в темноту, с усилием выдергивая ноги из липкой грязи.
Что значили слова парня? Неужели этот рыжеволосый лодочник понял больше, чем могло подсказать ее внезапное появление, и посочувствовал ей? И все равно опасность еще не миновала. Преследователь, — если он один, — не бросится в колодец, но сейчас, наверное, уже десятки ищеек бегут в разных местах к канализационным колодцам; может быть, и у реки уже разворачиваются машины и с них прыгают приученные к быстрым действиям солдаты.
Темнота стала такой давящей, что Марта не выдержала, зажгла электрический фонарь.
Железобетонный тоннель был невысок, идти приходилось согнувшись. Под разными углами в него вливались другие тоннели, но на углах Марта видела спасительную черную стрелку.
Пока в тоннеле было бесшумно, только булькала вода, чавкала под ногами грязь, бежало впереди световое пятно.
А может быть, гитлеровцы сейчас прочесывают все дома вокруг того, в который она вошла? Вряд ли преследователю могло прийти в голову, что женщина в светлом плаще и в туфельках на высоких каблуках нырнет в ату преисподнюю. Да и кто обратит внимание на открытый канализационный люк? Ведь в нем должны быть люди, зачем бы ему иначе быть открытым и огражденным?
Этот вопрос вдруг поразил ее. Почему, в самом деле, люк оказался открытым? И почему рыжеволосый парнишка знает о стрелках на стенах и о выходе?
Дышать становилось все труднее. Тоннель как будто шел под уклон, грязь на дне становилась глубже и глубже. Вот она уже по щиколотку, вот почти по колено. Но Марта шла и шла, отбросив мысли о том, что можно и утонуть, и думая только о рыжеволосом немецком юноше.
Да, она знала, что Германия не умерла. Но раньше это представление было умозрительным. Конечно, ей приходилось, находясь в немецком тылу, слышать и даже читать о казнях саботажников, знала она и о том, что в немецких концлагерях, наравне с военнопленными, погибают и немцы-антифашисты, но впервые она представила это так отчетливо.
Парень понял, что за нею гонятся. И решил помочь ей. Он, наверно, помогал гонимым не впервые. Сейчас он объясняет, что она угрожала застрелить его и ему ничего не оставалось, как поднять руки. Калитка не на замке, она открыла ее и убежала. Вот все, что он знает.
И как ни трудно ей было сейчас, в этом залитом грязью тоннеле, она с огромной радостью и благодарностью подумала о мальчишке.
И это было чувство странного освобождения.
Когда она встретила лицом к лицу войну, ей показалось, что все немцы поголовно сошли с ума. Думалось, что потребуются чуть ли не века, чтобы снова превратить их в людей: сначала победить, потом снова начать сеять разумное и вечное, что когда-то давало на этой же самой земле такие ростки и цветы человечности, какими были для всего мира Гёте, Гейне, Бах, Кант, Бебель… Трудно было поверить, что в этой стране еще живут такие люди.
Но Германия жила. Фашизм умирал, а человечность оставалась нетленной. И когда фашизм будет уничтожен, эти люди найдут силы для того, чтобы начать строить новое государство, в котором главным средством строительства будет не принуждение, а понимание.
Вокруг нее зашумела и заплескалась вода. Это была уже живая вода, насыщенная кислородом, свежестью, чистотой. Но ее становилось все больше, она обнимала разведчицу по пояс, по плечи, и женщина остановилась, подняв сумку над водой.
Выключив фонарик, она долго стояла в полной темноте, постепенно привыкая к ней, к плеску воды, ожидая, когда темнота оживет. И темнота ожила. Она медленно-медленно засветилась, и это было похоже на появление рассвета в затемненном военном мире, робкого, неуверенного, но обещающего солнце, тепло и жизнь. Далеко-далеко проявилось светлое пятно зеленоватого оттенка, какой приобретает свет, пройдя сквозь глубокую воду. Это был конец тоннеля, выходящего в реку. И там не могло быть ни солдат, прыгающих с грузовиков, ни собак, которых можно пустить по следу, там была свобода и жизнь.
Разведчица благодарно вздохнула, попятилась назад, вновь включила фонарик и принялась оглядываться, ища нишу, в которой можно было бы отдохнуть и дождаться ночи.
6
Два дня из квадрата 39-Г не поступали сводки.
Сибирцев измучился, похудел, старался не попадаться на глаза подполковнику Масленникову.
Но подполковник, как нарочно, зачастил с вызовами. У него всегда находилось неотложное дело для Сибирцева. И майору приходилось выезжать из штаба, хотя душа его словно бы приросла к маленькой комнате радистов, где бессонные дежурные дни и ночи колдовали у своих приемников и передатчиков.
Вот и сегодня Масленникову понадобилось, чтобы молодой офицер съездил в батальон Сереброва. На наблюдательном пункте батальона замечены некоторые перемены в расположении противника…
Майор вызвал «виллис», а сам пошел еще раз к радистам, постоял перед молчащими аппаратами, оглядел виновато-огорченные лица, как будто дежурные принимали на себя вину за молчание того, чьи позывные так хотел услышать Сибирцев… Позывных не было. Сибирцев вышел из штаба.
Усадив шофера на заднее сиденье, майор сам погнал машину по отличному Шоссе, минуя новенькие мосты, обгорелые танки и самоходки, которые торчали на обочинах, как грубые памятники.
Батальон Сереброва уже две недели находился на переднем крае, и как раз на том участке, который особенно привлекал внимание майора Сибирцева. Батальон занимал угол клина, врезавшегося километра на три за бывшую границу СССР еще во время летнего наступления. Гитлеровцам так и не удалось тогда срезать этот клин, и солдаты Сереброва знали — они уже в Германии.
Сибирцеву показалось, что Серебров еще больше высох и пожелтел. Держался он строго, с достоинством, какого раньше у этого тихого человека не замечалось. Уже по одному тому, как здоровались с Серебровым солдаты, как внимательны были к капитану младшие офицеры, Сибирцев понял, что человек этот, как говорят, пришелся к месту.
— Не по душе мне эта позиционная война! — сердито сказал Серебров, когда они прошли в командирский блиндаж. — Грызи землю зубами, а батальон редеет. И главная неприятность — солдаты не видят, что успели сделать! Если и пристрелили десяток фашистов, так их все равно не учтешь!
Сибирцев отметил, что у капитана прорезывается характер. В резерве он, помнится, никогда так резко не высказывался. А Серебров, найдя доброжелательного слушателя, продолжал:
— Одна надежда, что долго мы тут не засидимся.
Он вопросительно посмотрел на Сибирцева, ожидая, что майор скажет что-нибудь значительное, — ведь он штабист! — и Сибирцев не обманул его надежды, он подтвердил его догадки.
Казалось, ничего значительного в разговоре не было, — так, обычный разговор двух офицеров, которым одинаково надоела позиционная война, — но Серебров сразу оживился.
— Тогда пойдемте на НП… Оттуда многое виднее…
Он довольно долго отдавал своему заместителю разные распоряжения, и Сибирцев уже начал досадовать на дотошного комбата, хотя и знал, что на войне все нужно предусматривать с особенной тщательностью. Сибирцева поразило только упоминание какого-то болотца, рассуждению о котором Серебров и его заместитель посвятили не меньше десяти минут. Но тут Серебров наконец закончил свои инструкции, и они вышли из блиндажа.
На этом участке передовой никогда не было тихо. Очевидно, гитлеровцев очень раздражал небольшой клин, врезавшийся в их собственные поля, а может быть, этот ничтожный клочок отбитой у них немецкой земли заставлял думать о будущем всей Германии? Серебров, выждав паузу между двумя залпами, сказал:
— Сердятся! Ничего! Дошла очередь и до них. Сейчас сами увидите, как они в своем доме по подвалам прячутся…
Офицеры двинулись, пригибаясь, по длинному ходу сообщения. Серебров шел впереди. Остановившись на одном из поворотов, он сказал:
— Дальше придется бегом! Простреливают!
Он затрусил рысцой, вбирая голову в плечи. Сибирцев, переждав мгновение, побежал следом. Послышался свист пуль. Затем стало тихо. Звуки боя глохли за высоким склоном холма. Сибирцев остановился, почти наткнувшись на капитана.
По лицу Сереброва не было заметно, чтобы эта перебежка под огнем как-нибудь взволновала его. Но и Сибирцев уже давно научился владеть собой, а спокойствие капитана невольно заставляло его держаться еще мужественнее. Серебров указал на короткий лаз, по которому наблюдатели пробирались в свое гнездо. Здесь он пропустил Сибирцева вперед, как хозяин гостя.
Два наблюдателя встали при виде офицеров. Один из них уступил свое место у стереотрубы Сибирцеву. И Сибирцев впервые увидел Германию.
Перед ним была плоская бескрайняя равнина, уходящая на запад, в сторону заходящего солнца, изрытая окопами, истыканная надолбами и кольями с колючей проволокой, с перевернутой снарядами землей, на которой свивалась в клубы неубранная пшеница. Дальше к горизонту виднелся маленький городок, кирха, а в стороне, почти у самой полосы укреплений, — усадьба или ферма какого-то богатого землевладельца — мыза Гроссгарбе, по-русски «Большой сноп». Возня немцев у этой мызы и заставила Масленникова послать сюда майора.
Вся равнина, плохо видимая сквозь пелену пыли и дыма, казалась отсюда мертвой и безжизненной. Но на самом деле она была полна тайного движения и невидимой работы. Здесь проходила оборонительная линия, построенная немцами задолго до войны, и каждый дом, даже вот такая богатая усадьба, как мыза Гроссгарбе, был вписан в эту оборонительную линию. Все здания мызы были построены из бетона, окна узкие, как бойницы, а службы, скотные дворы, сараи и амбары и внешне похожи на доты, в которых очень удобно расположить пулеметы, минометы и, может быть, даже пушки.
Но и на самой равнине каждый холм был укрытым дотом и каждая колокольня — наблюдательным пунктом. Сибирцев оглядел прусскую равнину, затем отстранился от стереотрубы и перечитал краткие записи наблюдений:
«6.34. К юго-востоку от мызы Гроссгарбе к отдельному сараю прошла легковая машина, оставалась 13 минут вне видимости, в 6.47 направилась обратно в город Раппе.
8.15. Показались два немца в направлении того же сарая от Раппе, по-видимому, с катушкой провода.
8.20. Это связисты. Прошли в ту лощину, куда ранее проходила легковая машина.
9.23. От мызы к передовым небольшими группами, по два-три человека, перебегают немцы с тяжестями.
9.27. Подносчики снарядов. Исчезают возле ручья.
10.00. Огневой налет по берегу ручья.
10.15. Окончание огневого налета…».
И так изо дня в день, из минуты в минуту все заносилось в дневники наблюдателей. Из всего этого штаб извлечет данные о новых укреплениях, отметит на своей огневой карте фортификации, чтобы очередным артиллерийским налетом уничтожить плоды ночной работы врага.
Начало темнеть. Смолкли одиночные выстрелы снайперов. Утихала канонада.
Сибирцев поблагодарил капитана и пошел было к выходу.
— А вы разве не станете ждать? — удивленно спросил Серебров.
Майор хотел спросить, о каком ожидании говорит Серебров, но в это время с немецкой стороны, совсем где-то рядом, началась беспорядочная стрельба.
— Обнаружили! — с горечью крикнул старший наблюдатель.
Сибирцев высунулся из амбразуры, пытаясь разглядеть в ночной бинокль, что происходит. Над болотцем, что лежало между окопами, в мертвой зоне, поднялись столбы минных разрывов. Мины летели одна за другой. Затем из болота вырвалась в сторону русских окопов ракета. И в ту же минуту с русской стороны ударили тяжелые минометы, образуя сплошную стену отсечного огня.
Сибирцев увидел силуэты двух бойцов, бежавших к болоту среди тяжелых столбов воды и ила. Затем все смешалось в сплошном громе. Немцы ввели в дело тяжелые минометы и орудия. На всем протяжении ходов сообщения теперь вздымались взрывные волны. Один, а за ним и другой снаряд взорвались в развалинах сарая. Начинался ночной бой. отрезавший Сибирцеву путь к штабу.
— Ну как, хорошо мы обеспечили переход вашего разведчика? — спросил Серебров.
— Какого разведчика? — прерывающимся от волнения голосом сказал Сибирцев.
— Разве вы не для этого приезжали? — в свою очередь взволновался Серебров. Может быть, он даже пожалел о том, что проговорился. Но, увидев, как изменилось лицо Сибирцева, сжалился над ним. — видно, майору не безразличны судьбы людей его отдела, если он так переживает, хотя и не знал, что именно сегодня ждут кого-то из них. — Мы уже второй день ждем этого перехода. Подполковник Масленников сообщал, что ждет человека… Ну, я и думал…
Сибирцев опустился на скамью, потом вскочил, заторопился:
— Я должен немедленно вернуться в штаб!
Но Серебров положил на его плечо тяжелую руку:
— Никуда вы сейчас не пойдете!
Он снова усадил майора, присел рядом с ним, и так, молча, не глядя друг на друга, они просидели с полчаса. Но едва стихла канонада, как Сибирцев выскочил из укрытия и побежал почти бегом на КП батальона, не ожидая Сереброва.
Серебров догнал его уже перед самым КП.
Заместитель комбата, увидев Сереброва и Сибирцева, лихо доложил:
— Разведчица здорова, только сильно ослабла. Ее отправили в штаб армии. — И совсем другим тоном, удивленно воскликнул — Но какой человек! Выйти из воды и огня и, даже не отдохнув, потребовать, чтобы ее немедленно доставили в штаб армии. А ведь она три дня и три ночи пробиралась через линию фронта! На это не всякий мужчина способен!
Сибирцев выбежал из блиндажа.
Масленникова в штабе он не застал. Очевидно, сведения, доставленные Мариной, требовали немедленной передачи выше по начальству. Сотрудники сказали Сибирцеву, что лейтенанта Стрельцову отправили на отдых в хозяйство Хмурова. Но туда Сибирцев без разрешения ехать не мог. Однако подполковник не забыл о своем подчиненном, сам позволил из штаба фронта и разрешил Сибирцеву быть свободным до десяти часов утра…
На этот раз в хозяйстве Хмурова Сибирцева встретили с искренней радостью. Сам капитан вышел навстречу Сибирцеву и еще издалека закричал:
— Здесь, здесь ваша супруга, товарищ майор! Мы устроили ее вон в том домике…
Он проводил Сибирцева к маленькому домику в глубине сада и, простившись, медленно зашагал к себе. Может быть, он думал в эту минуту о том, когда и где ему самому приведется увидеться с женой и случится ли это вообще… Чужое счастье, как бы мало оно ни было, всегда вызывает некоторую зависть…
Сибирцев, проводив капитана глазами, пока тот не скрылся за деревьями, не стучась открыл дверь.
В комнате было полутемно. Марина сидела, слегка опустив голову, в кресле, против открытой дверцы жарко растопленной печки, как будто все глядела в огонь и не могла оторваться. На самом же деле она, как видно, едва присев, заснула. Георгию даже послышалось, что она чуть слышно всхлипывает во сне, как обиженный и испуганный ребенок, и не может проснуться, чтобы сбросить это тяжелое оцепенение. Она, должно быть, едва смогла переодеться, — груда грязной, мокрой одежды лежала тут же, и от нее клубился пар.
Он стоял у порога, и смотрел, и жалел ее до той боли в сердце, когда печем становится дышать. Но страшный сон все мучил ее, и он тихо позвал:
— Марина!
Она вдруг вскрикнула, вскочила с кресла, бросилась к нему, припала на грудь. Жалость все шире захлестывала Георгия, и он, еще не видя ее лица, гладил ее волосы, усталые, согнувшиеся плечи, целовал ее, ощущая соленые слезы, обильно бежавшие по исхудавшим огрубелым щекам и подбородку.
— Ну что ты, Марина, не надо плакать, не надо… — бормотал он, пытаясь приподнять и разглядеть ее лицо, но она только крепче прижималась к нему, словно все еще не верила, что это он.
— Когда Масленников сказал, что ты здесь… — начала она, но голос ее затрепетал и сорвался.
— Значит, он сказал все-таки…
— Я не могла дождаться, все думала, что с тобой что-нибудь случится…
— Да что со мной может случиться!
— А потом еще Хмуров сказал, что ты искал меня и звонил каждый день…
— А о том не сказал, что встретил меня как диверсанта?
Сибирцев все старался говорить так, чтобы слова звучали шутливо, но она не могла принять этого тона. Когда же она нашла силы, чтобы оторваться от него, и подняла лицо, он со страхом увидел, как она изменилась! Осунулась. Почернела. Глаза стали шире, потемнели, в них все время мерцает какой-то мрачный огонь.
И вдруг как выдохнула:
— Но как же у них страшно, как страшно!
У Георгия по спине пробежали мурашки. Но она уже словно бы успокоилась или не захотела больше терзать его своими воспоминаниями, заговорила о простом, обычном:
— Сейчас мы поужинаем, потом ты расскажешь о Москве, о том, что была в газетах, ведь я же ничего, совсем ничего не знаю.
— Тебе нужно отдохнуть.
— Ну что ты, я днем немного спала.
— Знаю я, как ты спала. Я был как раз там, на передовой, когда ты переходила.
Лицо у него нахмурилось, брови сошлись над переносьем, она торопливо погладила эти широкие брови, сказала, успокаивая:
— Нет, честное слово. Там, правда, болото, но я нашла хорошую кочку, совсем почти сухую. Только они долго не давали мне переползти через это болото. Ты не думай, это совсем не трудно! — как-то даже наивно объяснила она.
— Да уж действительно легко! — ворчливо сказал он.
— Нет, в самом деле! И представь, там, на командном пункте, оказался такой романтический офицер, что прямо в героини меня произвел. «Вы — необыкновенная женщина! — говорит. — Вы совершили подвиг, который не по плечу иному мужчине…». И все это на высоком пафосе…
— Я его видел. Зато меня он принял за труса — слишком уж поспешно я покинул этот КП…
— Если бы я знала, что ты там!
Но, как видно, еще не настала пора говорить спокойно. Опять она вздрогнула, тихо сказала:
— Жаль ребят! Они еще там… Нас ведь было много! А в последние дни стало совсем трудно. Фашисты словно взбесились от страха. Облавы, расстрелы. В лесу, где мы базировались, чуть не за каждым деревом дезертиры прячутся, а полицейские охотятся за ними. Наткнутся нечаянно, и не уйти…
В дверь постучали. Ординарец Хмурова принес ужин и бутылку вина. Марина улыбнулась:
— Это они ради тебя. Обычно у нас полагается по возвращении общий ужин…
Марина зажгла лампу над столом, засуетилась. Ей хотелось, чтобы этот ужин вдвоем стал настоящим праздником. А Георгий все смотрел и смотрел на нее.
В форменном платье она казалась очень высокой, худощавой. Теперь, когда воспоминания ненадолго покинули ее, она выглядела даже веселой. Но он-то понимал, как непрочна эта веселость!
Долго сидели за столом. Когда все было съедено и выпито, он осторожно спросил:
— Какие же у тебя планы?
— Как начальство прикажет! — небрежно ответила она.
Но, видно, прочла что-то в его глазах, потому что вдруг заговорила торопливо, с особым упорством:
— У меня осталась еще одна операция. Но ты не должен бояться за меня, Георгий. А передать ее кому-нибудь другому я не могу.
Он опустил голову.
Что дал бы его протест? Ничего! Он даже представлял себе, какая это операция, но молчал. На каждого из них придется своя операция, и, наверно, не одна. Тут не помогут ни утешения, ни просьбы…
Утром Марина проводила его до шоссе. Машина шла впереди.
Они медленно двигались по лесной дорожке, усыпанной листьями. Марина остановилась под дубом, держа Георгия за руки.
— Знаешь, когда кончится война, никогда не будем говорить о ней. Она ведь скоро кончится, правда?
— Конечно, — улыбнулся Георгий.
— Вот и хорошо, — весело сказала она. — Немного еще повоюем — и по домам. Я поняла, что война — это не женское дело…
— Может быть, тебе попросить отпуск? — осторожно предложил Георгий.
— Ну нет. Теперь не до отпуска. Теперь мы у их ворот.
Шофер как бы нечаянно нажал сирену. На шоссе стремительно выходила огромная колонна моторизованной артиллерии. Шоферу хотелось обогнать колонну, чтобы не путаться между орудиями. Марина торопливо поцеловала Георгия.
— Да, я совсем забыла спросить, ты доволен своей работой?
— Да.
— Это очень хорошо. Только береги себя. — Затем, помолчав немного, заглянула в его глаза, робко спросила: — Когда мы увидимся?
— Может быть, завтра…
— Ну, до свиданья!
С поворота, из-за моста, он еще раз увидел ее. Марина стояла возле дуба и смотрела вслед ему. Затем ее скрыла колонна пушек, змеистая, тяжелая пелена пыли.
7
Четвертого октября 1944 года войска генерала Баграмяна нанесли возле города Шауляй фашистам, занимавшим Прибалтику, страшный по своей силе и последствиям удар, отрезав всю Прибалтийскую группу армий от Восточной Пруссии. Удар этот был подготовлен и нанесен столь внезапно, что в первые дни боя гитлеровцы даже и понять не могли, к каким последствиям может привести этот прорыв фронта. Но уже одиннадцатого октября войска генерала Баграмяна увидели Балтийское море, невдалеке от Либавы, и этот день был днем крушения всей фашистской обороны в Прибалтике. Тринадцатого октября под ударами с севера и востока пала Рига. Немецкая группировка северных армий под командованием генерал-полковника Шернера стягивалась в Приморской низменности, на берегу Балтийского моря, опираясь на два последних порта, оставшихся в ее распоряжении. Но как змея до последнего мгновения своей жизни старается ужалить преследователя, так обреченная на гибель немецкая группировка в Прибалтике продолжала оказывать сопротивление, надеясь этим задержать наше наступление на других участках фронта.
Приказы генералов были наполнены истерическими криками уже не о том, что «фюрер требует победы», а о том, что «мы должны ценой своей гибели отсрочить поражение Германии…» Шернер утешал прижатых к морю солдат, для которых уже не могло быть иного спасения, как капитуляция и плен, тем, что они еще могут стать самоубийцами!
Однако он и сам не верил, что его солдаты еще могут что-нибудь сделать. Слишком хорошо знали эти солдаты и их командиры, что такое «котел». Слово «Волга», ставшее синонимом окружения и гибели, не сходило с солдатского языка, так что генерал-полковнику пришлось издать специальный приказ о запрещении разговоров на эту опасную тему. Но что могли означать эти приказы, если даже командиры стремились только к одному — любой ценой вырваться в Германию! У портовых причалов и на аэродромах вылавливали уже не солдат-дезертиров, а полковников и генералов, бежавших с фронта с фальшивыми документами; специальные команды СС расстреливали за дезертирство не одних солдат, а и офицеров. И все-таки Шернер еще надеялся, что сопротивление его армий в какой-то мере облегчит положение Германии.
Шернер принадлежал к числу так называемых «гитлеровских» генералов, выдвинутых в противовес старым военным, которым фюрер боялся доверять, особенно после взрыва «генеральской» бомбы. Но если учитель — ефрейтор, то ученик не может стать фельдфебелем, ибо знания учителя ограничены его ефрейторской практикой. И теперь, когда Шернер был уже обманут и разбит, он все еще — так же, как поступал его фюрер, — считал, что его тактика и стратегия превыше всего, что война идет по его планам и желаниям, а неудача, его постигшая, является лишь случайностью. Он продолжал думать, что внимание советских генералов целиком приковано к нему и к его окруженной группировке, и в своих письмах-докладах в главную ставку Гитлера Шернер утверждал, что сковал движение десятков советских дивизий, изо дня в день сообщая их номера. А между тем эти дивизии уже давно ушли на юг, а против Шернера и его деморализованных войск оставались только блокирующие соединения, правда еще носившие названия фронтов, но уже насчитывавшие вместо сотен тысяч бойцов — десятки тысяч, вместо пятисот стволов на километр фронта — десятки, вместо тысячи самолетов — единицы.
В дни этого великого передвижения армий Сибирцев снова встретил капитана Сереброва.
Батальон Сереброва, выведенный на отдых, находился в лесной полосе неподалеку от фронта. Стоявшие тут ранее части накопали землянок, построили баню и прачечную, так что в лесу появился целый военный городок. Еще совсем недавно такое средоточие войск вблизи от передовой было немыслимо, так как авиация противника немедленно нащупала бы его. А сейчас солдаты спокойно топили печи в землянках, на лужайке дымила кухня.
Серебров ласково потряс руку майора и заговорил громко, оживленно:
— Ну, как видно, скоро начнется большое дело!
— Почему вы так думаете?
— Представьте себе, что почти все офицеры, что отсиживались в резерве, оказались здесь! Это что-нибудь да значит! Вчера встретил Власова, он прибыл с артиллерийским полком из-под Кужая. А вот в атом лесу стоят танкисты, и среди них Яблочков и Подшивалов. Подумайте, они все-таки соединились! — Серебров засмеялся. — Помните, как Подшивалов сердился, что приятель удрал от него? А уж если весь наш резерв сошелся в одном месте, значит, тут скоро что-то начнется! Помяните мое слово! — и он, хитровато улыбаясь, поднял палец вверх.
Столько было уверенности и силы в маленьком капитане Сереброве, что Сибирцев даже залюбовался им, не сознавая, что в этот миг и сам он подтянулся, стал серьезнее, сильнее.
— Ну, а как вы? — спросил Серебров, словно бы извиняясь за то, что занял чужое внимание своей скромной особой. — По-прежнему в штабе?
— Да, — неохотно отозвался Сибирцев.
Каждый раз, встречая фронтовых офицеров, Сибирцев испытывал странную зависть. Вот и сейчас при виде Сереброва он подумал, что, пожалуй, лучше чувствовал бы себя, занимаясь привычными делами строевого командира. Но Серебров изумленно поднял на него глаза, и столько было в этом взгляде осуждения, что Сибирцеву стало неловко. Ведь сам-то он всегда относился с особым уважением к деятельности штабных офицеров, от которых в новых условиях современной войны часто зависела не только победа в операции, но и количество возможных жертв. И он поторопился сказать:
— Работа, конечно, интересная, но просто хочется иногда вдохнуть пороха! А где же его понюхаешь, как не в армейской части? Вы же сами говорили, помните, «вот она, Германия!» — и войдете в нее первым, только дай сигнал, а я так и просижу в своей комнате или, в лучшем случае, поеду по вашим следам на автомашине. Нет, хочется все-таки в часть! — уже совсем утвердительно сказал он.
Серебров, как видно, понял его, спросил:
— А вы просились?
— Многократно, — усмехнулся Сибирцев.
— Ну, если вас отпустит, идите к нам. Войдем в Пруссию вместе.
Из леска, где желтели насыпи батальонных землянок, на дорогу выбежал старший лейтенант. Сибирцев узнал его: Ворон! Он щелкнул каблуками, улыбнулся Сибирцеву, спросил по уставу:
— Товарищ майор, разрешите обратиться к капитану?
— Пожалуйста, товарищ Ворон!
— Товарищ капитан, получен пакет!
— Ну-ну, а что я говорил? — обернулся к Сибирцеву капитан и даже с некоторой развязностью подмигнул ему, что свидетельствовало о великом волнении. — В этом что-то есть! А как соседи, старший лейтенант?
— Танковый полк шевелится. Да вот…
Ворон указал рукой в сторону леса, откуда вдруг послышался рокот моторов, хотя до сих пор лес казался безжизненным. И в самом деле, между деревьями, сбрасывая маскировочные сетки и брезенты, зашевелились танки, сначала один, затем другой, а потом показалось даже, что деревьев здесь меньше, чем боевых машин.
Серебров торопливо откозырял и побежал, путаясь в полах шинели. На бегу обернулся, крикнул:
— Старший лейтенант, можете проводить майора к танкистам, если он пожелает… — и исчез в лесу.
Ворон и сам был бы рад поговорить с майором, вспомнить о том, как сидели в резерве, перекинуться новостями, но в это время из леса вышли первые машины с откинутыми люками, лихо прогрохотали мимо офицеров, заглушая голоса, и пошли по дороге, мгновенно окутываясь клубами пыли. Даль облеклась в серую дымку, исчезли очертания городка, вражеская земля угадывалась теперь только по линии огня, который вдруг начал усиливаться.
— А вот и наши ребята из резерва! — крикнул Ворон и указал рукой на танк, остановившийся у обочины дороги недалеко от них.
Действительно, из открытого люка высунулся Яблочков, что-то крича. Сибирцев подошел к танку. Яблочков, оживленный, радостный, поздоровался с ним.
— Пришло и наше время, товарищ майор! — с трудом расслышал Сибирцев.
— А Подшивалов где?
— Его рота идет за нами!
И тотчас в следующем танке Сибирцев увидел Подшивалова. Лицо его было измазано копотью и маслом. Яблочков, заметив Подшивалова, не удержался и закричал, хотя Подшивалов не мог слышать его:
— Зачем маску надел, красавец? — И пояснил Сибирцеву: — Никак не привыкнет к новой коже, нарочно лицо мажет копотью, чтобы другие не пугались. Ну, прощайте, товарищи, в Германии встретимся!
Лихо козырнул и опустился в люк. С грохотом надвинулась тяжелая крышка, танк закачался на обочинах, выползая на шоссе, увеличил скорость и сразу потерялся в огромной массе оливково-серых грохочущих чудовищ. Ворон помахал ему вслед, взглянул на часы и заторопился:
— И нам пора, товарищ майор, извините! — козырнул и побежал в лес, где продолжалось движение войск. Сибирцев торопливо прошел к «виллису». Общее движение захватило и его, хотя он знал, что наступление начнется значительно позже.
Возвращаясь в штаб, Сибирцев попал навстречу стремительному потоку, который мчался на юг, растекаясь по всем дорогам. Усталые регулировщицы, покрытые пылью, стояли на перекрестках, сигналя фонариками в абсолютной темноте. Освещаемые случайным отблеском фонаря, лица солдат казались Сибирцеву исполненными особой решимости. Да и что в этом удивительного — солдаты знали, что начинается наступление на главную крепость фашизма…
Как ни торопился Сибирцев, приходилось долго ожидать, пока регулировщицы пропускали очередную колонну танков. На этот раз даже его привычный взгляд был поражен количеством движущихся войск. Только поздно ночью сумел он добраться до штаба.
Еще издали, через открытые окна, Сибирцев услышал голос Масленникова. Подполковник, очевидно, звонил по телефонам, разыскивая своего подчиненного.
— Хозяйство Хмурова! Хмуров! У вас Сибирцев? Да где же он?
— Я здесь, товарищ подполковник! — крикнул Георгий, стукнув в подоконник.
— А, наконец-то! — проворчал подполковник, откинув на миг штору. И тотчас же с дороги донеслось: «Убрать огонь!»
Сибирцев, не сняв шинели, прошел в кабинет.
Масленников, чем-то удрученный, убирал со стола документы, щелкал замками сейфа, письменного стола, даже не взглянув на своего помощника. Только убрав все, распрямился, сердито сказал:
— Где это вы задержались? Час назад звонил генерал, просил зайти вместе с вами. Ну-ка, покажитесь. Так и есть: весь в пыли, щетина выросла, подворотничок грязный… А еще разведчик…
За каждым словом Масленникова чудилось непонятное раздражение. Было похоже, что подполковника что-то рассердило без меры и свое зло он невольно срывает на первом встречном. Но ни спросить, ни догадаться, в чем дело, Сибирцев не успел. Подполковник кончил сборы, набросил шинель и молча вышел из кабинета. Сибирцев поспешил за ним.
8
Сибирцев действительно никак не был виноват в том, что подполковнику испортили настроение. Но молчать подполковник уже не мог и, идя впереди майора, продолжал ворчать, только так, чтобы тот ничего не слышал:
— И это называется муж! Уж если сумел жениться, так приспособил бы жену к кухне, не позволял в мужские дела мешаться! А что он может? Поди, и не подозревает, где его жена в это время находится…
Эта вспышка гнева против всех женщин вообще, совсем не похожая на обычное брюзжание, с каким он к ним относился раньше, возникла час назад, а успокоиться подполковник никак не мог.
Он вышел на минуту в дежурную комнату, чтобы распорядиться о вызове Сибирцева, с которым им предстояло отправиться к командующему, и вдруг увидел Марину Николаевну. Марина Николаевна, должно быть, давно уже ожидала, когда подполковник освободится. Она была без шинели, голова ее была тщательно причесана, губы чуть накрашены. И вся она была такой домашней, спокойной, что при одном взгляде на нее радовалось сердце: бывает же у человека такой мир на душе! И подполковник, поверив этому миру и покою, с удовольствием пригласил Марину Николаевну пройти в кабинет.
У него могло быть сколько угодно предположений о причинах, заставивших Марину Николаевну покинуть хозяйство Хмурова. Могло быть желание попросить отпуск: правильно, она этого вполне заслужила. Захотела переехать поближе к мужу:, тоже правильно, штаб находится в спокойном месте, их даже и не бомбят, есть в окрестностях много уцелевших домов, пусть поживут вместе. Интересуется представлением к награде: имеет право — наградной лист подписан давно. Другое дело, если бы Марина Николаевна запросилась на работу в отдел, тут подполковник, несмотря на все свое к ней уважение, посоветовал бы ей обратиться в отдел кадров. Хватит с него и того беспокойства, которое он вытерпел, пока Марина Николаевна была на операции. Тут она подполковника ничем не проймет!
Улыбаясь этим мыслям и догадкам, подполковник подал Марине Николаевне стул, уселся сам и, с удовольствием разглядывая отдохнувшее, спокойное ее лицо, вежливо спросил:
— Чем могу служить?
Вот эта именно неожиданная «штатскость», всегда невольно возникавшая в присутствии женщин в отделе, больше всего и бесила подполковника. Женщину невольно хочется пощадить, когда подбираешь людей на очередную операцию. И дежурить вне очереди ее не заставишь. А между тем рабочее место она занимает…
Впрочем, эти привычные рассуждения он отбросил, ожидая, чего же попросит у него Марина Николаевна. Слов нет, она отлично поработала, и подполковник готов даже покривить душой, лишь бы сделать ей приятное.
Марина Николаевна спокойно сказала:
— Как я понимаю, сегодня или завтра начнется наступление и на нашем участке. Прошу вас направить меня в те части, которым поручен захват Дойчбурга.
Голос ее не изменился, не дрогнул, он был так же ровен и спокоен, как и тогда, когда она здоровалась с подполковником. И Масленников, так же ровно, лишь чуть позволив сыронизировать, заметил:
— А вы и на самом деле отличная разведчица! Даже я не знаю, что где-то начинается наступление!
— Ваши знания, товарищ подполковник, я не ставлю под сомнение, — так же ровно ответила она, — Но и мои знания могут пригодиться!
Подполковник почувствовал, как у него запершило в горле. В других условиях он мог сорваться на крик, но это юное существо с прозрачными голубыми глазами, столь спокойно сидевшее перед ним, было как-то неудобно пугать криком. И он только сказал:
— Надеюсь, что те, кому это будет поручено, — если это когда-нибудь будет! — подчеркнул он, — справятся и без вас.
Она посмотрела на него с любопытством, ну, примерно так, как смотрят на человека, которого заподозрили в тупоумии. Этого подполковник уже не мог вынести. Он сжал кулаки и наклонил лобастую голову, чтобы не видеть любопытствующего взгляда.
— Вы забыли, товарищ подполковник, что я подчиняюсь штабу фронта? — все так же спокойно спросила она.
— Что это значит? — вскипел он, но тут же подавил желание выгнать ее. — Пока, — с какой же сдержанной яростью подчеркнул он это «пока», — вы находитесь в моем отделе!
— О да, несомненно, — бесцветным голосом согласилась она. — Но представьте себе, товарищ подполковник, что я предугадала ваш ответ на мое скромное пожелание и обратилась через вашу голову в штаб фронта. Мне кто-то говорил, что вы недооцениваете нас, женщин-военнослужащих. Что, с вашей точки зрения, единственное подходящее для нас место в армии — госпиталь, дезинсекционный отряд и прачечная. Может быть, меня неправильно информировали? — Она смотрела с лукавым вызовом, и подполковник мог бы поклясться, что в глазах ее бегают смешливые бесенята. Она совсем не боялась его! И это было не только странно, это было непозволительно!
— Товарищ лейтенант!
Она вскочила, как будто отпустили скользкую, гибкую пружинку, и выпрямилась, нарочно громко прищелкнув каблуками своих коротких сапожек, и опять в ее подчеркнуто почтительном этом вытягивании «во фронт» не было ничего от испуга, от трепета перед старшим, одна игра.
— Садитесь, — сухо приказал он.
Она села, и это было свободное движение, как будто она сама принимала его или пришла к нему в гости, любопытствующая, милая по отношению к нему, ожидающая, чем он может порадовать ее.
— Конец войны теперь отчетливо виден, — сурово поучающим тоном начал он. — Этот конец даже и не на той стороне Германии, а значительно ближе, где-нибудь в Померании, в Берлине. Было время, когда стране нужен был каждый человек, могущий держать оружие в руках. Тогда и женщинам было много дела в армии. Но теперь вы должны предоставить войну мужчинам, а вам пора возвратиться к своим прямым обязанностям: материнству, дому, мирной работе…
Он заметил, как потускнели ее глаза, но для него это было лишь доказательством ее упрямства: вон, даже и слушать не желает! — и он закончил свою речь с известным щегольством:
— Один известный английский поэт в свое время сказал:
Великие вещи две, как одна: Во-первых, любовь, во-вторых, война. Но конец войны затерялся в крови. Давай, мое сердце, говорить о любви!— Знаю, — без всякого уважения сказала Марина Николаевна, — Киплинг. Империалист.
Он усмехнулся в ответ на это школярское изречение, вырвавшееся у очень взрослой женщины, но продолжать поэтическую тему не стал. Да и вид Марины Николаевны, погрустневший и потускневший, не располагал к лирике. Уверенный, что теперь-то он уже убедил эту порывистую женщину, подполковник только добавил:
— Теперь вам, Марина Николаевна, прямая дорога в тыл!
— А мужа вы тоже со мной отпустите? — вдруг язвительно спросила она.
— Что это за разговор? — возмутился подполковник.
— А как же насчет материнства? Дома? Мирного труда? Без мужчины в доме все это несостоятельные понятия!
— Ну, не так уж долго осталось ждать, — сердито сказал он, уязвленный ее цинической интерпретацией таких простых и правильных высказываний.
— Так вот, товарищ подполковник, — ледяным тоном сказала Марина Николаевна, — именно для того, чтобы наши мужчины поскорее вернулись к семьям, мы, женщины, и будем продолжать воевать рядом с ними. И запретить это вы нам не сможете! Я подозревала, чем кончится наш разговор, и заранее обратилась в штаб фронта. Пожалуйста, познакомьтесь с их ответом, он в папке очередных распоряжений.
Подполковник, медленно багровея, раскрыл папку и принялся перелистывать радиограммы, искоса поглядывая на торжествующее лицо Марины Николаевны. Но вот он нашел то, о чем она говорила. Штаб фронта приказывал зачислить лейтенанта Стрельцову в парашютно-десантный батальон Демидова…
Масленников испытывал странное чувство раздвоения. Он был и согласен с теми, кто посчитал, что эта женщина, прошедшая сквозь огонь и кровь к Нордфлюсскому мосту, нужна там в решительный час атаки, и в то же время жалел эту женщину, но где-то пробивалась в нем гордость за нее, в чем он никогда бы не признался.
Прочитав радиограмму, он захлопнул папку, встал, официально произнес:
— Можете идти, лейтенант! — но не удержался и насмешливо спросил: — Надеюсь, сопроводительные документы вы выписали себе заранее?
Она улыбнулась и в тон ему ответила:
— О да! Я не хотела тратить зря время!
Она вышла, прямая, тонкая как струна, даже шаг печатая по-парадному, словно решила нарочно позлить его своей выправкой, а он все стоял и глядел ей вслед. А когда вышла, вздохнул, сел за стол, потянулся почему-то к нижнему ящику стола, вытащил заброшенный туда стилет, повертел его в руках, словно сдавался перед судьбой. Вот, мол, делал все, что мог, а ничего не получилось. И пока эта женщина не вернется оттуда, из огня, я буду постоянно думать о ней…
Стилет, упав на стол, коротко и отрывисто прозвенел, как сигнал тревоги.
9
Ни одного слова о встрече с Мариной Николаевной Масленников майору не сказал. Зачем бередить его душу? Еще неизвестно, какова будет судьба Сибирцева в предстоящем наступлении, где будет его место.
Он усадил майора в машину, сам сел рядом с шофером, и они тронулись по темным улицам, казавшимся мертвыми, хотя кругом слышался напряженный гул движения. И стоило шоферу включить подфарники на повороте, как раздалось сразу несколько требовательных голосов!
— Убрать огонь!
— Эй, на машине! Свет!
Шофер выключил свет.
И тотчас же где-то вдалеке послышался рокот самолета. Подполковник положил руку на плечо шофера, машина остановилась. Офицеры прислушались: немецкий самолет шел на порядочной высоте в сторону фронта.
— Ищет, — сказал Масленников.
— Не найдет, — отозвался Сибирцев.
Как бы отвечая одинокому немецкому разведчику, с широкого туманного поля, что лежало за городом, донесся требовательный гул бомбардировщиков, затем машины пролетели прямо над дорогой и повернули в сторону фронта. Рокот разведчика замер далеко на юге, фашист, должно быть, торопился домой с негостеприимной земли.
Два автоматчика на перекрестке осветили на мгновение машину зелеными фонариками, узнали подполковника и козырнули ему. Шофер свернул к большому дому, белевшему в темноте. Возле шлагбаума офицеры вышли из машины, дальше надо было идти пешком.
Рядом с дорогой плескалась в озере вода, сухо шуршала листва под ногами, и потрескивала от ветра осока. Генерал жил в просторном помещичьем доме, где до этого находился штаб одной из немецких армий. Война наложила свой отпечаток и на здание, и на сад, и на круглое озерцо с темной, словно металлической водой. Немецкие саперы, маскируя подъезды к зданию своего штаба, взорвали дубовые аллеи в парке, заложив под каждый дуб пачку тола. Деревья накренились, истекая желтым соком, словно пытались залечить раны, нанесенные войной. Бомбы, сброшенные с наших самолетов, покрошили плотину, разворочали газоны.
Адъютант, с бессонными, покрасневшими глазами, встал навстречу офицерам. Приемная была пуста. Из соседней комнаты через приоткрытую дверь слышался ровный и спокойный голос генерала, разговаривавшего по телефону. Офицеры сбросили шинели и попросили адъютанта доложить о них. Через некоторое время тот вернулся и пригласил пройти. Масленников еще раз с огорчением осмотрел Сибирцева, покачал головой и прошел вперед.
Генерал, пожилой человек, с резко очерченным лицом и острыми глазами, почти прикрытыми огромными седыми бровями, сходившимися на переносице, улыбнулся Масленникову и молча указал на кресла перед своим столом. Сибирцев неприметно разглядывал командующего, вспоминая все разговоры, которые слышал о его характере. В день своего представления он был так смущен, что не осмелился внимательно рассмотреть его, да и мало еще знал о нем. Только недавно услышал он, что месяц назад у генерала погиб на фронте сын, младший лейтенант, командир взвода; что генерал известен своими дерзкими операциями; что во время прорыва фронта противника его армию всегда ставят на самый трудный участок, и есть у него военное счастье, которое помогает побеждать в самых трудных условиях… Впрочем, так говорят в армии о всех любимых генералах, и трудно сказать, чьих заслуг больше в этом военном счастье — тех ли, кто командует, или тех, кто эти команды исполняет.
Говорили еще, что генерал не любит распущенности, что бывали случаи, когда он отчислял из штаба офицеров за то, что они были неряшливы, разносил боевых командиров за недостаточную опрятность, недаром подполковник был так озабочен внешним обликом Сибирцева. Однако генерал как будто не обратил внимания на внешний вид майора, сразу подошел к карте, что висела над столом, занимая почти всю стену.
— Ну-с, подполковник, это и есть тот молодец, за которого и вы и начальник штаба ручаетесь? — спросил генерал, окинув взглядом Сибирцева. — Что ж, проверим! Подойдите, майор, сюда!
Сибирцев невольно вздрогнул, раздумывая: а что мог сказать о нем подполковник?
Взволнованный, он стоял чуть позади командующего, разглядывая крупномасштабную карту того участка фронта, на который была нацелена армия.
— Ну-с, молодой человек, давно вы воюете? — спросил командующий.
— С первого дня войны, товарищ генерал, — ответил Сибирцев и облегченно вздохнул, радуясь тому, что первый вопрос оказался таким простым.
— Вы под Псковом не были?
— Нет, товарищ генерал.
— Жаль. Ну, а под Демянском?
— Никак нет, товарищ генерал!
«Хоть бы понять, к чему он клонит? Псков. Демянск — что там было? Долговременная оборона, трудный плацдарм, неудачные попытки прорыва», — он молниеносно припоминал весь материал лекций, пытаясь уловить что-то особенно значительное, но ответа не находил.
— Так, так… Ну, а под Минском были?
— Тоже нет, товарищ генерал… — И вдруг одна мысль мелькнула у него, и он, не замедлив, с некоторым отчаянием выпалил: — Зато я был на Припяти, товарищ генерал, там тоже большие болота…
— Н-ну? — генерал с некоторым удивлением посмотрел на майора, потом обернулся к Масленникову и покачал головой: — Остер, остер, спору нет, если только не ты его наточил, подполковник!
— Что вы, товарищ генерал, я же не знал, о чем пойдет речь, — засмеялся Масленников.
— Так, значит, вы в болотах уже поползали, молодой человек?
— Поползал, товарищ генерал!
— Вот и хорошо. Значит, вы можете, глядя на эту карту, объяснить нам, в чем вы видите или предвидите разницу между войною на нашей территории и войною на предстоящем плацдарме? Не торопитесь, подумайте, — тоном учителя, который не желает зла ученику, сказал генерал и даже отвернулся от карты, чтобы не смущать экзаменуемого.
«Вот оно, тут я и срезался!» — совсем по-мальчишески подумал Сибирцев, вглядываясь в карту до боли в глазах. Генерал опустился в кресло за его спиной и закурил. Сибирцев услышал, как щелкнула зажигалка, почувствовал, как запахло табаком, но не осмелился оглянуться, хотя и надеялся, что подполковник может каким-нибудь знаком пособить ему. Ей-богу, ему приходилось сейчас куда труднее, чем в школе во время экзаменов. Здесь, он понимал это, проверяются его знания законов войны, чтобы дать ему возможность затем применить их на деле, а там каждая задача имела только теоретическое значение. И он невольно подумал, что, будь на его месте любой другой офицер, хоть тот же Серебров с его черной тетрадью, в которой было больше военных примеров, чем в любом академическом справочнике, или капитан Власов, все время возившийся со своими артиллерийскими упражнениями, они немедленно решили бы эту задачу. Сибирцев понимал, что решение лежит перед ним, оно на карте. Генерал проверяет его знания именно потому, что есть в будущем сражении какое-то отличие от тех боев, в которых Сибирцев участвовал раньше. И он внимательно читал эту наизусть выученную карту, которую знал, наверное, даже и лучше, чем генерал, недаром столько времени Масленников внушал ему, что от этих знаний будет зависеть победа всей армии, а не какого-нибудь одного батальона. Так что же особенного будет в этом сражении?
— Ну как, надумали, молодой человек? — спросил генерал за спиною Сибирцева.
Многократное обращение «молодой человек» теперь резануло Сибирцева по сердцу. Он понял, что от его ответа зависит, признает ли генерал его стоящим офицером, или так и останется Сибирцев для него «молодым человеком». Он повернулся, прищелкнув каблуками, и увидел, что генерал смотрит на него довольно доброжелательно. Сибирцев еще раз с отчаянием посмотрел на карту и хотел уже ответить, что ничего не придумал, как вдруг глаза его приковались к той точке на карте, которой он посвящал все почти свое время. Дойчбург! Да, но что дальше? Нордфлюсс! Так, а что же дальше?
— Одну минуту, товарищ генерал…
— Пожалуйста, пожалуйста.
Сибирцев видел, как Масленников утвердительно кивнул головой, словно ручаясь за своего ученика.
«Хорошо, Дойчбург мы прощупали, но чего ждет от меня генерал? — волнуясь, думал Сибирцев. — К чему он спрашивал меня, воевал ли я в болотах?» Потом вдруг вытянулся, уже не видя карты, потому что все неожиданно стало ясным. Теперь он читал не эту карту, что висела перед ним. Он видел болота Припяти, танки и пушки, застрявшие в болотах, видел измученных солдат, что тащили их на руках, видел отстающие роты и полки, перед которыми была поставлена задача выйти к такому-то часу, а они не добирались и через сутки после назначенного срока. Все это он видел воочию, видел и понимал, что ничего этого не будет здесь, потому что вчера еще пехотинцы были в Латвии, а сегодня они в полном порядке, без Отсталых, отдохнувшие и сытые, оказались здесь; позавчера еще танки Яблочкова бились у Шауляя, а сегодня они уже готовы к бою за триста километров… Да, да, именно об этом и думал генерал…
— Разрешите доложить, товарищ генерал? — обратился Сибирцев и сам удивился, как отчетливо и сухо прозвучал его голос.
— Доложите, доложите, — с подчеркнутой внимательностью сказал генерал, встал с кресла и снова оказался рядом с Сибирцевым перед картой.
— Я полагаю, товарищ генерал, что основное различие между боями на нашей территории и на территории врага окажется в том, что здесь немцы будут воевать при помощи мобильных резервов, расположенных далеко за линией обороны и подготовленных для переброски в угрожаемые участки при помощи сети дорог, которыми так богата эта местность, в отличие, скажем, от Белоруссии… Это позволит противнику, даже при тех сравнительно малых резервах, которые остались в его распоряжении, ожесточенно сопротивляться нашему наступлению. Но мне кажется, что опыт прошлых боев уже выработал такую тактику, которая может свести на нет это кажущееся преимущество противника. Стоит только нарушить связь между фронтом и тылом противника, захватить дороги, хотя и малыми силами, и его резервы будут скованы, — это все, что я имею сказать, товарищ генерал.
— Каково, подполковник, нет, ты скажи, каково! Молодец, настоящий молодец! Гляди у меня, не томи его в канцелярии, из него еще выйдет Суворов! Головой ручаюсь, что выйдет!
— Я говорил вам, товарищ генерал, — скромно улыбаясь, сказал Масленников.
— Нет, что там ты говорил! Он говорил! Я даже заслушался! Словом, это почти то же самое, о чем я только сегодня докладывал маршалу! А самое главное, что маршал поддержал мое предложение. Мосты в Дойчбурге мы будем брать с воздуха.
Масленников перехватил умоляющий взгляд майора и сказал:
— Сибирцев как раз просил послать его в части, которым будет поручена атака на Дойчбург. Он так изучил эту местность, что пройдет по ней с завязанными глазами…
— Ну-ну-ну, майора вы оставьте мне! Я ему сам найду дело… Как, майор, согласны?
— Слушаю, товарищ генерал! Но я просил бы разрешения участвовать в бою…
— Вы и будете в бою. Ваша задача будет состоять в том, чтобы проследить за выполнением тех условий, о которых вы так хорошо говорили. И в Дойчбург вы попадете, только не с парашютистами, а с частями, которые будут поддерживать атаку парашютистов. Понятно?
— Понятно, товарищ генерал!
— Ну, подполковник, прощайся с ним. Боюсь, что он к тебе больше не вернется…
— Вы же обещали взять его только на одну операцию, — возразил Масленников.
— Я и беру на одну операцию на освобождение Германии от фашизма. Будем надеяться, что она продлится недолго.
Масленников замолчал, с обидой взглянув на майора. Он как будто сердился на Сибирцева за то, что тот сумел понравиться командующему.
— Теперь слушайте, майор, — совсем другим тоном, строгим, но и доверительным, продолжал командующий. — Сейчас вы направитесь в батальон капитана Демидова. Ему будет принадлежать честь захватить мост через Нордфлюсс. Немцы столько кричали о том, что опередили русских в умении проводить крупные парашютно-десантные операции, так хвалились захватом Крита с воздуха, что совсем забыли, у кого учились этому искусству. Теперь и небо Германии должно принадлежать нам. Иначе наша атака может захлебнуться на подступах к Дойчбургу…
Сибирцев слушал, радуясь в душе тому, что плечом к плечу с ним будет старый друг, и в то же время с болью думая, как тяжела задача, возложенная на батальон Демидова.
— Договоритесь с Демидовым о деталях. После этого вы примете две танковые роты: Яблочкова и Подшивалова и приданный им танково-десантный батальон капитана Сереброва. Они уже информированы о задаче, Местонахождение их знаете?
— Так точно.
— Ну, действуйте, майор. От вас во многом будет зависеть успех наступления. Фронт мы прорвем. Но если фашисты задержат нас перед Нордфлюссом, половина дела окажется несделанной. Кроме вашей группы, в этом направлении будет действовать еще один танковый дивизион. Их позывные — Астра. Ваши — Алмаз. Позывные Демидова — Аврора.
— Заря, — тихо сказал майор и смутился, заметив, что генерал улыбнулся.
— Именно, майор, заря. Начало рассвета в мире… Генерал встал, поглаживая пальцами пышные брови.
Масленников протянул ему какие-то бумаги. Сибирцев взял пакет, предназначенный для Демидова, и попрощался.
Выходя из кабинета, он услышал быстрый голос генерала:
— А побриться, майор, все-таки не мешает!
10
На этот раз Георгию не пришлось пробиваться на базу Демидова через встречный поток. Едва он успел побриться, как позвонили с аэродрома и доложили, что его ожидает самолет.
ПО-2, на котором должен был лететь Сибирцев, рядом с «дугласами» и «петляковыми» казался маленьким, и Сибирцев несколько неодобрительно оглядел его. Летчик стоял возле самолета, опершись на крыло, и курил. Было совсем темно, только огонек его папиросы описывал однообразные дуги и вспыхивал сильнее, когда летчик затягивался. Увидав пассажира, летчик загасил папиросу и поспешил занять свое место.
Сибирцев напряженно смотрел вниз, угадывая на всех дорогах беззвучное, но мощное движение. В тот момент, когда они делали разворот на северо-восток, он увидел справа длинную волнистую дугу огня, затем до них донесся непрерывный, все нарастающий грохот: там артиллерия прокладывала дорогу пехотным дивизиям…
Вверху немного посветлело. Летчик обернулся к майору, что-то крикнул, потом поднял вверх большой палец в меховой перчатке, сигнализируя, что на земле все в порядке. И хотя никто и нигде не говорил, что должно начаться наступление, Сибирцев понял по этому жесту, Что летчик все знает и тоже рад начинающемуся бою.
Сибирцев пытался разглядеть в темноте места, над которыми они летели, надеясь угадать темные пятна хуторов и перелесков, найти более светлые ленты рек. Но он так ничего и не угадал и даже но поверил, когда самолет вдруг нырнул вниз, а на земле явственно вспыхнули посадочные сигналы.
Выскочив из самолета, Сибирцев сейчас же узнал Демидова, бежавшего к нему навстречу, размахивая фонарем-динамиком. Отвечая на приветствие Демидова, майор настороженно прислушался к земным звукам.
В той стороне, откуда он прилетел, волны грома не затихли, а, наоборот, еще более усилились, так что даже здесь воздух колебался. Вся юго-западная часть горизонта постепенно светлела, как будто грохот этот приближал час рассвета.
— Разрешите представиться… — начал было Демидов, но узнал Георгия, улыбнулся, так что все его зубы заблестели в смутном свете фонарика, и через мгновение продолжил с той же отчетливостью: — Капитан Демидов. — После этого он сжал руку Георгия с тем же ощущением радости, которую испытывал и сам Сибирцев, и еле слышно добавил: — Ну, началось!
— Началось! — так же тихо ответил Сибирцев.
— Машина рядом, — уже громко и отчетливо сказал Демидов.
— Начальник штаба батальона старший лейтенант Голосков, — представился другой офицер, и для Сибирцева это звучало примерно так: «Мы уже давно были готовы, ждали только приказа!»
— Пакет у меня! — сообщил Сибирцев, и офицеры ускорили шаг.
Они вошли из темноты в комнату, и яркий свет на мгновение ослепил их.
— Так, — сказал Демидов, прочитав сопроводительную бумагу и передавая ее Голоскову. — Наша задача — овладеть мостом через Нордфлюсс в Дойчбурге.
Голосков, прочитав бумагу, перевернул ее обратной стороной, словно надеялся увидеть там еще какие-нибудь инструкции. Потом бережно сложил ее и запер в несгораемый ящик.
— Значит, не напрасно работали с макетами, — улыбнувшись Демидову, сказал он. И Сибирцев понял, что Демидов давно уже отрабатывал будущую операцию.
Между тем Демидов вынул из пакета фотографии и разложил их по номерам.
— Вот видишь, — обрадованно воскликнул Голосков, взглянув на фотографию, — Тот же самый мост…
— Правильно, — согласился Демидов, — Ну, иди поближе. Надо рассмотреть что к чему!
Офицеры склонились Над столом, рассматривая фотографии.
Вначале они увидели мост через Нордфлюсс и город Дойчбург с высоты полета. Земля внизу клубилась дымками зенитной стрельбы. Мост находился в предместье города, в восточной стороне.
На следующем снимке была видна только восточная часть предместья, тот же мост и поле перед ним. Здания возле моста с той и другой стороны реки еще не распознавались отчетливо. Но было понятно, что для захвата моста не надо врываться в самый город, перед мостом большая площадка, к тому же изрытая воронками от бомб, на которой можно приземлиться и собраться, а если понадобится, то и принять бой, так как воронки вполне укроет нападающих парашютистов.
Третий снимок и все последующие были сделаны разведчиком. Бесстрашный человек подобрался к мосту с разных сторон. На этих снимках были отчетливо видны каменные строения по обеим сторонам моста, очень старинные, с готическими башенками, сложенными из гранитных валунов, должно быть оставшиеся еще от тех времен, когда хозяева Дойчбурга взимали мостовую пошлину с проезжавших здесь пруссов и литовцев. Теперь в этих каменных башнях находилась охрана моста. Заштрихованные пятна в устоях показывали заложенные немцами заряды взрывчатки.
— Да, работа, — медленно выдохнув воздух, сказал Демидов, — Как будто уже побывал там. Очень прошу, передай нашу благодарность тому, кто делал эту работу.
— Да я и сам не знаю, — усмехнулся Сибирцев.
— Ладно, ладно, — сказал Демидов, — Я тайн не выпытываю. Я просто прошу от нашего имени поблагодарить их за все, что облегчит наш труд. А труд будет большой…
В этом признании предстоящего труда не было ни боязни, ни сожаления. В нем звучала уверенность, что все будет сделано как надо.
И Сибирцев понял, что каждое добавочное знание только поможет Демидову. Он сказал:
— Все эти снимки сделала Марина…
— Марина? — Демидов смотрел широко открытыми удивленными глазами, — Да как же она смогла?
— Мы-то с тобой можем? — упрекнул Сибирцев.
— Да ведь мы идем с оружием. А она…
И оба замолчали. Молчал и Голосков. Он не знал Марины, но, если его начальник поражен и восхищен, значит, девушка что надо! И он сочувственно ждал, что скажут о ней еще.
Но для Демидова имя Марины прозвучало как напоминание о том, что он должен сделать все как можно лучше, чтобы ее трудная работа не пропала даром. Он знал эту работу! А Сибирцев думал, сумеет ли увидеть Марину до начала наступления…
— Товарищ капитан, телефонограмма, — послышалось за дверью.
— Давай, давай, — ответил Демидов.
Собрав снимки и передав их Голоскову, он торопился перейти теперь к очередным делам.
Расшифровав телефонограмму, он сказал Голоскову:
— В четыре ноль-ноль. Подъем в три двадцать, а сейчас пусть люди отдыхают. — Но в голосе его послышалось какое-то недовольство.
— Что-нибудь случилось? — спросил Голосков, привыкший понимать настроение командира.
— Присылают нового связиста, — сердито ответил Демидов. И пояснил Сибирцеву: — Наш связист в госпитале. А с новичками, сам знаешь, трудно срабатываться, да еще в операции.
— Ну, отдел кадров знает, кого послать, — успокоил его Сибирцев, но втайне посочувствовал Демидову.
— Сейчас я тебя провожу, — не принимая утешения, сказал Демидов. — Надо еще подготовить самолеты.
Уже прощаясь, Сибирцев сказал:
— В самом крайнем случае взорвешь мост и отходи на восток. Немцы его подготовили к взрыву, так что тебе надо только отыскать мины.
— Этого не будет, — сердито сказал Демидов. — Взорвать мост, а танки будут стоять на берегу? Ты лучше поторопи танкистов, когда прорвете оборону.
— Мы придем к девяти часам…
— Ничего, я смогу и до двенадцати подождать, — уверенно сказал Демидов.
Голосков подтвердил кивком головы это обязательство.
— Ну, все! — Демидов закрыл планшет, протянул обе руки Сибирцеву. — Ты в штаб?
— Нет, сначала заеду к Хмурову.
— Ну, будь здоров! До встречи в Германии! — торжественно сказал Демидов и торопливо попрощался. Было видно, что он уже с головой ушел в свои заботы.
В хозяйстве Хмурова Сибирцев сразу почувствовал неладное. Все было не так, как в прежние наезды. Автоматчик у ворот не улыбнулся на приветствие, торопливо проводил майора к Хмурову.
Хмуров сидел у телефона и сердито кричал в трубку. Увидев Сибирцева, он прервал разговор, встал, коротко сказал:
— Лейтенант Стрельцова выехала в штаб армии, — и уже более доверительно добавил: — Вот все еще доругиваюсь по этому поводу… Говорят, сама изъявила желание. А мне ничего не сказала, — с обидой закончил он, — Ну, а вы как?
— Да вот отправляюсь на операцию.
— Жаль, жаль, что вы так поздно, Она только что уехала. Может, еще догоните…
— Вряд ли.
Хмуров взглянул на расстроенное лицо Сибирцева, и в глазах его мелькнуло сожаление. Однако промолчал.
Сибирцев попрощался и вышел к машине. И тут он увидел то же сожаление, которое было в глазах Хмурова. Автоматчик, ординарец Хмурова и еще несколько солдат стояли возле машины, молчаливо приветствуя майора и внимательно глядя на него. И Сибирцев понял, что они хотели утешить его, успокоить: не всех убивают в бою… Ведь об этом же сказал или хотел сказать Хмуров…
По дороге на аэродром Сибирцев с горечью думал, что ради его, Георгия, спокойствия Марина умолчала при последнем свидании об уходе на новую операцию. А может быть, он сам был так недогадлив, что не понял ее?
11
Проводив Сибирцева, Демидов долго стоял на аэродроме, глядя в темное небо, прислушиваясь к отдаленному грому, который становился все яснее и достигал этих затерянных мест, накатываясь длинными волнами. Так слышится морской прибой.
— Двадцать три пятьдесят, — кашлянув, сказал Голосков. — Я пойду приготовлю карты…
— Хорошо, — глухо ответил Демидов. — Снаряжение я проверю сам.
Голосков ушел. На краю аэродрома он оглянулся и увидел капитана на том же месте. Он чернел неподвижным силуэтом на фоне посветлевшего на западе неба.
О чем думал Демидов в этот короткий час одиночества? О чем думают люди в предвидении опасности?
Стараясь отогнать от себя навязчивые мысли, тяжело ступая по гудящей земле, Демидов пошел к транспортным самолетам, силуэты которых едва виднелись на краю аэродрома. Но, подумав о самолетах, о запасах оружия и боеприпасов, он пошел быстрее, движения его стали легче и уверенней. Теперь он был занят только своим непосредственным делом, своими людьми, вооружением, и все стало привычно и просто.
В три десять подготовка была окончена. Демидов вернулся в штаб. Голосков спал на широком диване, даже сапоги снял. Демидов поморщился, но не стал будить. Пусть поспит последние десять минут.
Демидов не понимал, как можно спать в такие минуты, а потом, проснувшись, думать и говорить о далеком будущем, когда все может решиться в ближайшие десять минут. Но Голосков поступал именно так, и Демидов ничего не мог с ним поделать. За размышления и мечтательность нельзя наложить взыскание по дисциплинарному уставу, как, например, за то, что медицинская сестра Кольцова в каждой операции прежде всего съедает из неприкосновенного запаса шоколад, а уж потом принимается за концентраты и сухари. Кольцова ссылается на то, что может случиться так — всего съесть не удастся, пусть уж лучше пропадут сухари, чем шоколад или сгущенное молоко. Но за эту странность еще можно наложить взыскание, а за мечты о далеком будущем и за умение спать перед самым началом операции — нельзя…
Дежурный открыл дверь и спросил:
— Можно?
Вслед за ним вошла женщина в форме лейтенанта, остановилась у двери и отрапортовала:
— Лейтенант Стрельцова явилась в ваше распоряжение…
Демидов молча стоял посреди комнаты. Свет лампы падал из-за его спины, оставляя лицо в тени. Он был рад этому и не отрываясь смотрел на Марину. Она немного похудела, губы обветрились, щеки чуть ввалились. Лицо стало выразительным, строгим.
Дежурный вышел.
Демидов отступил на один шаг, так, чтобы свет упал на его лицо. Марина смотрела на него, не понимая, почему капитан не ответил на ее приветствие.
— Ты разве не знала, что идешь ко мне? — тихо сказал Михаил.
— Миша! — обрадовалась она. — А мне назвали начальника штаба лейтенанта Голоскова.
— Вот он спит, — шепотом ответил Демидов.
В тишине этой была надобность не потому, что рядом спал Голосков. В эту минуту они с благодарностью подумали о судьбе, которая свела их вместе для трудного и опасного дела.
— Вечером здесь был Георгий, — сказал Демидов.
— Я не успела его предупредить, — вздохнула Марина.
— Ничего, мы с ним еще встретимся. Знаешь, он пойдет с танковым десантом на Дойчбург, — с гордостью за друга сказал Демидов.
И вдруг заметил, что Марина не обрадовалась. Ему стало неловко, словно он подглядел ее опасения. Она боялась. Не за себя, за Георгия.
Он отвел глаза. Заметил, что Голосков не спит. Начальник штаба лежал на диване, закрыв глаза, но по неестественно ровному дыханию и по тому, как часто делал он глотательные движения, чувствовалось, что он с интересом прислушивается к их беседе, боясь нарушить ее. Тогда Демидов взглянул на часы и громко сказал:
— Три двадцать пять. Вставай, Голосков!
Голосков встал, натянул сапоги. Демидов познакомил его с Мариной. Старший лейтенант с удовольствием и без стеснения разглядывал ее, пока Демидов не сказал:
— Пора!
Голосков выбежал за дверь, Сейчас же послышался сигнал тревоги. Замелькал свет в открываемых дверях. Хлопанье, топот, короткие и еще нестройные крики команд. Демидов собрал карты со стола, подтянул ремень, сказал:
— Задачу знаешь?
— Да, — коротко ответила она, сразу переходя на деловой тон.
— Полетишь со мной, Павел, — крикнул он адъютанту, — проводи лейтенанта Стрельцову к связистам! Вылет в четыре ноль-ноль. Сверим часы!
Марина перевела стрелку часов на две минуты вперед, оглянулась на дверь. Адъютант уже стоял на пороге. Кивнула головой Демидову, совсем как бывало в юности, — и вышла.
За окном продолжалось сильное и непрерывное движение. Демидов окинул комнату взглядом надолго уходящего человека и пошел к выходу.
Люди уже выстроились на аэродроме. В темноте все казались горбатыми и неуклюжими от парашютных ранцев, надетых на плечи. Демидов шел по рядам, придирчиво приглядываясь ко всему, что белело и светилось, что, не замеченное здесь второпях, могло там, в Германии, стать причиной смерти человека. Он приказал одному сержанту немедленно переменить шинель, а потом пошел к Марине.
Он увидел ее издалека. Марина еще не переоделась. Она стояла с группой связистов, проверяя укладку радиостанций. Она казалась очень деловитой и спокойной, и Демидов не окликнул ее, только подивился, как охотно и живо подчинялись ей девушки-радистки. Видимо, Марина пришлась им по сердцу…
С аэродрома поднялась красная ракета. Люди тронулись нестройными рядами, торопясь к самолетам. Демидов переждал, пока вышли все. Вот уже и связисты прошли, теперь Марину не различишь среди других. Вот пробежал Голосков. Последний раз оглядел Демидов огромный дом и службы поместья и торопливо пошел к самолету. Весь аэродром загудел.
…Самолеты выходили на старт. Марина, посадив связистов, подошла к Демидову. Он пропустил ее и вошел за нею в самолет, осветив людей своим фонарем. Лица у всех были напряженные. Демидов сел рядом с Мариной и погасил фонарь.
Когда поднялись в воздух, стало светлее.
— Наши наступают! — крикнул кто-то громко. Все припали к окнам.
Внизу простиралась огненная полоса. В нескольких местах она прорезывалась темными пятнами, похожими на тоннели, проложенные в огне. Сверху земля напоминала электрифицированную карту, на которой селения и высотки были опоясаны светящимися линиями.
— Георгий там? — спросила Марина.
— Страшный огонь, — словно про себя сказала она. И Демидов опять подумал о том, что для нее страшно там, где сейчас Георгий, а если бы Георгий знал, где она сейчас, ему показалось бы, наверно, что ее положение опаснее. И от этой мысли ему стало легче, словно тягота военной опасности распределилась равномерно и на его долю осталась самая малость…
Внизу показалась лента реки. И сразу стал виден Дойчбург. Город горел, подожженный бомбардировщиками.
Бомбили только западную окраину — вокзалы и подъездные пути, оставив восточную часть с мостом в темноте. И Демидов порадовался тому, что бомбардировка была прицельной, никто не осветил случайным пожаром место высадки десанта. И на мосту, совершенно невидимом, никто не стрелял по самолетам, гитлеровцы надеялись укрыть его от налета.
В этот миг летчик качнул крыльями, отвечая на сигналы ведущего, и Демидов поднялся с места.
— Пора! — коротко сказал он.
Из открытых люков пахнуло такой сыростью и резким ветром, что стало зябко. Темная, враждебная земля лежала внизу, настороженно следя за русскими самолетами. Демидов заглянул в люк и увидел широкие серые тени парашютов, оторвавшиеся от передних самолетов, еще невидимые с земли, но отлично различимые отсюда, сверху.
Он прыгнул вслед за Мариной, надеясь приземлиться где-нибудь рядом, чтобы защитить ее в первые мгновения. Прыгая, он по привычке закрыл глаза, сосчитал до трех, затем открыл их, продолжая свободное падение. Земля приближалась, и он дернул кольцо. В этот момент фашисты открыли огонь, обеспокоенные долгим гудением кружащихся над мостом самолетов.
12
В три часа утра танковые части заняли исходные позиции для прорыва. Артиллерийский обстрел, начавшийся с вечера, продолжался все с той же неукротимой силой.
Уже невозможно было разобрать голоса отдельных батарей. Грохот тяжелых орудий, что били через головы первого и даже второго эшелона приготовившихся к броску частей, сливался с залпами легких пушек, расположенных в боевых порядках пехоты. Что же происходило там, за огневой линией русских батарей, у гитлеровцев, если даже здесь казалось: нечем дышать.
Роты Яблочкова и Подшивалова Сибирцев нашел в лощине, в лесу. Танки укрылись между деревьями. На них лежали ветви и листья, сбитые немецкими снарядами еще в первые часы артиллерийской перестрелки. Теперь фашисты больше не стреляли по лесу, а танкисты стояли возле машин, переговариваясь знаками. Рядом с каждым танком собрались автоматчики, которые должны были сопровождать танкистов в рейде. Пехотинцы волновались, многим из них приходилось участвовать в танковом прорыве впервые.
Один из танкистов проводил Сибирцева в землянку, где находились командиры рот.
Сюда грохот доносился слабее. Оглядевшись, Сибирцев узнал среди командиров Подшивалова, Яблочкова и Сереброва. Пехотный капитан сидел в углу, внимательно слушая разговоры танкистов.
— А, товарищ майор! — обрадованно закричал Яблочков, увидав Сибирцева. — Давно ждем, давно! А это наш десант! Как вам нравится? Встреча старых друзей. Фейерверк, иллюминация и салют. Ведь будет нам салют за сегодняшнюю ночку? Будет?
— Будет, будет! — улыбнулся Сибирцев.
— Что ж, выпьем за следующую встречу! — Яблочков поднял бутылку, в которой было еще немного вина, разлил его в кружки, пахнувшие бензином, которым пропахло все в землянке, и подал одну Сибирцеву, вторую Сереброву.
— Не могу, — отказался Серебров с сожалением, — здоровье не позволяет.
— Вот чудак, — удивился Яблочков, — а если фашисты всадят в тебя полкило осколков, что случится с твоим здоровьем?
— Ну, то судьба, по-научному — кисмет, — сказал Серебров. — А пока я жив, надо о здоровье заботиться. Вот старший лейтенант выпьет с удовольствием, — он указал на Ворона, который быстро писал что-то, положив на колени планшет.
— Письмо? — спросил Сибирцев.
— Да, — ответил Ворон, принимая от Яблочкова кружку. — Подшивалов опять получил свою сотню писем и вот попросил помочь.
Ворон с удовольствием выпил, крякнул и потянулся к столику, на котором стояли открытые консервные банки. Закусив, он снова склонился над планшетом, чему-то улыбаясь.
— Получается? — спросил Подшивалов.
— Получится, — уверенно ответил Ворон. — Можешь от нее больше писем не ждать. Мне писать будет.
Подшивалов склонился над листком, прочитал про себя письмо и с завистью сказал:
— Чистый Тургенев… Открыл бы курсы, что ли, как надо девушкам писать.
Сибирцев невольно подумал о том, как странно, что офицеры способны балагурить в такое серьезное, ответственное время. И тут же вспомнил, что и сам в последние минуты перед атакой старался отвлечься от мыслей о будущем. Ну что же, это и к лучшему! Значит, для боя все подготовлено…
Ординарец широко распахнул дверь землянки и сказал высоким голосом, почти фальцетом:
— Разрешите доложить, зеленая ракета строго на запад…
И по тому, как зазвенел его голос, как торжественно прозвучали его слова, почувствовалось, что для этого худенького мальчишки с исковырянным оспинами лицом наступила самая великая минута в жизни. И эта торжественность, сознание важности и неповторимости наступающего мгновенно преобразили всех.
Серебров поднялся и вытащил из кармана часы, словно для того, чтобы отметить, насколько точно началось наступление. Ворон тщательно свернул незаконченное письмо и положил в планшет. Подшивалов застегивал под подбородком шлем, надвинув его так, чтобы скрыть ожоги на лице. Яблочков вышел первым.
Командирский танк подошел к землянке. Яблочков широким жестом указал Сибирцеву на башенный люк, как будто приглашал его прокатиться в такси по Петровскому парку.
— Прошу, — сказал он. — Стрелять-то умеете?
Башенный стрелок, на место которого должен был сесть Сибирцев, стоял рядом с машиной и смотрел на Яблочкова такими печальными глазами, что Сибирцеву стало жаль его.
— Не горюй, Сашок, ты пойдешь на триста пятой, — сказал Яблочков.
— А почему вы не со мной, товарищ майор? — спросил у Сибирцева Подшивалов.
— Ладно, ладно, — закричал Яблочков, — с тобой Серебров идет. Все трофеи у меня отнять хочешь…
И вдруг замолчал, прислушиваясь к внезапной тишине.
Было слышно все. Слышны слова, треск сучьев под траками гусениц, рокот моторов. И вдалеке послышалось рассыпающееся дробью длинное «ура». Это было короткое мгновение передышки, когда в дело вошла пехота, когда артиллеристы меняли прицелы, готовясь перенести огонь в глубину немецких позиций. И короткая эта пауза была наполнена такой торжественностью, что все замолчали. И затем, так же внезапно, огонь возобновился, грохот потряс воздух, и люди бросились к машинам, ожидая второй ракеты.
Она всполыхнула там же, на западе, оставляя тонкий длинный след в небе. Сибирцев занял свое место в танке. Машина тронулась. Все посторонние звуки сразу стали неслышны, остались только писк и царапанье в мембранах ларингофона, смешанные голоса своих и гитлеровцев, бушующие в эфире, словно и там шла война.
На выходе из леса Сибирцев увидел уже оставленные пехотой траншеи и двух солдат, которые сигналили фонариками танкам. Один из солдат вскарабкался на броню машины рядом с молчаливыми автоматчиками, что висели на крыльях и на задней площадке. Солдат указывал знаками Яблочкову проход в минных полях, проделанный сегодня ночью.
Возле первых немецких траншей сапер спрыгнул с машины, так и не расслышав слов благодарности, которые крикнул Сибирцев. Дальше мин не было. Среди хаоса разрушенных бетонных стен и взрыхленной земли еще продолжались схватки с уцелевшими немцами, но основная часть наступающих уже прорвалась за мелководную речку, ушла по полям мызы Гроссгарбе и скрылась в лесу, защищавшем подступы ко второй линии немецких траншей.
Яблочков не утерпел, чтобы не ввязаться в этот бой. Он повел машину на уцелевший дот с броневой крышкой, поднимавшейся куполом, и закрыл лобовой броней амбразуру. Пятеро пехотинцев, оказавшиеся перед этим дотом, крича что-то танкистам, подтащили к стенке дота ящик с толом и подожгли короткий шнур. Яблочков отвел машину назад, Тотчас же раздался взрыв, от которого крышка дота свернулась набок, словно шапка подгулявшего парня. Пехотинцы нырнули в дымящееся пекло и через минуту показались опять, размахивая автоматами, словно желая счастливого пути танку.
Сибирцев увидел первых фашистов. Они брели на восток, бросив оружие. Никто не сопровождал их. Одного все время трясло мелкой и противной дрожью, второй брел, подняв руки вверх, и орал одно и то же слово: «Лайзе! Лайзе! Лайзе!» — и было непонятно, кому он приказывает быть тихим — себе или страшному грому войны.
Яблочков спросил возбужденным голосом, куда направляться дальше. Сибирцев указал дорогу на Гроссгарбе. На мызе горели какие-то строения, освещая путь танкам.
Постепенно начинало светать, но от пожаров этот робкий рассвет как бы отступал на восток. Впереди была видна огромная насыпь железной дороги, светившаяся полосой огня. За насыпью укрепились немцы и теперь вели непрерывный огонь по наступающим. Вот уже и по броне танков защелкали пули, кто-то из автоматчиков тяжело вскрикнул и сполз.
Сибирцев все еще не хотел закрывать крышку люка, разглядывая поле боя. Он видел, как дорога от мызы повернула на север, к морю. Разложив на коленях карту, Сибирцев сообразил, что за насыпью дорога сворачивала к берегу озера. С одной стороны был большой участок леса, а дальше шлюз в верховьях мелководной речушки.
Сибирцев окликнул Яблочкова:
— Надо прорваться к шлюзам, чтобы немцы не взорвали их.
— Вот и видно, что вы не танкист, товарищ майор, — с осуждением сказал Яблочков. — Мне и без карты понятно, что немцы натыкали там не меньше пятка противотанковых батарей. Прижмут они нас к озеру, и вспыхнем мы, как неопалимая купина…
— Во-первых, не пять, а три батареи, а во-вторых, их местоположение точно отмечено. Смотрите!
Он протянул Яблочкову карту. Тот долго разглядывал ее, но, возвращая, не смог удержать недоверчивой улыбки.
— Хотел бы я знать, кто тот пророк, что поставил эти значки. Так немцы и допустили бы его к своим оборонительным рубежам!
— А я привык доверять разведчикам! — более резко, чем даже хотелось бы, сказал Сибирцев. В это мгновение он вспомнил о Марине и о ее долгих путешествиях по вражеской стране. Люди, которые принесли подполковнику Масленникову данные об этих батареях, знали цену каждому своему слову и знаку.
На все это препирательство ушло не больше минуты, но с танками снова поравнялись пушки Власова. Капитан шел по обочине дороги, словно не считал нужным укрываться от пуль. Сибирцев окликнул его:
— Товарищ Власов!
— Здравствуйте, майор. Я видел вас в танке, но вы, должно быть, не слышали меня. Шум сегодня изрядный.
— А вы не сможете немного увеличить его? Помнится, вы увлекались стрельбой по закрытым позициям. Впереди шлюзы. Надо помешать немцам открыть их. А в лесу, на опушке, три противотанковые батареи.
Власов вскочил на трак и склонился над картой Сибирцева. Яблочков слушал их со скучающим видом. Было понятно, что ему больше всего хочется «рвануть» по открытой дороге, которая вилась по карте, как виноградная гроздь, утяжеленная сотнями поселков и городков, привязанных к ней.
Но вот Власов развернул свои орудия, и они рявкнули в полный голос раз, и другой, и третий. После пятого залпа, когда в ушах еще шумело, словно в них налилась вода, Власов подошел к Сибирцеву и сказал:
— Думаю, что дорога открыта!
Яблочков с недоверчивой улыбкой захлопнул свой люк, и танки пошли через насыпь.
Перед танками были поломанный лес, плотина и развалины шлюзовых башен. На том месте, где разведчики указали три противотанковые батареи, остались только ямы да исковерканные орудия.
— Наломали дров артиллеристы! — с уважением сказал Яблочков, разглядывая разрушенные капониры батарей.
Отсюда, с водораздела, было видно, как шоссе слева уходило в гущу городков и поселков, словно бы соединившихся в один длинный, из двух рядов зданий город. На проселочной дороге, которую выбрал Сибирцев, хутора и мызы были победнее и стояли редко. Разведка правильно ориентировала подполковника Масленникова: на этой дороге сопротивление будет менее организованный.
Группа танков «Астра», рванувшаяся по шоссе, уже вступила в бой. Танки Сибирцева еще свободно проскакивали хутора.
В семь часов утра Сибирцев услышал в наушниках чужой женский голос, усиленно вызывавший Алмаз. Сибирцев спросил позывные. Голос несколько раз повторил:
— Я Аврора, квадрат тридцать девять Г. Ждем вас, ждем!
Сибирцеву не надо было смотреть на кодированную карту. Говорила радиостанция Демидова с моста. Может быть, она находилась и не на мосту, а под мостом или в одной из каменных башен, но квадрат моста был чист от немцев. Должно быть, по звуку стрельбы Демидов определил, что Сибирцев с танками находится не далее как в пятнадцати километрах от него, потому и разрешил Авроре перейти на открытый текст. Сибирцев назвал свой квадрат, спросил, как идут дела у Авроры, и больше ничего не услышал: его словно ударили по голове. В башню танка попал снаряд. Танки наткнулись на засаду.
Очнулся Сибирцев на земле. Он не слышал ничего, хотя видел дымки разрывов, языки пламени, бившие из танка. Рядом с собой он увидел стоявшего на коленях Яблочкова. Губы Яблочкова шевелились, — наверно, он спрашивал о самочувствии. Сибирцев ответил, но не услышал своего голоса. Водитель и Яблочков подхватили Сибирцева и потащили к зданию, возле которого сгрудились остальные танки. Два танка вывернулись из-за дома, прошли метров пятьдесят вперед, затем один из них беззвучно вспыхнул, второй повернул обратно. Яблочков опустил Сибирцева на землю и побежал навстречу танку, что-то крича. Сибирцев с трудом поднялся на ноги и ощупал себя, чтобы установить, куда он ранен. Водитель пытался что-то объяснить, но Сибирцев, отстранив его, шагнул вперед. Голова кружилась, но на ногах он удержался. Прислонившись к каменной стене, он вытер губы, уши, из которых все еще сочилась кровь. До сознания медленно дошел какой-то внешний шум. Он был слабым и непонятным, но был именно внешним, а не рожденным памятью. Слух возвращался.
— В чем дело? — спросил он вернувшегося Яблочкова неверным, скрипучим голосом.
— Напоролись на засаду, — ответил Яблочков.
Теперь Сибирцев заметил, что каменная стена, у которой они стояли, покачивалась от ударов. Немцы вели сильный обстрел фольварка, в котором находились танки. Сибирцев все покачивал головой, словно пытался вылить из ушей воду, оглушившую его, Теперь он полностью уяснил опасность.
— Где автоматчики? — хрипло спросил он.
Яблочков указал на несжатое поле, что лежало за фольварком. Поле слегка шевелилось, словно от ветра.
Из-за дома подошел танк. В открытом люке стоял Подшивалов. Увидев Сибирцева, он обрадованно закричал:
— Живы? Вас вызывает Астра.
Сибирцев, держась руками за стену и пошатываясь, пошел вслед за Яблочковым к танку. С трудом преодолевая вязкую глухоту и сонливость, он с усилием раскрыл глаза и увидел, как постарело лицо Яблочкова за те несколько минут, что прошли после встречи с фашистами. Выступили резкие морщины, глаза ввалились.
Яблочков взял наушники, настроил, ответил в микрофон что-то неразборчивым, глухим голосом и повернулся к Сибирцеву:
— Астра говорит…
— Громче!
По напряжению на лице Яблочкова Сибирцев понял, что старший лейтенант кричит изо всех сил, но слышал еще плохо.
— Астра передает, что встретилась в квадрате двадцать пять Д с вражескими танками и самоходками и вынуждена принять бой. Спрашивает наше положение и просит самостоятельно выполнять задачу…
— Надо идти! — нетерпеливо сказал Сибирцев, чувствуя, как кровь забилась толчками в ушах, прогоняя вязкость и глухоту, томившие его.
— Да вы посмотрите, товарищ майор, — строго и официально сказал Яблочков, словно Сибирцев был виноват в том, что окружало их. — Смотрите!
Он повел рукою вокруг, и Сибирцев, словно подчиняясь этому движению, рассмотрел место, в котором они находились.
Это была неширокая долина между двумя увалами. На восточном, низком, находились танки, спрятавшиеся между каменными домами фольварка. На другом, высоком, вдали был виден городок. Сибирцев с усилием вспомнил его название: Бракен. Справа раскинулось озеро Бракензее, а по долине стремительно растекалась вода, выпущенная через плотины из озера, затопляя все большее пространство. Противоположный склон долины был срезан широким и крутым эскарпом, представляя собою гигантское противотанковое препятствие, а перед эскарпом, начиная с этого края долины, стояли в восемь рядов «зубы дракона» — высокие гранитные и рельсовые надолбы, укрепленные в бетоне. Вода постепенно заливала их. В середине долины видны были уже только верхушки надолб. Вода скрывала мины, которые были, наверно, установлены между надолбами. Земля разбухала. Это неимоверно усложнило бы им путь, если бы они рискнули на прорыв.
Редкий лес, подчищенный и подстриженный с немецкой аккуратностью, отдельными языками достигал эскарпа, — лучшее место для засады противотанковых батарей.
Время от времени из леса выскакивали самоходные пушки гитлеровцев, делали несколько выстрелов по танкам и снова скрывались, неуязвимые на этом расстоянии.
Все это увидел Сибирцев, постепенно приходя в себя. Он машинально поднял руку и взглянул на часы.
Этот жест подействовал на Яблочкова.
— Восемь двадцать три, сам знаю, товарищ майор, — сказал он.
До моста, на котором сражался, а может быть, и лежал мертвым Демидов, было пятнадцать километров. Но время измерялось не километрами, а препятствиями. Если препятствия преодолеть, километры превратятся в тридцать минут, по прошествии которых танки будут там, где их ждет Демидов. И Сибирцев молча стоял с Яблочковым, до боли в глазах вглядываясь в даль.
Артиллерийский огонь по танкам прекратился, и сразу стало так тихо, что было слышно, как падают сбитые листья и ветки на танковую броню. И впервые Сибирцев услышал отдаленный рокот боя на западе. Демидов продолжал бой. Судя по грохоту артиллерии, бой был сильным. Гитлеровцы, по-видимому, ввели тяжелые орудия, — ведь у самого Демидова были только противотанковые пушки и минометы.
— Надо прорываться, — тихо сказал Сибирцев.
Яблочков изумленно посмотрел на него, потом на Подшивалова.
— Я, товарищ майор, не трус. Но я скажу прямо: нам надо выбраться отсюда как можно скорее, пока фашисты не подвели в наш тыл танки. Надо выбраться и обойти препятствие.
— И опоздать к мосту, — сказал Сибирцев.
— Я знаю, что мы здесь не пройдем! — продолжал Яблочков. — Я эту немецкую манеру наизусть выучил. Они натыкали здесь на каждый метр по пушке, а если взять стороной…
— «Астра» шла стороной… — сухо перебил его Сибирцев.
Что-то более могучее, чем опыт, озарило Сибирцева. Он словно бы увидел всю местность, увидел на той карте, что составлял Масленников, и в душе поблагодарил подполковника за науку. Здесь гитлеровцы полагались на озеро, на затопление, на преграды. Они всегда переоценивали природные и технические укрепления, надеялись на них больше, чем следовало. Там, на юге, они не имели такой преграды и поставили на пути русских войск свои танки и самоходные пушки. На севере они не имели таких укреплений, и там у них должны быть войска, танки и самоходные пушки. Здесь же у них только противотанковые препятствия и несколько самоходок, которые создают лишь видимость сопротивления.
— Мы пройдем здесь именно потому, что фашисты надеются на наш отход, — сказал он, глядя в глаза Яблочкову.
— Погубим танки и перейдем на положение пехоты, — сказал Яблочков.
Подшивалов угрюмо пробормотал:
— Если бы сейчас вечер! Послать двух саперов, подорвать эти надолбы — и напрямик!
— Но, к сожалению, сейчас утро, — ответил Яблочков.
— Надо обыскать фольварк, нет ли местных жителей. Они могут указать обходный путь… — сухо приказал Сибирцев.
— Автоматчики уже ищут… — доложил Яблочков.
Ординарец позвал всех в дом, где радист раскинул уже свою станцию.
Сибирцев оглядел безвкусно, но внушительно убранную комнату. Мебель в ней была предназначена словно для великанов, на стенах висели дешевые бумажные олеографии и фотографические портреты владельцев, среди которых были две в черных траурных лентах с приколотыми к ним бумажными цветами.
Подшивалов, стоявший рядом с Сибирцевым, с трудом выдохнул воздух, словно ему тяжело было дышать в этом чужом жилье, грубо сказал:
— Ну его к черту, этот дом! Прямо как ловушка. Пойдемте лучше на улицу…
Но Сибирцев сдвинул со стола посуду, — тут совсем недавно последний раз завтракали хозяева, которые, может быть, не успели даже дойти до городка и отсиживаются сейчас где-нибудь в несжатых хлебах или в подвалах.
Скрипнула дверь. Они настороженно оглянулись. Вошел Серебров. Он шел осторожно, словно не доверял даже немецкому полу под ногами. С той же враждебной осторожностью осматривал он стены, бумажные олеографии, на которых были изображены все прелести сытого и благополучного мира.
Но офицерам было некогда, и они с нетерпением смотрели на Сереброва, уже забыв о том, что сами так же осматривали дом. Запоздалое любопытство Сереброва раздражало их.
— Докладывайте, капитан, — поторопил Сибирцев.
— На этой стороне оборонительной линии никаких следов противника не обнаружено. Жителей также нет. В стогах прессованного сена найдены трое русских, рабочие этого поместья…
— Прикажите, чтобы их привели сюда, — оживившись, сказал Сибирцев.
И все обернулись к двери, чтобы увидеть освобожденных, первых русских на чужой земле.
Дверь широко открылась.
Впереди шел старик с поросшим короткой щетиной лицом, согнувшийся и неловкий. Он глядел исподлобья, словно все еще боялся какого-то обмана. Следом шла девушка лет восемнадцати, тихая, болезненно бледная. Третьим вошел подросток с живым, плутоватым лицом.
Все трое были одеты в обноски, обуты в брезентовые башмаки на деревянных подошвах. Пока старшие боязливо приглядывались к офицерам, подросток вышел вперед и закричал заливисто веселым голосом:
— Деду! Верка! Настоящие русские!
Офицеры невольно улыбнулись, столько радости было на его лице.
— А вы взаправду? — вдруг спросил подросток, обращаясь к Сибирцеву. — Навсегда?
— Взаправду и навсегда! — ответил Сибирцев.
— А герр Шрамм говорил, что вы не дойдете!
— Как видишь, дошли, — засмеялся Яблочков.
Серебров сидел за столом, подперев щеку рукой. В его позе было что-то по-женски жалостливое. Такая жалость не вызывает неприязни, и паренек сейчас же обратился к Сереброву:
— А почему у вас погоны? А вы нас возьмете с собой? А немца далеко погонят?
Поток этих вопросов прервал Сибирцев, обратившись к старику:
— Как вас зовут?
— Парамонов Иван Федорович, — кланяясь, что было совсем непривычно, ответил старик.
— Давно здесь?
— С сорок второго году, с покрова.
— Откуда?
— Из Великих Лук все трое.
Дом вздрогнул от удара снаряда, но странно — эти невоенные люди как будто и не слышали грохота. Сибирцев следил за тем, как внимательно оглядывал паренек оружие, форму, как тайком потянулся к автомату, висевшему на груди солдата, и торопливо отдернул руку, поймав взгляд Сибирцева.
— Немецкие укрепления видели? — спросил Яблочков.
— А как же, — охотно ответил старик, — Мы сами на них работали…
Наступило настороженное молчание.
— А можно мне ружье? И чтобы с вами? — спросил подросток, словно не замечая, как хмурятся окружающие.
— Что ж ты, Парамонов, не знал, против кого укрепления строил? — вдруг возвысил голос Подшивалов, и его обезображенное лицо налилось кровью. Шрамы стали синими, страшными. Сибирцев машинально положил руку на его широкий кулак.
— Как не знали, — сказал старик. — Да ведь плетью обуха не перешибешь… Не один я работал, тыщи! Только ты, комиссар, не горячись, пусть другие, лишние уйдут…
— Нет здесь лишних, — зло ответил Яблочков.
Вдруг старик отвернул полу пиджака, сунул руку под подкладку и вытащил какую-то бумажку, грязную, замусоленную, словно она лежала там все два года рабства. Он сделал шаг вперед, протягивая ее Яблочкову.
— Которые русские работали, они не за фашиста думали! — гордо сказал он, выпрямляясь от той суровой правоты, что была в его словах.
Яблочков разглядел бумажку и вдруг воскликнул:
— Товарищ майор, вы только поглядите! Вот ведь умный народ!
Сибирцев увидел план обороны. Снят был участок дороги с обозначением поместья Шрамма и продолжением дороги на Бракен. На участке, теперь затопленном фашистами, были показаны надолбы. Но самое главное заключалось в том, что часть надолб была отмечена крестиками. Крестики эти располагались не по прямой, а как бы шахматным ходом коня…
— Проход? — спросил Сибирцев.
— Мины сняты, а надолбы только воткнуты да сверху чуть бетоном залиты. А иные мы и просто впритычку ставили, — спокойно и с достоинством сказал старик.
— Кто — «мы»? — с любопытством спросил Яблочков.
— Мы, русские… — ответил старик. — Кои — я, кои — он, — кивнул старик на подростка, — внучонок мой Павел Парамонов. Кои — другие делали, тех немцы дальше угнали, на Дойчбург, значит.
— А план кто делал?
— Пленный один. Вот фамилию не упомнил. Хотел он здесь остаться, да не вышло, угнали. Вот, значит, он мне копию оставил, а сам план у него остался. Я-то лучше места знал, ухоронился…
— А почва тут какая?
— Обыкновенная. Супесь, значит. Твердая. Хлеба здесь только по назьму и родятся.
— Сергеев! — позвал Яблочков ординарца.
Тот появился так быстро, что стало понятно: он и все свободные танкисты стояли в соседней комнате, прислушиваясь к разговору.
— Сергеев, водки Парамонову.
— Это уж вы нам дозвольте вас угостить, — сказала девушка, которую подросток назвал Веркой. — В доме всякой всячины много…
Освобожденные вышли из комнаты. Сибирцев отодвинул план и окинул товарищей взглядом.
— Разрешите мне попробовать, товарищ майор? — поднялся Подшивалов.
— Подожди ты, — остановил его Яблочков. — Еще успеешь на снаряд нарваться. Если бы старика попросить провести машины?..
— Жалко, — сказал Серебров. — Только он и видел в жизни, что сегодня, а вдруг убьет?
— Да, — согласился Яблочков.
— Аврора вызывает… — приоткрыв дверь, крикнул радист.
Сибирцев поспешил к выходу.
— Товарищ майор, — услышал он голос Яблочкова, — доложите, что мы пробьемся, но попросите у них час отсрочки. Я понимаю, что им трудно, да и нам ведь не сладко.
Сибирцев подошел к аппарату.
— Пожалуйста, товарищ майор, — сказал радист, — что-то только их вышибает из волны. То ли станцию повредило, то ли бой близко идет, отстреливаться приходится, не поймешь, а получается так: слово услышишь — перерыв!
Сибирцев закричал очень громко, словно надеялся голосом своим вселить бодрость в тех, кто ждет его помощи. Он постоянно поглядывал на часы, будто забывал время. Было восемь пятьдесят.
— Аврора, я — Алмаз! Аврора, я — Алмаз! — повторял он все громче.
Где-то очень далеко и затрудненно, словно после долгого бега, когда трудно дышать, отозвался женский голос:
— Алмаз, Алмаз, с вами будут говорить…
Затем также где-то далеко-далеко послышался мужской голос. Сибирцев с трудом узнал Демидова.
— Георгий! — кричал Демидов.
— Я слушаю, Миша!
— Торопись в гости, Георгий. А то, может статься, ты придешь, а хозяев уже не будет. Очень тебя прошу…
И по тому, что Демидов говорил открытым текстом, по тому, что употреблял такие странные для войны слова, Сибирцев угадал последнее усилие, которым жили люди на мосту. Он как бы увидел каменные плиты и металлические парапеты, обрызганные кровью, тела бойцов, застывшие в разнообразных, но одинаково безнадежных позах.
И оттого, что он ясно увидел все это, сердце заболело тупой тяжелой болью.
— Миша, продержись еще часок, — попросил Сибирцев.
— Добро, Георгий. Теперь слушай меня и ничего не говори. Марина здесь. Она прибыла ко мне в батальон сегодня ночью. Я ее берегу, но торопись. Я сообщил это против…
Что-то щелкнуло там, далеко на мосту…
Пять минут простоял Сибирцев у аппарата, пока радист, бледный, как и сам майор, искал в эфире Аврору. Потом тихо пошел в комнату.
— Что с вами, товарищ майор? — тревожно спросил Яблочков.
По этому возгласу Сибирцев понял, что не может даже скрыть своего горя от других. С усилием он выпрямился и медленно сказал:
— Ничего. Демидов просит поторопиться.
Ему хотелось крикнуть им все, что он услышал в словах Демидова, приказать не медлить больше, но слова застряли в горле. И он промолчал.
— Я возьму три машины и прорвусь по указанному ходу к батареям, — сказал Подшивалов. — А вы, товарищ лейтенант, выходите несколько позже. Я их заставлю оторваться от прохода. Поняли?
— Хорошо, — согласился Яблочков.
Сибирцев хотел сказать, что сам пойдет с Подшиваловым, что это не просто риск, а верная гибель, но Яблочков строго остановил его.
— Я разрешаю прорыв, товарищ майор! Пойдемте к машинам.
На улице, у дверей, стоял Парамонов. Он разглядывал автомат, кем-то переданный ему. Пехотинец учил старого солдата переводить диск на одиночные выстрелы и на очередь. Павел, уже надевший шинель и вооруженный, стоял возле угла и глядел вдаль, будто ждал, что вот-вот там покажется фашист.
Подшивалов шел впереди, высоко сдвинув шлем, открыв лицо в шрамах. Теперь он не стыдился их. Он нес голову гордо, как будто сам сознавал силу, которая вела его на подвиг.
Парамонов выпрямился, увидев офицеров, и поднял автомат на караул, как делал это с винтовкой в старые времена своего солдатства. Присмотревшись к лицам офицеров, он сказал:
— Разрешите обратиться, товарищ майор?
— Пожалуйста, — ответил Сибирцев, глядя в просвет между зданиями на длинные ряды надолб, залитых водой.
— Поскольку я дорогу знаю, позвольте мне примоститься на танке.
— Да ведь убьют, Парамонов!
— Ну, так я свое пожил.
— Кто говорит о смерти? — подошел Подшивалов. — Мы еще повоюем, Парамоныч. Пойдем со мной!
Старик с готовностью последовал за ним, едва успевая за широким шагом лейтенанта. Они скрылись за утлом.
Люди занимали места на машинах. Из санитарного вездехода выглянула девушка. Сибирцев не узнал ее. В шинели, с санитарной сумкой, она показалась ему необычайно торжественной. Лишь немного погодя он вспомнил, что это бывшая пленница Вера.
Три танка вывернулись из-за угла и на полной скорости ринулись в лощину. Они шли в линию, один за другим. С отчаянием увидел Сибирцев мгновенно вздыбившиеся фонтаны земли на всем пути машин. Но танки мчались между этими фонтанами, то заслоняемые ими, то видимые отчетливо. Первая машина ворвалась в воду. Белые буруны охватили ее борта, заливая старика, размахивавшего рукой. Подшивалов стоял в башне, высунувшись по пояс. В воде взрывы вспыхнули еще гуще. Но вот первая надолба рухнула под танком, танк повернул влево, словно сделал скачок. Сзади него, на схлестнувшихся волнах, взлетел вихрь воды и грязи.
— Мину задели, — тихо сказал Яблочков.
Танк все летел вперед. Одна за другой упали три надолбы. Опять поворот, теперь вправо. Снаряды рвались на том месте, где только что была машина. Второй танк, чуть отставший, вспыхнул, рванулся в сторону, покачнулся всем корпусом, словно силясь подняться из воды, и замер. Танкисты выпрыгнули из него и побрели по пояс в воде. Тяжелая мина упала рядом с ними. Теперь брели только двое. Один из них был ранен. Он все время спотыкался и падал в воду. На помощь танкистам спешила санитарная машина, лавируя между разрывающимися минами. Из машины выскочила девушка и бросилась в воду. Она помогла раненому танкисту, и машина пошла обратно.
Танк Подшивалова проскочил до самого эскарпа. Теперь он был невидим для немцев. Рядом, уткнувшись в земляной срез, стоял второй. Танкисты вылезли из машин и что-то делали у эскарпа. Из леса выбежали десятка два гитлеровцев. «Гранатометчики», — подумал Сибирцев.
И не успел он отдать приказания, как рядом с фашистами упали первые снаряды. Гитлеровцы доползли быстрее, но разрывы вспыхивали все чаще. Это заставило одних замереть на месте, других повернуть обратно.
На срезе эскарпа взлетели мелкие фонтанчики земли. Эскарп сползал, образуя выемку.
— Молодец, — одобрил Яблочков. — Действует мелкими взрывами.
Танк Подшивалова взревел и попытался подняться на обрыв. Из-под гусениц черными струями летела земля, потом танк пополз обратно и снова уткнулся в крутизну. Корму его заливала вода.
— Эх, засосет, — встревожился Яблочков.
— Нет, земля твердая, — сказала Вера, подошедшая с танкистом.
— Это вы танкиста вытащили? — спросил Сибирцев.
— Я, — ответила девушка робко.
— Как же вы…
Девушка, боясь, что ее неправильно поняли или вдруг обругают за что-то, торопливо сказала:
— Я только крови боюсь, а так ничего, я буду работать…
И, опустив танкиста, убежала.
Яблочков напряженно следил за тем, как танк Подшивалова после второй очереди взрывов лез на эскарп.
— Все фашисты предусмотрели, а вот батареи кинжального действия у них нет, — заметил Яблочков.
В этот момент всплеснула вода у кормы танка, а затем, откуда-то сбоку, донесся глухой звук выстрела.
— Есть батарея, — сердито сказал Сибирцев, словно сетуя на то, что старший лейтенант накликал эту новую опасность.
Но залп кинжальной батареи как будто подтолкнул танк Подшивалова. Машина рванулась и выскочила на кромку эскарпа. Вторая вышла еще быстрее.
Все дальнейшее произошло в несколько секунд. Оба танка ворвались на опушку леса. Но и два танка в тыловой обороне — сильно действующее средство. Огонь гитлеровцев смешался, все батареи стреляли по этим двум машинам.
— Пора! — сказал Яблочков.
Автоматчики прыгали на броню, стараясь занять более безопасные места поближе к башням, поглубже на корме, заботясь об удобствах, как делают это пассажиры. Затем по всему поместью прошел вихрь от сорвавшихся с места машин. Танки достигли надолб, не встретив ни одного выстрела. Только когда первые машины вырвались на гребень, запоздало вспыхнула вся кромка эскарпа. Одна машина тяжело сползла обратно в воду, но это было уже позади Сибирцева. Среди всего этого хаоса бежали маленькие фигурки в зеленом, падали и снова вставали, но бежали они не на танки, а от них.
Вспыхнула еще одна машина сбоку. Командир высунулся из нее и сразу обвис на борту, уронив руки, словно пытался достать что-то с земли, изрытой гусеницами. Яблочков бросил танк в то место, откуда стреляли по машинам. Сибирцев почувствовал только толчки, когда танк пополз по батарее, давя пушки, минометы, а вместе с ними и фашистов.
Еще Сибирцев увидел автоматчиков Сереброва, прыгавших с машин и бежавших по лесу. Затем впереди показалась поляна, а на ней одинокий танк со вздыбленным носом, похожий на памятник. Танк стоял над немецким окопом, раздавив в нем людей и орудия, погибнув, но открыв дорогу вперед, где виднелся пустой город. По дорогам и полям бежали толпы людей, поднимались черные султаны дыма над подожженными складами и хранилищами горючего. Рядом с подбитым танком Подшивалова на желтой траве сидели два танкиста, словно оберегали покой командира. Подшивалов лежал лицом вверх на холмике, строгий и важный, каким никогда не был при жизни. Рядом с ним лежал Парамонов, широко раскинув руки, так стосковавшиеся по свободной земле, по любимой работе.
Яблочков остановил танк возле холмика, открыл люк и долго смотрел на лицо убитого друга.
Сибирцев включил рацию и закричал:
— Аврора! Аврора!
Никто не отзывался. Тогда, надеясь только на чудо, благодаря которому станция Демидова, может быть, еще слышит, хоть и не отвечает, он сказал:
— Держитесь, товарищи! Мы идем!
Затем вызвал Астру. Астра откликнулась сразу, — должно быть, командир ее ждал вызова Сибирцева.
— Идем на квадрат тридцать девять Г. Тридцать девять Г.
В его голосе было столько торжества, что Астра даже не спросила, есть ли препятствия. Донесся только голос командира:
— Поздравляю Яблочкова, Подшивалова! Веду бой…
Это поздравление мертвому потрясло Сибирцева, но он промолчал. Пусть командир узнает о погибших в тот час, когда победа обрадует его. Тогда легче переносить гибель товарищей.
И, передав Яблочкову поздравление, он приник к смотровой щели.
13
Марина освободилась от парашюта еще в воздухе. Держась руками за лямки, она смотрела на темную приближающуюся землю, пытаясь выбрать удобное место. Ее относило к самому берегу, который был отличен от воды тем, что казался светлее. Это было так странно, что Марина едва не пропустила момента, когда надо было выпустить лямки парашюта. Она опустилась возле самой воды.
То, что она сразу выпустила лямки парашюта, спасло ее. Парашют, клубясь и путаясь, пролетел еще некоторое время, и к нему протянулись оранжевые длинные жала пулеметных очередей, светясь над головой Марины. Она сползла по вязкому, сырому песку, торопясь уйти как можно дальше от места падения, пока ее не заметили. Взглянув на небо, она увидела, что все оно было пересечено светлыми полосами, в которых раскачивались парашютисты. Один луч упорно шарил по берегу, выхватывая то устои моста, то фигурки бегущих в полукилометре людей. Один раз этот луч прошел на уровне головы Марины, ослепив ее, но последовавшая за ним пулеметная очередь разрезала темноту значительно выше.
Прожектор и пулеметные точки были где-то недалеко.
Теперь Марина не стремилась уползти от луча: спасение ее и товарищей было в бою.
Она поползла по берегу, ища пулеметы, запечатлевшиеся в памяти с тех дней, когда она разведывала мост. Вот шпиль радиомачты на том берегу. Вот под руками груда валунов. Если провести воображаемую линию на тот берег, то несколько правее окажется прожекторная установка, которая чуть не погубила ее.
Прожектор выхватил из темноты длинную фигуру человека, бежавшего к мосту с минометом на плече. Вокруг человека мгновенно вспыхнул золотой ореол, словно он сам засветился. За ним, рассыпавшись по всему берегу, бежали еще люди, но Марине почему-то стало смертельно жаль именно этого, высокого. Луч прожектора разрезал его пополам, и тотчас же к нему пронеслись различимые даже в свете прожектора трассирующие пули, и человек упал. Марина вскрикнула, словно боль чужой раны передалась ей, и побежала к прожектору. Фашисты не видели ее, но, услышав шум шагов, открыли огонь из автоматов. Марина швырнула гранату. Прожектор погас одновременно со взрывом. Марина стремительно кинулась к мосту.
Много раз во время разведывательной работы она была возле моста, но никогда он не казался ей таким враждебным. В те времена она была здесь в одиночестве, теперь же боялась за всех, кто находился рядом с нею. Эта боязнь толкала ее вперед, поддерживала, и потому Марина торопилась, карабкаясь по крутому склону железнодорожного подхода, чтобы как можно скорее оказаться на мосту. И так же — она знала это — бежали к мосту ее незнакомые друзья, заботясь о ней и ее удаче, как она заботилась о них.
До слуха донеслась тревожная трель свистка, повторенная трижды. Это Демидов. Он жив и ищет ее. Только теперь она поняла, что испугалась именно за Демидова, когда прожектор осветил высокого человека с минометом. Она откликнулась сигналом, чтобы Демидов замолчал. Треск автоматов усилился, и ей казалось, что все эти звуки направлены против Демидова. Она нацепила опознавательную повязку и бросилась на сигнал.
Постепенно бой затихал. Все реже становились в этой сумятице звуки немецких орудий и все громче и гуще наши. Марина увидела бегущих на противоположный конец моста людей со смутно белеющими опознавательными повязками, увидела башню на восточном конце моста, где был назначен сборный пункт офицеров.
Гитлеровцы не успели обрезать осветительные и телефонные провода. В комнате с узкими окнами, похожими на бойницы, с винтовой лестницей, уходившей на второй и третий этажи, горели две сильные лампы. В глубине, на столе, беспрерывно звенел телефон. Демидов, мальчишески улыбаясь, поднял трубку и спросил по-немецки:
— Кто говорит? Очень приятно. Это говорит капитан Демидов. Да, русский. О, русские давно уже здесь и скоро будут на вашем берегу.
Опустив трубку, он с удовольствием сказал:
— Не понравилось фашисту сообщение.
В комнате уже собрались командиры. Не хватало лишь Голоскова. На столе лежала карта.
Марина улыбнулась Демидову, но сейчас же погасила улыбку. Надо было действовать.
— Я отметила здесь три зенитные батареи, надо проверить, захвачены ли они, — сказала она, указывая на отметки, которыми была испещрена карта.
Командиры вышли, сзывая людей. Скоро тяжелый топот бегущих солдат утих. Теперь являлись только одиночки, пробивавшиеся в темноте к мосту. Перестрелка продолжалась, возникали и затихали гранатные взрывы, слышались гулкие удары немецких мин, пускаемых пока наугад.
Голоскова все еще не было. На противоположной стороне реки, в предместьях города, вспыхнул новый очаг боя.
Это парашютисты сходились по два, по три, постепенно группировались в отряды, занимали отдельные дома в городе, стараясь пробиться ближе к мосту, чтобы своей, даже и неравной, борьбой с врагом помочь тем, кто выполнял основную задачу.
Мост был так хорошо изучен во время подготовки к операции, что Демидову не понадобилось отдавать специальных приказаний. Саперы уже разъединили провода, подготовленные для взрыва, разыскали и бикфордов шнур на тот случай, если им самим понадобится взорвать мост. У шнура стоял дежурный, который должен был по сигналу, а в крайнем случае по собственному разумению, зажечь шнур. В нижнем этаже башни работал санитарный взвод. Девушки размещали тех раненых, какие смогли добраться сами, пробегали с носилками, хотя кругом шла стрельба и трудно было понять, где фашисты, где свои.
В дальнем углу, хорошо защищенном толстыми стенами от снарядов и мин, заработала рация. Марина передала первую условную радиограмму. И теперь читала огромную и сложную книгу эфира, ища строки, предназначенные ей.
Все пока совершалось по порядку, так, как было предусмотрено, хотя Демидов все чаще хмурился, — слишком многих парашютистов недоставало. Пробежали минометчики, чтобы занять позиции на западном берегу — ближние к мосту дома. На восточном берегу устанавливали пулеметы, рыли окопы, маскировали противотанковые пушки, несли снаряды.
Но как мало было людей! Все они как-то рассеялись на большом пространстве. Самая большая группа билась в городе, возле рыночной площади. Там действовал Голосков. Но шум этого сражения не приближался. Три или четыре группы сражались на восточном берегу, где-то в районе пристаней.
И отбивающиеся там и находящиеся здесь знали, что в ближайшие минуты фашисты предпримут атаку, чтобы отбить мост. И Демидов молча стоял на мосту, прислушиваясь к звукам этих рассредоточенных схваток.
И все-таки люди прибывали. Иные приходили только для того, чтобы сообщить разведанные данные и свалиться, обессилев от ран; другие, доложив о своем появлении, уходили в окопы и занимали место в строю.
В этот предрассветный час Марина впервые услышала в эфире голос Сибирцева. Ей казалось, что она могла бы узнать его и без позывных. Она стиснула зубы, чтобы не крикнуть: «Я здесь! Я жива! Я жду!» — но голос умолк. Танки Сибирцева вошли в прорыв. И в этот предрассветный час на мосту, одновременно с восточной и западной сторон, началась атака гитлеровцев. Все пространство перед мостом вдруг оказалось затянутым цветными лентами, и темные пятна, вокруг которых шла эта стрельба, все суживались. Эти пятна, хорошо видимые с высокого моста, показывали, где отбивались парашютисты. Но участки эти постоянно меняли очертания, так как немецкие гренадеры захватывали все новые позиции.
Но и группы парашютистов и одиночки продолжали бой, и все пространство, в котором словно висел темный и молчаливый мост, оказалось окрашенным в разные тона, то более темные, то совсем светлые.
Немцы наступали с обеих сторон одновременно, рассчитывая сплющить и уничтожить небольшой советский отряд, застрявший как бы между молотом и наковальней. Но между молотом и наковальней оказался материал тверже самой твердой стали. И люди Демидова вынесли этот натиск и отбили его, а вслед за первой атакой отбили еще восемь. И солдаты Демидова не только отражали врага, но и контратаковали, хотя количество людей, способных стрелять и двигаться, исчислялось уже не сотнями, как в начале операции, а десятками.
Бой продолжался также и в городе, и в складских помещениях возле пристани. Звуки, доносившиеся оттуда, воспринимались на мосту как сигнал. «Держитесь ли, товарищи?» — спрашивали люди, оставшиеся с Демидовым, и оттуда отвечали: «Держимся, товарищ капитан!»
В восемь тридцать на подходе к мосту с востока показались танки и самоходные пушки. Гитлеровцы сняли их с направления главного удара. Это утешило Демидова и его людей в последние мгновения перед атакой. Значит, крепко насолили парашютисты, если фашистам пришлось снимать танки с фронта. И в эти же минуты Демидов услышал где-то далеко-далеко, за пределами его боя, гром артиллерийской стрельбы. Это прорывался Сибирцев.
Двадцать минут понадобилось гитлеровцам на то, чтобы подвести танки, но пушки Демидова молчали.
Марина стояла у бойницы, внимательно приглядывалась к отчетливо видимым танкам противника. В этот миг она думала о Георгий.
Демидов приказал вызвать Алмаз. В это время тяжелый снаряд попал в башню чуть ниже второго этажа, и передача прекратилась. Демидов упал, сбитый с ног осколками камня, радистка уронила голову на стол.
Второй снаряд ударил чуть пониже первого. Кто-то помог Марине вытащить Демидова из рушащегося здания.
Противотанковая пушка, укрытая в окопе, молчала.
Демидов оттолкнул поддерживающих его людей и пошел по мосту, держась необычайно прямо. Он шел, пренебрегая укрытиями, а может быть, и не замечая рвущихся кругом снарядов.
Дойдя до пушки, он спрыгнул в окоп.
Уцелевший солдат из расчета пушки поднялся навстречу капитану, стирая кровь с лица. Капитан развернул пушку, принял снаряд и выстрелил. Четыре танка шли на большой скорости к мосту.
Демидов поднялся над окопом и окликнул гранатометчиков, лежавших впереди, в траншее. Гранатометчики приготовились к атаке.
Их было трое. Они бежали, как на ученье, размахивая руками отчетливо и ловко. Их мужество восхитило Демидова, и он подумал, что никогда не иссякнут силы его и его солдат, никогда фашистам не взять моста. Гранаты взорвались под танками, и люди упали. Демидов знал, что они умерли, но знал и то, что подвиг их бессмертен.
Последние два танка шли прямо на него. Он подумал о Марине и о том, что обещал Георгию уберечь ее. Затем выстрелил в первый танк и остановил его. Второй танк надвигался подобно горе. Демидов нащупал на земляной полочке в окопе противотанковую гранату и поднял ее.
Марина бросилась на помощь Демидову. Она увидела, как последний танк налетел на бруствер окопа, прыгнул неуклюже и тяжело, словно пытался раздавить не только пушку и человека, но и самую землю, которая защищала Демидова. Над окопом поднялся столб дыма и пламени, танк остановился, накренившись, постепенно обрастая жидким мечущимся огнем.
И тогда к Марине вернулось то спокойствие, с которым она проходила по вражеским тылам, по кровавым полям войны. Теперь она оставалась последним командиром на мосту. С ней было только три девушки-радистки, несколько санитарок да раненые. Люди, защищавшие западный конец моста, ничем не могли помочь ей. Прижавшись к железным перилам, Марина спокойно ждала, когда фашисты откроют люки горящего танка. Она хотела прежде всего отомстить за Демидова. И, увидев, как они вылезли из танка, Марина дала расчетливую очередь из автомата. С холодной отчетливостью заметила, как они падали: один — взмахнув руками, другой — подпрыгнув, как раненое животное, третий — ничком.
Оставшиеся в живых ее солдаты заняли окоп, в котором погиб Демидов. Немцы стреляли по-прежнему, но не решались идти в новую атаку.
Вспомнив о дежурном минере, она спустилась под мост и уточнила сигналы взрыва на случай, если опоздает помощь. Пройти на западный конец моста она не могла и не хотела посылать кого-нибудь на верную смерть. Люди там знали не хуже ее, что надо делать, и она спокойно вернулась в траншею, ожидая танки. Сколько бы ни стреляли гитлеровцы, они не могли разрушить моста и убить всех людей на нем. А пока был жив последний человек, Марина знала: фашисты мост не возьмут.
Она приподнялась над краем окопа, ожидая, когда начнется новая атака.
Она увидела далекое шоссе, по которому текли черные толпы беженцев, упираясь в танковый заслон перед мостом и поворачивая обратно, а затем на юг, прямо по полям, по дачным садикам, ища другой переправы. Даже отсюда было видно, как смешались на шоссе и его обочинах повозки, велосипеды, автомобили. Видно было, как солдаты, которых легко было отличить по цвету одежды, сталкивали в кюветы мешающие им машины. И с яростью сказала про себя:
«Ага, зашевелилась Германия!»
И тут она снова увидела три танка, рванувшиеся к мосту. Несколько парашютистов, не ожидая приказа, поползли навстречу им вдоль парапета. Затем послышались взрывы.
Когда рассеялся чад и пыль, Марина увидела, что первый танк горит синим, пока еще бледным пламенем. Затем вспыхнул и второй. Ее люди бросали свои последние гранаты так же верно и точно, как делали это на ученье.
Но один танк вырвался вперед. Марина приподнялась с гранатой в руке. Танк приближался, нависая как глыба. А за ним, вдалеке, на внезапно опустевшем шоссе, словно там только что поднялась буря, показалась колонна других танков, оливково-серого цвета, и Марина поняла, что это идет помощь.
Она швырнула гранату в последний немецкий танк. Тонкие струи огня, вырвавшиеся из танкового пулемета, обожгли ее тело и руки. Опускаясь на дно окопчика, она увидела, как танк закружился на месте. К нему, бросая гранаты, бежали ее товарищи. Но слабость овладевала его все больше, и она опустила голову, вытянулась всем телом, ощущая боль и радость, — все было сделано, и сделано хорошо.
…Танк Сибирцева прошел рядом с нею. Высунувшись из люка, Георгий всматривался в воспаленные, окровавленные лица людей, кричащих и размахивающих автоматами. Десантники Сереброва рассыпались по пустырю, по шоссе, на котором уже не было ни людей, ни повозок. Часть танков прорвалась на западный конец моста. Сибирцев приказал им пробиваться в город, где все еще слышалась стрельба.
Возбужденно смотрел майор на прошедших через смерть и уцелевших людей, ища среди них Марину.
Яблочков остановил машину. Сибирцев с трудом услышал его голос:
— Все в порядке, товарищ майор. Можете пройти на командный пункт.
Сибирцев выпрыгнул из танка. Какая-то девушка подбежала к нему и поцеловала.
— Где лейтенант Стрельцова? — спросил он.
— Там, — указала она и отвернулась, испугавшись его потемневшего лица.
Неверным шагом пошел он по мосту, обходя убитых и раненых, наклоняясь, чтобы различить их лица. Никто не спрашивал, кого он ищет. Сибирцев вышел на противоположный конец моста, оглядывая это трудное место боя. Догорали танки. Лежали мертвые и раненые. Спрыгнув в окоп, Сибирцев посмотрел на мертвых, боясь увидеть среди них Марину.
Несколько девушек теснились возле подруги, приподнимая ее. Но. вот девушки отстранились, и он узнал Марину. Марина сидела с закрытыми глазами, прислонившись к стенке окопа. Он опустился рядом, тихо окликнул, словно она спала. Глаза ее приоткрылись.
— Георгий! — как будто еще не веря, позвала она. Чуть-чуть шевельнулись пальцы, она попыталась протянуть ему руку и не могла.
Санитарная машина остановилась возле окопа, бросив тень на их лица. Девушка, показавшаяся Сибирцеву знакомой, бережно отстранила его от Марины. «Вера», — подумал он мельком и удивился тому, что может еще видеть и запоминать. Две другие девушки развернули носилки, ловко подняли и положили на них Марину. Он шел рядом, держась рукой за носилки, словно боялся, что стоит отпустить их, и Марина исчезнет, А вокруг был свет утра и солнца, осенний, холодный, но обещающий тепло к полудню.
Рига — Москва
1944–1961
ГЕНЕРАЛ МУСАЕВ
1
Гроб с телом бывшего командующего армией отправляли в Москву из маленького городка на Днестре, последнего, который генерал увидел освобожденным.
Скорбно рыдал сводный оркестр под голубым мартовским небом. Роты почетного эскорта, прибывшие из всех дивизий, неподвижно стояли на резком ветру, выравняв штыки в одну тонкую линию от старой русской крепости на берегу Днестра до разрушенного бомбами вокзала у подножия холма. Похоронная процессия медленно двигалась мимо солдат. Гроб был установлен на бронетранспортере. Впереди шли генералы и полковники, неся на атласных подушечках ордена и медали — награды за героизм и долгую, безупречную службу Отечеству. Тут были и три Георгиевских креста за храбрость, проявленную покойным еще в первую мировую войну, и не менее десяти советских боевых орденов, и, наконец, две Золотые Звезды Героя Советского Союза, полученные за битву на Волге и за форсирование Днепра. Вокзал еще дымился после недавней бомбежки. Бронетранспортер остановился на перроне. Соратники генерала сняли тяжелый гроб с машины и внесли в вагон. Там они постояли несколько минут, прощаясь с покойным. Четыре солдата закрыли гроб крышкой. Женщины из медсанбата дивизии полковника Ивачева осыпали его цветами.
Эти цветы тоже имели свою историю. Только накануне дивизия Ивачева, действующая на правом фланге армии, прорвалась наконец к Днестру и штурмом взяла бывший совхоз «Счастье», превращенный оккупантами в поместье фельдмаршала Ауфштейна, командующего противостоящим участком фронта. Теперь наша армия упиралась обоими флангами в Днестр, выполнив последний приказ бывшего командующего. Оттуда, из совхоза, и привезли цветы приехавшие на проводы офицеры. Оттуда же доставили бутылку днестровской воды, как символ грядущей победы. Сама освобожденная земля прощалась с генералом.
Теперь, когда генерал был мертв, даже фашисты признали, что он был талантливым полководцем. В доставленных из-за линии фронта разведчиками газетах, которые издавал отдел пропаганды армии Ауфштейна, была напечатана статья фельдмаршала о гибели командующего русской армией. В статье фельдмаршал не только признавал талант полководца за покойным генералом, но вместе с тем утверждал, что у русских будто бы нет достойного преемника на место погибшего и он, Ауфштейн, возьмет наконец реванш за свои прежние неудачи. Далее в статье сообщалось, что новым командующим русской армией назначен генерал-лейтенант Мусаев, которого он, Ауфштейн, уже бил дважды и побьет в третий раз. Фельдмаршал обращался с призывом к солдатам и офицерам своей армии верить в ее окончательную победу, стоять насмерть на правом берегу Днестра, этом «великом валу германской обороны». «Маневренная война кончилась, — категорически утверждал Ауфштейн. — Начинается позиционная война, в которой никто никогда не побеждал германского солдата…» Автор, правда, не приводил примеров из истории войн, потому что такие примеры могли вызвать ненужные воспоминания. Впрочем, гитлеровцы не привыкли к доказательствам: они все еще верили на слово своим большим и малым фюрерам.
…Печально пели трубы оркестра. Эскортные роты прошли церемониальным маршем по перрону вокзала. Под ногами солдат играли лучи солнца на осколках битого стекла. Стекло хрустело под сапогами, как обледенелый снег.
И снег, еще глыбившийся с северной стороны продырявленного здания, блестел, подобно стеклу. Известковая пыль покрывала каменные плиты перрона. Дымились края воронок, обожженные взрывами.
Командиры дивизий и штабные офицеры собрались в уцелевшем после бомбежки помещении вокзального ресторана, ожидая нового командующего. Девушки из отделения военторга разносили им на подносах горячий чай. Офицеры, держа стаканы в иззябших руках, пили его стоя.
Новый командующий запаздывал. Генералы и офицеры хмуро поглядывали на перрон, переговариваясь друг с другом. Невысокий плотный начальник штаба армии генерал-майор Юргенев, с бледным одутловатым лицом — следствие бессонных ночей и постоянного пребывания в сырых блиндажах, — стоял в стороне с командиром танкового корпуса Городановым и кавалерийским генералом Алиевым. Совсем еще молодой, как, впрочем, и многие генералы и офицеры, собравшиеся здесь, Алиев в перерывах между репликами делал несколько коротких шагов от буфета и обратно, раскачивая гибкое тело и постоянно улыбаясь. Городанов, широкий, коренастый, стоял чуть наклонив голову, будто все время помнил о том, как трудно умещать тело в стальной коробке танка. У самой стенки ожидал командующего генерал-майор Скворцов, командир гвардейской дивизии. Высокий, худой, с очень беспокойными внимательными глазами, больше похожий на учителя, чем на военного человека, он справедливо считался одним из самых храбрых генералов этой армии. Скворцов ничем не выдавал своего раздражения по поводу долгого ожидания, а может быть, и не чувствовал раздражения, занятый какой-то своей глубокой думой. Поодаль от генералов стояли штабные офицеры, сгрудившиеся около начальника тыла, что-то рассказывавшего, умеряя свой хриплый, но громкий голос.
Генерал-майор Алиев вдруг резко повернулся на каблуках, прекратил хождение, взглянул на Юргенева, спросил:
— Вы встречались раньше с нашим новым командующим?
— Да, — сдержанно ответил Юргенев, достал портсигар, взял из него папиросу. Алиев ждал продолжения разговора. Начальник штаба тщательно закрыл портсигар, прикурил, вдохнул дым, рассеянно глядя на перрон.
Алиев не выдержал паузы, спросил снова:
— Что же вы замолчали, Борис Владимирович, как перс в лавочке, когда хочет запросить двойную цену, Я боюсь молчаливых персов. Расскажите о Мусаеве…
В голосе Алиева послышалось нетерпение. Он был горяч, страстен как в бою, так и в жизни. Эти качества делали его особенно опасным для врага. Большую часть времени он проводил со своим корпусом в немецком тылу, и недаром немцы называли его конный корпус Вороной Чумой, зная, что никакие преграды не могли задержать молодого генерала, если он решил прорваться. Так и теперь Юргенев не устоял против решительной атаки Алиева.
— Спросите у Городанова, он воевал вместе с ним… — по-прежнему неторопливо произнес Юргенев.
Городанов тепло взглянул на Алиева. Он любил и уважал молодого, непоседливого генерала-конника. Вместе они ходили на прорывы, вместе рассекали вражеские тылы. Между ними была та особенная дружба, которая возникает только в результате вместе пережитых опасностей и выручки в бою. Неповоротливый, медлительный, Городанов становился очень деятельным, когда видел своего друга в затруднении или чувствовал, что ему необходима поддержка.
— Я с Мусаевым воевал три дня, а вы его знаете десять лет, — грубовато сказал он, снова обращая взгляд к Юргеневу. Рассказывайте, все свои…
Скворцов тоже повернул свое худое лицо в сторону Юргенева, но не сдвинулся с места.
Начальник штаба вздохнул, как бы протестуя против принуждения, сказал:
— Я понимаю, нам теперь вместе воевать, хочется о человеке все знать, но, ей-богу, не знаю, о чем я могу рассказать…
Он сделал паузу, и слушатели поняли, что он может сказать многое, только не желает. Впрочем, Алиев сейчас же вмешался:
— Ай, генерал-майор, можно подумать, я к тебе за невестой пришел. Говори сразу, калыма все равно не будет…
В паузу ворвался хриплый голос начальника тыла. Он стоял перед офицерами, размахивая рукой, словно рубил шашкой:
— Даже немцы кричат, что покойный был орел-человек, а теперь как будет — неизвестно…
— Приедет, узнаете, — произнес Юргенев и, заглушая речь начальника тыла, окликнул его — Товарищ Барсуков!..
Начальник тыла замолчал и вышел из зала, повинуясь знаку Юргенева. Алиев переглянулся с Городановым, взял начальника штаба под руку и пошел с ним по залу. Городанов, тяжело ступая по кафельным плиткам, шел за ними.
Юргенев сказал:
— Вы знаете, немцы свою газетенку со статьей Ауфштейна, переведенной на русский язык, сбрасывали над нашими позициями с самолета… Многие читали… Впрочем, — он вдруг рассердился, — и мне непонятно, почему Мусаев так выдвинулся. Человек не очень культурный, может быть, даже неумный. Но вот видите… — он повел рукой перед собой, словно расстилая ковер перед ожидаемым командующим. Алиев оглянулся на Городанова. В глазах его была искорка веселой усмешки, но она погасла, как только передалась Городанову.
Алиев сказал:
— Ай, ай, ай, это плохо для начальника штаба…
— Почему? — подозрительно спросил Юргенев.
— Как же, двойная работа, — ответил Алиев. — За себя думай, за командарма тоже думай, потом еще снова за обоих думай…
Они обошли зал и опять возвратились к тому месту, где оставили Скворцова.
Юргенев недовольно сказал:
— Шутить и я умею, а воевать, не думая, нельзя…
Скворцов, услышавший последние слова, усмехнулся, пожал плечами.
— Мне кажется, Мусаев умеет думать. Он еще в Испании научился этому искусству. Кстати сказать, тогда он впервые встретился с Ауфштейном…
— Так вы тоже знаете Мусаева? — с нетерпением прервал Алиев Скворцова. Но Скворцов не успел ответить. К Юргеневу подбежал связист и передал телефонограмму. Юргенев прочел, крякнул, будто у него перехватило дыхание, сказал, обращаясь к собеседникам:
— Мы ждем командующего, чтобы он отдал долг почтения своему предшественнику, волнуемся, задерживаем церемонию, а он, даже не предупредив нас, летит на фронт, как будто нельзя сделать это позже…
В голосе начальника штаба слышалось раздражение, которое одинаково можно было объяснить и чувством досады на неуважение Мусаева к покойному, и недовольством, что все делается не так, как полагается по ритуалу приема армии, — без представления командиров соединений, работников штаба, без торжественной встречи. Юргенев взглянул на Скворцова, ища в его глазах сочувствия, но Скворцов был по-прежнему невозмутим. Алиев быстро отвернулся, пряча улыбающиеся глаза. Между тем среди офицеров штаба произошло какое-то движение, послышались голоса.
— Самолет командующего… На посадке…
Юргенев быстро направился к двери, не глядя, идут ли за ним остальные. Его толстое тело колыхалось на ходу. Видно было, что он с трудом сохраняет спокойствие.
2
Генерал-лейтенант Мусаев легко спрыгнул с крыла самолета. Вслед за ним появился офицер связи штаба армии капитан Суслов, летавший встречать нового командующего в штаб фронта. Из-за спины Мусаева Суслов заметил сердитый взгляд Юргенева и неприметно пожал плечами, как бы говоря: «А что я?» Мусаев торопливо шел к встречающим, и каждый мог теперь рассмотреть его.
Он был высок, строен, легок на ногу — это было заметно по тому, как уверенно и твердо ступал он по мокрому от растаявшего снега полю, на которое опустился У-2. Лицо Командующего было хмурым. Грубоватые, словно вырубленные, его черты говорили о воле и упорстве. Прямой нос и правая щека покрыты мелкими синими пятнышками несгоревших частиц пороха какого-то давнего ранения; опытные глаза военных сразу различили, что ранение получено очень давно, может быть, в детстве. Приняв рапорт начальника штаба, а затем, знакомясь со встречающими, командующий твердо пожал всем руки и пошел к вокзалу. Послышались протяжные голоса команды, легко взлетели винтовки, взятые «на караул», снова запел оркестр. Мусаев прошел в вагон, склонился над гробом своего предшественника. Когда он выпрямился, все заметили, что лицо его еще более посуровело, стало твердым, будто окаменело от тайной думы. С этим каменным выражением лица и тяжелым взглядом он шел мимо построившихся на перроне подразделений, здороваясь с солдатами, слышал в ответ несмолкающие приветствия многих сотен людей. Генералы шли за ним, отмечая, как внимательно смотрит Мусаев на людей, будто ищет среди них знакомых, как рассматривает обмундирование и вооружение солдат, словно видит все это впервые. Начальник тыла вдруг стушевался и отстал. Теперь он шел позади всех, понурив голову. Он тоже как бы впервые увидел разбитую обувь, рваные и прожженные шинели на некоторых бойцах. Он сжал кулаки, злясь на офицеров, снаряжавших роты для участия в церемонии и не позаботившихся о том, чтобы отобрать хорошо одетых и обутых солдат.
Мусаев остановился перед ротой из дивизии Ивачева. Ее солдаты выглядели опрятнее других, будто только что пришли с отдыха, хотя дивизия уже два месяца не выходила из боев. Мусаев стоял перед ротой, вглядываясь в открытые лица бойцов. Левофланговый роты, сержант, уже пожилой человек, кавалер четырех орденов, с двумя нашивками за ранения — одной золотой и второй красной, с подстриженными ежиком усами, сдерживая дыхание, смотрел на генерала. Мусаев улыбнулся — это была первая улыбка на его хмуром лице за время церемонии — позвал:
— Верхотуров!
Сержант сделал три шага вперед, четко отдал честь, доложил:
— Сержант первой роты Верхотуров по вашему приказанию…
Мусаев шагнул к нему с протянутыми руками, обнял его и звучно поцеловал.
— Пришлось еще встретиться, Никита Евсеевич!
— Так точно, товарищ генерал-лейтенант! — не смущаясь, ответил Верхотуров, искоса поглядывая на товарищей, словно проверяя, какое впечатление произвела на них его встреча с генералом.
Скворцов, внимательно наблюдавший за Мусаевым и сержантом, увидел всеобщее удивление, но оно было таким добрым, что все лица расплылись в улыбках. За спиной Скворцова послышался голос Юргенева:
— Суворову это было позволительно.
— А Мусаеву, скажете, нет? — тихо спросил Алиев.
— Я ничего не говорю, — ответил Юргенев.
Мусаев отпустил сержанта из своих объятий, оглядел его, спросил:
— Много уральцев в вашей дивизии?
— Почти все уральцы! — бойко и как-то даже радостно ответил Верхотуров.
— Хорошо. Люблю земляков. С ними и жить хорошо и воевать приятней. Расскажи ребятам, как на Волге дрались…
— Есть рассказать, товарищ генерал-лейтенант!
Верхотуров встал в строй, а Мусаев повернулся к сопровождавшим его генералам и офицерам, словно извиняясь, сказал:
— Вот добрая встреча… Не только земляк, а еще и дружок покойного отца. И дома в деревне напротив… — Лицо генерала было освещено такой ясной улыбкой, будто он глядел куда-то вдаль, через все прожитые годы, прямо в детство, и всем показалось, что он не так уж суров, каким хочет выглядеть, да и молод еще совсем не по званию. И сразу стало веселее в группе сопровождавших, послышался тихий разговор. Мусаев отдал команду, роты пошли по перрону, звучно печатая шаг. Генерал-лейтенант проводил их взглядом. С лица его вдруг исчезло благожелательное выражение, он сказал, обращаясь к начальнику штаба.
— Подробный разговор будет в двадцать ноль-ноль в штабе армии. У меня только один вопрос: почему армия прекратила наступление?
Юргенев сухо откашлялся, глядя на Алиева, Городанова и Скворцова. Генералы молчали, ожидая, что скажет начальник штаба. Мусаев подождал несколько секунд, резко повернулся и пошел к машине. Юргенев шел за ним, плотно сжав губы. Дул резкий ветер, пахнущий речной влагой и дымом пожарищ.
3
Машина командующего медленно двигалась по городу, поднимаясь к старинной крепости. Стены крепости выдержали много осад и штурмов. Здесь сражались еще войска Суворова и Чичагова. Немецкая артиллерия оставила новые следы на древней каменной кладке. Кружевные минареты, превращенные в колокольни, зияли пробоинами. Четырехугольные башни имели зазубрины, словно лезвия серпов. Мусаев грустно разглядывал город. Голые сады, чуть тронутые темным загаром набрякших почек, были смяты танками, старые грушевые деревья лежали поверженные на земле, испуская тонкий запах весенних соков, вытекающих из ран. Трудно надеяться, что сломленному дереву удастся залечить пробитое осколками тело, но раны заплывают соком, будто дерево стремится воскреснуть к новой жизни. И дома залечивают раны. Вон в окне появилась фанерная заслонка от дождя и ветра, в дом вернулись жители. Рядом два старика замазывают свежей глиной заложенную булыжником пробоину в стене. Город оживал на глазах. На улицах все больше появлялось горожан, возвращавшихся из прибрежных камышей, где они отсиживались во время боя.
У самой крепости машину задержал транспорт с боеприпасами. Трофейные машины, круторогие волы, худые, мордастые румынские кони, запряженные в деревенские телеги, переругивающиеся возчики-старики и ребята — все с топорами, с кнутами и автоматами, — женщины в подоткнутых юбках, чтобы грязь не налипала на подолы, и среди них лишь один военный — майор интендантской службы, начальник артснабжения дивизии. Впрочем, сейчас же из ворот вышла та самая рота, возле которой Мусаев задержался на перроне. У каждого солдата из карманов и заплечных мешков торчали гранаты. Один тащил на плече ящик со взрывателями, другой — миномет, третий — опорную плиту. Верхотуров подбежал к майору, что-то сказал. Солдаты быстро разместились по машинам и подводам. Обоз тронулся. Повинуясь знаку регулировщика, подобно встречной волне, прибиваемой к берегу, прямо под стенами домов проследовал встречный обоз. В мажарах, набитых сеном и соломой, были раненые: одни из них лежали, вытянувшись, устремив к небу усталые глаза, другие сидели, прижимаясь спинами к крутым бортам мажар. Лица у всех были утомленные, обросли щетиной. Многие раненые спали, несмотря на неудобное положение и толчки.
Капитан Суслов, ехавший вместе с командующим, выскочил из машины и побежал к майору, прыгая по булыжникам, чтобы не запачкать свои щегольские сапоги. Майор растерянно козырнул в ответ на его резкий окрик. Мусаеву не понравилось, как майор подобострастно отвечал капитану, не понравилась и напористость Суслова, явно кичившегося своей близостью к командующему. Мусаев сегодня особенно остро примечал все недостатки людей, с которыми встречался. Он не только знакомился с ними, но как бы изучал каждого из них. Ведь это именно те люди, вместе с которыми ему предстояло воевать, побеждать врага. Он приоткрыл дверцу кабины, откинулся на сиденье, чтобы его не видели, и прислушивался к разнообразным шумам.
Обозы разошлись, оставив узкий коридор для проезда. Суслов возвращался к машине командующего. С одной из мажар его окликнул тихий девичий голос:
— Товарищ Суслов!
Капитан обернулся, лицо его изменилось, глаза потемнели, губы дрогнули. Он подошел к мажаре, в которой полулежала девушка в шинели с перевязанной рукой. Она привстала на колени. Суслов взглянул на машину Мусаева и, не увидев генерала, быстро спросил:
— Что с вами, Галина Алексеевна?
— Рука прострелена.
— Ну это не опасно. Отдохнете, поправитесь…
— Я хочу обратно…
— Нет, нет, поезжайте в госпиталь…
Мусаев смотрел на нежное, совсем молодое, но уже тронутое морщинками усталости лицо девушки. Она с нескрываемой радостью устремилась навстречу капитану, а он разговаривал словно по обязанности. И рядом с мажарой Мусаев увидел майора, лицо которого было искривлено страдальческой гримасой.
— Рацию разбило, — печально сказала девушка, а Мусаеву казалось, что она хотела сказать другое.
— Вернетесь, получите новую, — как-то наигранно-весело ответил Суслов, в то же время нервничая, желая поскорее закончить разговор.
Девушка опустилась на сено, протянутая рука бессильно упала.
Суслов торопливо произнес:
— До свидания, Галина Алексеевна, выздоравливайте! — Повернулся, будто не заметив протянутой к нему и бессильно опустившейся руки девушки, пошел к машине. Опять изменилось выражение его лица: оно стало вдруг озабоченным и одновременно каким-то неприятно услужливым. А тем временем из-за мажары вышел майор, воскликнул с плохо разыгранным изумлением:
— Товарищ Казакова, здравствуйте!
— Здравствуйте, товарищ Тимохов, — тихо ответила девушка, все еще провожая взглядом капитана.
— Вот и встретились, — сказал Тимохов, поправляя мятую, грязную шапку. В бледно-голубых глазах его таился испуг. Бессознательными движениями его короткопалые руки оправляли шинель. Девушка молчала.
— А я вам подарочек припас, Галина Алексеевна, — вдруг сказал майор и запнулся.
Девушка с безразличным видом спросила:
— Какой?..
— Новую рацию, знаете, последнего выпуска, портативную. Вся величиной с конфетную коробку. Хотел, знаете, ее лентами перевязать и вместо конфет подарить…
— Теперь она мне не нужна, — сказала девушка. Потом вдруг взглянула в лицо майору, вспыхнула нежным румянцем и сразу же поборола смущение, румянец схлынул.
— Товарищ майор, попросите, чтобы меня не отправляли в госпиталь, — с затаенной надеждой произнесла она.
Плечи Тимохова опустились, он вздохнул.
— Суслов теперь будет при штабе… Говорят, его адъютантом назначили, — проговорил, едва скрывая раздражение, майор.
— При чем тут Суслов? Наступление начинается, а радистов не хватает… Понятно?
Машина тронулась, и Мусаев не дослушал разговора до конца. В заднее стекло он увидел, как девушка выпрыгнула из мажары на землю, а майор что-то продолжал говорить, размахивая руками. Девушка опустила голову, лицо ее было скрыто тенью. Таким затененным оно и запомнилось Мусаеву.
Проезжая мимо обоза, Мусаев смотрел на вооруженных автоматами возчиков, на стволы счетверенных зенитных пулеметов, прикрытых от дождя брезентом. Заметил, что на каждой телеге и машине лежали доски, камышовые маты, аккуратно прикрепленные лопаты. Обоз был подготовлен тщательно. Это как бы примирило Мусаева с майором, который на первый взгляд показался генералу нерасторопным и боязливым.
Машина обогнула крепость, проехала по краю пересохшего крепостного рва, на дне которого валялись стреляные гильзы, поломанное оружие, снарядные ящики и шанцевый инструмент. Здесь оборонялись последние подразделения вражеских войск, перед тем как покинуть город. Едва машина вышла на юго-западную сторону крепости, перед Мусаевым открылся красивый вид на днестровскую леваду, на заросшие ракитником луга перед рекой, на крутой правый берег, еле видимый за дымкой испарений, которые переливались на солнце сизыми волнами, косо преломляя и отражая солнечные лучи. Затененные ракитником, лежали остатки голубого снега на северной стороне леска. Дальше к югу блестели, словно обрезки белой жести, водоемы, озерки, наполненные талой водой, поднимались конусообразные холмы, изрезанные балками, по которым теперь с шумом устремлялась вода, образуя живые линии на темном пространстве напоенной влагой земли.
Мусаев вздохнул, разглядывая ландшафт, на котором чувствовалось только движение природы, как бы исключавшее присутствие человека. Да так оно и было — человек страшился передвигаться здесь днем, он таился в складках земли, припав к ее черному телу, лежал в сырых канавах, прятался в мелком ракитнике, потому что весь этот берег простреливался с той стороны реки. Рокадная дорога, питавшая фронт, проходила восточнее, вдоль гряды холмов, по их обратному склону. У реки находились только сторожевые заслоны, охранявшие берег от попыток фашистских войск снова переправиться через Днестр и овладеть городом.
Глаза Мусаева не видели весенней красоты, не примечали оживления оттаявшей земли. За три года войны он привык к тому, что красивый ландшафт — лишь место для развертывания операции. Отдельные детали ландшафта могли быть полезны или вредны, смотря по тому, шла речь о наступлении или об обороне. С этой точки зрения он и читал раскрытую книгу земли, как в штабе читал карту, чтобы потом решить на местности задачу и изложить свой замысел штабным офицерам. Иногда Мусаев понимал, что это подчиненное положение ландшафта — не самое главное в природе. Он вдруг как бы подсознательно отмечал красоту возникающих линий, мог сравнить прекрасное видение с картиной художника, но в тот же миг с властной настойчивостью у него возникало второе, более необходимое представление о природе, то самое, утилитарное, которое помогало ему или мешало в главном — в ведения войны.
Так он думал и теперь о наполненных водой балках. Они пролегали с северо-востока на юго-запад, пересекали рокадную дорогу, затрудняли движение обозов. Это был враждебный элемент в тех слагаемых, из которых состояло решение задачи. Он видел реку, прикидывая на взгляд ее ширину, быстроту течения, крутизну западного берега, зеленую, густую растительность на нем: «Прекрасное место для скрытного сосредоточения войск. Вероятно, гитлеровцы попытаются использовать эту возможность, чтобы не позволить нашим войскам переправиться через реку.
На нашем же берегу трудно скрыть даже мелкие подразделения». И генерал с раздражением подумал о вопиющей несправедливости — русские реки становятся порой для нас лишней преградой и помогают врагу. Каждый раз приходится с пологого берега форсировать крутой, будто мало у нас и без того препятствий. И, подумав так, еще больше рассердился на себя: не надо было пускать фашистов в страну, тогда реки не помогали бы им, а если уж это случилось — выбивай врага и не сетуй на реки…
Даже туманная дымка на всем протяжении горизонта, колеблющаяся, неверная, была для Мусаева еще одним лишним поводом для беспокойства. Солнце садилось, дымка затрудняла наблюдение, а ведь каждую минуту из-за облаков могли вынырнуть самолеты врага и обрушиться на наш передний край. Нет, красота на войне всегда обманчива! Красив весенний солнечный день. Но попробуй в такой день пойти в атаку — проклянешь красоту. Хороши весенние ночи — холодок на губах, будто запах яблок, хрустит ледок на озерах и сырых левадах. Но попробуй пойти в разведку в такую ночь — и ты пожелаешь дождя и бури, тумана и темной воды. Все относительно на войне, даже пейзаж…
Капитан Суслов обернулся к Мусаеву, указал рукой вперед, где темнела на горизонте черная гора, прикрывая излучину Днестра, сказал:
— От горы начинается предмостное укрепление немцев. Здесь их до сих пор не столкнули за Днестр. Дальше до городка Липовец укрепленная линия. Около шестидесяти километров… Прикажете ехать в штаб?
Мусаев взглянул на черную гору — на карте она называлась Монастырской. Отсюда виден был белый скит на камнях, от солнца камень казался розовым, будто залитым огнем или кровью. Подножие горы заросло буковым лесом, который и окрашивал гору в темный, почти черный цвет. Шофер повернул влево, сделал тяжелый разворот по размякшей луговине. Машина, буксуя колесами и скрежеща, рванулась обратно к городу.
Штаб армии размещался в хуторке под городом. Обилие садов в хуторке позволяло надежно укрыть от воздушного наблюдения машины, зенитные пушки, установленные под вишнями и широко раскинувшимися кронами груш. Мусаев думал о встречах, которые ожидали его в штабе, о людях. Их надо было не только узнать, но и понять — в этом заключалась ближайшая задача командующего. Так делал он всегда, приступал к работе в новой должности, принимая под свое командование полк, дивизию, корпус. Так он решил поступить и теперь, впервые в жизни став командующим армией.
Подумав об этом, он взглянул на Суслова. С ним ему тоже придется работать. Среди многих других надо понять и этого человека, в небольших карих глазах которого он только что увидел непонятную горечь. И еще подумал: почему Суслов так невнимательно отнесся к раненой девушке в мажаре? Ведь она протянула ему руку так, будто собиралась преподнести свое сердце.
Суслов сумрачно смотрел вперед. Мусаев мельком наблюдал за ним. В твердом очертании его профиля была какая-то напряженность, будто он все время защищался от нападения или ждал его. Мусаев уже знал, что капитан переведен на штабную работу недавно, до этого он командовал разведывательным батальоном. Окончив в самом начале войны курсы «Выстрел», показал недюжинные способности в понимании и решении тактических задач, за это и был прикомандирован к штабу. Осуществление замыслов командующего во многом может зависеть и от этого капитана, если он умен, инициативен. Конечно, давно минуло то время, когда адъютант должен был скакать под вражеским огнем на добром коне по полю сражения. Сейчас он чаще всего пользуется танком или самолетом. Однако нужно много смелости и честности перед собой и своим командиром, чтобы успешно выполнять поручения. Ведь ни танк, ни самолет не гарантируют от смерти, а умирать адъютанту, как и любому офицеру связи, приходится чаще всего в одиночку.
Вместе с тем Мусаеву с первой же встречи в штабе фронта понравились в Суслове твердость и спокойная уверенность. А эти качества генерал считал главными у офицера, потому что только спокойный человек может правильно решить задачу и только твердый выполнит ее, несмотря ни на какие препятствия. Однако были в капитане и черты, огорчившие Мусаева. А он любил, чтобы понравившиеся ему люди не имели недостатков. Командующего удивила сухость характера Суслова, которая особенно отчетливо проявилась при встрече с девушкой. И почти неожиданно для себя Мусаев спросил:
— Кто эта девушка, которую вы встретили у крепости?
Суслов не удивился вопросу и ответил равнодушно:
— Радистка Казакова, из батальона разведки, которым я раньше командовал.
— Хорошая девушка! — сказал Мусаев.
Суслов удивленно взглянул на генерала, но тот уже как будто забыл о девушке, опять углубился в свои думы.
4
Хуторок был маленький, и штаб в нем разместили с трудом. Во всех домах, однако, было электрическое освещение. На письменном столе командующего имелась даже кнопка электрозвонка для вызова подчиненных. В штабе стояла тишина. Его работники еще не знали привычек нового командующего. Может ли он работать при том шуме, который ни на минуту не прекращался в маленьких комнатах, до отказа набитых людьми, телефонами, аппаратурой, пишущими машинками? Телефонисты перешли в сарай, втянули туда толстый кабель, соединявший голоса всех восьми дивизий и двух корпусов армии. Машинистки перебрались в столовую, из открытых окон которой постоянно слышались торопливая дробь и монотонные голоса диктующих. Типография и редакция армейской газеты разместились прямо в саду в двух автобусах. Все это Мусаев заметил, едва вышел из машины. При покойном командующем Мусаеву приходилось бывать в штабе этой армии по заданию Ставки. Он знал, что прежний командующий любил иметь весь штат под руками, чтобы все видеть самому, чтобы люди слышали его голос. Мусаев с некоторым разочарованием подумал о переменах и решил восстановить прежний порядок. Люди лучше работают в привычных условиях. И меньше будет поводов для сравнений: вот тогда-то было лучше, а вот то-то и то-то было совсем не так… Мусаев знал, как трудно заменить в сердцах людей ушедшего и как опасна эта система сравнений: все равно к нему, новому человеку, будут приглядываться. Входя в специально для него подготовленную хату, он сказал Суслову, чтобы все в штабе оставалось по-прежнему.
— Карту фронта мне, — приказал командующий.
Суслов быстро выполнил приказание. Не более чем через минуту карта висела на стене, где были заранее вбиты гвозди. Мусаев подошел к карте, на которую только что были нанесены последние изменения, происшедшие на фронте. Если бы кто-нибудь в эту минуту заглянул в кабинет командующего, он был бы немало удивлен. Мусаев стоял перед картой, заложив руки за спину, покачиваясь с носков на пятки, тихонько посвистывая, прищурив большие серые глаза, будто остановился в задумчивости перед окном, перед зеркалом, перед любым светлым предметом, ничего не видя, думая о чем-то глубоко своем, непонятном постороннему. Да и в самом деле, Мусаев сейчас видел не карту, а всю полосу фронта, как утром видел ее с самолета, не утерпев и пролетев над полем будущих сражений, хотя и знал, что его ждут в штабе.
Он видел Днестр, представлявший собой как бы ось, вокруг которой перемещались громады войск фронта. Армия под командованием Мусаева занимала, в сущности, незначительный участок этого огнедышащего пространства — не больше ста километров изломанной линии. Если сопоставить это со всей двухтысячакилометровой линией боевого соприкосновения с противником, начиная от Баренцева моря и кончая одесскими лиманами, то все усилия войск Мусаева можно было сравнить с ударом пули в тушу слона. Однако пуля может быть нацелена в сердце слона или, скажем, легкие. Допустим, что после первого удара рана окажется несмертельной, но когда-нибудь и она окажет свое воздействие на противника…
Мусаев мог бы с закрытыми глазами нарисовать участок фронта армии: еще будучи в Ставке, он постоянно интересовался соединениями, противостоящими Ауфштейну. И все же теперь, когда Мусаеву самому довелось стать во главе армии, противостоящей этому опасному противнику, он рассматривал карту с особым вниманием, будто побаивался, не изменилось ли на ней что-нибудь с тех пор, как он получил свое новое назначение и наконец добрался до места.
На правом фланге армии находилась дивизия Ивачева. Два дня назад она вырвалась к Днестру, но Ивачев совершил ошибку. Вместо того чтобы попытаться с ходу переправиться через реку и захватить хотя бы маленький плацдарм на противоположном берегу, принялся расширять участок прорыва, ожидая, когда к Днестру выйдет сосед справа.
Может быть, потому Ивачев и не предпринял никаких попыток переправиться на правый берег Днестра, что произошло некоторое замешательство в штабе после трагической гибели командующего? Самолет, на котором бывший командующий облетал фронт, был сбит случайно появившимся немецким истребителем. А пока временно заменивший командарма Юргенев разобрался в обстановке, гитлеровцы успели сосредоточить на западном берегу силы для отпора частям дивизии Ивачева. Теперь форсировать большую реку стало гораздо труднее. Великолепный прорыв не принес всей полноты удачи…
От села Колосуж, в устье небольшой степной речки Суж, захваченного дивизией Ивачева, линия фронта поворачивала резко на восток и уходила от Днестра почти на шестьдесят километров, образуя нечто вроде треугольника. В самой вершине его у противника оставался город Липовец с железной дорогой, пролегавшей через районный центр Великое я приднестровский городок Краснополь, а далее уходившей за реку к молдавскому городу Батушани и к бывшей государственной границе — реке Прут. В Краснополе на Днестре находился штаб фельдмаршала Ауфштейна. Фашистская армия Ауфштейна, имея в своем распоряжении относительно хорошо действующую железную дорогу и несколько переправ через Днестр, могла не бояться ни прорыва Ивачева к Днестру, ни того, что левым своим флангом русская армия тоже вышла к реке. Фельдмаршал, вероятно, считает, что со своего предмостного укрепления может наносить удары и на юг, и на север. Тем более что, с точки зрения Ауфштейна, русская армия здесь является не чем иным, как своего рода аппендиксом, мешающим доблестному немецкому полководцу спокойно спать. И он попытается этот аппендикс удалить, уничтожить.
Мусаев стоял перед картой и тихонько посвистывал. Он даже не слышал мелодии, между тем это была его любимая старая солдатская песня.
Да, перед ним очень трудная задача, но тем почетней ее решение…
Он медленно прошел к столу, взял схемы последних операций армии, разложил их, внимательно вглядываясь в схему перемещения дивизий. Армия отжимала гитлеровцев к реке последовательными ударами. Вырвавшаяся вперед дивизия затем ожидала, пока соседи выровняют фронт. Противник имел возможность сохранить свою боевую силу. Теперь, зацепившись за Липовец, Великое и холмы вокруг железной дороги, немцы будут накапливать силы для ударов по пробившейся к Днестру дивизии Ивачева. Ну что же, пусть попробуют… Мусаев опять засвистел, потом тихо запел немного хриплым голосом:
Солдатушки, бравы ребятушки, Где же ваши сестры? Наши сестры — Это сабли востры, Вот где наши сестры!Поймал себя на том, что поет вслух, засмеялся, склонился к столу и что-то записал красным карандашом. Потом выпрямился, перевел взгляд на карту, сжал зубы так, что заходили желваки на скулах. Он смотрел на черный кружок, под которым была надпись: «Батушани». Смотрел, как будто силой своего желания хотел пронзить пространство, чтобы красные стрелы его дивизий вырвались остриями с двух сторон к этому маленькому молдавскому городку, о котором он знал только, что такой существует на свете. Впрочем, виденный в детстве первый город, запомнившийся больше всех других, и городок на Днестре, по которому Мусаев только что проехал, слились воедино в его представлении, создавая видимый образ. Так было легче думать об этом кружке со странным именем Батушани. Он мог теперь представить ансамбль центральной площади и прилегающих улиц. Там должны быть каменные двухэтажные дома с глухими дворами — бывшие купеческие цитадели. Их трудно брать в уличном бою. В центре площади, вероятно, имеется фонтан, изображающий фавна или змею: почему-то местные архитекторы любят творить подобные произведения. Впрочем, там могут быть винодельческие, сахарные заводы, винокурни — надо посмотреть в справочнике. Ведь все, чем богат или беден город Батушани, имеет прямое отношение к предстоящей операции…
В дверь постучали. Командующий взглянул на часы — двадцать ноль-ноль.
Вошел дежурный, доложил о прибытии генералов и старших офицеров — командиров соединений, ответственных работников штаба армии. Мусаев заметил, что на дворе еще светло. Но ординарец задернул окно шторами, включил свет. Генералы и полковники входили один за другим. Мусаев указал им на стулья. Ординарец вышел. Теперь командарм мог внимательно рассмотреть своих помощников и соратников.
Были здесь Алиев и Городанов, корпуса которых находились в резерве; Скворцов, дивизия которого стояла сейчас против Липовца; Виноградов, нажимавший на Липовец с севера и считавший, что через два-три дня его дивизия будет упомянута в приказе Верховного Главнокомандующего, так как Литовец они со Скворцовым возьмут. Позже всех вошел полковник Демидов, на участке дивизии которого с недавних пор расположился штаб армии, доставив тем самым полковнику тьму лишних забот. Бывший командующий любил перебрасывать свой штаб туда, где намечался хотя бы маленький успех. Он считал, что расположение штаба армии в ближайшем тылу наступающей дивизии воодушевляет бойцов. И когда Демидов, воевавший на южном фланге армии, на прошлой неделе вдруг вырвался к Днестру, захватил этот городок со старинной крепостью, бывший командарм немедленно перебросил сюда штаб. Но Мусаев видел по усталому лицу Демидова, что полковник не очень доволен такой близостью высокого начальства. Начальство надо охранять, а войска Ауфштейна нависли над его дивизией такой глыбищей, что еще неизвестно, продолжат ли они свое отступление или вдруг ударят по узкому пространству, захлопнут и дивизию Демидова, и армейский штаб, словно в мышеловке…
Не явился на совещание только Ивачев. В районе расположения его дивизии было не очень спокойно, и Мусаев согласился, что комдиву лучше оставаться на месте.
Командарм не торопился начинать совещание. Каждый из сидевших перед ним командиров представлял собой такое-то количество винтовок, автоматов, танков, пушек. Но Мусаев давно уже знал, что характер командира имеет прямое отношение к мощи оружия. И он хотел понять, насколько могут увеличить эту мощь командиры соединений.
Генерал-майора Скворцова он знал по прежней совместной службе. У этого спокойного худого человека была железная воля, которую предстояло нацелить в желательном направлении. Знал он также, хотя и меньше, Городанова. Это был исполнительный военачальник, любивший трудные задачи, умевший их решать с наибольшим успехом. Были в характере Городанова твердость, упорство, расчетливость. Этими качествами он отличался от Алиева, горячность которого смирялась под наблюдением старшего товарища. Мусаев с удовольствием отметил про себя, что на таких командиров можно положиться.
Ему не поправилось хмурое яйцо Юргенева. Но он понимал, что начальнику штаба трудно вообще привыкать к новому командующему, а Юргеневу труднее, чем кому бы то ни было, сразу забыть человека, с которым на протяжении длительного времени пришлось делить и горе, и удачи. С ним надо сработаться. Опытный начальник штаба — это половина успеха. Юргенев тянул штабную лямку достаточно долго, хорошо знал людей. Еще в штабе фронта Мусаев кое-что узнал о начальнике штаба и был вполне доволен тем, что услышал.
На широком лице Юргенева, в котором была какая-то детская простоватость, могущая обмануть неопытного человека, появилось сердитое выражение, когда он развернул папку для доклада. Мусаев улыбнулся было, но сдержал улыбку, приготовился слушать. Остальные командиры молча курили. Дым клубами поднимался к потолку. Алиев задумчиво рассматривал ногти, Городанов искоса поглядывал на карту, что-то обдумывая.
Юргенев коротко доложил о состоянии армии, указал на усталость войск, упомянул о последних операциях и умолк, все еще сохраняя сердитое выражение лица. Казалось, он сам недоволен своим докладом, говорил не то, что хотел бы сказать. Мусаев заметил, что главного Юргенев так и не высказал, как днем не ответил на вопрос нового командующего: почему армия приостановила наступление? Ссылаться на усталость войск не следовало. Это Юргенев понимал и сам. Все устали, ведь наступление продолжалось третий месяц, лишь с небольшими перерывами. Зачем же об этом говорить? Было еще что-то, тревожившее начальника штаба.
Мусаев сразу нахмурился, на лбу появились резкие морщины, лицо осунулось. Алиев незаметно указал Городанову на командующего. Городанов вздохнул, потом спохватился и отвернулся снова к карте. А Мусаев неожиданно обратился именно к нему. Городанов мельком взглянул на Юргенева и доложил, что его корпус в порядке, сейчас танкисты обучаются работе на новых, только что полученных машинах. Мусаев спросил, как успевают бойцы. Городанов похвалил и людей, и новые машины, которым не страшны ни бездорожье, ни удары немецких самоходных пушек и танков «тигр».
— А как же насчет усталости? — хмуро спросил Мусаев, когда Городанов умолк.
— Начальник штаба имел в виду пехотные войска, — ушел от прямого ответа Городанов.
— А конники? — обернулся Мусаев к Алиеву.
Алиев выпрямился, блеснув зубами в широкой улыбке, и сразу стало веселее в комнате. У него было чудесное качество — ободрять всех, кто имел с ним дело. Веселое лицо, смеющиеся глаза не допускали мысли о том, что этот человек может попасть в затруднительное положение, а если уж что-нибудь подобное случится, он наверняка найдет выход. И сейчас Алиев быстро ответил:
— У меня корпус на подножном корму живет, а сено есть еще на немецких складах. Мне легче, чем Городанову и его танкистам. Ни бензину, ни масла не требуется. Люди соскучились уже в резерве…
Скворцов, к которому с тем же вопросом обратился командарм, ответил сдержанно:
— Дело не только в усталости, товарищ командующий. Гораздо хуже, что тылы не подтянуты. Моя артиллерия третий день имеет полкомплекта снарядов, расчеты ведут лишь прицельную стрельбу. Хорошо, что немцы так напуганы нашим наступлением, что не рискнут…
— А если рискнут?.. — прервал его Мусаев.
— Ауфштейн больше всего на свете жаждет позиционной войны. И если мы не ведем наступательных боев, он только радуется…
— Вот именно, — подтвердил Мусаев.
Скворцов замолчал, опустив голову и пошевеливая тонкими нервными пальцами. Мусаев вынул из портфеля кипу вырезок из немецких газет, положил их перед собой, выбрал одну и начал читать по-немецки, тут же переводя:
«Таким образом, успешно отрываясь от преследующих нас войск противника, мы выходим из жестоких зимних боев с неистощенными резервами и теперь, опираясь на сложную систему заградительных укреплений линии Днестра, сможем переформировать армию и подготовить ее для нового удара…».
Он перелистал несколько вырезок, нашел еще одну и снова начал читать, выразительно подчеркивая отдельные слова:
«Кое-кто говорит, что предельный успех русских наступательных операций был достигнут в начале марта. Теперь-де русское наступление выражается в поступательном движении, которое более не угрожает нашим частям опасностью окружения. Подобные разговоры являются предательством, так как они подрывают боеспособность армии…».
— Вы знаете, кто это писал? — спросил командующий. Помедлив, сам же ответил: — Фельдмаршал Ауфштейн. О нашей армии. Понятно?
Городанов наклонился вперед, стиснув пальцами край стола. Алиев вдруг вскочил с места и хрипло крикнул:
— Прикажите, я его поймаю, этого писаку!
Юргенев побледнел, но ответил твердым голосом:
— Ауфштейн находится против нашей армии три месяца, и каждый день мы его бьем. Я думаю, что это лучший наш ответ.
— Да, — спокойно ответил Мусаев. — Вы его били три месяца, но до сих пор не добили. В этом и заключается ошибка.
Нервным движением Юргенев выхватил из папки газету, положил ее на стол и сказал:
— Написать можно все. Вот в этой газете тоже есть статья Ауфштейна…
Мусаев ответил:
— Я читал ее. Ну что же? Ауфштейн почти прав, он действительно дважды поколотил меня. Том более необходимо сделать так, чтобы он больше не мог никого колотить.
Юргенев, наблюдавший за лицом Мусаева, склонился к своим бумагам. Скворцов спросил:
— Как же это сделать?
Мусаев встал и подошел к карте.
— Немцы хотят позиционной войны. Мы ее дадим им, но только там, где нам будет выгодно, и отнюдь не потому, что этого хотят они. Если мы ослабим нажим на участке Липовец — Великое, они примут это за удачу, тем более что армия всегда наступала широким фронтом. Вместе с тем мы накопим резервы здесь, на плацдарме у Демидова и возле Колосужа у Ивачева. Двумя одновременными ударами форсировав Днестр, выйдем на Батушани, оставляя Краснополь в тылу. Эта операция настолько рискованна, что противник не поймет ее цели в течение двух дней. Между тем за Днестром мы выйдем на широкий простор, где смогут успешно действовать танки и кавалерия. И если нам удастся закрыть «мешок» около Батушани, мы устроим гитлеровским войскам то же самое, что было у Волги, конечно в меньшем масштабе.
Красные стрелы сомкнулись на черном кружке с надписью «Батушани», построив почти квадрат, диагоналями которого были с севера на юг — Днестр, с востока на запад — железнодорожная линия Липовец — Великое — Краснополь — Батушани. Мусаев отошел к столу и сел, ожидая одобрения предложенного им плана или возражений.
5
В самую последнюю минуту, когда обоз дивизии Ивачева выходил из старой крепости, чтобы по яругам и веретьям[3] добраться до передовой, майор задержал сержанта Верхотурова. Солдаты и обозники посмеялись над сержантом, которого теперь, мол, превратят в писаря либо в кладовщика, да с тем и ушли, покрякивая под грузом. А Верхотуров и впрямь стал вроде мальчика на побегушках: то на вокзал иди встречать новую часть, то расселяй возчиков на отдых… Сержант сердился про себя и со зла покрикивал на людей. Однако от приказа не уйдешь.
По вечерам Никита Евсеевич размышлял о том, что и в дивизии дел теперь не так уж много: солдаты, как на курорте, грязевыми ваннами ревматизм лечат. Не война, а чистая физиотерапия. Порох нюхают разве только разведчики. Остальные-прочие портянки стирают, воду из окопов котелками вычерпывают: небесная вода — сверху, земляная — снизу. Небольшая радость — без дела в окопе сидеть, а тут хоть людей увидишь.
После выхода на Днестр дивизия закопалась в землю. Только артиллеристы постреливали через реку, а пехота почти бездействовала. Старые солдаты поругивались, но дело от этого не менялось. И Верхотуров мог ругаться, но коль приказа наступать нет, значит, сиди. Потому он и повеселел, обдумав как следует свое положение.
В свободные от выполнения поручений минуты Верхотуров вспоминал о генерале. Хотя и далеко махнул сынок Миколы-пушкаря, уральского мужика, старого артиллериста, однако не забывает своего роду-племени, земляного корня. И на Волге узнал земляка, отцова дружка, и здесь приметил. И Верхотуров гордо поглядывал кругом, раздумывая, как ребята на передовой расскажут о встрече генерала, о разговоре сержанта с командующим. Никита и сам сумел бы рассказать, да люди кругом незнакомые, еще примут за похвальбу, а хвастаться сержанту не к лицу.
От острых глаз приметливого Верхотурова не ускользнуло, что уж как-то слишком много обозов идет к складам. Да и со станции все подходят и подходят маршевые батальоны, а к рассвету пришли два полка из дивизии Виноградова, которым по всем статьям здесь совсем быть не к месту. У них там бой, немцы берегут город Липовец пуще глаза, а два полка идут, будто на прогулку, к Днестру — со всей артиллерией, с обозами, с большим хозяйством. К рассвету сержант совсем уверился, что его дело теперь — поспешать до роты, потому что новый командующий, видать, приехал с новыми планами, вроде наступление близится.
Верхотуров приметил также, что и майор Тимохов ведет себя по-иному, не как всегда. Может, ему уже сказали о наступлении, потому что к утру на склад пришли обозы из всех полков дивизии, грузы брали полные, лошадей не жалели, чего Тимохов никогда не допускал. В обычное время он не стеснялся переложить груз с подвод на людей, потому что человек, известно, отдохнет и снова пойдет, а лошадь утоми — она и вовсе откажется. Так Верхотуров дошел до главного, хотя никто ему и слова не сказал. Впрочем, старого воина на мякине не проведешь, а солдатская почта штабной точнее.
Утром Никита разыскал майора в складской конторке. Тот сидел за столом. На столе стоял медный чайник, пробитый поверху пулей. Из двух пулевых дырок выбивался густой, наварной чайный пар. Майор дремал, но, пересиливая себя, бормотал, будто убеждал кого, а кого именно, сержант не видел:
— Я, Галина Алексеевна, человек тыловой, так сказать, глубоко штатский. Я вас понимаю… Но ведь если бы вы не встретили Суслова, вы бы лечились, не бежали бы на фронт… Вот почему мне обидно, что он смутил ваш покой, а самому ему и дела до вас нет…
Никита потопал ногами у перегородки, покашлял, но майор был как бы не в себе, ничего не слышал, продолжал разговаривать:
— Я понимаю, вас можно подвигами увлечь, а какой же подвиг в обозе. А ведь я сколько раз просился на передовую, да разве Ивачев поймет человеческую душу? Ему лишь бы снаряды вовремя поступали.
— Петр Ильич, это напрасный разговор, — ответила девушка, которой Никита сначала не заметил. Теперь осмелел и Верхотуров, громко сказал:
— Товарищ майор, разрешите обратиться!
Тимохов повел покрасневшими от бессонницы глазами. Девушка поднялась с койки, на которой сидела, прижимая раненую руку, воскликнула:
— Никита Евсеевич!
Верхотуров улыбнулся, узнав Галину. Радистка была мало того что знакомая, а еще и землячка.
Майор сказал, вдруг стряхнув всю усталость:
— Я вас слушаю, Верхотуров.
— Разрешите вернуться в часть?
Галина подошла к Никите, стала рядом:
— Вот как хорошо устраивается, и я с ним пойду, Петр Ильич.
Майор, вздохнув, ответил:
— В госпиталь бы вам надо идти, да слов у меня больше нету. Идите.
Галина вдруг шагнула вперед, нагнулась к Тимохову и раньше, чем он успел что-нибудь сообразить, поцеловала его в обветренные сухие губы. Он вскочил, а Галина тихо произнесла:
— Хороший вы, Петр Ильич, человек, только у нас дороги разные…
Тимохов стоял, широко-широко раскрыв глаза, будто ослеп от солнца. Глаза у него темно-серые, за очками кажутся холодными, тускловатыми. Девушка вышла из конторки. Тимохов сделал было шаг за ней, но сдержался, поглядел на Никиту, сказал хриплым, прерывающимся голосом:
— Верхотуров… На твою ответственность! Такая девушка… Такая девушка… Ее беречь надо!
Верхотуров отдал, как положено, честь, повернулся, вышел. У ворот крепости майор снова догнал его, сказал:
— Может, подождете обоз? Немецкие автоматчики в степи бродят. Последний обоз обстреляли…
Галина, стоявшая в воротах с автоматом, который рядом с перевязанной рукой делал ее особенно трогательной и даже вызывал какое-то жалостливое к ней чувство, предупредила ответ сержанта:
— Нам задерживаться некогда. Спасибо, Петр Ильич, на добром слове…
Они пошли ровной солдатской походкой, спускаясь с холма, на котором, будто врезанная в синее небо, стояла крепость. У подножия холма Верхотуров обернулся и еще раз увидел майора. Тимохов стоял в воротах крепости, заслонив глаза от восходящего солнца, и смотрел из-под руки им вслед. Дорога сделала поворот, крепость и городок скрылись за холмом.
Как только кончилось вымощенное булыжником шоссе, началась пешеходная маята. Незамещенный большак был так разъезжен, что ноги уходили по щиколотку в липкое черное тесто. Девушка шла за Верхотуровым: он выбирал кочки и остатки обледенелого снега, на которых еще могла удержаться нога. Галина побледнела, но не отставала от Никиты. Сержант пытался было разговорить ее, потом замолчал и сам. Да и не располагала дорога к душевной беседе, — того и гляди, утонешь на полуслове или выругаешься крепко-накрепко, а ругаться при Галине было неудобно.
Выходя на веретью, Никита оглядывал волнистый горизонт, всматривался в еще кое-где покрытую бурым снегом, но большей частью уже черную степь, заваленную успевшим заржаветь железом. Сколько видел глаз, кругом были следы сражений. Солдат читал о них, словно по книге: вот в этом логу немцы устроили засаду самоходок, а наши танки вышли с запада и ударили по засаде из таволожника. Так и остались искореженные самоходки стоять надгробными памятниками разбитой вражеской части. Чуть дальше были вырыты неглубокие окопы. Их не успели закончить. Фашистские солдаты засели было в них, да позади затрещали русские автоматы. Окопы стали не нужны, немцы вышли из них и подняли руки. Это можно понять по тому, что мало вокруг было трупов. А вот здесь было селение, остались от него только печные трубы да около труб и разбитых печей остовы железных кроватей: богато, видно, жили колхозники до войны — в каждом доме по пять-шесть кроватей. Вокруг пожарища торчали стволы срубленных плодовых деревьев, по пепелищу бродили жирные вороны, оставляя за собой следы. Люди из сожженного селения ушли строить дорогу, чтобы наши войска скорее догнали гитлеровцев, отомстили за все.
Кругом были следы войны. Но чем дальше шли Никита и Галина, тем больше видели нетронутых сел, оставленных в целости мостов, аккуратно подмазанных белых хаток — тут фашисты бежали без боя.
Путники шли по рокадной дороге вдоль линии фронта, изредка слыша в стороне неясные звуки боя. Вскоре вид степи изменился, она ожила от движения и шума проходящих войск. Путников нагнали артиллеристы. Тягачи выдерживали и в этом бездорожье, но все-таки в балках артиллеристам приходилось помогать вытаскивать орудия из липкой грязи. Появился большой автомобильный обоз: Никита и Галина подняли руки и до тех пор «голосовали», пока какой-то шофер не остановил машину. Они взгромоздились на снарядные ящики, присели, вытянув ноги, вздыхая от блаженства. Ветерок обдувал разгоряченные лица. Крепко увязанный груз не мешал наслаждаться покоем, только руками держись, гляди, чтоб не сбросило в канаву. Никита задремал, привалившись к большому ящику.
Очнулся он от толчка. Машина застряла. Шофер вылез из кабины, походил вокруг нее, шумно сопя. Потом, сбросив шинель в грязь, лег под кузов. Встал, вздохнул и приказал пассажирам слезать.
С полчаса они втроем таскали таволожник от речки, укладывая его под колеса, но машина все буксовала. Никита рассердился, сказал шоферу:
— С тобой до ночи протопчемся. Вылезай сам, нам стоять несподручно…
Шофер с завистью поглядел на него и его спутницу — пешим меньше заботы, но согласился, что у всякого есть свое дело.
Никита отсыпал ему махорки, добавил:
— Вытаскивать тебя не отказываюсь, если обгонишь да снова застрянешь, а ехать с тобой не с руки… Пока ты до фронта доползешь, наши, может, через границу перейдут…
Шофер навострил уши:
— А что, наступление?
Никита уклончиво пожал плечами, Галина пошла вперед. Шофер вдруг швырнул шапку наземь, крикнул:
— Берегись, сержант, догоню, не посажу! Теперь и мне к спеху, если такое дело!
Никита помахал рукой и вышел на бугор, догоняя Галину. С бугра он увидел, как шофер швырнул под буксовавшее колесо свою шинель, машина вдруг рванулась, проскочила на обсохшую верхотуру. Проезжая мимо Никиты, шофер открыл дверцу, что-то крикнул и сгинул в синем поле. Галина вздохнула, провожая машину взглядом, но ничего не сказала.
Верхотурову нравилось, что у девушки хватает выдержки: идет, не жалуется, хоть путь далек и волосы у нее слиплись от пота, выбились из-под шапки. Поправит повязку на руке, передвинет автомат и снова шагает без слов. А дорога становилась все труднее. К полудню потеплело, грачи появились на обдутых ветром парах, день совсем стал весенним.
На переправе через речку Суж скопилось столько автомашин и подвод, будто целый город встал на колеса и расположился привалом у темной воды. Два больших парома ходили через речку на канатах, в стороне саперы сколачивали новый мост. По реке плыли белые и желтые льдины. На желтых виднелись трупы, чернели пятна минных разрывов — в верховьях Сужа у Липовца продолжались жестокие бои. На берегу стояли в очереди маршевые роты и батальоны, обозы со снарядами, подвижные моторизованные части. Конники спускали коней в воду и пересекали реку вплавь. У паромных мостков не прекращалась ругань: кто-то стремился проскочить вне очереди, доказывая, что его груз самонужнейший на фронте. Капитан, командовавший переправой, засыпал между двумя фразами: должно быть, не одни сутки находился здесь, не зная ни сна ни отдыха. И тут можно было услышать разговоры о предстоящем наступлении. Доморощенные стратеги решали, куда штаб направит удар, придется ли им участвовать в бою. Накипело на сердце у солдат, потому и принимали они каждую весть как примету наступления.
Патрульный проверил документы у Никиты и Галины, сказал:
— К капитану не подходите, у него и без вас дел много, пристраивайтесь к этой роте, она сейчас переправляться начнет. А не слыхал, сержант, правда ли, что генерал на смотру земляку сказал, будто нынче же в наступление идти?
Никита удивился, как быстро разнеслась весть о его встрече с генералом по фронту, — видно, правильно говорят, что солдатская почта поточнее штабной, — однако ничего не ответил.
Патрульный, вздохнув, сказал:
— Так вот и простоишь тут, а наши, может, прямо к границе шагнут!
Паром тяжело подплыл к берегу, ударяясь о льдины. Никита и Галина сразу же отделились от роты и пошли. Но вскоре их остановил новый патрульный.
— Дальше в одиночку не ходят, придется вам подождать, пока вся рота переправится…
Никита согласился, а Галина запротестовала. Патрульный отошел. Никита сказал ей:
— Кто же с хозяином дома ругается? Ему спасибо говорят, а теперь пойдемте тихонько по-над берегом: тут сами доберемся…
Все чаще путь пересекали узкие и глубокие балки, по степи гуляла вешняя вода. Никита заметил, что она смывала чернозем — жители не делали насаждений по оврагам, как это принято на Урале. Там стараются хорошую землю сохранить не только для себя, но и для потомков. И сам удивился, что примечает такую мелочь, — вот что значит отойти на денек от фронта. Тут же подумал: как война кончится, надо приехать в эти места — все равно хозяйство восстанавливать кому-то придется, вот он и покажет, как следует беречь и обиходить землю. По всем приметам, через неделю можно начинать раннюю пахоту, а пока не видно, чтобы готовились к ней. Никита передернул плечами. Его руки стосковались по плугу, по ременным вожжам, по знакомому с детства возгласу: «Бороздой, бороздой, Лысанка!» Лошадь послушается, шагнет в борозду, заскрипит земля под лемехом, отвалится жирный пласт, грач подпрыгнет к краю, осторожно глянет черным глазом, склюнет личинку и взлетит, Тяжело махая крыльями. А тут над полем летают одни вороны, трупной пищей питаются — нечистая птица. Верхотуров тяжело вздохнул.
— Что вздыхаете, Никита Евсеевич? — спросила Галина.
— Кончать фашиста надо, — ответил хмуро Никита. — Третью пахоту одни женщины пашут. А земля слабых рук не любит…
— Какие же слабые, — обиделась Галина, — когда они и винтовку держат, и станком управляют. Большое ли дело — пашня?
Хотел было Никита поспорить, но Галина закричала:
— Самолет! Самолет! Наш связной У-2… — И грустно добавила: — Через несколько минут дома будет, а нам идти да идти…
Никита взглянул на солнце. Высоко еще — не больше пяти часов. И пригревает хорошо. Пусть бы скорее обдуло эту мокреть, овеяло землю, установились бы дороги, не только идти, а и наступать было бы легче. Перевел глаза на самолет и вдруг увидел, что самолет пошел на снижение, закачался, потянул быстрее, а из мотора выхлестнул черный дым. И только тогда услышал — из ближнего леска хлопнула зенитка, застрочил крупнокалиберный пулемет. Самолет тянул к дороге, заметно теряя скорость. Галина выскочила на горку, закричала: «Немцы!» — и быстро побежала вперед.
Верхотуров увидел, как от леса отделились тоненькие фигурки вражеских солдат. Самолет все снижался. Летчик, должно быть, храбрый парень, на горящем самолете продолжал полет, уходя к дороге. Но дорога была пустынна. Только два человека были на ней, а от леса бежали гитлеровцы. Верхотуров хотел определить их число, да слишком много их было, чтобы пересчитать на бегу.
Галина уже стреляла по немцам. Дымящий У-2 коснулся колесами размокшей земли, подпрыгнул. Два человека выскочили из него раньше, чем он остановился, отбежали немного. И вдруг самолет вспыхнул ярким пламенем, как будто только и дожидался момента, чтобы ушли люди.
Верхотуров выстрелил в ближнего гитлеровца, а выпрыгнувшим из самолета закричал: «К балочке! К балочке бегите!» Галина окликнула бегущего офицера: «Товарищ Суслов!» — и Верхотуров узнал адъютанта генерала. Суслов бросился к Галине, вдруг подставил ей ножку, Галина упала. Верхотуров заметил, как пулеметный вихрь пролетел над ними, срывая с гребешка пахоты черные комочки грязи. «Ловкий парень!» — подумал он и припал к земле, выпуская короткие очереди, стремясь стрелять прицельно. Между тем летчик уже добежал до балки, прилег на краю ее и теперь стрелял в гитлеровцев из пистолета.
Немцы подбежали метров на пятьдесят, потеряв несколько человек, и залегли полукругом, должно быть не сообразив еще, что русских в балке всего четверо. Часть гитлеровцев переползала вправо, собираясь окружить летчика. Остальные вели сильный огонь, не давая поднять голову.
Верхотуров и летчик перебежали на противоположный склон балки. Суслов лег рядом с Галиной, посмотрел на нее. Она невольно поправила выбившиеся из-под шапки волосы и подумала, какой, вероятно, у нее страшный вид.
Суслов усмехнулся невеселой усмешкой, сказал:
— Ну вот все и кончается. И незачем было вам волноваться…
Она не поняла, переспросила:
— О чем вы, Павел?
— О вас, Галина, и о себе. Надо было вам, Галина, полюбить кого-нибудь другого, например Тимохова… — При воспоминании о майоре лицо Суслова исказилось гримасой, — Были бы вы в тылу, о смерти не думали, прожили бы еще лет тридцать. А тут всей жизни осталось тридцать минут… — Он выстрелил и потянул Галину пониже в балку. — Хотят забросать гранатами… Так о чем я?.. — Он замолчал, словно вспоминая, о чем говорил. Потом вынул из сумки какие-то бумаги, стал поджигать их. Галина с удивлением смотрела на него. Толстый пакет, в котором были запечатаны бумаги, не загорался. Суслов надорвал уголок, пламя побежало по бумаге синим мотыльком. Галина приблизилась, ударила Суслова по руке, огонь погас.
— Что вы делаете? — резко крикнула она.
Он повернул к ней нахмуренное лицо, отвел ее руку, сухо ответил:
— Выполняю инструкцию.
— Та-ак, — удивленно протянула Галина, приподнялась над краем балки, увидела неподвижно лежащих вражеских солдат, снова взглянула на Суслова.
Он чего-то ждал от нее, все еще держа в руках зажигалку и бумаги. Она уперла автомат диском в мягкую землю, ожидая когда кто-нибудь из гитлеровцев поднимется, и, не оборачиваясь больше к капитану, сказала:
— Почему вы решили, что я вас люблю? Это была детская болезнь. Знаете, этакий блестящий офицер пленяет сердце девушки, а на самом деле и он не такой уж блестящий, и она не такая дура. Понятно? И любить вас не за что. Ведь вы не верите в жизнь. Верно? Если бы верили, не стали бы уничтожать бумаги, от которых зависит, может быть, и жизнь и смерть тысяч людей…
Он не ответил, глядя вперед прищуренными глазами, словно считая лежащих гитлеровцев. Галина помолчала с минуту, потом добавила равнодушным тоном:
— А Тимохов, вероятно, ждал бы до конца, что его выручат, и до конца бы стрелял. А когда уже по смог бы стрелять, тогда бы сжег свои документы, хотя и документы-то у него совсем чепуховые, какие-нибудь накладные… Между прочим, здесь дорога проезжая, через тридцать минут тут целый полк пройдет.
Посыпалась мокрая земля с гребня балки, послышался свист пуль. Почему-то казалось, что посвистывают маленькие птицы, — может, потому, что пахло весенней, теплой землей, дул легкий ветер, а может, просто было приятно в последний раз подумать о жизни и весне. Верхотуров стрелял короткими очередями. Потом послышался крик, взрыв гранаты. Оглянуться было некогда, немецкие солдаты вдруг вскочили и бросились к балочке. Галина сразу забыла обо всем: она видела только перебегающих врагов, которых нельзя было подпустить ближе чем на пятьдесят метров, иначе они забросают гранатами. Рядом она слышала дробь автомата Суслова. Гитлеровцы залегли снова. Она выждала паузу и сказала:
— А вы, Павел, видно, приготовились уже стреляться?
И опять он ничего не ответил. Тогда Галина повернулась в сторону Верхотурова. Тот помахал ей рукой и крикнул:
— Держитесь, держитесь, у меня все в порядке!
Далеко на горизонте показались два вездехода. Они шли но целине, приминая желтую прошлогоднюю траву.
Галина повернулась к Суслову:
— Простите, товарищ капитан, за напоминание. Тридцать минут кончились. Вон наши идут. Ракеты у вас есть?
Суслов молча отстегнул от пояса ракетницу, дважды выстрелил из нее — высоко поднялись зеленая и красная ракеты. На вездеходах поняли сигнал: обе машины двинулись в сторону залегших в поле гитлеровцев, стреляя по ним из пулемета. Немцы начали отползать к лесу.
С вездеходов продолжали вести по ним огонь.
Верхотуров закричал:
— Галя, возьми по балочке влево!..
Теперь он вел непрерывную стрельбу. Галина пробежала, не пригибаясь, по балке, открыла огонь. Несколько гитлеровцев не успели отползти к лесу. Верхотуров крикнул:
— Сдавайтесь!
Один из них проворно помахал грязным платком. Суслов что-то сказал им по-немецки, они бросили автоматы в сторону, поднялись и пошли к балке, подняв руки.
Пленные стояли, прижавшись друг к другу, бледные, трясущиеся, словно их колотила лихорадка. Вездеходы вышли на шоссе, из первой машины выскочил Мусаев. Верхотуров подтянулся, улыбаясь широкой улыбкой и подмигивая Галине. Галина стояла, опустив глаза. Пленные боязливо смотрели на генерала, только что бросившегося в атаку против них на машине, которая даже не была бронирована. Мусаев был весел, возбужден. Увидев Верхотурова и Галину, он рассмеялся, сказал:
— А, старые знакомые! Как ваша рана, Казакова?
Галина удивленно взглянула на него, а он, обращаясь к сидящему в машине начальнику штаба, пояснил:
— Радистка из дивизии Ивачева. Не захотела ехать в госпиталь… Добрый боец! Хотя некоторые офицеры не замечают этого. — И сразу заговорил с Сусловым: — Ответ из штаба фронта привезли?
Суслов подал генералу пакет с обожженным углом. Генерал внимательно посмотрел на Суслова, на балку, на трупы немцев, спросил:
— На помощь не надеялись, капитан?
Суслов глухо ответил:
— Да, товарищ генерал-лейтенант.
— Плохо, Суслов, плохо. Товарищи у вас были верные, а вы не надеялись на них. — Пошел к машине, обернулся и приказал: — Вернитесь с вашим летчиком к переправе. Там возьмете первую попавшуюся часть и очистите лесок. А вы, Верхотуров, вместе с Казаковой отконвоируйте пленных в штаб дивизии.
Машины тронулись, разбрызгивая грязь. Пленные пошли по дороге, понурив головы, с трудом вытаскивая ботинки, на которых налипло по пуду чернозема. Верхотуров шел за ними, размышляя о Мусаеве. Лихой генерал: бросился, не раздумывая, на помощь солдатам…
6
Хотя дивизия полковника Ивачева прорвалась к Днестру, ее командир не очень радовался этому успеху.
Тылы где-то отстали в непролазной грязи и распутице, при которой каждая балка и ручеек становились непреодолимой преградой для машин и слабосильных волов, уже измученных двухмесячными непрерывными маршами. Закрепившиеся на выгодном рубеже немецкие войска снова начали проявлять активность: группируясь на флангах дивизии, пытались отрезать ей пути подвоза. Остальные части армии сражались на подступах к городку Липовец, далеко от реки. И дивизия оказалась в тяжелом положении. Полковник Ивачев с нетерпением ждал приезда командующего, чтобы высказать ему свои опасения.
Сейчас полковник сидел на наблюдательном пункте, расположенном на колокольне, у самой реки, и с пристрастием допрашивал артиллерийских наблюдателей, какие изменения в расположении противника заметили они за последние часы. Временами он сам брал у наблюдателя сильный бинокль и, расставив кривые ноги (раньше он служил в кавалерии, в пехоту перешел только в самом начале войны), долго смотрел за реку, в сторону противника. Несколько одутловатое лицо Ивачева с жесткими усами было пасмурно; ничего хорошего наблюдатели ему не сообщили. На противоположном берегу продолжалось какое-то подозрительное движение. Казалось, гитлеровцы не столько укрепляют правый берег, сколько заботятся о своих переправах, находящихся в шести километрах от левофлангового полка дивизии Ивачева. Все это настраивало полковника на мрачный лад. Он начинал думать, что прорыв может окончиться плачевно: противник отнюдь не собирается бежать, наоборот, пытается перебросить резервы через реку, чтобы ударить в тыл дивизии и отрезать ее от остальных частей армии.
Ивачев уже неоднократно просил авиацию для нанесения удара по немецким переправам, которые так беспокоили его. Но из штаба армии отвечали, что Мусаев и Юргенев поехали в дивизию и на месте решат, что необходимо предпринять.
Получив ответ из штаба армии, полковник Ивачев еще внимательнее начал наблюдать за противоположным берегом. Он видел высокий берег реки, изрытый пулеметными гнездами. На гребне просматривались многочисленные траншеи. А дальше, на скатах балок и в перелесках, скапливалась немецкая пехота.
Накапливание и передвижение войск противника проходило как-то непонятно. Трудно было решить, куда перебрасываются войска. Во всяком случае, на участке берега, который он видел, их количество не увеличивалось. Постепенно полковник пришел к твердому убеждению, что гитлеровское командование знает о его затруднительном положении, знает, что форсировать реку он не может. А это значит, немцы попытаются прорваться обратно на левый берег и разгромить дивизию.
День был солнечный, яркий, на реке голубовато поблескивали последние льдины, уносимые вниз. Разбитые взрывами авиабомб и снарядов, они шли мелкими стайками, хотя по календарю время ледохода еще не настало. Иногда среди льдин появлялись перевернутые лодки, разбитые плоты, звенья понтонных мостов. Тогда от берега отплывали смельчаки на плоскодонках, цепляли эти «подарки» реки крюками и подтягивали к берегу. Где-то в верховьях наши войска стремились переправиться — а может, уже переправились — на западный берег. Обнаруживая среди льдин лодки, немцы открывали по ним огонь, а наши артиллерийские наблюдатели засекали в это время цели и передавали данные о них на батареи. Облачка разрывов на противоположном берегу сливались в высоте с облаками, которые скапливались на горизонте. Даже опытный глаз полковника не мог различить, попадают ли снаряды в цель. Впрочем, наблюдатель отвечал батарейцам утвердительно, прося перенести огонь то вправо, то влево. Он сидел на колокольне уже второй день и успел хорошо изучить расположение вражеских войск.
Ивачев сердито оторвался от бинокля, взглянул на офицера-наблюдателя, который спокойно продолжал называть связисту цели. Полковник любил, чтобы в его присутствии все волновались, действовали быстрее, отчетливее. Ему нравилось, когда подчиненные выказывали перед ним некоторый трепет. А офицер-наблюдатель, недавно прибывший в дивизию, держался спокойно, будто ему и дела не было до тревог, обуревавших Ивачева. Не мог же он не знать положения, затруднительного не только для Ивачева, но и для него, для каждого солдата и офицера дивизии!.. И полковник окончательно рассердился на молодого офицера, который бесстрастным голосом командовал:
— Квадрат восемнадцать. Четыре — беглым!
Четыре снаряда взорвались на пригорке, который только что рассматривал полковник. Вдруг там зашевелились, метнулись в стороны тяжелые пятитонные грузовики, которые отсюда казались игрушечными, с них начали на ходу соскакивать солдаты. Полковник взглянул на лейтенанта, а тот уже передавал также спокойно и бесстрастно:
— Квадрат восемнадцать. Картечь. Беглый.
Все шло как надо. Однако Ивачев уже настроил себя на гневный лад, выпрямился, громко произнес:
— Плохо смотрите, лейтенант! Давайте побольше огня!
Лейтенант оторвался от стереотрубы, ответил спокойным голосом:
— Цель накрыта, товарищ полковник.
Ивачев и сам видел, что цель накрыта. Обернувшись к связисту, спросил, как бы не замечая лейтенанта:
— Ну, что там, на КП? Не приехал еще командующий?
Связист вызвал командный пункт, послушал, ответил отрицательно.
— Передайте им: сейчас еду. А вы, лейтенант, наблюдайте внимательнее. — Поглядел еще раз на правый берег и добавил совсем другим тоном: — Придется вам, лейтенант Пьянков, перевести наблюдательный пункт на другое место. Эта колокольня торчит, как больной зуб. Немцы ее уже приметили. Советую перебраться на парашютную вышку или на элеватор. Пожар там потушили, а немцы еще не знают об этом.
Как бы в ответ на его слова с того берега пронесся снаряд и упал немного левее церкви. Полковник, стоя среди площадки, выразительно посмотрел на Пьянкова, снова прислушался. Издалека возникло гудение басовой струны, оно кончилось сильным ударом; колокольня закачалась, с трехногого столика упал зуммер. Связист виновато посмотрел на полковника, поднял аппарат, сказал, ни к кому не обращаясь:
— Вот это трахнуло!
— НП перенести! — уже тоном приказа произнес полковник и начал спускаться по лестнице.
Почти одновременно два снаряда взорвались в стороне от церкви.
Пьянков посмотрел вслед комдиву, перевел взгляд на связиста, тот будто ждал этого взгляда, ответил:
— Он у нас горячий, да отходчивый! — И в тоне его голоса слышалась гордость за командира дивизии.
Пьянков приказал снимать провода и перебираться на элеватор, сбежал вниз, к полковнику. Тот стоял у церкви, подняв голову, и как бы следил за пролетающими снарядами. Вот один ударил в основание колокольни, но древняя кладка была твердой — только мелкие осколки, свистя, как пули, пронеслись над головами. Увидев лейтенанта, Ивачев приказал ему сесть в машину, подвез его к элеватору. Отчитав офицера за то, что тот не подготовил запасной наблюдательный пункт, комдив сразу стал сердечнее и добрее. А лейтенант, которому не понравилась вначале придирчивость полковника, вдруг с некоторым удивлением заметил, что слушает его выговор с полным почтением. Устраиваясь на новом месте, он еще долго раздумывал о том, как трудно все предусмотреть и какой, однако, острый глаз у полковника.
7
Командный пункт находился метрах в трехстах от села, в блиндаже, вырытом на склоне высотки. К нему можно было проехать по глубокой балке, все еще забитой слежавшимся снегом. Движение по балке не просматривалось с западного берега.
Полковник Ивачев не думал, что ему придется надолго задержаться в этом месте, но у него была старая привычка устраиваться подальше от населенных пунктов, так как они были слишком легкой целью для неприятельской артиллерии и самолетов. А Ивачев твердо решил дойти до Берлина, не отлеживаясь в госпиталях. За период войны он имел несколько ранений и контузий, которых при некоторой предусмотрительности можно было бы избежать. В сорок первом его дважды засыпало в разбитых снарядами каменных домах, самых заметных в тех селах, где тогда пришлось ненадолго задержаться его полку. На втором году войны он был ранен при прямом попадании снаряда в блиндаж, на котором было только три наката бревен. Все находившиеся в нем оказались убитыми, только Ивачев, тогда еще подполковник, уцелел, отделавшись тяжелой контузией и шрамом на лице. Шрам этот не только портил лицо, но и выдавал настроение полковника: чуть Ивачеву случалось поволноваться, шрам наливался кровью и багровел. После того случая Ивачев всегда сам проверял место, выбранное для штаба, удобному дому предпочитал блиндаж, вырытый в поле, углубленный не менее чем на три метра, хорошо накрытый бревнами и землей.
Полковник вошел в блиндаж, выслушал рапорт дежурного офицера и прошел в маленькую конурку, где стояла его кровать. Он не спал вторые сутки, но было не до отдыха: тревожили неизвестность и опасность положения. Батальон, посланный им на правый фланг для связи с соседом, все еще не выполнил задачи, а между тем отбил уже две вражеские контратаки. Обещанное Мусаевым с утра подкрепление тоже не подходило. Не приезжал и сам генерал, хотя Ивачеву передали по телефону: выехал. Разведка доносила, что в тылу дивизии скапливаются группы противника. Словом, неприятностей было более чем достаточно…
Командующий армией появился в расположении штаба дивизии неожиданно, совсем не оттуда, откуда его ждали связные. Полковника едва успели предупредить. Он выбежал из блиндажа и увидел Мусаева и Юргенева, переправлявшихся к командному пункту через балочку по жидкой и липкой грязи. Мусаев первым выбрался на синеватый снег, который хрустел под его логами.
Увидев Ивачева, он еще издали крикнул:
— Что же это, товарищ полковник, у тебя в тылу немцы бродят? Запиши в сегодняшней сводке, что командующий и начальник штаба армии, офицер связи, летчик, два бойца отбили атаку и взяли пленных. Пленных мы, так и быть, подарим тебе. Допроси и узнай, много ли их еще скрывается в твоем тылу, может быть, в другой раз будешь осмотрительнее…
Ивачев смутился. Шрам на его лице побагровел, не ко времени выдавая волнение полковника. Однако командир дивизии заметил, что Мусаев не столько сердит, сколько возбужден случившимся. Почти одновременно с ними к командному пункту подошли Казакова и Верхотуров, ведя пленных. Полковник, стараясь загладить неловкость, спросил у радистки, почему она вернулась, не выехала в госпиталь, но Мусаев перебил его:
— Ты на нашу спасительницу не нападай, без нее мы, может, и не добрались бы к тебе. — Потом повернулся к девушке, произнес шутливо: — Ничего, товарищ Казакова, мы его уговорим, чтобы он сменил гнев на милость.
Красная от смущения, Галина попросила разрешения уйти. Верхотуров сдал пленных, взял в штабе письма в роту и заторопился, догоняя радистку, чтобы порасспросить ее, откуда она знает генерала…
Мусаев спустился в блиндаж, подмигнув Юргеневу, и тихо, но так, чтобы Ивачев слышал, сказал:
— Хорошо окопался. Должно быть, намерен пробыть здесь до осени…
Юргенев усмехнулся. Ивачеву почудилось в этой усмешке какое-то недовольство, будто слова командарма больше относились к самому Юргеневу, чем к полковнику.
Из большой штабной комнаты блиндажа они прошли в маленькую каморку Ивачева. Полковник закрыл за собой дверь, принесенную сюда из разрушенного дома, выкрашенную в нежно-голубой цвет и совсем не подходившую к бревенчатым стенам блиндажа. По краю филенки двери были приметны зарубки: должно быть, дети хозяев разрушенного войной дома отмечали по ним свой рост.
Мусаев почему-то внимательно оглядел дверь, и лицо его сразу стало хмурым. «Генерал-лейтенант, вероятно, вспомнил, глядя на дверь, свое детство», — подумал Ивачев. Сам он, замечая зарубки на филенке, тоже ловил себя порой на таких мыслях…
Выругав про себя саперов за дверь, Ивачев пригласил генералов к столу, развернул карту, приготовился объяснять положение и попутно пожаловаться на соседей. Он любил пожаловаться, даже если в этом не было надобности. Все-таки лучше обвинять самому, чем выслушивать обвинения. А кроме того, из жалоб всегда можно извлечь пользу, напомнить, что об этом ты когда-то докладывал, а тебя не послушали, или выпросить пополнение, когда другие командиры еще и не думают об этом. Да мало ли что можно выиграть, если вовремя поплакаться.
Полковник внимательно приглядывался к Мусаеву, обдумывая, с чего начать докладывать и о чем раньше всего попросить генерала. Лицо командарма посветлело, с него сошла хмурость. Генерал был снова спокоен и даже весел. Грубоватое, чуть попорченное синими пороховыми отметинами лицо Мусаева понравилось полковнику. Но он тут же подумал: «Наверное, у генерала крутой и твердый характер. Уж очень резкие у него черты лица — и прямой нос, и узкие губы, и сильно очерченные скулы…».
Полковник несколько изменил порядок приготовленного заранее доклада, надеясь с первых же слов выяснить настроение командующего, чтобы уж потом поговорить о главном. А главное заключалось в том, что Ивачев надеялся отвести дивизию на переформирование. Ему казалось, что он имеет на это право. Дивизия сражалась без перерыва уже два месяца, она первой достигла Днестра и в результате жестоких боев понесла значительные потери в людях. Полковник отложил этот главный вопрос на конец разговора, надеясь, кроме того, и на обед, которым обещал угостить Мусаева и Юргенева начальник штаба дивизии. Для начала Ивачев пожаловался на соседа справа, по вине которого, как полагал полковник, тылы дивизии не были очищены от остатков вражеских войск.
Мусаев, у которого все еще сохранялось хорошее настроение, слушал Ивачева внимательно. Он был уверен, что полковник скажет как раз о том, о чем думал он сам, и поддержит его в негласном споре с Юргеневым. Он записал жалобу полковника на соседа, на нехватку обмундирования, сапог, боеприпасов — все эти требования могли быть вызваны и теми соображениями, которые волновали самого Мусаева. Но по мере того как Ивачев продолжал высказывать жалобы, лицо Мусаева начинало хмуриться, и Юргенев, которого полковник знал хорошо, все чаще глядел на командарма с каким-то соболезнованием и даже с торжеством. Было похоже, что доклад Ивачева послужит лишним доказательством правоты начальника штаба в споре с командующим. Ивачев обрадовался тому, что подали наконец обед. О главном нужно было говорить только после того, как командарм подобреет от сытой еды и хорошего вина.
Обедали все в той же каморке уже вчетвером — пришел начальник штаба дивизии. На столе стояли три бутылки вина и бутылка трофейного рома, но Мусаев попросил для себя водки. Это еще больше обнадежило Ивачева: у генерала оказались такие же привычки, как и у него самого. Теперь полковник был уверен, что главный разговор обязательно окончится хорошо. Незаметно для себя за время войны он начал верить в разные приметы, которые порой сам же и придумывал по мере необходимости. Иногда ему казалось, что есть какая-то связь между четным и нечетным количеством шагов от блиндажа до наблюдательного пункта, на который он шел рано утром. Даже письмо из дому, полученное перед боем, служило для него приметой, будто настроение жены, с каким она писала письмо, могло влиять на его судьбу и судьбу всей дивизии. Узнав, что Мусаев предпочитает всяким винам русскую водку, он сразу решил, что все кончится хорошо: генерал останется доволен его дивизией и разрешит ей хотя бы краткий отдых…
Обед закончился. Ординарец быстро и бесшумно убрал со стола посуду. Начальник штаба дивизии снова привычным движением развернул на столе карту, не заметив недовольного взгляда Ивачева, приготовившегося к разговору о главном. Мусаев ждал этого разговора, благодушно отдыхая, прислонясь к стене, которая еще раньше была вытерта до глянца спинами приходивших к полковнику командиров. Ивачев вздохнул и с сожалением сказал приготовленные заранее слова:
— Потрепали мою дивизию, товарищ генерал-лейтенант, отдых требуется. Все-таки дошли до Днестра, а вышли из Криворожья.
Мусаев, просматривавший сводку, поданную начальником штаба дивизии, внимательно взглянул на Ивачева.
Полковник еще раз вздохнул и продолжал:
— Теперь бы самое время сменить нас. Оборона у нас крепкая, немец не сунется, только бы соседи не подвели…
Мусаев вдруг резким движением пододвинул к себе карту и перебил его:
— Вы что же, товарищ полковник, до сих пор не научились маневренной войне? Все хотите, чтобы передний край был обведен тремя цветными карандашами? — Говоря это, он безжалостно отчеркивал жирной чертой предполагаемую линию немецкого расположения, намеченную черными стрелами. — Вам хочется, чтобы немцы сидели в обороне, да так, чтобы вы точно знали, сколько рядов колючей проволоки и спиралей Бруно у них перед окопами? Чтобы ни они вас, ни вы их совсем не тревожили? Так, что ли? — Лицо генерала напряглось, стало жестким, злым, будто он готов был дать отпор каждому слову собеседника.
Юргенев спокойно отодвинул карту, оперся локтями на стол и сказал:
— Я докладывал вам, что дивизия Ивачева истощена, задача прорыва ей не по силам.
Мусаев молча стал закуривать. Ивачев заметил, как потемнели его глаза. Каким-то чутьем он понял, что вызвано это не его неосторожной просьбой, а словами Юргенева. Значит, между командармом и начальником штаба идет спор. Вопрос заключается в том, кого в этом споре выгоднее поддержать, и тогда, может быть, еще удастся отвести дивизию на отдых.
— Почему вы не форсировали Днестр с ходу? — вдруг спросил Мусаев полковника.
Ивачев замялся, соображая, как лучше ответить. Сказать, что не было приказа? Но генерал спросит: «А нужен ли был приказ?» — и придется признаться, что приказа ждать не следовало. Сказать, что у противника на западном берегу сильные укрепления? Так ведь и на Днепре у гитлеровцев были такие укрепления. Теперь полковник начал понимать нового командарма… Лучше поэтому промолчать, подождать, что он сам скажет…
Мусаев строго посмотрел на Ивачева, на начальника штаба дивизии, молчаливо затаившегося в углу, и продолжал:
— Когда вы вышли к реке, у противника была полная растерянность. А вы позволили ему надеяться, что теперь-то вот и начнется та самая позиционная война, какая и вам, кажется, нравится. Между тем вам, опытному командиру, следовало бы знать, что немецкое командование уже полгода о том только и мечтает, чтобы на каком-нибудь рубеже задержаться! А вы вместо того чтобы столкнуть противника, не дать ему возможности закрепиться, осели на берегу, ждете подкреплений, готовитесь отойти на переформирование.
Юргенев взглянул на побагровевший шрам Ивачева, ставший почти синим, и поспешил на помощь командиру дивизии:
— Дивизия Ивачева действительно слаба, товарищ командующий. Полковнику известно, что Ауфштейн перебросил с той стороны Днестра к Липовцу резервные части. Разве в этих условиях мог Ивачев форсировать реку, не обезопасив свои тылы?..
Юргенев сказал то самое, о чем думал полковник. Однако Ивачеву почему-то показалось, что Юргенев думает совсем о другом, высказываясь в его защиту. Да и не страшится полковник окружения. И ударить по противнику он мог, если бы не знал заранее, что штаб армии при прежнем командующем ставил задачу — сначала выбросить части Ауфштейна из Липовца, очистить весь берег реки, чтобы развязать руки дивизии Скворцова и танковому корпусу Городанова. Пожалуй, и в самом деле вчера легче было форсировать реку, чем сегодня, и тем более завтра или послезавтра…
— Вы знаете, на сколько километров захвачен берег? — спросил Мусаев.
— Согласно утренней сводке, на восемьдесят три…
— А сколько плацдармов на том берегу?
— По сообщению штаба фронта, четыре, товарищ командующий.
— Вот-вот! Четыре! А если бы мы начали форсировать реку на фронте в восемьдесят три километра, что стали бы делать немцы?.. Вы что же думаете, они не устали? Им отдых не нужен? Да им он нужен гораздо больше, нежели нам: ведь им приходится убегать с завоеванной земли, а мы эту землю освобождаем!
— Понятно, — угрюмо ответил Ивачев, боясь взглянуть в глаза командарму.
— А если понятно, значит, форсирование следует начать сегодня ночью, ближе к рассвету. И меньше всего думать об окружении, пусть противник боится окружения. К ночи сюда придет пополнение, я придаю вам три батальона. На том берегу, если удастся, старайтесь продвинуться до городка Горынь…
— Но Липовец остается в нашем тылу, — резко напомнил Юргенев.
— Вот и отлично. А еще лучше будет, если Скворцов перестанет нажимать на этот городишко. Может быть, тогда фельдмаршал Ауфштейн передвинет туда свой штаб. Он такой, всегда держит своих штабистов под страхом пулеметного обстрела…
— Ваш план надо еще согласовать с командующим фронтом и Ставкой, — снова напомнил начальник штаба.
— Сначала зацепимся за тот берег, а потом согласуем, — равнодушно произнес Мусаев и поднялся.
Начальник штаба дивизии как-то уж очень подобострастно, как показалось Ивачеву, бросился провожать командарма. Полковник с горечью подумал, что его первый помощник, с которым он вместе воюет второй год, как видно, тоже склонен к более решительным действиям и не одобряет всех тех уловок, к каким по привычке прибег комдив, зная, как трудно выпросить что-нибудь у начальства. А Мусаев взвалил на их плечи такую тяжесть, что под ней и свалиться недолго…
Командующий уже сел в свой вездеход, но вдруг обратился к Ивачеву:
— А эту девушку… Как ее зовут?..
Казакова! — подсказал начальник штаба.
— Да, Казакову Галину представьте к награждению. Если бы не она, не видеть бы мне больше офицера связи и не быть бы ему моим адъютантом.
Машины тронулись, скатились на снег, пошли быстрее.
Полковник все еще стоял на бугре, провожая их взглядом.
Начальник штаба дивизии сказал:
— Боевой генерал!
Полковник хотел ответить резкостью, но лишь недовольно проворчал:
— А крепко, видно, этот Ауфштейн въелся в печенки нашему командарму.
— Почему? — растерянно спросил начальник штаба.
— А ты что, газеты не читал, которые немцы разбрасывали?
— Ну, это чепуха! — усмехнулся начштаба. И деловито добавил: — Пойдемте-ка, товарищ полковник, решать задачку, которую поставил генерал-лейтенант. Мне думается, теперь она окажется посложнее, чем была вчера.
— А что ж ты мне вчера об этом не сказал?
— Да, как и вы, на Липовец оглядывался! — признался начштаба.
И оба, заметно помрачнев, пошли снова в блиндаж.
8
Инспекционная поездка по армии заняла не один и не два дня, хотя, уезжая из штаба, Мусаев надеялся вернуться к вечеру. Все оказалось сложнее и труднее.
Давно уже прошли те времена, когда сжатые до предела армии занимали узкие пространства, иногда просматриваемые с одного какого-нибудь наблюдательного пункта. Так было, например, на Волге, когда противник стеснил на берегу несколько наших осажденных армий в клубок, пытаясь разрубить этот ощетинившийся, словно гигантский еж, живой организм на мелкие части и уничтожить. Мусаев был там, у Волги. Дивизия, которой он командовал, насчитывала тогда едва ли тысячу активных штыков, а располагалась на одной лишь окраинной улице города.
Так было и позже, например под Курском.
В те дни сосредоточившаяся под тяжкими ударами группировка армий была размещена так тесно, что казалось, любой взорвавшийся снаряд найдет не одну, а десятки жертв. Но настал час, и гигантская пружина развернулась, опрокинула колонны наступавших немецких армий, словно на место каждого убитого вставали двое, а на место двоих — четверо…
Но как бы то ни было, и в сегодняшней действительности привычка к единой линии фронта, в пристрастии к которой генерал обвинил Ивачева, на него самого тоже действовала еще с магической силой. Хотя командарм знал, что никакой единой линии фронта нет, ему все-таки трудно было ориентироваться в том постоянном движении, в каком находились подчиненные ему части. Штабы на колесах оказывались зачастую за двадцать-тридцать километров от тех мест, в которых, как до этого сообщалось, они располагались.
Хорошо еще, что Юргенев, организуя объезд движущейся армии, взял с собой радиста. И теперь на коротких остановках радист ловил во всполошенном эфире среди идущих открытым текстом воплей командиров немецких частей о помощи, об окружении, о контратаках позывные дивизий, входящих в состав армии, а Мусаев давал их командирам четкие, подлежащие безоговорочному, немедленному исполнению приказания.
Направление главного удара, на котором до этого действовала дивизия Ивачева, вдруг стало подсобным, так как противник начал отступать и в тех местах, где у него была вполне сносная оборона. У Липовца дивизия Скворцова продолжала окапываться, изредка тревожа противника артиллерийскими налетами и поиском разведчиков. Юргенев, с некоторым беспокойством наблюдавший за передвижением войск, с удивлением заметил, что командарм непреклонно проводит свой замысел, против которого так решительно возражал он, начальник штаба. Липовец оставался занозой в живом организме армии. Дивизии обтекали его с обеих сторон: на правый фланг шли подкрепления к Ивачеву, а слева прорывались к реке танки Городанова…
Командарм и Юргенев заночевали в штабе Скворцова. Мусаев до полуночи просидел в аппаратной у радистов. Утром у него было превосходное настроение. Юргенев же не мог сказать этого о себе. Особенно разволновался он, когда узнал, что Мусаев отменил намечавшуюся на ночь бомбежку переправ в тылу противника. Полк ночных бомбардировщиков, нацеленный на эти переправы, Мусаев послал на помощь Ивачеву, который рискнул-таки ночью форсировать Днестр и к утру зацепился за правый берег, не прорвавшись, правда, до Горыни, чего хотел Мусаев. Но «пятачок» площадью до пяти километров у него уже был. По сведениям, поступившим от Ивачева, гитлеровцы к утру опомнились, предприняли яростные контратаки.
Скворцов уехал на передовую, где подразделения его дивизии окапывались под огнем противника. Этот момент Юргенев и выбрал для разговора с командармом.
— Напрасно мы перестали давить на Липовец, — сказал он. — Ауфштейну не удалось бы удержать его. Да и сводка наша лучше бы выглядела, если в ней оказались названия двух городов: Горыни и Липовца. Может быть, дивизии Ивачева дали бы звание Горынской. Он спит и видит, когда его дивизия получит наименование освобожденного ею города…
Мусаев внимательно посмотрел на начальника штаба, но промолчал. Юргенев принял это за приглашение к продолжению разговора. Он поднял глаза к мигающей лампочке, словно собирался с мыслями, хотя мысли эти были давно и тщательно обдуманы.
— В тылу у Ауфштейна, — деловито продолжал он, — остались три моста: железнодорожный, шоссейный и понтонный. От наплавного моста к Липовцу недавно проложен грейдер. По данным разведки, грейдерная дорога вполне выдерживает тяжелые машины и тягачи. Эта, как вы называете, заноза может вызвать такое воспаление, что мы не обрадуемся. Армия наша растянута, перед немцами только тоненькая ниточка… Вдруг они разорвут ее?..
— Не ниточка, положим, а пружина, — думая о чем-то своем, сказал Мусаев.
— И пружина ломается!
— Для этого нужна сила, а ее у Ауфштейна пока нет.
— Именно — пока! — многозначительно поправил Юргенев. — Когда он эту силу наберет, он ждать не станет. Что для него одна дивизия Скворцова! К тому же дивизия потрепанная, растянутая по фронту, а рокадные дороги разрушены… Тут надо думать и думать!..
— Ну, я вижу, у вас все давно обдумано! — с некоторой насмешкой заметил Мусаев. — Вы все очень ловко распланировали: первая колонна марширует, вторая колонна марширует… Помните, как Лев Николаевич о немецких штабистах писал? Не у них ли вы этой планировке научились? «Для атаки на укрепленные позиции противника требуется обязательное троекратное превосходство в силах…» — процитировал он какой-то параграф из тактического учебника.
— Правильные мысли можно и у противника перенимать! — с обидой произнес Юргенев.
— Не возражаю. Но мысль-то у вас неправильная! Конечно, Ауфштейну лестно показать своему командованию, что оно не ошиблось в выборе, доверив ему оборону на Днестре. Конечно, Ауфштейн спит и видит, как ударить из Липовца на восток и разрубить нашу армию, тем более что один или два полка ее переправились за реку и беспокоят его, как чирей на мягком месте. И именно потому он введет в приготовленный нами «мешок» всю свою армию, теша себя тем, что находится в тылу у русских. Но именно в тот день, когда он начнет из Липовца свое «генеральное» наступление, мы рванемся на прорыв за рекой. И тогда армия Ауфштейна окажется в кольце и через неделю-другую прекратит свое существование, как раньше кончились армии Паулюса, Манштейна. Вот о чем надо думать прежде всего.
— Нашему бы теляти да волка зъисты… — пробормотал Юргенев. Вид у него был весьма озабоченный. Он словно бы и хотел что-то сказать, но побаивался. Мусаева забавляло это борение. Он великодушно подбодрил своего оппонента:
— Говорите уж все! У вас ведь есть еще возражения?
— Боюсь, что этот ваш план замешан на личном самолюбии, — отчетливо проговорил Юргенев. — Не такие уж это отличные дрожжи… — Он взглянул на командарма с некоторым вызовом.
— Отчего же! — спокойно возразил генерал. — История учит, что личная ненависть к врагу порою удесятеряет силы. Так, во всяком случае, было во всех революционных войнах…
— А не подогрет ли ваш план этими немецкими газетенками и статьей Ауфштейна? — прямо спросил Юргенев.
— Представьте себе, нет! Хотя мне было бы приятно сбить спесь с этого нациста. Но план начал рождаться еще в штабе фронта, когда я знакомился с положением армии. В общих чертах я его, простите, уже доложил командующему фронтом. Правда, я не предполагал тогда, что мы с вами разойдемся в оценке сил противника…
— А это действительно правда, что пишет Ауфштейн? — Юргенев испытующе смотрел на генерала, но не заметил, чтобы тот хоть как-нибудь изменился в лице. «Ну и выдержка! Я бы, наверное, смутился, если бы был на его месте», — подумал начальник штаба.
— Да ведь как сказать, — несколько иронически ответил Мусаев. — И Наполеон, и Кутузов после Бородинского сражения послали победные реляции. Однако только история рассудила, кто из них был прав в своей оценке результатов боя. Мои встречи с Ауфштейном ничуть не походили на решительные сражения, это были мелкие операции. Но если судить с точки зрения истории, то республиканское правительство Испании пало, — следовательно, Ауфштейн действительно победил в конце тридцать шестого года. Только история-то еще продолжается, так что неизвестно, каков будет ее окончательный приговор…
— Значит, это он об Испании пишет? — с каким-то разочарованием в голосе протянул Юргенев.
А Мусаев снова очень внимательно поглядел на него. Ему показалось, будто Юргеневу даже досадно, что дело повернулось таким образом.
9
Первая боевая встреча Мусаева с Ауфштейном произошла в декабре тысяча девятьсот тридцать шестого года Под Мадридом.
С желтых гор дул ровный, сухой ветер. Тогда Мусаев впервые услышал пословицу о том, что декабрьские ветры не могут погасить свечи, но могут убить человека.
Дышать было трудно, словно в безвоздушном пространстве где-нибудь на Луне. И пейзаж был не похож на земной — какой-то желто-коричневый.
Ветер дул непрестанно, сбивая с желтых скал последние зеленые пятна травы и листьев. Мусаев, тогда еще совсем молодой командир артиллерийского полка, медленно ехал верхом на муле вслед за новенькими орудиями — подарком одного уральского завода испанскому народу.
Все было необычно в этой стране, которую Мусаев видел впервые. Скалы, трескающиеся от жары днем и обжигающие холодом по ночам. Женщины и мужчины, вооруженные старыми дробовиками, охраняющие кривые горные дороги. Дети, несущие на узких своих плечах патронные ящики прямо к передовым позициям, где неумолчно грохотали взрывы снарядов фашистской артиллерии…
Понял тогда Мусаев одну непреложную истину: немецко-итальянский фашизм начал генеральную репетицию будущей мировой войны. Немецкие «юнкерсы» и «мессершмитты» висели над полем боя круглые сутки — гитлеровцы испытывали свою новую авиатехнику. Пылала разрушенная дотла Герника — такую же судьбу могли испытать и Париж, и Лондон. Немецкие танкисты готовились к прорыву республиканских оборонительных линий, и генерал Гудериан направлял группы специалистов по «психологической войне» для наблюдения за воздействием танковых ударов на противника. Гитлеровский штаб послал на «маленькую» войну в Испанию лучших своих полководцев…
Для встречи русских добровольцев и торжественного принятия подарка Советского государства — полка 122-миллиметровых орудий съехались многие командиры республиканских войск. Среди них Мусаев увидел офицеров первой мировой войны, английских студентов, немецких антифашистов, журналистов, писателей, художников — уже в те дни война против фашизма стала кровным делом всех любящих свободу людей. Мусаев с интересом знакомился с этими людьми, которые отныне становились его боевыми товарищами.
Каждый из них непременно хотел, чтобы ему придали если не весь полк, то по крайней мере хотя бы одну батарею, оснащенную советскими пушками. Новые друзья угощали Мусаева тонкими папиросками или черными, очень крепкими сигарами, прельщали его описанием необыкновенных уголков страны, где расположены позиции того или иного отряда, соблазняли уютом, созданным специально для русских камарадос, и самым прекрасным товариществом.
Мусаев, конечно, понимал, что дело тут совсем не в том, что им так уж нужна его боевая часть, — нет, приглашая его к себе, они выражали уважение советскому командиру. Им было лестно оказать гостеприимство новичкам, прибывшим сюда прямо из Мекки социализма…
И в то же время была во всех этих шумных, веселых, бесцеремонных приглашениях некоторая опасность: Мусаев видел — армия республики не знает настоящей дисциплины.
Он представился командующему фронтом.
Командующий жил в маленьком каменном домике на склоне горы, куда с завидным постоянством падали снаряды фашистской артиллерии. Генерал с тем же завидным постоянством отказывался перевести свой штаб в более безопасное место. Так они и разговаривали под методический гул разрывов. Генералу, кажется, доставляло даже некоторое удовольствие поглядывать на собеседника, когда разрыв слышался чуть ли не за стенкой и маленький домик начинал покачиваться.
— Вам не мешает эта музыка за стеной? — спросил Мусаев.
— О, мои люди привыкли! — небрежно ответил командующий.
— Но в тишине работается и думается лучше!
— Вы же сами видите, что наши бойцы пока еще недостаточно дисциплинированы, чтобы спокойно отнестись к перемещению штаба да еще в то время, когда все ожидают нового наступления противника. А вы уже побывали под огнем врага?
— Да, во время японской провокации в Маньчжурии, на КВЖД. Но мое место около орудий. А ваше… — Он переждал грохот очередного разрыва, чтобы не повышать голоса, и продолжал — Ваше пребывание на передовой скорее опасно для армии, чем полезно…
— Но ваш Чапаев… — любезно напомнил генерал.
— У него было несколько вариантов — на все случаи боя…
— О, у генералов нашей революции случай один, — каким-то бесцветным голосом сказал командующий. — Они должны умереть рядом со своими последними солдатами. Генералы революции редко умирают в постели!
Русская девушка-переводчица, сопровождавшая полк от самого Урала, где он формировался, внезапно бледнея, перевела эти слова и спросила у Мусаева:
— Что он говорит, Семен Николаевич, что он говорит?
— Не отвлекайтесь! — остановил ее Мусаев.
Генерал с любопытством разглядывал этих русских, которые ничем не выказывали своего волнения, как будто точно знали: они застрахованы от пуль и снарядов. Только его пренебрежение опасностью, кажется, обеспокоило переводчицу. Впрочем, она имеет право знать свое будущее, ведь она тоже стала солдатом. А русский офицер даже понравился ему смелостью своих суждений. Никто из подчиненных генералу командиров не рисковал высказывать недовольство тем, как он распоряжается своей судьбой и судьбой сотрудников своего штаба.
После паузы генерал спросил:
— Кто же из моих подчиненных успел завербовать вас?
— Простите, генерал, я не понимаю…
— Ах, что вы хотите! — генерал безразлично пожал плечами. — Я и сам знаю, что дисциплина в наших войсках не на высоте. Но принцип самоопределения воинской части, пока она не вступила в бой, в конце концов ничему не мешает… — Он внимательно посмотрел на Мусаева, ожидая, как тот воспримет эти вполне революционные воззрения.
Мусаев сдержал жест изумления: его много раз учили сначала подумать, прежде чем высказать свое отношение к чему-либо. Он только спросил:
— А не мешает ли это самоопределение, как вы его называете, распоряжаться переброской резервов и перемещением боевых частей?
— О, у нас не так много резервов, как вы думаете, — ответил генерал, не стирая с лица благожелательной улыбки. — А перемещение у нас возможно только в двух направлениях: или на небо или в госпиталь. Причем должен сказать прямо, что наши люди предпочитают перемещаться в рай, если, конечно, там принимают таких атеистов, как мы…
Мусаев невольно подумал, что армия, в которой даже генералы не верят в победу, обречена. Но он приехал сюда воевать, если даже дело революции погибнет. Возможно, еще придет время, когда он сможет поспорить с командующим, а сейчас он обязан думать о главном — о предстоящей битве. И он поторопился закончить деловую часть беседы:
— У меня только одна просьба: не разрывайте наш полк на части, хотя ваши командиры, кажется, согласны разобрать его по одному орудию. И я прошу разрешить мне личную рекогносцировку того участка, куда вы нас направите.
— Ну зачем это вам, полковник? — сказал командующий. — В штабе есть все необходимые данные…
— Ими я тоже воспользуюсь, но мне надо знать местность.
— Пожалуйста, пожалуйста! — равнодушно сказал генерал.
Мусаев видел, что удивил его своей настойчивостью.
Когда вышли от генерала, переводчица со свойственным девушкам нетерпением заметила:
— При таком командующем лучше сразу выписать себе в штабе похоронную и отправить домой, чтобы там больше ни о чем не волновались.
— Товарищ Пескова! — остановил ее Мусаев.
— Слушаюсь, товарищ командир! — не скрывая иронии, ответила девушка.
А Мусаев невольно подумал, что, знай он сам испанский, немедленно отправил бы ее в Советский Союз. Слишком опасна эта неуверенность и зыбкость. И кто знает, удастся ли этой девушке выбраться отсюда живой. Может быть, и ей суждена та самая дорога в рай, по которой так спокойно собирается шествовать командующий фронтом…
Пескова больше не сказала ни слова о пророчествах генерала. Она деловито, но с видимым равнодушием переводила вопросы Мусаева и ответы штабных офицеров. Офицеры с удовольствием рассматривали милую девушку с пушистыми белокурыми волосами, сопровождавшую русского командира, и готовы были болтать с ней о чем угодно и сколько угодно. Но Мусаев торопился, а девушка держалась так строго и деловито, что беседы быстро прекращались.
От штабных офицеров Мусаев узнал, что предположение о готовящейся фашистами танковой атаке на республиканские позиции подтверждается показаниями пленных. Узнал и о том, что немецкое командование прислало в Испанию в качестве наблюдателя генерала Ауфштейна, личного друга Гитлера, который, видимо, и будет производить здесь очередной опыт, как в лабораториях производят опыты над кроликами. И чем больше Мусаев наблюдал за работой штаба республиканцев, чем ближе знакомился с людьми, тем отчетливее понимал, что для фашистов эта атака действительно будет безопасным опытом.
Утром он оседлал своего неторопливого мула и вместе с командирами батарей выехал на рекогносцировку.
Он понимал, что прибытие его полка уже зафиксировано в штабных диспозициях фалангистов. Не хотел он закрывать глаза и на слабость, недостаточную дисциплинированность республиканской армии. Все это усложняло его и без того трудную задачу. Но не зря говорят, что характер страны отражается на характере человека. Родиной Мусаева был советский Урал. Не всегда ласкова его природа, но хороша она тем, что воспитывает в человеке и хладнокровие, и терпение, которые так необходимы каждому артиллеристу, особенно если у него мало орудий и еще меньше снарядов!
Мусаев молча ехал по горному хребту. Изредка спешивался и укладывал своего мула за камнями, едва в воздухе возникало тонкое пение пуль, которое можно было принять и за жужжание пчел, если бы не поздняя осень.
Все краски были ярки и определенны: скалы желтые, обдутые ветром отдельные камни предельно белые, небо синее-синее. Казалось, все окружающее тщательно выписано знаменитыми художниками — Эль Греко или Гойей, а уж потом, из мастерской, вынесено сюда и выставлено на обозрение.
Только уж слишком много было этой резко окрашенной прелести. Мусаеву хотелось бы увидеть где-нибудь лесок, березку, луг с наметанными стогами. Но чем дальше ехал он по фронту, минуя одну за другой заставы вчерашних его знакомцев, тем все больше отстранялся от природы и ее вечного очарования, все больше углублялся в решение задачи со многими неизвестными.
Он пытался увидеть линию фронта глазами Ауфштейна, немецкого генерала.
«Конечно, фашисты рассчитывают на недостаточность военных знаний у командиров республиканской армии, — размышлял Мусаев. — Эти командиры мало знакомы с новыми видами оружия. Они несомненно рассредоточат свои войска по всей линии фронта. Вероятно, Ауфштейн прикажет фалангистам производить отвлекающие маневры во многих пунктах. Но настоящий маневр танковой части возможен только в одном месте, на пологом каменном плато, где к тому же нет ни окопов, ни траншей, да и трудно их соорудить в камне». Мусаев поднялся на гребень горы, прикрывающей плато, взволнованно оглядел желтую землю и синее небо, маленький городок вдали, занятый фалангистами, и с ненавистью подумал об Ауфштейне, решившем поставить здесь, на испанской каменистой земле, свой трагический опыт над свободным человечеством…
Вернувшись в штаб, в каменный домик на склоне горы, Семен Николаевич как бы между прочим сказал, что согласен разъединить полк на подразделения и придать их наиболее слабым частям республиканской армии. Пескова, привычно переводившая каждое его слово, с изумлением взглянула на своего командира. Мусаев выразительно повторил свое согласие.
Когда они остались одни, ожидая приема у командующего, девушка не выдержала:
— Вчера вы говорили совсем другое!
— А вы не очень верьте в постоянство мужчин! — отшутился Мусаев.
Он знал, что в эту минуту по всем штабным телефонам идут переговоры с командирами частей, и те взволнованно требуют себе русские пушки. Служба подслушивания у немецких советников при фалангистских частях была поставлена отлично. Надо думать, что генерал Ауфштейн уже читал сводку о том, как распорядятся республиканские командиры полком Мусаева…
Семена Николаевича попросили к командующему. Пескова шла рядом, взволнованная, встревоженная, совсем не похожая на себя, такую сдержанную, корректную переводчицу, которой почти все командиры готовы были отдать и руку и сердце с первого взгляда.
На этот раз генерал выглядел недовольным.
— Что произошло за последние сутки, полковник, что вы так резко изменили свое мнение? — спросил он.
— О, я только хотел удостовериться, насколько быстро растекаются у нас секреты, — улыбнулся Мусаев. — Надо думать, что у фалангистов сейчас тоже обсуждают мое решение…
— Очень может быть! — сухо сказал генерал.
— Поэтому я и хочу просить вас не только подтвердить мои слова, но и принять посильное участие в распространении версии о расчленении полка. И в то же время оставить полк в моем подчинении, придать мне другие имеющиеся у вас артиллерийские части. Может быть, в этом случае мы сумеем хоть на время задержать противника…
У Песковой дрогнул голос, когда она переводила эти слова.
Генерал внимательно посмотрел на Мусаева и пригласил его к маленькому столику в углу кабинета.
— Какой коктейль вы предпочитаете?
Мусаев смущенно ответил:
— Воспользуюсь вашим опытом, генерал.
— Ну что ж, так и быть! — Генерал смешал несколько напитков, встряхнул шейкер, бросил в бокалы несколько льдинок. Мусаев выпил какую-то оглушающую смесь. Генерал цедил ледяной напиток с видимым удовольствием. Поставив бокал, спросил:
— Как мой опыт?
— Потрясающе! — с трудом переводя дыхание, ответил Мусаев.
— Отлично! Но позвольте и мне воспользоваться вашим опытом. Разрешаю вам взять все орудия, которые еще могут стрелять.
Пескова удивленно смотрела на командующего фронтом.
10
Атаки фашистских танков следовали одна за другой. Артиллеристы под командованием русского полковника Мусаева непоколебимо стояли на своих позициях…
Против Мусаева действовали первоклассные генералы — он не причислял к ним руководителей фашистского мятежа, способных только на убийство безоружных. Нет, против него были опытнейшие в разбойничьих делах немецкие, итальянские генералы, уже начавшие новый тур мировой бойни, к которой они стремились со дня окончания предыдущей войны. И русский артиллерист Мусаев понимал, что у этих желтых скал он защищает первый рубеж своей Родины.
Командирам немецких танковых частей приходилось действовать уже не по плану генерала Ауфштейна, а по плану, навязанному им советским полковником.
Танки ринулись на прорыв слитной массой. Ауфштейн, делая главную ставку на внезапность удара, предпочел воздержаться от предварительной артиллерийской подготовки. Молчали и пушки Мусаева.
Танки противника вышли на плато. Пескова, находившаяся рядом с Мусаевым, чтобы передавать его команды испанским батареям, сведенным в отдельную часть, с ужасом наблюдала, как оливково-зеленые утюги мчались по ровному плато, выбивая из камней искры траками гусениц.
За танками бежали марокканцы, испанские мятежники, итальянские барсельеры и немецкие фашисты, которые задолго до начала мятежа проникли в Испанию под видом туристов, а с началом войны сменили туристские шорты и фланелевые рубахи на военную форму. С горы, на которой Мусаев расположил свой наблюдательный пункт, без бинокля были видны массы пехоты, растекавшейся по плато, словно разлитый кофе по столу. В этот момент Мусаев начал отсечный огонь.
Танкисты в своей бронированной скорлупе с ограниченной видимостью из уменьшенных по проекту немецких конструкторов щелей — «чтобы не поддавались психическому воздействию огня противника» — шли напролом. Яркие лучи солнца, отраженные тысячекратно обломками камней на плато, скрывали от них вспышки пушечных выстрелов. Грохот моторов и танков заглушал все происходящее в мире. Цель была проста и ясна — прорваться к позициям противника и сломить его возможное сопротивление. Если танкисты и слышали артиллерийские залпы, то поначалу огонь пушек был для них безопасен, в их боевых порядках еще не разорвался ни один снаряд…
Надо думать, Ауфштейн был немало удивлен, когда увидел разрывы снарядов в рядах своей пехоты. А затем десятки неведомо откуда взявшихся батарей перенесли свой огонь на танковые колонны. И так тщательно подготовленное наступление уперлось в огневую стену… Правда, три танка Ауфштейна прорвались к наблюдательному пункту Мусаева и обстреляли его. От первого снаряда погибла переводчица Пескова…
Однако только на пятый день после разгрома танковых колонн фалангисты сумели возобновить наступление. Они обтекли фланги республиканской армии и вышли к Мадриду…
Многие погибли в тех боях. Командующий республиканским фронтом был расстрелян фашистами Франко на центральной площади Мадрида. Пали смертью храбрых многие известные писатели, бывшие в этой войне полковниками и генералами. Навсегда остались у желтых скал тысячи солдат, собравшихся на защиту свободы чуть ля не со всего мира, — правда, по одному человеку от десятка миллионов, но безусловно имевших право представлять человечество. Мусаев уцелел. Но он навсегда запомнил голубоглазую, светловолосую девушку, которая осуждала фатализм генерала и умерла раньше других.
Вероятно, память о ней так и не позволила Мусаеву жениться; он все искал девушку, похожую на Пескову, но так и не встретил ее.
От тех боев осталась еще страсть к испанскому языку. Слишком трудно пришлось ему после гибели Песковой. Надо было не только воевать, но и учиться. Но то, чему он выучился тогда, осталось на всю жизнь, постепенно обрастая новыми знаниями.
Запомнил он и генерала Ауфштейна. И не только запомнил, но и постоянно следил за блестящей карьерой немецкого «национального» героя, как назвал его Гитлер, после победы фашизма в Испании. Мусаев понимал, что им еще придется скрестить оружие. Да гитлеровцы и не скрывали, что готовят поход на восток.
Ауфштейн, ставший со временем в фашистской Германии прославленным теоретиком танкового удара, выпустил несколько ученых трудов и книгу воспоминаний о войне в Испании. Была в этой книге глава «о победе над русским генералом». Умышленное повышение Мусаева в чине, как видно, потребовалось Ауфштейну для большей убедительности своих писаний. Сравнительного количества потерь генерал Ауфштейн в книге не приводил, поэтому писалось ему легко. Ирония и сарказм по отношению к русским, не прошедшим знаменитую школу Клаузевица и Шлиффена, так и сыпались из-под пера генерала. Мусаев, получив эту книжонку, держал ее в походном чемодане. Была у него дерзкая мечта — показать однажды это сочинение самому Ауфштейну, тем более что дело шло все ближе к тому, что генерал попробует свои танковые маневры на русских равнинах. А уж на этих-то равнинах Мусаев будет дома!
Семен Николаевич встретился с Ауфштейном вторично. И опять произошла эта встреча не по плану Мусаева, а примерно так, как задумали ее в фашистском генштабе.
В июле сорок первого года танковые армии генерала Ауфштейна окружили только что сформированную дивизию, которой командовал теперь уже действительно генерал Мусаев.
Восемь дней дивизия продолжала отражать натиск врага, пробиваясь в глубь белорусских лесов. И вдруг исчезла, как в воду канула. Напрасно летали немецкие разведывательные самолеты, напрасно танковые клинья вторгались в Беловежскую пущу, дивизия растаяла, словно дым, не оставив никаких следов.
Бойцы дивизии подбирали в лесу сотни листовок, в которых генерал Ауфштейн обещал райскую жизнь тем, кто прекратит сопротивление: ему были нужны пленные и трофеи, мертвые головы и брошенное оружие. Ведь даже самые хвастливые сводки должны опираться на некое подобие фактов.
Ауфштейн рассчитывал, что окруженные части в конце концов сдадутся в плен, на милость победителей. Получилось, однако, не так. В конце июля дивизия Мусаева неожиданно «отыскалась». Она нанесла мощный удар в стык между двумя немецкими армиями и вышла из окружения, разгромив лучший полк Ауфштейна.
И вот этими своими «победами», которые больше походили на поражения, хвалился ныне фельдмаршал Ауфштейн!
11
Воспоминания, воспоминания… Как они бередят душу!
Мусаеву вспомнилось почему-то самое трудное. Может быть, потому, что не так уж много радостного изведал он в жизни?..
Юргенев, сидевший рядом с шофером, несколько раз оглядывался на генерала, чтобы при случае начать разговор. Но Мусаев молчал, глаза его потускнели, он даже не замечал ужасной дороги, автоматически приподнимаясь на ухабах, будто ехал в седле.
В конце концов Юргенев предоставил генерала самому себе: кто его знает, может, у него такая система отдыха — спит человек с открытыми глазами.
Начальник штаба сосредоточил внимание на дороге. Мутные лужи разбегались из-под колес в стороны, словно две струи из-под торпедного катера. Смотровое стекло покрылось жирной липкой грязью.
Теперь вездеходы возвращались от линии фронта к штабу. Навстречу все чаще попадались маршевые подразделения, догонявшие свои полки и дивизии. Люди шли, наклонясь вперед, словно переломившись в пояснице, глядя только под ноги. Можно было подумать, что они вот-вот упадут среди дороги и тут же заснут.
И вместе с тем Юргенев приметил, что каждый солдат нес помимо полной выкладки то мешок с патронами, то ящик с минами или гранатами, то коробку с автоматными дисками. Словом, утомленные люди волокли на себе многое из того, что не могли пока доставить обозы, застрявшие где-то на проселках.
Юргенев проводил глазами медленно прошедшую роту, снова обернулся к Мусаеву, сказал:
— Устали люди, Семен Николаевич…
Мусаев словно проснулся, поглядел на солдат, подтвердил:
— Да…
— А вы все еще не отказались от своего плана?
— Плана? Ах, да. Нет, не отказался.
Юргенев поежился от этого упрямства, будто его обдуло холодным ветром.
— А вы уверены, что люди выдержат?
Мусаев как-то странно посмотрел на Юргенева, словно не замечая ни размокшей земли, ни утомленных солдат, последние ряды которых скрывались сейчас за белыми волнами испарений, поднимавшихся из каждой ямы, из каждой колдобины. Все вокруг выглядело перемешанным — земля и вода, ошметки снега и белый туман. Навстречу вездеходам шла уже другая рота, почти полного состава, солдаты которой были также нагружены не только своим, бойцовским, имуществом, но и разным другим «хозяйством» войны.
Мусаев приказал остановить вездеход и вышел из него прямо в болотную грязь…
Невысокий худощавый старший лейтенант, совсем еще молодой, но уже имевший несколько орденов и нашивку за ранение, увидев генерала, звонко скомандовал:
— Рота! Смирно!
По звонкому голосу, по всей его выправке было видно, что роту он принял впервые. Но сейчас ему все нипочем: ни слякоть, ни усталость. Он рад приветствовать генерала. Да и рота, только что шагавшая вразнобой, вдруг подтянулась. Грязь вырвалась из-под сапог и ботинок солдат. Мусаев поздоровался с бойцами и с удовольствием услышал их дружный ответ.
В первом ряду Мусаев заметил малорослого молодого бойца, которому даже шинель не придала солдатского вида. Он был бледен и худ: такими выходят из госпиталей после долгого и трудного лечения.
Мусаев оглянулся на Юргенева, неподвижно стоявшего возле вездехода, и вызвал солдата из колонны. Паренек шагнул вперед, отрапортовал:
— Боец третьей маршевой роты Сухоручко.
Мусаев оглядел заткнутые за пояс и облепленные грязью полы шинели, ботинки и обмотки. Почему-то подумалось: скульптор начал лепить человека из глины. Вылепил два столба, способные удержать колосса, потом примостил на эти мощные опоры худое, еле скрепленное тело. Так именно выглядел солдат. Но глаза его выражали столько веселой отчаянности, что Мусаев залюбовался ими.
— Трудно, Сухоручко?
— Мне, товарищ генерал, легко, я домой иду. И другие тоже не жалуются, потому что мне подсобляют…
— Откуда родом?
— С-под Одессы! — отчеканил Сухоручко. — Два с половиной года шел, всякое бывало, а теперь уже крыша родного дома видна! — И бесшабашно махнул рукой, совсем забыв о выправке.
Старший лейтенант укоризненно посмотрел на солдата. Мусаев перехватил его взгляд и усмехнулся. Сухоручко ответил такой широкой улыбкой, что я офицер, и солдаты невольно заулыбались в ответ.
— Скоро дойдем, Сухоручко! — громко сказал Мусаев и разрешил роте продолжать путь. Проводив солдат взглядом, Мусаев обернулся к Юргеневу — Немцы еще больше устали, Борис Владимирович. Теперь бойцу и воевать легче, граница близко, половина дела сделана.
— Почему половина? — спросил Юргенев, влезая в машину.
— Осталось только добить врага. Чем мы с вами и будем заниматься!..
12
По возвращении в штаб армии им не удалось отдохнуть. Еще при подъезде к хутору они увидели стоявший на деревянном настиле «кукурузник» с запущенным мотором. Значит, надо лететь: Мусаева и Юргенева ждал командующий фронтом.
В штабе командарм торопливо отдал необходимые распоряжения. Их было немало. Следовало усилить дивизию Ивачева, вырвавшуюся за Днестр и теперь отбивавшую атаку за атакой на заречном плацдарме. Надо было умерить наступление дивизии Демидова, части которой рвались к селу Великое. Это село пока выгоднее было оставить в руках противника. Владея им, Ауфштейн увереннее ввяжется в авантюрное наступление. Да и остальным дивизиям лучше временно прекратить продвижение вперед, создать видимость покоя. Пусть гитлеровское командование думает, что линия фронта на участке армии стабилизировалась и что переход к позиционной войне произошел благодаря усилиям Ауфштейна. А для этого необходимо сократить силу ударов дивизии Демидова.
Мусаев сверил последние данные о положении на фронте, сложил бумаги в портфель и вышел вместе с Юргеневым к самолету…
В штабе фронта царило оживление. Там оказались почти все командующие армиями и командиры корпусов фронта. В столовой велись громкие разговоры о неожиданном вызове. Каждый ожидал чего-то нового, необыкновенного. Кто-то сказал, что одна из подвижных армий вышла к государственной границе. Может быть, вызов в штаб фронта связан с этим событием?
Многие собравшиеся здесь генералы были знакомы Мусаеву: с одними он учился, с другими вместе воевал. Здороваясь с ними, обмениваясь мнениями, рассказывая о своем недавнем отпуске, Семен Николаевич все время думал: имеет ли этот внезапный вызов в штаб фронта какое-нибудь отношение к предложенной им операции?
Юргенев ушел из столовой с начальником штаба фронта — у них были свои дела. А Мусаеву так хотелось поделиться мыслями со своим ближайшим помощником. Он даже забыл, что Юргенев совсем не сторонник его плана.
Сидя за столиком, Мусаев некоторое время молчаливо наблюдал за своими коллегами — генералами. Оторвавшись на время от повседневных, казавшихся будничными дел, вырвавшись из круга обычных забот, они вдруг почувствовали себя словно помолодевшими — этакими лихими лейтенантами и капитанами, какими были много лет назад. Кругом слышались шутки, анекдоты, как бывало когда-то в академии или на учениях. Кто-то предложил выпить вина, кто-то вспомнил, как уходил из этих самых мест два с половиной года назад.
— Да, тогда если и хотелось выпить, так только с горя! — громко сказал усатый генерал в казачьей форме.
— Теперь настроение иное, — весело воскликнул другой генерал.
— Армия другая! — добавил казак.
Да, армия стала другой. Мусаев начал было вспоминать, какой была армия, но в это время его вызвали к командующему фронтом.
Штаб фронта располагался в помещении бывшей школы. В некоторых классах еще валялась солома, на которой не так давно спали немецкие солдаты. Только два-три класса были начисто вымыты и пахли лизолом или карболкой — запахом войны и казармы.
Маршал стоял в большом классе у карты. Здесь же был начальник штаба фронта, сухонький генерал с усталым тонким лицом. Он сидел в углу, низко склонясь над столом, и что-то переписывал на большой лист бумаги из пачки армейских сводок. Маршал, высокий, широкоплечий, в отлично сшитом мундире с твердыми прямыми плечами, обернулся к Мусаеву. Большое грубоватое его лицо было задумчивым. Командарм остановился посредине класса, превращенного в кабинет, но маршал подозвал его ближе к карте и спросил:
— Ну что, генерал, вы все еще настаиваете на своем плане?
— Даже больше чем прежде, товарищ маршал.
Маршал с любопытством и как бы с вызовом посмотрел на Мусаева, потом обернулся к начальнику штаба:
— Слышишь, Павел Степанович? А ты говорил, что Мусаев сам откажется от своего предложения. Придется тебе его убеждать…
Мусаев почувствовал какую-то стесненность в груди. Значит, о его предложении уже говорили и, может быть, приняли решение, а он-то летел сюда в надежде, что его выслушают и поддержат. С неприязнью подумал о Юргеневе: он, несомненно, уже высказал свое недоверие к плану Мусаева этому сухонькому генералу, своему непосредственному начальнику и, конечно, убедил его. Штабные всегда действуют согласованно…
Начальник штаба фронта мельком взглянул на Мусаева, ворчливо ответил:
— Пятый план на этой неделе, а где средства?
— Вот и я спрашиваю: где средства? — произнес маршал и, взяв со стола пачку немецких газет, выбрал из них одну, протянул Мусаеву — Вы это читали?
Мусаев увидел статью Ауфштейна и с ненавистью подумал о проклятом нацисте, который, не надеясь победить на поле сражения, пытался вывести его из строя при помощи бумаги и чернил. Но, взглянув на лист, он увидел, что там отчеркнута красным карандашом совсем другая статья. Это было высказывание одного из немецких генштабистов об эластичной обороне. Маршал обвел жирной чертой несколько абзацев. Генштабист хвалился организованным отходом армии и указывал, что немецкое командование полностью сохраняет свои силы и даже накапливает их при сокращении фронта. Статья кончалась кичливым заявлением, что все победы русских ничего не значат, так как главным фактором современной войны является не территория, которая при маневренности войск может постоянно переходить из рук в руки, а сохранность и боеспособность армий. Генштабист утверждал, что войска фюрера сохранили всю свою силу и мощь, несмотря на длительный маневренный отход.
Против этого абзаца рукой маршала было приписано: «Так ли? А войска Паулюса? А группа Манштейна?»
Эта короткая приписка вдруг ободрила Мусаева: она подтверждала то, о чем писал он в своем рапорте. Надо только обосновать план. А он может и с закрытыми глазами указать на карте то место, где ответит Ауфштейну и его армии не пером и чернилами, а действительным разгромом. Он не хотел выпускать убийц из своего дома безнаказанными. И он сделает все зависящее от него, чтобы не выпустить их, как бы ни хвалились новоявленные завоеватели своей умелой стратегией бегства.
Обдумывая все свои доводы, Мусаев не заметил, как в кабинет командующего вошли еще два человека.
Маршал сказал Мусаеву:
— Знакомьтесь, генерал, с вашими оппонентами. Это — член Военного совета фронта Карцев, а это — секретарь Зареченского обкома партии Паламидин.
Карцев, еще сравнительно молодой генерал, подошел к Мусаеву легкой походкой, улыбаясь маршалу и начальнику штаба, радушно поздоровался с командармом. Вероятно, он знал обаяние своей улыбки и умел пользоваться ею, потому что даже озабоченное лицо начальника штаба озарилось ответной улыбкой.
Еще не зная Карцева лично, Мусаев много слышал о нем. Этот плотный, легкий на ногу, крепко сбитый человек до войны работал в аппарате ЦК партии одной из союзных республик. Он знал толк в хозяйстве, в партийной работе, знал по именам и фамилиям не одну тысячу человек в республике, умел выдвигать смелых работников, поддерживать всякое начинание, если оно шло на пользу делу, и тысячи людей, однажды встретившись с ним, становились навеки его друзьями. Мусаев невольно подумал; «Привлечь бы на свою сторону этого оппонента…».
Секретарь Зареченского обкома был хмур, если не сказать — угрюм. Зареченская область пока еще оставалась оккупированной, и это, безусловно, беспокоило его. Паламидин все время думал лишь об одном: какой оставят фашисты область после своего отступления? Мусаев прекрасно понимал причины плохого настроения Паламидина: впереди у него огромная работа, а людей, помощников, видно, пока маловато. Если наши соединения сумеют сбить войска фельдмаршала Ауфштейна с тех позиций, на которых они закрепились, то Заречье будет освобождено от фашистской нечисти. Можно успеть это сделать к началу сева. Но и тогда Паламидину придется еще думать о минах на полях, о недостатке живого тягла и тракторов. Да и мужчин, наверное, в этой прифронтовой полосе осталось совсем мало. Кто станет пахать? А посевная не, за горами! И Мусаев даже пожалел Паламидина. И в то же время невольно подумал: уж Паламидин-то будет на его стороне — ему надо торопиться вперед.
Вошли еще несколько человек: начальник артиллерии фронта, начальник снабжения, начальник разведки…
Ординарец принес кофе в маленьких чашечках и рюмки с каким-то трофейным ликером. Карцев и Паламидин вылили ликер в кофе и отошли к окну, тихо разговаривая и все время оглядываясь на маршала, будто поторапливая его. Маршал посмотрел на Мусаева, с улыбкой сказал:
— Ну, Семен Николаевич, попробуйте убедить всех нас в целесообразности и необходимости осуществления своего плана. Даю вам десять минут.
Мусаев умоляюще взглянул на маршала, но вовремя вспомнил его любимую поговорку: «Чем меньше слов — тем яснее мысль». Маршал за него говорить не станет! Просто надо отыскать самые убедительные слова. Он подошел к карте, взял о соседнего столика тонкую указку, может оставшуюся здесь еще с тех времен, когда ученики сдавали экзамены. Оглянувшись, он увидел, что Паламидин и Карцев поставили свои чашки на подоконник и подошли ближе.
Указав на карте местоположение армии, Мусаев начал докладывать:
— Своим правым флангом наша армия вырвалась за Днестр. Вот этот «пятачок», занятый частями дивизии Ивачева. Но фельдмаршал Ауфштейн, армия которого с двумя приданными ей танковыми корпусами расположена на этом участке, пока не очень обеспокоен прорывом. Наоборот, судя по данным разведки, он укрепляет линию Липовец — Великое на восточном берегу Днестра и стягивает туда свои резервы. Задача, которую он ставит перед собой, ясна: окружить и уничтожить части нашей армии, вклинившиеся между его дивизиями. Я предлагаю приостановить фронтальное давление на вражеские войска, создать у гитлеровского командования впечатление, что наше наступление выдохлось, и подготовить мощный удар в излучине Днестра, в шестидесяти километрах южнее созданного дивизией Ивачева плацдарма. Если мы затем ударим с двух направлений на город Батушани, то армия Ауфштейна окажется в таком «мешке», из которого ей уже не выбраться…
— Еще три минуты! — напомнил маршал, взглянув на часы.
— А почему, генерал, вы избрали именно это направление? — спросил Карцев.
— Фельдмаршал Ауфштейн — давний противник нашего Семена Николаевича, — сказал начальник штаба фронта. — Вот взгляните на эти газеты, Ауфштейн пишет, что бил Семена Николаевича дважды, побьет и в третий раз. Я бы прежде всего спросил у генерала, сколько в его плане от военного расчета, а сколько от уязвленного самолюбия?
Мусаев почувствовал, как медленно и натужно краснеет, как начинается неприятный шум в висках. Очевидно, не он один испытывал неловкость. Маршал хмуро заметил:
— Запрещенный прием!
— Да, удар ниже пояса, — подтвердил Карцев.
Паламидин молча переводил взгляд с одного лица на другое, но даже в его молчании чувствовалось, что он не одобряет замечания начальника штаба фронта. А тот, сердито блеснув очками, поднял голову, на тонкой морщинистой шее и безапелляционно заявил:
— Чувства в военном деле — вредный фактор!
— А я-то всегда считал, что чувство ненависти к врагу помогает воевать! — подчеркнуто спокойно заметил Карцев.
— Я говорю о самолюбии! — поправился начальник штаба.
— Еще две минуты! — снова напомнил маршал и, подняв руку, словно останавливая спорщиков, спросил у начальника разведки: — Сведения Мусаева о настроениях в штабе противника подтверждаются?
Лысый полковник, сидевший до того где-то позади, сделал шаг вперед, коротко ответил:
— Так точно, товарищ маршал.
— Минуточку, товарищ маршал, — как-то совсем по-граждански попросил Карцев. — Товарищу Мусаеву так и не дали ответить на мой вопрос: почему он избрал именно это направление для предполагаемого удара?
— Да, почему? — Маршал взглянул прямо в глаза Семену Николаевичу.
— Здесь, по данным разведки, стык между армией Ауфштейна и румынскими дивизиями. У нас здесь сосредоточена резервная армия. Сейчас, когда весь фронт как будто стабилизировался и моя армия сама влезла в «мешок», внезапный удар покажется Ауфштейну актом отчаяния, он не придаст ему значения, а когда опомнится, будет поздно.
— А не думаете ли вы, что лучше было бы нанести удар еще южнее, — скажем, отсюда?.. — Карцев указал на городок, отстоящий примерно в восьмидесяти километрах от той точки, которую избрал для удара Мусаев. — Там сосредоточено большое количество наших войск. Они нацелены на армию генерала Хольцаммера, старого соперника Ауфштейна. Если Хольцаммер и поймет, чего мы добиваемся нашим ударом, он еще десять раз подумает, прежде чем попросить помощи у Ауфштейна. А вы тем временем… — И он сделал широкий жест рукой, словно что-то отрубая единым взмахом.
— Но ведь на этом пространстве, кроме армии Ауфштейна, еще по крайней мере восемнадцать дивизий! Сможем ли мы охватить такое количество войск и удержать их в «мешке»? — в свою очередь спросил Мусаев.
— Вот в этом и заключается ваша ошибка, — спокойно возразил Карцев. — Вы все еще мыслите масштабами наших поражений, а надо мыслить масштабами побед… Если удар произойдет так далеко от места вашего прорыва, то, во-первых, гитлеровцы не заподозрят о расставленной для них ловушке; во-вторых, чем больше их войск окажется в «котле», тем сильнее будет их надежда на то, что они вырвутся сами, своими силами; в-третьих, после безуспешных попыток прорваться из окружения им не останется ничего другого, кроме капитуляции…
Семен Николаевич, затаив дыхание, следил, как подошедший к карте Карцев короткими и точными движениями показывал возможное перемещение армий. И вся гордость Мусаева, как стратега, рассеялась, подобно дыму. Он уже с некоторым сомнением думал о своих способностях… Ведь предложение члена Военного совета действительно вернее. Почему же он, Мусаев, сам не продумал этого варианта? Почему? Он молчал, ожидая, что еще скажет Карцев, а тот, улыбаясь, смотрел на его обескураженное лицо.
Пауза затянулась, и Карцев, не гася улыбки, сказал:
— Да вы не огорчайтесь, генерал! Ваше предложение правильное. Постарайтесь только несколько развить его с учетом наших советов…
13
Майор Тимохов, застрявший с обозом километрах в пятнадцати от села Великое, до которого предполагал добраться к вечеру, ничуть не удивился доставленному связным приказанию — дальше не двигаться. Он был уверен, что все идет хорошо, поэтому задержку принял как должное.
Ночью, когда в селении, куда было доставлено это приказание, не спали только часовые да регулировщики, майор Тимохов отыскал подходящее место для размещения склада, разгрузил обоз, отправил бойцов, шоферов и возчиков отдыхать, а сам занялся отчетностью. Он всегда занимался этим делом где-нибудь в дороге, на случайном привале. В другое время было некогда.
Утром на машины и подводы были погружены раненые, а также трофейное оружие, которое надо было доставить на тыловую базу, и обоз двинулся в обратный путь.
На тыловой базе майору вручили предписание — немедля сдать дела заместителю и явиться в штаб армии.
Оформив сдачу дел, Тимохов запечалился. Зачем его вызывают в штаб армии? Подобно многим скромным людям, он склонен был думать, что, если им заинтересовалось начальство, значит, он допустил какую-то ошибку. Но, пораздумав, все же пришел к выводу, что никакой вины за ним нет.
Узнав, что штаб армии к тому времени перебазировался в расположение дивизии Ивачева, Тимохов прежде всего выяснил, какие грузы надлежало немедленно отправить в дивизию. Но как бы глубоко ни прятал он свое волнение, оно все же вырывалось наружу. Заполняя различные ведомости и накладные на получение грузов, он в сотый раз клял свою судьбу, которая заставила его, с детства мечтавшего о героических подвигах, стать начальником артиллерийского снабжения. На фронте он находился уже не первый год, не раз бывал под огнем, отбивал атаки автоматчиков, однако романтическое представление резко противоречило всему тому быту войны, в котором он увяз с головой…
Думая об ожидавшей его в штабе армии неприятности, убежденный, что ничем не заслужил плохого к себе отношения, Тимохов решил просить у командующего немедленного перевода в боевую часть.
Командовать батальоном он, конечно, не сможет — ведь он с первого дня войны в интендантстве. Не было у него возможности научиться искусству боя. Но пусть его понизят в звании, пусть пошлют под начало к какому-нибудь опытному лейтенанту из тех, что командуют сейчас ротами. Он человек переимчивый: все быстро усвоит. Только бы подальше от начальства, которое не понимает, что он, Тимохов, не по своей вине занимается таким несложным делом, как снабжение.
Вот на этом он и будет настаивать со всей решительностью. Только хватит ли решительности? Этого он не знал. Но он попробует. Да, да, попробует!..
После такого категорического решения майор спокойно занялся привычным делом. Он по опыту знал, что работа во многих случаях помогает лучше любых успокоительных таблеток.
Тимохов тут же выяснил, что в дивизию Ивачева по недосмотру интендантов не были вовремя отправлены боекомплекты для полковой артиллерии и мины.
Все это майор получил на складе, хотя в сущности уже не располагал никакими правами. Но он чувствовал за собой главное право — до конца выполнить возложенные на него обязанности.
К половине дня обоз в дивизию Ивачева был отправлен. А майор еще задержался для того, чтобы написать письмо своему преемнику о некоторых неотложных, по его мнению, делах, которые он, Тимохов, не успел закончить. Впрочем, майор не мог и подумать, будто кто-то может быть доволен тем, что часть работы осталась невыполненной: он судил о людях по себе. Закончив письмо, Тимохов попрощался с работниками склада и верхом на тихой, явно не кавалерийской лошадке поехал догонять обоз.
Подъезжая к населенному пункту, где должен был размещаться штаб дивизии Ивачева и штаб армии, майор услышал ожесточенную стрельбу. Немецкие артиллеристы стреляли из-за Днестра. А из садов села вела огонь артиллерия дивизии Ивачева.
Вражеские артиллеристы стреляли «по площади», поэтому тяжелые снаряды взрывались на всех улицах села, раскинувшегося вдоль реки почти на шесть километров. Село горело во многих местах.
Можно было, конечно, переждать обстрел в тихом месте, но Тимохов привык все делать споро. И обоз вошел в село.
Группа бойцов под командованием сержанта гасила пожар. Соломенные крыши глинобитных домов вспыхивали, словно факелы, и огонь все время опережал добровольных пожарников, хотя к солдатам присоединились и сельские жители. Они, видимо, уже привыкли к обстрелам, действовали быстро, не обращая внимание на взрывы. Распоряжавшийся ими сержант знал, как дисциплина сдерживает чувство страха, и командовал с чисто гвардейской лихостью:
— Пять человек ко мне! Берись баграми за стрехи! Не бойсь, огонь всякий грех очищает! Ну, взяли!
Тимохов узнал своего однополчанина Верхотурова. И невольно подумал: «Неужели и Галина тут, в этом пламени?»
Тимохов вздохнул, подъехал к Верхотурову, окликнул его:
— Товарищ Верхотуров, где штаб армии?
Пылающая соломенная крыша провалилась вместе с потолком внутрь дома. Верхотуров вытер опаленное лицо и повернулся на голос майора. Узнав Тимохова, он заулыбался, будто именно на пожаре и должен встречать добрых знакомых.
— Штаб переправился через Днестр, товарищ майор, так что он уже в Бессарабии!.. — Вдруг не выдержал и с хитринкой добавил;— Торопитесь, а то они скоро через границу переедут…
— Никита Евсеевич… — майор перегнулся с коня, переходя почти на шепот, спросил: — Галина Алексеевна здесь?
— Она ушла со штабом дивизии, — сухо ответил Верхотуров. — Разрешите идти?
И, не ожидая ответа, бросился к соседней хате, на которой только что занялась крыша от огромной головни, переброшенной взрывом снаряда.
— Быстрей, быстрей! — закричал он на солдат и жителей села. — Прозеваем — все сгорит…
Человек десять бросились помогать ему, и вскоре сорванная баграми крыша упала посреди улицы, рассыпаясь пламенем на пути обоза.
Тимохов приказал обозникам выбираться к реке другой дорогой, а сам, пригнувшись к луке седла, поскакал через пламя.
Выскочив на крутой взвоз над рекой, он увидел разбитую бомбами переправу. Паром, сорванный с каната, уплывал вниз. Саперная рота спускала на воду понтоны и скрепляла их. Людей не хватало, понтоны плавали без перекрытий — пустые, бесполезные железные корыта. Тимохов приказал ординарцу поторопить обозников (пусть помогут саперам) и поскакал обратно на сельскую площадь.
Верхотуров все еще возглавлял пожарную команду. Людей у него даже прибавилось — огонь выгнал крестьян из подвалов и укрытий, и теперь они трудились вместе с солдатами.
— Верхотуров! — крикнул Тимохов.
— Я вас слушаю, товарищ майор! — отозвался сержант. Буйная борьба с огнем расшевелила его, как захватывает человека всякая борьба со стихией.
— Соберите своих людей и ведите к реке. Паром сорвало, а понтонный мост еще не наведен. Только объясните им, что нужно делать.
— У нас язык общий: я по-уральски, они по-молдавски. А смысл один: бей немца! — усмехнулся Верхотуров и обернулся к своим помощникам: — Эй, старички! Огонь надо с корня тушить, а корень на том берегу хоронится. Вот генерал на переправу зовет, мост надо мостить, чтобы гитлеровцам у нас неповадно было гостить! Если там по врагу ударят, у нас огонь сам собой потухнет. А война кончится — все равно новые дома строить!
Тимохов улыбнулся прибаутке Верхотурова, а молдаване смотрели на него с таким почтением, что майор не стал вмешиваться в распоряжения сержанта. Да и нужды в том не было. Оставив догорающие хаты, селяне уже спешили за Верхотуровым. В конце концов сержант прав: для глинобитных хатенок огонь не страшен, а имущество селян все равно либо зарыто, либо давно разграблено гитлеровцами.
Спустившись снова к реке, Тимохов увидел там большую перемену. Берег вдруг заполнился множеством людей: два полка в полном составе готовились к переправе за Днестр на помощь Ивачеву. Впрочем, с воздуха эти перемены едва ли можно было заметить: берег по-прежнему желтел песком, темнел илистыми наносами, — полки были обстрелянные, умели маскироваться.
Вечерело. Солнце, ставшее багровым от дыма пожарищ, будто с неохотой уходило за горы. Наплавной мост уже действовал. Но вдруг к берегу подвалила плоскодонная лодка, и из нее выскочил офицер. Вглядываясь в сумеречную мглу, он громко крикнул:
— Майор Тимохов здесь?
Тимохов вскочил, чувствуя, как к лицу приливает кровь. Ну чем он проштрафился, если за ним прислали офицера?.. Шагнул по хрустящей гальке вперед, ответил:
— Я здесь, товарищ Суслов!
— Почему задержались? Генерал уже несколько раз справлялся о вас!
— У меня же обоз…
— Обоз? — удивился Суслов. — Разве вам приказали ехать с обозом?
— Нет, но… все равно надо было ехать, а если обоз не собрать…
— Ну черт с ним, с обозом! — резко оборвал капитан. — Торопитесь!
Он говорил тем приказным тоном, который возникает у некоторых людей от одного ощущения приближенности к лицам, обладающим властью. Но Тимохов по простоте своей принял строгость капитана за выражение немилости генерал-лейтенанта. Совсем приуныв, майор пошел к понтонному мосту.
На берегу переругивались повозочные, которых не пускали на мост, потому что за реку переправлялась какая-то артиллерийская часть.
Тимохов мгновенно забыл все свое послушание, выказанное Суслову, бросился, расталкивая артиллеристов, к начальнику переправы. Мог ли он оставить здесь обоз? Конечно, не мог. За себя он не умел просить, но тут неожиданно проявил такое красноречие, что начальник переправы и сам не заметил, как разрешил обозу въехать на мост.
14
Армейский штаб размещался в нескольких уцелевших хатах хутора. Мусаев занимал самую маленькую хату, разделенную наскоро сбитой перегородкой.
В первой комнатке Тимохов увидел капитана Суслова, который, притулившись у печки и положив планшет на колени, писал письмо. Оторвавшись от этого занятия, Суслов сказал скучным голосом:
— А, пришли все-таки? Генерал ждет. Сейчас доложу…
Он вложил письмо в конверт, заклеил его и открыл сумку, чтобы спрятать. Из раскрывшейся сумки вывалилось несколько писем. Тимохов машинально наклонился, подбирая их, и удивленно заметил, что на всех конвертах один и тот же адрес: «Город Липовец, улица Ленина». Суслов взял письмо, словно не заметив вопросительного взгляда майора, и прошел за перегородку. Вернувшись через минуту, молча махнул рукой: «Идите!»
Майор, явно стесняясь, прошел мимо двух полковников и генерал-майора, ожидавших очереди.
Мусаев сидел у зашторенного окна, делая на карте какие-то пометки и что-то диктуя стенографистке. Смысла коротких фраз, которые произносил генерал, Тимохов не уловил. Стенографистка в пыльной помятой форме, увидев майора, отложила карандаш, повернулась на скрипучем стуле к другому столику и принялась перепечатывать на машинке свои записи. Мусаев поднялся, протянул руку смущенному Тимохову:
— А, майор, наконец-то! Здравствуйте!
Тимохов пожал протянутую руку и, увидев приглашающий жест генерала, осторожно присел на краешек стула.
— Почему так поздно явились? — спросил генерал.
— Простите, обоз… пришлось задержаться…
— Какой обоз? — с явным неудовольствием спросил Мусаев.
— Для дивизии Ивачева. Я ведь попутно ехал, а там грузы остались недополученные.
— И привезли? — спросил генерал.
Тимохов не понял, была ли насмешка в голосе генерала или удивление. На всякий случай осторожно подтвердил:
— Да…
— А вы знаете, зачем я вас вызвал?
— Н-нет, товарищ генерал-лейтенант…
— Прочтите ему приказ, — обернулся Мусаев к стенографистке. — Это майор Тимохов.
Девушка перелистала несколько бумажек. Тимохов почувствовал, как нарастает стеснение в груди. Но вот стенографистка отыскала нужную бумажку и равнодушным голосом, одинаково передающим и неприятности и радости, прочитала:
«Майора Тимохова П. И. освободить от должности начальника артиллерийского снабжения Н-ской дивизии и назначить помощником начальника тыла и начальником артиллерийского снабжения армии».
Равнодушный голос, канцелярский стиль приказа, неожиданность назначения, внимательный взгляд генерала — все как-то перепуталось в сознании Тимохова.
— Ну, довольны назначением, товарищ майор? — спросил между тем Мусаев.
— Я… я хотел просить… — растерянно сказал Тимохов и запнулся. Потом с отчаянием в голосе сказал: — Я хотел просить об отчислении в полк…
Мусаев посмотрел на него с недовольной усмешкой, и майор замолчал.
— А вы знаете, почему я назначил вас на эту должность? — Генерал подождал мгновение и, не услышав ответа, продолжал — Вы отлично организовали работу по снабжению в дивизии, но в армии вам придется работать еще лучше. Вы поняли?
— Да, товарищ генерал-лейтенант.
— Справитесь?
— Буду стараться, товарищ генерал-лейтенант.
— Требовать умеете?
— Постараюсь, товарищ генерал-лейтенант.
— Можете идти. Обратитесь в отдел, там вас ждут.
Тимохов повернулся и пошел к двери, еще не понимая, как мог согласиться на такое огромное дело. Уже у двери снова услышал голос генерала;
— Ничего, майор, я тоже не умел распоряжаться людьми, а вот научился!
К трем часам ночи Тимохов принял дела и успел побеседовать с начальником тыла армии, сердитым, чем-то очень недовольным полковником. Затем квартирьер указал майору хату для ночлега. Открыв дверь, Тимохов увидел на столике сделанный из снарядной гильзы ночничок, две складные койки. На одной кто-то спал.
Положив на столик свою сумку, майор поднял валявшийся на полу конверт со знакомым адресом: «Город Липовец, улица Ленина». Взглянул на спящего, узнал в нем Суслова. Было что-то детское, обиженное в позе капитана, будто он заснул после большого огорчения. И Тимохов, засыпая, успел подумать, как это Суслов может каждый день писать письма в город, пока еще оккупированный врагом? Должно быть, в письмах он излагает то, о чем не смеет сказать вслух. Сбудется ли желание капитана? Получит ли когда-нибудь адресат его письма, набросанные карандашом в страшной страде войны? Майору вдруг захотелось, чтобы это случилось, и случилось как можно скорее…
15
Перед рассветом в хату без стука вошел ординарец из штаба армии и разбудил Суслова.
Капитан поднялся, сделал несколько привычных гимнастических движений, побрился, убрал в сумку написанное перед сном письмо жене, оглядел появившегося ночью соседа, узнал в нем Тимохова и, не проявив ни огорчения, ни радости по поводу этого соседства, вышел из хаты.
Идя к аэродрому, он привычно прислушивался к тому, что происходило вокруг. Пока все оставалось без перемен: гитлеровцы вели отвлекающую стрельбу, где-то справа слышалась трескотня автоматов, у реки продолжали рваться снаряды — немцы обстреливали переправу.
На востоке становилось все светлее, а на западе то и дело вспыхивали и внезапно таяли в небе ракеты, словно соревнуясь с восходящим солнцем. К утру немного подморозило, поэтому отчетливее слышался топот солдатских сапог. Подобно пулеметной очереди, стучал мотор грузовика.
Суслов прошел за хутор, на превращенный в штабной аэродром луг, покрытый темной прошлогодней травой. Почувствовав на лице прохладу от близости реки и свежего ветра, взглянул на небо. Звезды еще были видны. Они мерцали зеленоватым светом, обещая солнечный день, летную погоду, а вместе с нею и опасность для Суслова. Он предпочитал летать на У-2 в пасмурную, туманную, дождливую погоду. Это было безопаснее. Впрочем, еще очень рано. Можно надеяться, что полет пройдет без осложнений, без встречи с вражескими истребителями…
Летчик в ожидании пассажира проверял самолет. Они так часто летали вместе, что понимали друг друга с полуслова. И сейчас Суслов, кивнув ему, протянул маршрутный лист. Летчик бегло прочитал, пожал плечами, спросил:
— Может, пойдем в обход Липовца? Ведь если подожгут в воздухе, тем все и кончится…
— Чепуха! Им и в голову не придет искать нас.
— Как хотите… — И он подал сигнал механику: — Контакт!
— Есть, контакт!
Потом летчик еще раз оглянулся на пассажира: переговорного устройства на этом самолете не было — больше им не придется говорить до благополучной посадки. Он уловил улыбку Суслова, который примащивался поудобнее в кресле, будто собираясь заснуть, как только самолет оторвется от земли. Он часто засыпал во время полетов. Но на этот раз Суслов не думал спать. Он рассматривал бумаги, опечатанные сургучом конверты… Самолет легко оторвался от земли, и летчик сразу забыл о пассажире, стремясь подняться как можно выше, чтобы спрятаться от вражеских истребителей за облаками.
Когда самолет вынырнул из облаков, под ним была река и железная дорога Липовец — Великое — Краснополь, мост через Днестр, молдавская земля. По железной дороге шли впритирку один к другому поезда. Мост, на который наши летчики потратили так много бомб, действовал.
Суслов внимательно смотрел вниз. Предутренняя мгла почти рассеялась, изрытая земля была видна хорошо. Капитан передал летчику записку. Тот, не оборачиваясь, кивнул. Самолет стал медленно снижаться. Суслов сделал короткую отметку в блокноте: генерал-лейтенант Мусаев оказался прав — немецкие поезда шли на восток. Самолет летел над огромным треугольником, в котором были расположены дивизии Ауфштейна, и Суслов видел, что все движение — автомобильное, железнодорожное, пешее — было направлено навстречу солнцу, туда, где возле города Липовца вдруг приостановилось наступление русских. Фельдмаршал Ауфштейн накапливал войска для встречного удара, чтобы отрезать дивизию Ивачева, разгромить ее и хоть тем отчасти расплатиться с русскими за все потери…
Внизу что-то произошло. Суслов еще не понял — что, а летчик уже вел самолет вверх. Мотор натужно гудел. Впереди замелькали белые облачка разрывов. Тихоходный самолет, на котором летел Суслов, отставал от намеченной немецкими зенитчиками точки встречи со снарядом, и можно было ожидать, что гитлеровцы вот-вот вызовут истребители.
Летчик повернулся к Суслову, что-то крикнул, повел самолет в сторону, а затем нырнул вниз, почти к самой земле. Теперь У-2 шел под защитой лесопосадочных полос и пестрых разветвлений балок, ручьев, невидимый сверху, почти неслышный снизу, за что немцы и прозвали такие самолеты «бесшумными».
Через полчаса Суслов снова увидел излучину Днестра. Здесь предстояло вторично пересечь линию фронта, чтобы выйти на освобожденную территорию. Капитан перегнулся через борт, разглядывая очертания Липовца. Он и себе не признался бы в том, что летал этим опасным маршрутом только для того, чтобы увидеть город, в котором оставил надежду и радость души.
Солнце уже взошло. Но улицы городка были закрыты тенью домов и казались провалами. Не дымили трубы над освещенными солнцем крышами. Отсюда, сверху, городок казался мертвым, как были мертвы надежды Суслова, питаемые только напряжением воли. А может быть, все-таки она, самая близкая женщина, с нежным лицом, ясными, задумчивыми глазами, еще жива? Может, она с надеждой прислушивается к рокоту советского самолета, видит сейчас красные звезды на его крыльях, как видит близких во сне, как ощущает приближение счастья?..
Снова появились дымки разрывов. Их звука Суслов не слышал за рокотом мотора, и они выглядели мирными, безопасными, как соседствующие с ним легкие белые облачка весеннего неба. Летчик начал пикировать вниз, оставляя позади мертвый городок, реку, дым орудийной стрельбы бессонного фронта. Он вел самолет навстречу земле, где их давно уже ждали. Быстро и мимолетно было видение мертвого городка, но Суслов не жалел об этом: слишком страшно было смотреть туда, где третий год томилась его любимая.
Самолет коснулся земли и запрыгал по кочковатому полю. Навстречу бежали солдаты. Летчик подрулил прямо под окна какой-то хаты, А Суслов все сидел задумавшись.
В Маяках капитан застал штаб Городанова. Где-то здесь, поблизости, располагались части танкового корпуса.
За ночь гитлеровцы подбросили к фронту крупные подкрепления. Пленные показали, что Ауфштейн ввел в действие часть своего резерва: батальоны, стоявшие до того на западной стороне реки.
По всему фронту, от Липовца до Маяков, шли сильные бои. Дивизия Скворцова несколько отошла. От занимаемых ею теперь позиций до Днестра было около сорока километров. На этой узости и развертывалась сейчас операция. Скворцов делал вид, что стремится к реке, Ауфштейн наращивал резервы и вводил их в бой. А неподалеку, в степи, группировались для прорыва советские дивизии. Ни одна из свежих дивизий, которые командующий фронтом подбросил Мусаеву, не несла даже караульной службы на передовой: в штабе Ауфштейна о них ничего не знали.
Командующий немецко-фашистской армией был пока уверен, что бои идут лишь с одной целью — оттеснить его за Днестр, прорваться к Краснополю, где стояли еще не тронутые резервы, где находился штаб, куда подходила железнодорожная колея, позволявшая в любую минуту подтянуть резервы.
Так он и писал в последнем захваченном танкистами приказе, который Городанов передал Суслову: «Русские, оторвавшиеся от железной дороги, нам более не опасны…».
Суслов вручил Городанову письмо Мусаева, коротко доложил о том, что видел, пролетая над фронтовой линией, сообщил, что вылетает в Леваду, где надеется застать командующего соседней армией Владыкина, Городанов набросал ответ Мусаеву, пожелал капитану счастливого пути и посоветовал на этот раз лететь над расположением своих войск. Суслов напомнил было, что две стороны треугольника в сумме длиннее третьей, но Городанов сказал:
— Имейте в виду, немцы на левом берегу Днестра стали очень нервными — охотятся за каждым самолетом! Вчера во время бомбежки переправы они сбили восемь наших самолетов. А эта переправа, как вы знаете, не такая уж важная…
Суслов попрощался с генералом и медленно пошел по улице села. Надо было обдумать все, что он видел во время полета, чтобы потом доложить командующему, который любит — это уже уяснил Суслов, — чтобы офицеры связи имели собственное мнение и не полагались только на донесения.
Капитан шел по селу, присматриваясь к странному виду домов: создавалось впечатление, будто село совсем недавно подвергалось ожесточенной бомбежке, а потом срочно почистилось, чтобы приобрести снова прежний вид. Только миновав две-три хаты, Суслов понял в чем дело. Ночью в село вошли танки. Многие из них разместились в клунях и сараях. Танки с ходу проламывали стенки, входили под крыши и оставались там на постое. После этого танкисты заделали проломы, даже улицы подмели. Танки были и в садах, и в ометах кукурузной соломы, и в пересекавших село балках… Все машины так искусно замаскированы, что с воздуха их невозможно было обнаружить. Даже следы гусениц были тщательно затерты…
16
Теперь Суслов летел на юго-восток, огибая второй выступ вражеской линии обороны, образовавшийся на стыке армий Мусаева и Владыкина. Здесь немецкие войска держались за речку Суж. Речка была укреплена ими еще до начала весеннего наступления советских войск. На всем ее протяжении фашистские части сдерживали наступление армии Владыкина. Они могли рапортовать, будто война здесь приобрела вполне определенный позиционный характер. Но Суслов со своего тихоходного самолета, идущего на бреющем полете над степью, отчетливо видел перемены, происходившие в тылу советских войск.
Он видел отдыхающих в балках конников, видел перелески, где укрывались сотни автомашин, видел колонны пехотинцев, двигавшихся по дорогам, а лучше сказать, по бездорожью: в одном случае вдоль русла полноводной степной речушки, в другом — по оставленной немцами рокадной дороге, в третьем — по проселку, соединявшему когда-то два больших села, от которых остались только черные проплешины на начавшей зеленеть земле.
От Колосужа, где продолжалась ленивая перестрелка после только что отбитой нашими войсками вражеской атаки, самолет повернул строго на юг.
На ограниченной речкой Суж линии фронта было спокойно. На второй линии наши бойцы отрывали окопы. Даже сверху было видно, что работали они без вдохновения, медленно, будто знали, что ненадолго задержатся на этом рубеже.
Снова блеснул Днестр, еще более широкий и полноводный в этих местах, залитый солнцем и сам желто-золотой, кривой, как турецкая сабля. Самолет пошел вниз. На минуту стали видны огромные стаи птиц возле кромки плавней. Когда смолк мотор, послышался крик лебедя, гусиный гогот, в лицо пахнуло влагой. Суслов вылез на крыло самолета, потом спрыгнул на землю, навстречу штабному офицеру, уже ожидавшему его.
Ночью армия Владыкина форсировала Днестр и теперь теснила немцев к югу, чтобы обезопасить свои переправы от огня вражеской артиллерии. На этом участке против армии Владыкина сражались части союзников Гитлера, и только после прорыва русских немцы начали подбрасывать свои резервы на помощь войскам союзников. Но по-видимому, этот отвлекающий удар не испугал Ауфштейна, так как резервы, судя по донесениям разведки и показаниям пленных, поступали сюда в ограниченном количестве.
Владыкин был на правом берегу Днестра, и встречающий капитана офицер извинился: аэродрома там еще нет, придется переправляться на лодке.
Как и в дивизии Ивачева, здесь строились переправы, наводились понтоны. Всюду: и в камышах, и в кустах, и за хатами — размещались зенитные батареи. Два налета вражеских бомбардировщиков были отбиты. На отмелях торчали обломки трех самолетов, постепенно заливаемый водой.
Суслов переправился через реку, прошел по берегу мимо сменившихся после штурма частей. Тут все напоминало табор: жаркие костры, развешанное на веревках и кольях обмундирование, дымящиеся кухни. Но за всем этим чувствовался строгий воинский порядок.
Владыкин ждал мусаевского посланца в немецком блиндаже, уцелевшем при огневом налете. Прежние обитатели блиндажа бежали так поспешно, что побросали машины, танки, коней.
Генерал-лейтенант Владыкин, пожилой, неулыбчивый и малоразговорчивый, был известен своей неустрашимостью в бою. Он всегда охотно шел на рискованные операции, которые, как правило, кончались успехом. Молодые офицеры считали за честь служить под его началом. Участник гражданской войны, знаток южного театра, мастер кавалерийских рейдов, Владыкин любил задумать и осуществить маневр, который по самой своей неожиданности казался невозможным.
Но служить с ним было тяжело. Крутой нрав и властность Владыкина были известны, пожалуй, не меньше, чем его храбрость. Не любил он также быть участником дела, задуманного не им. Жила в нем какая-то завистливость по отношению к отличившимся товарищам. Он мог, например, вдруг сказать о прославленном генерале, что тот еще сосунок, да и дельце, которое он провел, не так уж велико, раздули его там… «Там» — это значило в штабе фронта. Штабных работников Владыкин вообще недолюбливал.
Суслов хотя и не был лично знаком с Владыкиным, слыхал об этой черте его характера. Он все раздумывал, как ему держаться с этим вспыльчивым человеком. Служба в штабе приучила его быть внимательным к мелочам, улавливать настроения людей по еле заметным деталям. С другой стороны, он привык к тому, что с ним, штабным офицером, считались независимо от его невысокого воинского звания. Он шел к Владыкину, надеясь, что аудиенция будет непродолжительной.
У входа в блиндаж командующего Суслов и провожавший его лейтенант встретили кавалерийского офицера с багровым лицом, вспотевшего и растерянного. Офицер, сняв фуражку, вытирал лицо платком. Провожавший Суслова лейтенант приостановился, шепотом спросил:
— Ну что?
— Бушует! — ответил офицер, покосившись на дверь. Угадав в Суслове человека постороннего, он повернулся и быстрым шагом пошел прочь от блиндажа.
Провожатый пожал плечами, открыл дверь, сказал Суслову:
— Проходите, пожалуйста, а у меня есть еще одно дельце…
Суслов шагнул, наклонив голову, и очутился в низкой землянке, разделенной бревенчатой стеной, обшитой цветной фанерой. Из-за стенки слышался басовитый громкий голос. В первой комнате сидели несколько человек, ожидая приема. Но вот один из них нервно оглянулся, взял фуражку и вышел. Другой тоже шагнул к двери, по оклик из-за перегородки: «Петровский!»— будто пригвоздил его к месту. Он растерянно улыбнулся, оглядел присутствующих и скрылся за цветной перегородкой. Оттуда вскоре послышалось:
— Ну, где там посол от Мусаева? Прилетел или нет? Если нет, давайте им радиограмму, чтобы в следующий раз Мусаев сам приезжал! Он еще сосунок против меня, мог бы и уважение оказать!
— Офицер связи от Мусаева здесь, товарищ генерал! — понизив голос, чтобы дать понять командующему, что Суслов слышит, сказал Петровский. Но басовитый голос Владыкина не стал тише:
— Давайте его сюда! Что он, порядка не знает?
Петровский чуть приоткрыл дверь и позвал:
— Капитан Суслов…
Широкий, почти квадратный старик невысокого роста, с острым, словно птичьим, лицом, поднялся навстречу Суслову. Капитан невольно подумал, что на коне Владыкин выглядел бы внушительнее. Впрочем, внушительности у него было достаточно. И голос, и резкие черты лица, покрытого каким-то багровым румянцем, и сильные толстые руки, и выпуклая грудь — все было внушительно. Суслов отрапортовал и подал Владыкину письмо Мусаева.
— Знаю, знаю, — ворчливо произнес старик. — Маршал уже написал мне. А не значит ли это, что без меня, старого воробья, они мякины боятся?
Суслов промолчал, не зная, что ответить. Генерал подозрительно взглянул на него, разорвал конверт и медленно прочитал письмо. Снова посмотрел на Суслова.
— Батушани! Батушани! — зло сказал он. — Какого черта им надо в этом паршивом городишке? У меня под носом Кишинев, понимают они это?..
— Простите, товарищ генерал-лейтенант, — не выдержал Суслов. — Удар на Батушани обеспечивает окружение всей массы войск Ауфштейна…
— Что вы понимаете, капитан?! — взорвался Владыкин. — Им идти всего шестьдесят верст до этого паршивого Батушани, а мне двести. По-моему, если фашисты бегут, это уже хорошо! Тут надо рвать фронт, не давать им покоя, а маршал пишет… — Он побагровел от негодования, но удержался, швырнул письмо на стол. — Идите обедать, капитан, ответ будет готов через полчаса.
Суслов вышел из блиндажа в состоянии крайнего недоумения. В столовой он попытался расспросить офицеров о подготовке к рейду. Однако они молчали. Или генерал еще ничего не говорил им, держа все в голове, — Суслов слыхал, что есть у Владыкина и такая черта: давать готовое решение и ни с кем не советоваться, — или же запретил им разговаривать с представителем чужого штаба.
Едва капитан вышел из столовой с намерением пройти по селу, как его разыскали и вручили письмо. Больше он Владыкина не видел…
17
Двадцать первого марта генерал фон Клюге, начальник разведки армии Ауфштейна, попытался предостеречь фельдмаршала. По его данным, русские накопили значительные резервы в самом ближнем тылу, подтянули танки и кавалерию, навели несколько переправ у Колосужа, которые используются только ночью, — на день саперы разводят мосты и прячут в плавнях…
Ночью фельдмаршал разговаривал со ставкой. Старый друг фельдмаршала Браухич, услышав, что фронтальное давление русских на город Липовец почти прекратилось, на мгновение умолк. После паузы его голос зазвучал более сдержанно:
— А тебе не кажется, Карл, что это ловушка? Русские форсировали Днестр во многих местах, и хотя все эти, как они называют, «пятачки», — последнее слово Браухич произнес по-русски, — не больше оспенных пятнышек, уничтожить их не удается…
— Что же ты предлагаешь? — сердито спросил Ауфштейн. — Оставить это великолепное предмостное укрепление и отойти за реку?
Они не боялись подслушивания. Каковы бы ни были средства подслушивания у гестапо, высокочастотные телефоны им пока еще не подконтрольны. Браухич опять помолчал, потом осторожно сказал:
— Генерала Мусаева может поддержать Владыкин. Он тоже зацепился за правый берег Днестра…
— Ты лучше меня знаешь, что Владыкин целится на Кишинев. А это уже дело ставки — отбить у старика всякую охоту овладеть Кишиневом…
— А вдруг за спиной Мусаева действует весь фронт?
— Мусаев — безвестный генерал, — раздраженно сказал Ауфштейн. — Кто станет ставить на темную лошадку?
— Генералы становятся известными после победы! — ответил Браухич известной сентенцией.
Ауфштейну надоело это бесцельное препирательство, и он сердито сказал:
— Тогда попроси у фюрера разрешения отвести мои дивизии и пришли мне этот приказ!
Ауфштейн не хуже, чем Браухич, знал, каково придется тому, кто обратится к Гитлеру за таким приказом. Два года непрерывного отступления на Восточном фронте — пусть с боями, с временными успехами, но все равно отступления — так вымотали нервы фюрера, что самый малый успех Ауфштейна сделал бы фельдмаршала героем. И хотя с точки зрения стратегии держать в такой опасный момент за Днестром целую армию было явной роскошью, Браухич промолчал. Разговор перешел на штабные новости, на семейные дела, и Ауфштейн даже обиделся: он предлагал план великолепного прорыва, разгром армии противника, а его занимали разговорами о лучшей партии для младшей дочки Браухича. Только в конце беседы Браухич сказал;
— Я доложу фюреру о твоем плане и постараюсь выцарапать для тебя все возможные резервы. Но не зарывайся! Под Курском Глобке был примерно в таком же выгодном положении, а чем это для него кончилось?..
Ауфштейн поморщился: напоминать о разгроме под Курском было бестактно.
Раздражение, вызванное этим разговором, кончилось бессонницей, бессонница перешла в сердечный приступ, а утром фельдмаршал был склонен считать всех своих коллег и помощников по меньшей мере трусами и нытиками. Таким образом, доклад фон Клюге произвел совершенно обратное действие. Если до доклада фельдмаршал еще раздумывал, стоит ли рисковать, то теперь ему стало казаться, что именно на него и указал перст господний как на будущего спасителя Германии. В самом деле, стоящие в приднестровских низинах танки русских еще долго будут скованы бездорожьем, а степь, на которой Ауфштейн развернет свое наступление, скоро совсем обдует ветром, тут-то и можно будет начать разгром неприятеля…
Фон Клюге не пытался больше предупреждать фельдмаршала, огорченный его немилостью. Он воевал вместе с Ауфштейном начиная с испанского похода и знал, как опасен экселенц в раздражении.
К тому же на начальника разведки свалилась еще одна неприятность — ему доложили, что на правом берегу Днестра, у железной дороги, запеленгована русская радиостанция. Станцию пеленгаторы не захватили, но дешифровщики утверждали, что речь в передаче шла о продвижении войск. Станция называлась «Галька». Как известно, это слово имеет в русском языке два значения: мелкий прибрежный камень и женское имя. Не говорит ли это название о том, что русские намереваются столкнуть армию Ауфштейна в Черное море? Или прифронтовая полиция должна хватать всех русских женщин с именем Галька и расстреливать? Примерно так выглядел запрос, полученный по поводу радиоперехвата от начальства СД и СС.
Утро у фельдмаршала выдалось весьма трудным. По всей линии фронта, от Липовца до Колосужа, продолжались бои. Дивизии Скворцова и Демидова хотя и прекратили давление, но все атаки отбивали, столкнуть их с занимаемых рубежей, казалось, невозможно. Далеко на юге, где армия Ауфштейна соприкасалась с армией Владыкина, чувствовалось давление русских. Правда, там Владыкин нажимал в основном на войска Хольцаммера. Видно, действительно надеется вырваться к Кишиневу. Но все равно это давление вызывало у Ауфштейна известную настороженность. Утешало лишь то, что «неоднократно битый» им генерал Мусаев осторожничает, видимо, знакомится с войсками и командирами, а это лучшее время для разгрома его дивизий. Войска еще не доверяют новому полководцу, офицеры не свыклись с его стилем руководства, если у этих русско-татарских варваров существует такое понятие, как стиль…
К полудню стали поступать данные о том, что в расположение Ауфштейна направлены новые части: Браухич сдержал слово. Группа снабжения сообщала, что артиллерийские склады начинают пополняться. Прилетел командир артиллерийского корпуса для согласования действий. По прямому проводу доложил о себе командир танковой бригады: бригада заканчивает комплектование, завтра к вечеру погрузится и выедет в Краснополь…
После обеда фельдмаршал успел немного поспать и к вечеру был снова деятельным, способным к шутке и острому слову, таким, каким его любили видеть ближайшие сотрудники. Перед ужином он удалился в свои покои, пригласив лишь начальника штаба. Это предвещало некие перемены, о которых приближенные пока что говорили шепотом. В атмосфере общей неуверенности, в какой фашистская Германия встречала весну сорок четвертого года, даже улыбка высокого начальника выглядела утешением…
Ауфштейн занимал небольшой особняк, в котором до войны располагались детские ясли. Здание понравилось квартирмейстеру его армии тем, что вокруг был огромный фруктовый сад. Особняк даже отремонтировали, и фельдмаршал остался доволен. Тут были собственная кухня, большая столовая, комнаты для гостей и хозяина, кабинет, в котором сидели сейчас высокие собеседники, а внизу, в подвальных помещениях, располагалась охрана.
Ауфштейн и начальник штаба обсуждали лишь один вопрос: направление главного удара.
С выступа, занимаемого войсками Ауфштейна, можно было действовать и на юг, против армии Владыкина, и на север, против армии Мусаева. Но начальник штаба отлично знал о вражде между Ауфштейном и Хольцаммером, знал о прежних встречах Ауфштейна с Мусаевым, и, хотя удар на юг представлялся ему более выгодным, он невольно покривил душой. Ауфштейн, давно уже представивший себе все возможные варианты наступления, благодарно угощал начальника штаба коньяком, сигарами, старыми и новыми сплетнями о приближенных фюрера, чувствуя в то же время острое сердцебиение, чем-то странно похожее на то, какое он испытывал в молодости, отправляясь на свидание с женщиной, у которой, как он знал, ревнивый муж. Сейчас предвкушение неудачи, а тогда боязнь внезапного раскрытия интриги пугали его и в то же время безмерно привлекали именно своей опасностью…
Начальник штаба отлично видел и понимал возбуждение шефа. Но выражать сомнения считал предосудительным. Он не хуже Ауфштейна знал, что самый малый успех может вознести их обоих на недосягаемую высоту: победителей, пусть их успех будет временным, обязательно увенчают и лаврами, и митрами. Что будет потом, известно одному богу. Не стоит заниматься прорицаниями простому смертному! Так уж повелось в германской армии с давних пор: прорицателей, если они предвещают дурное будущее, побивают камнями…
Ауфштейн рассматривал тщательно вычерченную схему будущего удара. От Липовца на север черная стрела прорезала фронт, охватывая дивизию Ивачева. Это означало ликвидацию опасного плацдарма на правом берегу Днестра, уничтожение прорвавшейся за реку русской дивизии.
Вторая черная стрела прорезала фронт в южном направлении. Если Хольцаммер поймет, как много даст неожиданное наступление на участке Ауфштейна, он ринется навстречу его войскам через степи Приднестровья, и вторая ловушка захлопнется. Хорошо бы захватить при этом армейский штаб Мусаева и его самого, свежеиспеченного командующего армией. Вот была бы веселая встреча!
Ауфштейн улыбнулся при мысли об этом. Его суховатое, без лишнего жира, узкое лицо с длинным острым носом несколько даже порозовело от этой приятной мысли. Но тут взгляд фельдмаршала остановился на южном фланге армии. Лицо Ауфштейна сразу посуровело:
— А что, если Владыкин, вопреки нашим предположениям, ударит на север?
— Владыкин властолюбив и чванлив! Он никогда не пойдет на поводу у такого безвестного генерала, как наш противник. А пока Мусаев свяжется со своим командованием, будет уже поздно. Владыкину останется лишь отойти обратно на восток, если он не захочет сам попасть в «котел»…
В этот момент начальник штаба выглядел как подлинный оракул. Впрочем, беспокоиться не о чем: удар подготовлен отлично.
18
Начиная с двадцать второго марта в небе, впервые после долгого перерыва, начали появляться немецкие самолеты-разведчики. Один из них был сбит.
На проявленной фотопленке, которую нашли на сбитом самолете, были ясно видны рокадные дороги вдоль всего расположения армии Мусаева. На дорогах, ведущих в расположение дивизии Ивачева, были сфотографированы какие-то запоздавшие пехотные подразделения и несколько танков. Мусаев, просмотрев пленку, приказал прекратить дневное передвижение войск. А так как весенние ночи становились все короче, следовало искать места для укрытия запоздавших на марше колонн и обозов.
Мусаев вызвал Барсукова и его помощников.
Начальник тыла за последнюю неделю исхудал так, что щегольской мундир на нем обвис складками. Не лучше выглядели и его помощники. Только Тимохов держался ровно, спокойно, будто давно уже привык не спать по ночам, быть в постоянном движении.
Генерал приказал закончить передвижение войск и грузов в три дня.
Тимохов, получив в свое распоряжение несколько десятков бойцов из батальона ВАДа[4], выехал на рокадную дорогу, по которой перебрасывались резервы в дивизию Ивачева. В балках и оврагах были растянуты маскировочные сети: под их защитой отсыпались днем уставшие шоферы, перевозившие снаряды. Тут же располагались бивуаком части, не успевшие затемно добраться в назначенные места.
На одной из этих временных стоянок Тимохова отыскал капитан Суслов…
В те редкие дни, когда Тимохов находился в расположении штаба армии, он по привычке приходил ночевать к Суслову. Капитана заставал редко. Иногда все же они встречались, вместе обедали, но дружбы между ними не получалось. Тимохов помнил высокомерный разговор Суслова с Казаковой, нечаянным свидетелем которого был, и осуждал капитана за это высокомерие. Ему, влюбленному в Галину безнадежно, казалось, что он все простил бы Суслову, если бы тот искренне желал сделать девушку счастливой. Но Суслов держался столь отчужденно, что ни о каком счастье для Галины тут не могло быть и речи.
И потом эти письма, адресованные в город, занятый противником. Значит, капитан отдал сердце навечно той женщине, которая осталась в Липовце, и если она еще жива, то никогда Суслов не откажется от этой любви. А как же тогда Галина?
Тимохов воевал четвертый год. Он знал, что и на войне наши люди ведут себя соответственно тому, что они люди, а не звери. Все грубое, злое, что принес миру фашизм в своем стремлении к господству, не могло убить неясности человека, его поиска счастья, любви, его надежд и радостей. И на войне люди влюблялись, дружили, даже женились, даже рожали детей. Женщины, волей судеб или по собственному желанию ставшие солдатами на этой войне, жаждали человеческой ласки, участия, нежности. Мир человеческих чувств, пусть и сжатый дисциплиной, рамками уставов и приказами, продолжал существовать, принося порой людям излишние страдания. Но Тимохов не мог не понимать, что этот мир чувств столь же важен для человека, как мужество, храбрость и гнев, обращенные против врага. Чувства помогали советским солдатам оставаться людьми… Он простил бы Гале и Суслову их любовь, преодолел бы свое горе, лишь бы любовь эта была счастливой. Но несчастной любви он простить не мог, хотя и старался понять Суслова, продолжая уважать его за деятельность ума, за работоспособность. Вот только поговорить с ним по душам он не умел, хотя и чувствовал, как важно для него понять капитана, — может быть, тогда он еще чем-то поможет Гале…
Если бы Тимохову сказали, что это его стремление происходит из-за самоотречения, может быть, не только ненужного девушке, ради которой он готов пожертвовать своей любовью, а скорее всего, даже обидного ей, он бы удивился. Ведь он хотел только одного: чтобы любимая им девушка была счастлива. Тем более что на войне многие люди умирают, так и не успев испытать счастья. Была же она ранена. А если другая пуля заденет сердце?..
Он боялся думать об этом, но все-таки с тревогой вспоминал, что Галя снова вернулась на передовую. За себя он не боялся. Ему почему-то казалось: он находится так далеко от подлинной опасности, что несчастья войны не коснутся его. И все действительные и мнимые опасности примерял только к Гале…
Поздоровавшись с Тимоховым, Суслов передал приказание начальника штаба и короткую записку командарма. Майор с удивлением прочитал: ему предлагалось все находившиеся в пути обозы с артиллерийскими снарядами повернуть на Липовец…
Не требовалось больших военных знаний, чтобы понять: немцы атакуют или вот-вот начнут атаковать дивизию Скворцова.
До сих пор все усилия Тимохова были направлены на то, чтобы перебросить максимум военных грузов на крохотный правобережный плацдарм, занятый дивизией Ивачева. Теперь эти усилия могли обернуться против Тимохова и против замысла командарма. Если гитлеровцам удастся смять дивизию Скворцова, они выйдут на оперативный простор где-то в тылах у Ивачева, и тогда все эти горы боеприпасов станут их трофеями. Но ни в приказе начштаба, ни в записке командарма ничего не говорилось об этих тщательно укрытых складах. Тимохову вменялось в обязанность только переадресовать грузы, находившиеся в пути.
— Устные распоряжения имеются? — спросил Тимохов для порядка.
— Да. Резервные подразделения, идущие в распоряжение полковника Ивачева, направлять по назначению.
Тимохов неприметно вздохнул: начальству, мол, виднее. Ему дано знать больше!
Майор позвал своего помощника, что-то сказал ему, и обозники, прятавшиеся до того под маскировочными сетями, вскоре задвигались; послышалось ржание усталых коней, зафыркали тягачи. Тимохов постоял немного, наблюдая это быстро начавшееся движение, и спросил:
— Вы от Ивачева сейчас приехали, товарищ капитан?
— Да.
— Галину Алексеевну там не видели? Как ее здоровье?
— Казакова ушла, — сухо отрезал Суслов.
Тимохова развернуло словно пружиной. Он напряженно вглядывался в узкое темное лицо капитана, силясь понять, что тот сказал:
— Как ушла? Куда?
— Туда, — неопределенно махнул капитан рукой и пояснил: — В тыл к немцам, в глубокую разведку.
— Но она же ранена!
— Бывает, что на войне даже убивают, — насмешливо напомнил Суслов. — Ваша землячка — она ведь, помнится, и вам землячка, и генералу чуть ли не родственница — изъявила желание сама! А переспорить женщину вряд ли кто сумеет…
И такое отразилось на его лице безразличие, что Тимохов понял: капитан тоже недоволен уходом Галины, и, может быть, он больше других отговаривал ее от этого опасного дела, спорил с нею, но ничего не вышло.
Суслов мельком взглянул на Тимохова и, принимая снова насмешливый тон, заметил:
— Э, майор, как вас перевернуло! Вот что значат родственные связи и землячество! Но вы не волнуйтесь, она жива-здорова. Если хотите знать, так она и виновата в ваших сегодняшних заботах. Скажу больше, она еще доставит вам немало неприятных минут. Это она передала откуда-то из-под Липовца, что завтра гитлеровцы предполагают начать атаку позиций дивизии Скворцова… — И вдруг совсем другим, странно тоскливым голосом добавил: — Эх, черт, хоть бы дождь пошел, что ли!
Тимохов оглядел ровную степь, залитую вечерним солнцем. Она вся еще исходила паром после долгого жаркого дня. И он понял мечту капитана о дожде. Подсохшая земля будет хорошо держать немецкие танки, а капитал побаивался за исход будущего сражения. Этого соображения было достаточно, чтобы Тимохов, торопливо простившись с Сусловым, пошел к своему коню. Надо было в оставшееся до сумерек время созвониться с начальником склада, с железнодорожниками, с перевалочными базами, чтобы отправить к Скворцову как можно больше военных грузов.
19
Фельдмаршал Ауфштейн возвысился над окружающими, опираясь на три столпа веры: он верил в бога, в фюрера и в свое везение.
Именно везение и толкнуло штабного офицера Ауфштейна в объятия бывшего ефрейтора кайзеровской армии, когда тот учинил первый путч против веймарской республики. «Пивной путч» не удался, будущий фюрер был посажен в тюрьму, но он запомнил ретивого офицера, пытавшегося тогда помочь ему и делом, и советом. Впоследствии Гитлер лично вручил Ауфштейну золотой знак старейшего члена партии национал-социалистов.
Подобострастное преклонение перед фюрером привело Ауфштейна к высшим военным званиям и должностям.
Переменчивый нрав фюрера не давал жить спокойно. Гитлер порою и самых близких любимцев превращал в «козлов отпущения». Сам он должен был оставаться гениальным вождем, прозорливейшим из смертных, величайшим из стратегов прошлого и настоящего, и потому за каждую его ошибку кто-то должен был расплачиваться. А суд у Гитлера был короткий и немилостивый…
Но когда в ставку Ауфштейна просочились слухи о том, что «методы Гитлера устарели», что лучше было бы, если бы и военные, и гражданские дела в стране взял в свои руки генералитет, что Германия не выдержит битвы на два фронта, фельдмаршал не преминул донести об этих слухах до сведения (конечно, не фюрера: фюреру такое боялись говорить!) Мартина Бормана, являвшегося вторым после фюрера лицом в нацистской Германии.
О том, что возмущение генералитета бездарным управлением Гитлера все увеличивается, Ауфштейн знал отлично. Высшие генералы не очень доверяли и ему самому, не без основания считая, что он получил милости Гитлера за «особые» заслуги. Тем не менее Ауфштейн был отпрыском известной дворянской семьи, давшей Германии многих крупных военачальников, был в родстве с другими такими же семьями. А в семейных разговорах не стеснялись в оценке «военного таланта обожаемого фюрера». Грозная атмосфера тайного заговора витала в воздухе.
Однако Ауфштейн верил во всесилие гестапо и особого страха не испытывал. Пока что Германия воевала на чужой территории. К тому же слухи о создании нового грозного оружия вселяли дополнительную бодрость. Что касается гибели армий Паулюса и Манштейна, то, как считал Ауфштейн, этим полководцам просто не повезло. Словом, было много объективных причин, которые оправдывали временные неудачи. А что эти неудачи временны — порукой тому бог и фюрер…
Двадцать пятого марта Ауфштейн перебросил свой штаб в самое острие широкого клина, врезанного в расположение советских войск на левой стороне Днестра, — в маленький городок Липовец. Отныне Липовец, по мнению «старейшего национал-социалиста», должен был стать историческим местом, откуда войска великой Германии начнут новое наступление в скифско-славянские степи. Ко дню предполагаемого наступления окрестности Липовца были так заселены резервными частями, что нельзя было и шагу ступить, чтобы не наткнуться на пехотинцев, танкистов, артиллеристов, минометчиков. Верховная ставка Гитлера, приняв план Ауфштейна, не поскупилась на пополнения.
Наступление должно было начаться утром двадцать седьмого марта. А вечером двадцать шестого Ауфштейну доложили, что один из оперативных офицеров штаба, отправившийся в инспекторскую поездку по фронту, не вернулся в штаб. Его машина, как выяснилось при расследовании, была взорвана, шофер и сопровождавшие его два автоматчика убиты. Что произошло с самим офицером, неизвестно, так как ни его трупа, ни портфеля с документами на месте взрыва не оказалось. В тот же вечер радиостанция с позывными «Галька» передала какую-то короткую радиограмму. Запеленговать рацию и расшифровать передачу не удалось.
Ауфштейн срочно вызвал к себе начальников управлений и отделов штаба. Он редко советовался с кем-либо о своих замыслах. Но в этот раз нарушил правило — положение было слишком серьезным. Мнения вызванных фельдмаршалом генералов и офицеров разделились. Ауфштейн с явным неудовольствием слушал, как лучшие его офицеры, провоевавшие вместе с ним три зимних кампании на Восточном фронте, предлагали отложить наступление и ограничиться лишь артиллерийско-минометным налетом и бомбометанием по переднему краю противника. Если советское командование успело получить предупреждение от своих разведчиков, говорили они, то прорыв не удастся и армия понесет большие потери. Зато командиры резервных частей, переброшенные в район Днестра из Болгарии, Югославии и Австрии, горели желанием отличиться…
В конце обмена мнениями Ауфштейн произнес длинную речь о традициях великой германской армии.
— Что может сделать генерал Мусаев, если он получит донесения своих разведчиков? — спрашивал он собравшихся и сам отвечал: — Почти ничего. Во-первых, командир группы радиоперехвата утверждает, что «Галька» передала всего лишь одно или два слова. Значит, речь идет не о передаче захваченных документов. Это может быть лишь предупреждение. В состоянии ли Мусаев привести в движение свои войска, если даже он знает час возможного прорыва? Бросит ли он войска на марш, когда вот-вот начнется наступление. Он не такой уж безмозглый, этот советский генерал, которого Ауфштейн бил дважды и надеется побить в третий, последний раз. Мусаев будет с фаталистическим упорством ждать…
Затем фельдмаршал еще раз проанализировал положение на фронте.
Перед свежими войсками прорыва находится потрепанная и обескровленная дивизия генерала Скворцова. Мусаев, ослепленный удачным наступлением своего предшественника, собирается воспользоваться плодами этого успеха и перебрасывает свои лучшие части на правый фланг. Вот тут-то и постигнет этого выскочку поражение. Стоит фельдмаршалу и его войскам разорвать тонкую ниточку советских укреплений, как откроется широкий оперативный простор для решительного наступления, и тогда славные германские солдаты загонят всю группу Мусаева в «мешок». И то, что Мусаев считает условием победы, окажется условием поражения…
Фельдмаршалу вежливо улыбались и противники его плана, и те, кто был рад принять участие в будущей «победоносной» операции. План вступил в силу. Теперь он становился приказом, оспаривать который — преступление.
Двадцать седьмого марта, ровно в пять ноль-ноль, весь передний край немецкой оборонительной линии взревел огнем и металлом. В пять тридцать окопы и траншеи советских войск, а также их ближайшие тылы были подвергнуты массированной бомбардировке с воздуха. В пять сорок пять немецкие гренадеры пошли на прорыв, следуя за смертоносным огненным валом.
Ауфштейн находился в блиндаже дивизионного штаба, в непосредственной близости к району прорыва. В пять пятьдесят он получил донесение; штурмующие части достигли первой линии советских окопов. Сопротивление русских подавлено.
Было, однако, странно, что в донесении ничего не говорилось о пленных. Обычно во время первого удара удается захватить наибольшее количество пленных. Оглушенные, контуженные, еще не пришедшие в себя, такие пленные дают самые ценные показания. Ауфштейн приказал немедленно доставить захваченных в плен русских солдат, а еще лучше офицеров…
В шесть ноль-ноль командир одного из пехотных полков сообщил, что ни на первой, ни на второй линиях обороны противника он не встретил сопротивления. Отдельные уцелевшие дерево-земляные укрепления русских, осмотренные им, оказались пустыми. Судя по всему, русские отошли в полном порядке задолго до начала артподготовки.
В шесть пятнадцать штурмующие части, преодолев адское напряжение первого броска и не встретив ни малейшего сопротивления, потеряли тот подлинный наступательный порыв, который даже трусливого солдата делает на короткое время героем. И именно в тот момент, когда ошеломленные своим ударом в пустоту войска Ауфштейна в значительной мере утратили наступательный порыв, вдруг ожили, заговорили наши минометные и артиллерийские батареи, многочисленные пулеметные точки. Все, что считалось уничтоженным, подавленным, с невиданной силой обрушилось на наступавших.
Ауфштейн отлично знал закон наступления, разработанный еще Мольтке и Клаузевицем: троекратное превосходство в силах и средствах. На участке прорыва он сосредоточил не троекратное, а пятикратное превосходство. И все-таки его роты, батальоны, полки остановились, залегли в голой степи перед неожиданно возникшей впереди новой оборонительной линией русских или медленно отползали назад, в разрушенные ими же окопы. Теперь трудно поднять эти деморализованные части в новую атаку. Надо подтягивать артиллерию, снова вызывать самолеты, которые в этой суматохе могли отбомбиться и по своим частям, так как русские умудрились создать некое подобие слоеного пирога.
И действительно, в ряде мест наши подразделения вклинились в ряды наступавших и остановившихся гитлеровцев; кое-где немецкие роты прорвались далеко вперед и оказались в окружении…
Так вот что означали радиограммы безвестной рации «Галька»: русские знали о готовившемся наступлении, точно знали о времени и месте предполагаемого прорыва…
Ауфштейн молча подписал для ставки Гитлера реляцию о начале прорыва и о захвате первых линий русских оборонительных сооружений, отдал приказ танковому корпусу и частям танкового десанта войти в прорыв.
Теперь все зависело от бога. Больше нельзя было надеяться ни на Гитлера, ни на себя, ни на храбрость солдат фюрера…
20
В семь ноль-ноль танки прорвались через русский заслон. Но неведомо откуда появившиеся советские автоматчики отсекли брошенный вслед за ними полк прорыва и навязали десантникам затяжной бой. Танки, продвинувшись на шесть километров, были встречены огнем артиллерии и танков корпуса Городанова. Их можно было выручить из ловушки только фронтальной атакой. И Ауфштейн ввел в дело резервы.
По плану резервные части должны были сменить наступавших на второй день, когда выяснится глубина прорыва. Теперь тщательно разработанный план рушился — полки ввязывались в длительное сражение, и неизвестно было, что от них останется к концу первого дня. Фельдмаршал приказал любой ценой пробить заслон русских…
К вечеру второго дня сражения, 28 марта, наметились первые успехи. Войска прорыва продвинулись в двух направлениях до десяти километров. Командиры полков и дивизий доносили, правда, что советские войска продолжают ожесточенно сопротивляться. Но фельдмаршал знал: с наибольшим ожесточением сопротивляются отчаявшиеся. После двух дней волнений он начинал верить, что поставил армию Мусаева в безвыходное положение. Не все, конечно, сложилось так, как хотелось бы, но успех уже обозначился.
Танковый корпус прорвался наконец через засаду, устроенную танкистами генерала Горрданова, и вышел на оперативный простор к югу от Липовца. Прусские егери силами до двух дивизий протаранили оборону противника и продвинулись на север от Липовца, почти намертво перехватив все дороги, по которым поступали подкрепления и боеприпасы в дивизию Ивачева на правый берег Днестра. Можно было ожидать, что Ивачев вот-вот начнет переправляться обратно, чтобы выбраться из «мешка», который егеря могли в любую минуту «завязать».
Но все-таки что-то беспокоило фельдмаршала, сидевшего в своем подземном кабинете и рассматривавшего начерченные с чисто немецкой аккуратностью схемы операции. Он так долго и отрешенно смотрел на карту-двухкилометровку, на которой разными красками были нанесены последовательные этапы прорыва, что у него зарябило в глазах, и в эту минуту вдруг почудилось, что перед ним два темно-голубых воздушных шара, устремившихся в разные стороны, раздувшихся до предела, тогда как горловины шаров сжаты жесткой рукой. Если острые ножницы перережут нити, поддерживающие шары, все исчезнет в зеленом пространстве бескрайних скифских степей…
Только теперь он отдал себе отчет, что вот уже несколько минут приглядывается к узким горловинкам прорывов в обоих направлениях. Создавалось такое впечатление, что обе эти горловинки были открыты сознательно и противник каждую минуту мог заткнуть их. Тогда лучшие полки фельдмаршала окажутся в самом настоящем «котле», стенки которого достаточно плотны и крепки, чтобы выдержать любое давление.
Ауфштейн порывисто отодвинул от себя карту, позвонил начальнику штаба, попросил его срочно зайти с последними донесениями.
Начальник штаба всегда держался так, словно именно с него художники писали портреты образцового прусского офицера. Даже в дни тяжелого весеннего отступления он показывал пример бодрости и спокойствия. Но сейчас выглядел взволнованным, усталым. Ауфштейн, намеревавшийся начать резкий разговор, невольно встал из-за стола, пошел навстречу своему давнему соратнику, усадил его за маленький овальный столик, налил две рюмки коньяку.
— Майн гот, мой Френцель. Вы выглядите так, словно не наши солдаты сейчас окружают ставку Мусаева, а солдаты Мусаева подбираются к нашему штабу! — пошутил фельдмаршал.
Начальник штаба вместо ответа постучал костяшками пальцев по столу.
— Вы еще верите в приметы? — с некоторым усилием улыбнулся Ауфштейн.
— Я уже не знаю, во что надо верить в этой проклятой войне!
— В прозорливость нашего фюрера и в доблесть нашего солдата! — несколько высокопарно сказал Ауфштейн. Он знал власть этих слов: недаром ими начинались и кончались все приказы по армии. И начальник штаба подчинился этой магии слов:
— Простите, шеф, но у меня из головы не выходят эти позиции у села Великое. Сегодня пехотинцы Шварцбаха шесть раз атаковали позиции русских у Великого, но безуспешно.
— Великое, Великое? — как бы припоминая, повторил Ауфштейн, хотя и без карты помнил эту черную точку в горловине северного прорыва. Он и начальника штаба вызвал только для того, чтобы через него приказать войскам взять это проклятое село.
— Еще хуже того, мой генерал, что южнее Липовца район прорыва не расширился, как мы ожидали, а даже сузился. Русские вернули деревню Светловидово вместе с «большаком» — так они называют свои грязные шоссейные дороги — и столкнули полк Динца, прикрывавший части прорыва, к реке Суж. А вдоль реки непролазные болота. Раненые, которых мы вынуждены эвакуировать по этим болотам, истекают кровью раньше, чем добираются до госпиталей. Между прочим, Светловидово называется так потому, что стоит на холмах. Теперь русские простреливают прицельным огнем весь участок прорыва… — Начальник штаба выпил свою рюмку коньяку и задышал часто-часто, словно внутри- у него все перегорело, пока он рассказывал эти неприятные новости.
Ни звука не доносилось извне в этот подземный кабинет. Даже ординарцы и вестовые находились далеко от генералов, за двойной дверью. Станции телефонной и радиосвязи размещались еще дальше. Прочие служебные помещения соединялись с кабинетом довольно длинным коридором, пол которого был покрыт войлоком и коврами. Все знали, что фельдмаршал любит тишину. И в этой тишине разговор о бое, о гибнущих солдатах звучал едва ли не кощунственно. Трудно было представить, что всего лишь в десяти-пятнадцати километрах отсюда идет ожесточенная битва, начатая по одному слову этого сухого, строгого, седого человека с орлиным профилем.
Ауфштейн, минуту назад смотревший на своего старого друга сочувственно, вдруг выпрямился в кресле и жестко сказал:
— Завтра с пяти утра произвести два удара: на Великое и на Светловидово. Без захвата этих ключевых позиций наш прорыв может захлебнуться!
Начальник штаба торопливо поднялся. Дружеский разговор закончился, начинался служебный.
В это мгновение в дверь тихонько постучали. Ауфштейн крикнул:
— Войдите!
Вошел начальник связи с пачкой расшифрованных телеграмм. Несколько растерявшись, он протянул телеграммы куда-то между начальником штаба и фельдмаршалом. Начальник штаба взял их, сухо сказал:
— Идите!
При взгляде на первую же телеграмму его губы сжались, все черты лица обострились. Фельдмаршал, заметивший эту перемену на лице начальника штаба, буквально выхватил у него из рук телеграмму.
Полковник Крамер с правого берега Днестра доносил, что в двадцать два ноль-ноль советские войска предприняли внезапную ночную атаку и прорвали оборонительные укрепления. В прорыв вошли свежие части, присутствие которых на фронте до сих пор не отмечалось. Отбив атаки в направлении на Краснополь, где находится железнодорожный мост, связывающий оба берега Днестра, Крамер не мог удержать противника на левом фланге, где его дивизия соприкасалась с румынскими частями, и теперь русские развивают успех в направлении на Батушани…
Фельдмаршал прошел к большому столу и склонился над картой. Батушани находился столь далеко в тылу, что назвать местную атаку «направлением на Батушани» можно было только со страху. Однако сама атака на правобережье была симптоматична. Или русские пытаются начать отвлекающие действия, чтобы выручить застрявшую группировку Ивачева, или у них теперь перевес в силах, какой нельзя было предположить.
— Начальника разведотдела под суд! — сухо сказал Ауфштейн.
Ночь только начиналась. Начинать ее таким жертвоприношением богу войны, как отдача под суд фон Клюге, показалось начальнику штаба чересчур жестоким, тем более что военные суды, с легкой руки гестапо, редко удовлетворялись меньшей мерой наказания, чем смертная казнь. Но он промолчал, только отметил несколькими закорючками приказ командующего, соображая между тем, что этот безжалостный удар несколько оберегает не только самого Ауфштейна, но и его собственное будущее. Разведка — глаза и уши командующего. Если глаза оказались слепыми, а уши — глухими, виноват, пожалуй, сам командующий. Но наказать самого себя труднее, чем подчиненного…
Оба они теперь смотрели на отмеченный на карте черными полосками узенький плацдарм русских на правом берегу Днестра. Итак, эта заноза, все время беспокоившая Ауфштейна, внезапно проникла в глубь тела германской армий, а если считать, как считает фюрер, что там, где находится германская армия, начинается и германская империя, то и в тело великой Германии. «Направление на Батушани»… Наверное, крепко перепугался полковник Крамер, если у него с языка сорвались эти слова! Пусть благодарит судьбу, что фельдмаршал не из робкого десятка. Иначе он мог бы приказать: «Вырвать у этого труса язык!» Именно так поступал, если судить по урокам истории, запомнившимся с детства, великий Барбаросса, услышав неприятное известие из уст гонца…
Как ни отгонял от себя начальник штаба эти нелепые опасные мысли, он нет-нет да и поглядывал на дверь, как будто ждал еще каких-нибудь неприятных вестей. И дождался.
Снова послышался тихий стук. На этот раз начальник связи с непонятной робостью и замешательством доложил:
— Телефонограмма!
Забирая у начальника связи телефонограмму и как бы продолжая разговор с Ауфштейном, начальник штаба подумал: «Я бы и сам расстреливал приносящих известия, подобные предыдущему. Но тогда у нас давно не было бы армии».
Прежде чем передать телефонограмму фельдмаршалу, он быстро прочел ее. Шварцбах сообщал, что ночной атакой у села Великое его полк рассеян, противник почти перекрыл горловину прорывай штаб разбитого полка отступает к Липовцу.
Начальник штаба взглянул на побледневшее лицо Ауфштейна и с досадой подумал: «Он тоже боится!» И когда в дверь снова постучали, грозно ответил:
— Подождите!
Ауфштейн резко выпрямился, сухо спросил:
— Что это значит?
— Эти разрозненные сообщения не дадут сколько-нибудь правильной картины событий. Разрешите мне самому ознакомиться с ними и потом уж предложить план действий. А пока, если вы позволите, я направлю подкрепление бедняге Шварцбаху…
— Беднягу Шварцбаха следовало бы расстрелять! — презрительно буркнул Ауфштейн. Он с трудом владел собой, губы у него дрожали. Но вот он справился с приступом гнева, чуть спокойнее сказал: — Идите. И ради бога, не забывайте, что за полком вашего бедняги Шварцбаха находятся лучшие егерские полки! Они не должны даже думать о том, что могут оказаться в окружении!
«Хороши же наши лучшие полки, если они боятся слова „окружение!“» — вновь на какое-то время обретая свойственную ему иронию, подумал начальник штаба. Но тут же гипнотическая сила этого слова овладела и им. Он вздрогнул, вспомнив, как улетал последним самолетом из-под Курска, молча склонил голову и вышел.
Ауфштейн, проводив его невидящим взглядом, поднял трубку, приказал позвать к телефону начальника связи.
— Что вы хотели мне сообщить? — спросил он.
— У Светловидова русские замкнули кольцо… Наши штурмовые части оказались в «котле»…
Фельдмаршал бросил трубку на рычаг телефонного аппарата с такой яростью, что запутавшимся шнуром опрокинул с письменного прибора чернильницу. Чернила растекались синими пятнами по столу, по карте, по схемам, покрывая так тщательно вычерченные черные стрелы, только что устремлявшиеся вперед, в тело русской армии, русской страны, русского народа… И никогда не веривший в приметы Ауфштейн судорожно ухватился обеими руками за полированную крышку стола. Только прикосновение к дереву, говорят, может отвести нечаянно вызванную воображением или кем-то накликанную беду…
21
Как только прорыв у Светловидова был замкнут частями дивизии Скворцова, танки Городанова прошли через «котел», как нож сквозь масло. К этому времени, на третий день боев, немецкие панцирные бригады остались без горючего, и экипажам пришлось спешиться. Закопанные в землю, а кое-где даже не замаскированные, танки противника превратились в простые железные коробки. Правда, они еще могли стрелять, но неподвижный танк сам становился беззащитной мишенью.
К половине дня двадцать девятого марта танки Городанова были уже на правом берегу Днестра. Там корпус задержался на несколько часов: танковые батальоны были переформированы, заправились горючим, пополнились боеприпасами и к вечеру того же длинного весеннего дня вошли в прорыв, направляясь к Батушани. Надежда Ауфштейна на то, что его панцирные войска, даже оказавшись отрезанными, послужат сдерживающей силой против русских танков, не оправдались. Фельдмаршал узнал об этом ночью двадцать девятого.
Тридцатого продвижение частей армии Мусаева на Батушани продолжалось. Следом за танками Городанова, а кое-где и обогнав их, наступали легкие моторизованные части. Каждый мотоциклист вез в коляске и на заднем сиденье пехотинцев-десантников. При попытке противника оказать сопротивление, десантники с ходу бросались в атаку, и гитлеровцы, сбитые с толку молниеносным прорывом русских, нарушением связи, паническими донесениями, из которых явствовало, что части Красной Армии оказались чуть ли не на всем правобережье сразу, оставляли занимаемые позиции, отходили.
Но с юга прорыв на Батушани задерживался.
Войска генерала Владыкина увязли в затяжных боях на кишиневском направлении. Там немецкие войска отчаянно сопротивлялись. Генерал Хольцаммер, проанализировав обстановку, пришел к выводу, что неудача Ауфштейна ему лично не грозит ничем. Потеря же Кишинева может стоить карьеры и даже жизни. И он бросил против Владыкина лучшие части.
Вернувшись в штаб армии, Мусаев передал командующему фронтом сдержанную телеграмму. Он не столько обвинял Владыкина в невыполнении согласованного плана, сколько недоумевал, зачем этому храброму полководцу нужно было ввязываться в затяжные бои? Ведь ясно, что в случае захвата Батушани вся группа советских войск нависнет над позициями Хольцаммера и ему придется думать только о том, как вывести свои части из-под удара, и Кишинев будет освобожден без тяжелых потерь.
Копию этой телеграммы Владыкину доставил Суслов.
Все было как и в первое его посещение. Едва поздоровавшись с посланцем, Владыкин брезгливо швырнул письмо Мусаева на стол, сказал:
— Ответ будет через два часа.
— Разрешите на словах доложить, товарищ генерал, что ворота на запад остались открытыми. Немцы беспрепятственно уходят в сторону Прута. Войска Ауфштейна могут пополнить силы Хольцаммера…
— Вы что, командуете фронтом, капитан?
— Я передаю предположение генерал-лейтенанта Мусаева, товарищ генерал.
— Передайте генерал-лейтенанту, если он так любит дискуссии, я с удовольствием побеседую с ним… после войны.
— Боюсь, что тогда будет поздно, товарищ генерал…
Капитан понимал, что в гневе Владыкин может быть страшен. Но ему вдруг стало горько от того, что так хорошо начатая операция может провалиться из-за упрямства одного человека. И было жаль, что усилия и мужество Мусаева уперлись в зазнайство этого старика. Суслов отлично понимал, чем могут окончиться для него пререкания с этим самолюбивым и несговорчивым человеком. Владыкин был на отличном счету в Ставке Верховного Главнокомандующего, и одного его слова было достаточно, чтобы какой-то капитан Суслов никогда не вернулся к месту своей службы. Но молчать он не мог.
К его удивлению, Владыкин только внимательно взглянул на него и задал новый вопрос:
— А солдаты так же уверены в Мусаеве, как и вы?
— Да, потому что после трех дней боев нам не пришлось даже разворачивать новых госпиталей…
На этот раз Суслов ударил в самое больное место. Но Владыкин только фыркнул в усы:
— Подумаешь, бои… — И вместо того чтобы накричать на капитана, как с ним бывало порой, проворчал: — Идите.
Прождав ровно два часа, Суслов снова явился в штаб. Ответа не было.
Тот же Петровский, испугу которого перед своим начальником дивился Суслов прошлый раз, коротко сказал:
— Генерал-лейтенант отдыхает…
— Разрешите мне передать через ваш узел связи телеграмму в штаб нашей армии.
— Идите передавайте!
Вернувшись в приемную Владыкина, Суслов устроился в уголке, расслабив все тело, словно собирался вздремнуть. Петровский взволнованно сказал:
— Сядьте попрямее. Наш не любит расхлябанности.
Суслов подчинился, хотя и подумал, что хуже расхлябанности, чем та, которую проявил Владыкин, задерживая свой ответ, быть не может…
В приемную вошел невысокий генерал-полковник, которого Суслов не знал. Но по внезапной перемене настроения у всех присутствующих капитан понял: подуло свежим ветром.
Плотный, крепко сбитый генерал-полковник держался как-то совсем просто, даже несколько не по-военному. Наперекор общему мрачному настроению он улыбался, здороваясь с офицерами. Выслушав рапорт Суслова о том, что он прибыл сюда с поручением генерал-лейтенанта Мусаева, генерал-полковник заметил:
— Расскажете мне после, как там у вас дела…
Он прошел в кабинет Владыкина, сопровождаемый начальником штаба.
Суслов тихонько спросил Петровского:
— Кто это?
— Член Военного совета фронта Карцев, — с какой-то неожиданной гордостью сказал Петровский.
По-видимому, Владыкину уже доложили о прибытии Карцева. Генерал-лейтенант тяжело, по-стариковски протопал по приемной, никого не замечая, будто шел в пустоте.
Вслед за ним пришел начальник отдела связи, разыскал глазами Суслова и вручил ему телеграмму: Мусаев приказывал немедленно вернуться, не ожидая ответа.
С самолета он увидел несколько войсковых колонн. Они шли на север, шли днем, шли плотными порядками. И Суслов понял: то, ради чего он прилетал, началось… Карцев явился сюда для того, чтобы сломить непонятное сопротивление Владыкина, и уже сделал это…
Утром тридцать первого марта фельдмаршал Ауфштейн понял, что его психологические прогнозы о характере советского военачальника Владыкина не оправдались, а вот предположение о том, что его соотечественник и однокашник генерал Хольцаммер скорее сдохнет, чем поможет ему, сбылось… Из сводки верховного командования, полученной в восемь часов утра, Ауфштейн узнал, что войска генерала Хольцаммера отбили все атаки на кишиневском направлении и настолько обескровили противника, что советские войска вернулись на исходные позиции…
Но верховное командование еще не знало того, что уже знал Ауфштейн: армия под командованием Владыкина развернулась фронтом на север, оставив на прежнем направлении лишь небольшие сдерживающие группы. А Хольцаммер, радуясь внезапной передышке, даже не подумал о контрударе, который мог бы расстроить стратегический замысел противника. Отныне Ауфштейн оставался один со своими потрепанными войсками перед опасностью полного окружения…
Лучшие его части, отрезанные от Липовца, еще сражались. Но плотное кольцо вокруг них ничем нельзя было разомкнуть, да и не до того было сейчас Ауфштейну. Прежде всего надо было остановить прорвавшегося в тыл противника, удар которого действительно оказался нацеленным на Батушани, как несколько дней назад пророчески предсказал покойный теперь полковник Крамер…
Железная дорога Батушани — Краснополь — Липовец, которую так героически защищал покойный полковник, еще действовала. Еще поступали подкрепления, направленные верховной ставкой в тот день, когда Ауфштейн затеял это трижды проклятое теперь им самим наступление. Переполненными были составы, уходившие и в обратном направлении, в сторону Румынии. Из возможного «котла» бежали все, кто хоть как-нибудь разбирался в том, что происходит: бежали «отпускники», генералы и полковники из отделов пропаганды, бежали коммерсанты и инженеры-строители армии Тодта, бежали, наконец, солдаты и офицеры из частей союзников Германии, бежали нагло, без пропусков, с оружием в руках. Полевой жандармерии при попытке проверить документы приходилось порой вступать с ними в перестрелку. Ауфштейн был вынужден перебросить свой штаб в Краснополь, а части, с таким блеском защищавшие Липовец, перевести на правый берег Днестра, где они с ходу вступили в бой с наступающими русскими войсками.
Сражение неожиданно развернулось в ста километрах в тылу. К первому апреля для выхода из «котла» оставался лишь узкий проход в двадцать-тридцать километров, над которым днем и ночью висела авиация русских.
Только к концу дня первого апреля верховная ставка Гитлера уяснила наконец размеры возможного поражения. И тогда Ауфштейн получил такой же приказ, какие в свое время получали Паулюс, Манштейн и десятки других генералов: «Держаться до последнего солдата…» Еще в приказе говорилось, что войска Ауфштейна являются форпостом на пути к румынской нефти, к захвату которой стремятся русские, и что фельдмаршал Ауфштейн должен удержать и разгромить противника на подступах к этой нефти, ибо от его упорства и настойчивости зависят многие далеко идущие планы фюрера… В заключение было сказано, что фюрер жалует фельдмаршала Железным крестом с мечами и благословляет его на великий подвиг во славу великой Германии.
Все это звучало как реквием по погибшим…
22
Второго апреля радиостанция «Галька» передала в эфир сообщение о том, что большинство соединений армии Ауфштейна покинуло Липовец. Соединения перечислялись тщательно, с подробным описанием состава и состояния войск. Этот радиоперехват Ауфштейн прочитал уже в Краснополе и с некоторым страхом подумал о том, что могло случиться с ним, если бы он задержался в Липовце еще на один день. Он понимал, что Мусаев, перед которым тоже лежит эта радиограмма, уже готовится к занятию Липовца. Начальник отдела разведки фон Клюге находился под следствием, спрашивать за так и не обнаруженную подпольную радиостанцию было не с кого…
Перед началом наступления на Липовец капитан Суслов обратился к Мусаеву с просьбой разрешить ему принять участие в бою за город.
— Что это значит, капитан? — сухо спросил Мусаев. — Если я разрешу всем офицерам, подавшим рапорты, перейти в действующие части, в штабе никого не останется! Даже снабженец Тимохов заявил о своем непременном желании участвовать во взятии Липовца…
— Я не знаю причин, которые побудили майора Тимохова подать такой рапорт, — сказал Суслов, — но у меня в Липовце осталась жена…
— Простите, капитан, — совсем другим тоном произнес Мусаев. — Можете обратиться к генералу Скворцову. Я позвоню ему.
Видимо, Мусаев сказал Скворцову, чем вызвана просьба капитана. Скворцов принял Суслова сочувственно и не задавал липших вопросов. Он тут же позвонил в приданную ему танковую часть и приказал взять Суслова башенным стрелком…
В четырнадцать часов танкисты неожиданно напоролись на артиллерийский заслон противника перед Липовцом. Гитлеровские артиллеристы, выполняя приказ фюрера, дрались до последнего солдата. К тому времени, когда артиллерийский заслон противника был разгромлен, в Липовце уже шел уличный бой. Командир танкового батальона, тоже, видно, понимавший, что капитана Суслова зовет в город какое-то неотложное дело, неуклюже пошутил:
— Выходит, с пехотой вы были бы в Липовце быстрее…
— Теперь это уже не имеет значения, — с непонятной грустью сказал Суслов.
Он открыл башенный люк и высунулся из него по пояс, будто хотел осмотреть место боя, хотя по танкам продолжали вести огонь вражеские артиллеристы. Командир батальона хотел приказать капитану закрыть люк, но у Суслова было такое отрешенное лицо, что комбат лишь неопределенно махнул рукой…
В четырнадцать тридцать танки ворвались в город.
Пехотинцы уже прочесывали улицы. Саперы с миноискателями осматривали дома, обезвреживали оставленные противником мины. Небольшие группки истощенных, плохо одетых, но все же празднично настроенных местных жителей спешили на центральную площадь.
В центре городка Суслов вылез из танка и медленно пошел по улице Ленина. Его вдруг окликнули. Он оглянулся и увидел Тимохова. Майор, торопливо козырнув, спросил:
— Вы ведь знаете город? Где тут улица Ленина?
— Мы стоим на улице Ленина.
— На улице Ленина?.. — В голосе Тимохова было столько удивления, будто он предполагал, что эта улица должна находиться где-нибудь на Марсе, а уже никак не у него под ногами. — А в какую сторону порядковые номера?
— Какой дом вам нужен?
— Двадцать девять!
— Вот этот дом… — с трудом, будто спазмы сдавили горло, ответил Суслов.
— Этот! — со вздохом облегчения произнес Тимохов. — А я-то думал… — Но того, о чем он думал, не сказал. — Может быть, войдем вместе, капитан? Мне сказали, что в этом доме была конспиративная квартира наших разведчиков… Может, она уцелела?
Суслов вдруг подумал о том, как мало бывает случаев, чтобы уцелела конспиративная квартира. Сколько разведчиков пришлось им вычеркнуть из списков за эти три тяжких года войны.
— Идемте! — негромко произнес он.
Тимохов заглянул в бумажку и пошел вперед.
Они миновали разбитый взрывом снаряда подъезд и начали подниматься по исковырянной пулями лестнице. Пробоины были старые, еще от тех времен, когда Липовец брали гитлеровцы.
Суслов замер, когда Тимохов остановился на третьем этаже и постучал. Он, собственно, слышал не столько стук в запертую дверь, сколько удары собственного сердца.
За дверью послышались робкие шаги. Потом тихий голос спросил:
— Кто тут?
Раньше, чем Тимохов успел что-нибудь сказать, Суслов отстранил его и ответил:
— Ната, открой, это я…
За дверью послышался стон, потом еще чьи-то шаги, и дверь распахнулась. В проеме показалась Галина, поддерживая бледную — ни кровинки в лице — женщину и смотревшая остро, опасливо на того, кто довел эту женщину до обморока.
— Кто вы? — спросила Галина.
Суслов шагнул вперед, взял на руки потерявшую сознание женщину и понес по коридору куда-то в глубь квартиры, ступая уверенно, как может идти только хозяин дома.
— Так это вы? — тихо не то чтобы произнесла, а скорее выдохнула Галина и только тогда подняла глаза на Тимохова. — Вы почему здесь?
— Идемте, Галина Алексеевна, вас ждут в штабе, — с усилием ответил Тимохов. — Я за вами…
— Но как же Ната? Как они? — растерянно спросила Галина. И вдруг с удивлением добавила — А ведь она ждала! Ждала! Она даже на улицу не пошла, боялась, что разминется с ним! Но кто бы мог подумать, что это капитан…
— Но ведь пришел же я! — тихо напомнил Тимохов.
— Да. И вы пришли, — все еще удивляясь чему-то, только ей понятному, сказала она. — Что же мы стоим? Помогите мне взять вещи… — Она прошла в первую комнату налево, опустилась на колени, пытаясь поднять плитки паркета и в то же время настороженно прислушиваясь к тому, что происходит в соседней комнате. — Дайте мне стамеску, она в среднем ящике стола. Ах, какой же вы неловкий, — все быстрее говорила она, отковыривая плитку за плиткой, словно пытаясь заглушить те неясные слова Суслова, что доносились сюда. — А вы знаете, я ведь десять дней не выходила на улицу! Подумать только — десять дней! Почти как гауптвахта! Я ведь сидела однажды на гауптвахте за нарушение формы. Впрочем, это было еще до того… до того, как мы с вами встретились… — Она выпрямилась, держа в руке маленький чемодан с радиостанцией. — Ну вот я и готова… Надо бы проститься. Впрочем, ведь мы еще встретимся с ними… Правда?
— Да, конечно встретимся! — подтвердил Тимохов.
Галина услышала в его словах что-то понятное лишь ей одной, потому что горячо заговорила снова:
— А какая это женщина! Вы только подумайте, ведь она сама вела почти всю разведку! Ну конечно, подпольщики помогали нам, но она даже военную разведку вела! И какой человек! — Голос ее вдруг погас, как будто все ее мужество исчезло. Она оперлась на руку Тимохова, почти прошептала: — Идемте, товарищ майор, идемте! — И с трудом, как только что перенесшая тяжкую болезнь, зашагала к открытой двери.
А по коридору вслед им доносились тихие слова любви, благодарности судьбе и удивления счастью, которое бывает возможно даже среди бед, боли и горя войны. К голосу Суслова уже добавился слабый, едва слышный голос женщины, и это был голос жизни, противостоящий войне и смерти.
Москва — Малеевка
1944–1963
РАССКАЗЫ
ВОЗВРАЩЕНИЕ
— Оставь меня в покое! — сказал Павел и отвернулся. Стало слышно, как в углу капает вода с отсыревшей стены. — И зачем только я остался, черт меня возьми! — он застонал и снова лег лицом вверх. Несколько секунд он смотрел на усталое, ставшее почти прозрачным лицо Марии, потом с усилием закрыл глаза.
Мария сидела на краю топчана, служившего ему постелью, и со страхом рассматривала разбинтованную ногу. Края раны потемнели, и нога опухла. Черная, огромная, она походила на чугунный слиток. Павел судорожно напряг мускулы, хотел пошевелить пальцами ноги, по они не двигались.
Он лежал, запрокинув голову, глядя на тусклый огонек коптилки, на надоевшие ему доски черного пола, служившего для него в этом подвале потолком. Проклятые доски, они заменяли ему высокое небо, звезды — все любимые и прекрасные видения того времени, когда он был здоров.
— Я тебе сказал, уходи! И почему только я не уполз? — пробормотал он снова.
Женщина медленно встала и, пригнувшись, пошла к лестнице. Он угрюмо следил, как она поднялась, открыла дверцу подполья. Босые ноги мелькнули в дверном люке, затем коптилка исчезла и дверь медленно закрылась. Павел остался один. Спать он не мог. Утомительная боль изнуряла его. Хотелось умереть, лишь бы не чувствовать боли.
Он попал в это подполье около месяца назад. Налет на село оказался неудачным. Немцы, напуганные партизанами, окружили село усиленными постами и секретами. Павел упал во дворе маленькой избы. Нога была разбита взрывом гранаты. Ночь скрыла его от преследователей. Он лежал под сараем, временами теряя сознание. Ему казалось, что его несут товарищи, потом он силился ползти, отбивался от чужих рук. Опомнился он в этом подполье. Было темно, и ему казалось, что он расстрелян и недобитый сброшен в могилу. Вокруг плавали неясные запахи прелой земли и гнилого дерева. Он попробовал поднять руки. Они уперлись во что-то мягкое, податливое. И вдруг на его лицо часто-часто закапали слезы и грустный женский голос запел печальный заупокойный плач:
— На кого же ты покинул родичей, и жену свою, и малых детушек, и коня своего, и сошеньку… Добрый молодец успокоился, успокоился да упокоился…
Ему стало страшно. Никогда до сих пор он не знал, что такое истерический сумасшедший страх. Он вскрикнул, оттолкнулся руками, услышал падение тяжелого тела, топот босых ног. На мгновение открылся люк наверху, в узкой полосе света мелькнула женщина и исчезла.
Тогда Павел вспомнил все. Вспомнил и понял, что какая-то добрая душа спасла его среди тревожной ночи, спрятала в подполье, и, видно, эта добрая душа заживо оплакивала его, когда он лежал в забытьи.
Потом он долго отдыхал от страха, жадно глядя на то место, где открывался люк, и ждал. Все было тихо. Даже наверху не чувствовалось присутствия людей. И, только привыкнув к обманчивой тишине, он начал постепенно узнавать по чуть слышным шорохам всю избу, как будто он был в ней когда-то или видел во сне. По тому, где останавливался топот босых ног, он понимал расположение печи, дверей, стола. Но неизвестная благодетельница его молчала, и он не звал, — одна ли она там, наверху.
Он не помнил, как заснул, и, проснувшись, не знал — день или ночь на дворе. Он тихонько кашлянул, надеясь услышать тихий ласковый голос, оплакивавший разлуку с ним, неизвестным человеком. Никто не отвечал. Он закашлял снова, нетерпеливо и капризно, словно маленький, и вдруг она оказалась рядом. Уже знакомый голос прошептал:
— Тише, Павел Алексеевич…
Он вздрогнул от неожиданности, от того, что в темноте было произнесено его имя.
— Кто тут?
— Я, Мария. Подожди, сейчас огня добуду…
Зашуршали спички. Разгорелось желтое трепетное пламя. Он жадно вглядывался в освещенное лицо женщины. Оно было некрасиво, широкоскулое грубое лицо двадцатипятилетней увядшей женщины. Мария зажгла коптилку, и он увидел, где находится.
Подполье было приспособлено под хранение овощей, рухляди и ненужной утвари. Для Павла хозяйка выделила угол, поставив деревянный топчан за мешками с картошкой, старыми бочонками и ящиками.
Она с тревожным стеснительным ожиданием смотрела на него, оправляя помятую кофточку. Павел настороженно следил за ней. Острое любопытство, на мгновение пересилившее даже боль, исчезло. И вдруг он увидел, как глаза ее потускнели, вся она как-то сникла, постарела, стала еще некрасивее.
— Кто вы? — осторожно спросил он.
— Колхозница, — нехотя ответила она.
— Как вы меня… спасли? — ему хотелось спросить, как она узнала его имя, но внутренним чутьем он понял, что Мария обидится на этот прямой вопрос.
— А что же, не оставлять вас было помирать…
— Это Бартеневка?
— Она.
Они помолчали немного.
— А как же… все-таки… — он не договорил.
— Очень уж вы известный, товарищ Уразов, — по-прежнему с неохотой ответила она. — Вот, поглядите…
Она развернула какую-то газетку и протянула ему. Павел увидел свое худое лицо с острым взглядом. Под портретом крупным шрифтом было напечатано извещение о том, что лица, указавшие местопребывание тяжело раненного главаря партизанской шайки Павла Уразова, получат вознаграждение в сумме десяти тысяч марок.
— Так…
— Да, дорогой гость… — неопределенно отозвалась женщина.
— Кто знает, что я здесь?
— Никто, — сухо ответила Мария.
Он не сумел скрыть недоверия и боязни, своего разочарования при первом взгляде, и теперь чувствовал, как женщина замыкается от него. В голосе ее больше не было ласки и теплоты. Она указала, где находится еда, и ушла.
Два раза она приносила Павлу газеты, в которых немцы сообщали, что Уразов выслежен и уничтожен вместе с отрядом. Эти известия радовали Павла, он знал теперь, что отряд существует и по-прежнему наводит страх.
Он уже подумывал о том времени, когда снова вернется в отряд, пытался представить новые задачи, какие надо было решать, но слишком мало знал о своих друзьях. Несколько раз он обиняками заводил разговор с Марией о том, что ей трудно ухаживать за ним, что надо бы сообщить товарищам, но сначала Мария притворялась непонимающей, а когда он прямо попросил ее связаться с партизанами, ответила, что не знает, где их искать.
Он мог думать о ней, что хотел. Мог обвинять ее в трусости. Но за помощь ему Марии грозило еще большее наказание, чем за попытку выйти из села. В последний раз она открыла маленький отдушник в стене подвала, и Павел увидел широкую улицу, а в конце ее столбы с перекладиной и неподвижные тела повешенных. И больше он не начинал разговора на эту тему.
Но в последние дни состояние больного неожиданно ухудшилось. Он потерял способность управлять ногой, не чувствовал ее. Огневая, непрекращающаяся боль терзала его, как будто на ногах был разложен костер, языки которого лизали все тело, прожигая до сердца.
Значит, так наступает конец. Сначала ты веселый ходишь по миру — путник на длинной дороге — и не замечаешь расстояний, потому Что все на перекрестках и по сторонам развлекает тебя. И тебя не пугает тяжесть пути, потому что очень интересно — а сможешь ли ты подняться на эту гору, и пленительно соревнование между собой и враждебной силой расстояний и преград. Потом ты становишься старше и тебе вдруг захочется покоя. Ты обставишь квартиру многочисленными стульями, чтобы отдыхать на них, поставишь кушетку и кровать, чтобы лежать на них, и ночами ты будешь сердиться на телефонные звонки и даже будешь ругаться, что кто-то не сумел сам справиться с делом и тревожит тебя. И только утомительное сознание долга заставляет тебя казаться таким же, каким ты был много лет назад, — ловким, отзывчивым и неутомимым. Но вечером ты слышишь в груди тяжелое биение отработавшего сердца, а под ложечкой — изжогу, и она душит тебя по ночам. И ты понимаешь, что постарел, но еще рассчитываешь жизнь на годы вперед и думаешь о том, что, когда твой район выйдет на первое место, ты попросишь товарищей из орготдела перебросить тебя на работу в город, а там ты, может быть, подлечишься. И, может, все это пройдет само собой.
И ты все еще любишь смотреть на девичьи лица и любишь заметить золотой пушок на щеке, который так оттеняет овал лица, и любишь охотиться ранней весной и бродить по болотам, — собака вытянулась в стойке, затем прыжок, только что у тебя дрожали пальцы, но ты выстрелил, и птица падает на землю, в ней нет уже ничего птичьего, она утратила все свойства птицы и падает, как камень.
Но ты непоправимо стареешь, и ты знаешь, это единственное, что действительно непоправимо. Ты не думаешь об этом, но сознание это где-то внутри тебя, оно незримо присутствует в тебе, и вдруг, на товарищеском ужине, где все ждут твоей шутки, или на заседании, где все ждут твоей речи, это снова коснется тебя, и друзья растерянно смотрят и недоумевают — к чему ты прислушиваешься, когда все молчат…
Мария спустилась в подполье. Павел снова увидел в ее глазах, во всех ее робких движениях ту неприятную для него нежность женщины, которую никто не любил и которая ищет любви, — так ему казалось.
Она осторожно сняла марлю, покрывавшую рану, и приложила что-то нежное, прохладное к ноге.
— Что это?
— Алой. Может, жар оттянет. Вот, посмотри.
Он увидел перед лицом колеблющиеся толстые, мясистые листья в мудреных зубчиках, отчетливо заметил острые колючки по краям. Он смотрел на них и видел себя в каком-то чудесном лесу, где росли странные кусты алоэ, с них падали большие тяжелые капли росы. Только ноги горели по-прежнему, должно быть, они оказались за тенью, и на них ослепительно изливалось тропическое солнце.
Огромным напряжением воли он скинул с себя оцепенение и снова увидел жалкие листики в руках Марии.
— Знахарство. Надоело мне все это.
Ему представились сразу все снадобья, которыми Мария лечила его. Тут была тертая картошка, хлеб с запеченной в него паутиной, какая-то странная мазь из дегтя с коровьим маслом, — она отвратительно пахла, это было лекарство не для слабонервных, — и много разных других. А сколько на нем испробовано таких снадобий, пока он лежал без сознания! Его затошнило от одного представления об этих опытах.
— Нужно врача, — сказал он.
— Потерпи, Павел Алексеевич, не выпускают немцы.
Она умоляюще смотрела на него, и Павлу стало стыдно.
— Ну, ладно, положи. Алой, так алой.
Теперь он знал, что дело его плохо. Все равно без врача он не выживет. Пусть Мария успокоится сознанием, что все сделала для его спасения. И, умирая, не следует причинять больших хлопот друзьям. И не к чему вызывать у них угрызения совести.
Временами он словно отсутствовал, заплутавшись в плену воспоминаний. Возвращение к действительности всегда было тяжелым, словно он тащил непривычный груз, падая, задыхаясь.
Так он увидел Марию, которая почему-то принесла много хлеба, воды и картошки. Теперь она стояла над ним, будто не решаясь будить.
— Ну что, Мария?
— Я тут выйду… Так вы не отвечайте, если зайдут…
Он хотел бы очень пристально, очень острым взглядом посмотреть на нее, но голубые волны тумана плавали над ним, он все еще был на реке, где только что сплавлял лес и бежал по колеблющимся бревнам, а банка аммонала, опущенная им под затор, вот-вот взорвется, а он оступился и не может выдернуть зажатую ногу из перекрещенных бревен. На берегу кричат, и он видит белые круглые лица, — ему еще подумалось, что у испуганных людей лица ужасно глупые и нельзя поверить, что им страшно, — и он нырнул в разводье между бревнами, услышал грохот рушащегося мира, бревна вставали и падали над его головой, — удивительно, как он тогда уцелел. А сейчас он не может открыть глаза.
— Куда?
— К подруге.
— Когда вернешься?
— К вечеру. Да вы только не отвечайте.
Он не слышал, как ушла Мария. Потом был долгий сон. Он понял это по тому, что часы остановились. Марии не было. И вдруг ему захотелось услышать ее шаги, ее голос, хотя она редко говорила ласково, но все равно от ее голоса исходило такое же тепло, как от ее большого плотного тела. Но Марии не было.
Павел попытался открыть отдушник, но руки не подчинялись ему. Он застонал, но спохватился, что тишина без Марии враждебна ему.
Когда ему удалось открыть окно, на улице была ночь. А ему казалось, что он начал эту работу утром.
Он смотрел на крохотный узенький кусок мира, врезанный в его беспомощное темное одиночество, и рассматривал незнакомые далекие звезды. Они постепенно бледнели, и он вдруг испугался за Марию, потому что это было утро, потому что в предрассветных сумерках раздавались чужие хриплые голоса.
Как он разрешил женщине одной уходить из дома, когда немцы в деревне, и почему она должна идти к подруге, а не подруга к ней?
Он закрыл отдушник. Чужой мир был за стеной. Женщина могла попасть в беду, А он бессилен что-нибудь предпринять.
От ярости ему стало плохо. И снова мерещились какие-то сновидения, но теперь они становились все неприятнее и злее.
Когда он вторично открыл отдушник, было опять темно. Сначала он не мог понять — может быть, все, еще в первый раз видит он косо упавшее небо. Но голосов не было, только где-то далеко слышались одиночные выстрелы. Так молодые солдаты ночью от тоски и страха разряжают винтовки, чтобы вызвать разводящего, услышать человеческий голос, — пусть он даже грозит судом. Павел знал эту беспорядочную ночную стрельбу в немецком тылу. Они всегда боятся, все захватчики боятся, по ночам им мерещатся мстители, и они отводят душу стрельбой в ночные тени.
А Марии не было. И ему стало жаль, что он не сказал ей ни одного ласкового слова, что он все время боялся ее ласковых глаз.
Он услышал над головой тяжелые шаги. Это были чужие шаги. Человек ступал медленно и осторожно, словно с трудом передвигал ноги или бродил впотьмах. Павел сжался, как будто он хотел слиться со стеной. Скрипнул люк. Он нащупал гранату — единственная! — и выпростал правую руку.
— Я это…
Он не поверил безжизненному голосу, но она зажгла коптилку. Она приближалась к нему. Он вытянулся навстречу и все-таки не узнавал ее, хотя знал, что это она, Мария.
— Вот… — сказала Мария и протянула какие-то пузырьки. Жидкость в них заиграла странными цветами. Потом выложила из карманов склянки с мазями, бинты, пакет ваты.
— Где ты была?
— За лекарствами ходила. В Шипилове врача расстреляли, а больницу под лазарет забрали. А до Овчарова все тридцать верст будет. Там и достала.
Она любовно потрогала пузырьки, потом наклонилась над ним, развязывая рану. Он видел дрожащие пальцы, кровоподтеки на лице, утомленные скорбные глаза.
Павел вздрогнул от резкого укола в ногу.
— Что ты делаешь?
— Доктор велел рассечь опухоль.
— Да ты же не умеешь! Оставь.
— Не дергай ногу. Ну, вот и готово. Теперь я положу в рану корпию. Не может доктор к тебе прийти. А что же делать? Он сказал. Я даже записала, да он велел бумажку выбросить, чтобы немцы не захватили. И ничего тут страшного нет.
Она, не переставая, что-то делала с его ногой. Он стиснул зубы, чтобы не показаться ей слабым. Дьявольская боль все усиливалась. Ему показалось, что она разрезает ногу до кости. А что же делать, если доктор не может прийти? Он не успел додумать, как ему быть, она сказала негромко:
— Пустое дело медицина, если все так просто. Видишь, сколько гноя течет. Вот и доктор то же сказал.
Нога отдыхала, смягченная мазями и прохладой бинтов. Мария выпрямилась, хватаясь за поясницу, как делают натрудившие спину старые женщины, вздохнула.
— Пойду я… Лежи теперь…
— Что с тобой?
Мария взглянула прямо в глаза и криво усмехнулась:
— Что ж ты думаешь, немцы так и пустят гулять из деревни в деревню…
Вдруг голос оборвался, глухие рыдания забились в горле.
— Замучили, сволочи…
Он хотел ее утешить, но никаких утешительных слов не было в памяти… Наверно, они еще не придуманы — такие утешительные слова, иначе бы он знал их, ведь ему тридцать пять лет! Ничего он не нашел, никаких слов, ни ласковых, ни трогательных, ни нежных, — она повернулась и ушла, с трудом передвигая ноги. На лестницу она всходила медленно. Может быть, ей было трудно, а может быть, она ждала, что он, все знающий, все понимающий, вспомнит какие-нибудь хорошие слова.
А он лежал, боясь смотреть вслед ей, и про себя повторял, — ему даже казалось, что он говорит вслух: «Сволочи! Сволочи!» Ну, подожди! Ты обязан выздороветь, понимаешь, ты должен выздороветь, столько стоит забота о тебе, что ты не имеешь права умирать, обижать человека, отдавшего тебе все, что он имел, ты не сделаешь такой подлости, ты никого не обманешь!
Странно, что с этой ночи сны его изменились. Теперь он видел цветы, небо, воздух, который колеблется над нагретыми крышами цехов, видел голубую воду, и она была ласкова и тепла.
Мария заходила три раза в день. И по силе своего желания увидеть ее Павел угадывал время.
Он еще повторял ей, будто не верит в то, что может выздороветь. А между тем едва она уходила, он начинал мучительные упражнения. Поднимая больную ногу рукой, он стаскивал ее с топчана и пытался встать на нее. Он падал на топчан, лицо его покрывалось потом, становилось трудно дышать, но, едва отдохнув, он снова повторял эти страшные попытки вернуть себе прежнюю силу. Он хотел знать, может ли доверять ноге.
На исходе второго месяца пребывания у Марии он понял, что может ходить.
Если сбросить со счетов такие хорошие, но трудно достижимые слова, как: летать, любить, творить, радоваться, — едва ли найдется еще какое-нибудь слово, лучше, чем слово — ходить. Ходить — это значит видеть, знать, побеждать, мстить, двигаться, — снова стать путником длинной дороги и удовлетворить чувство, не присущее ни зверю, ни птице, ни рыбе, но только человеку, — чувство мести.
Он исследовал свою возможность ходить примерно так, как исследует свой открываемый мир ребенок. Сделав первый шаг, он сразу привстал на здоровый ноге, подобно аисту среди разрушенного гнезда разной рухляди, окружавшей его.
Затем он постоял на больной ноге и убедился, что в полу есть замечательные особенности, которых он не замечал раньше. Так, одна половица приятно пружинила под ногой, словно просила еще раз встать на нее, другая выставляла неровную кромку, и он чуть не упал, третья пела добрым скрипучим голосом, как будто приглашала в долгий путь. Еще одна вдруг провалилась под ногой, и он так ушиб рану, что остаток дня пришлось пролежать в постели.
Но Мария не видела этих опытов. Она бывала у него ровно столько, сколько требовала перевязка. Она сильно похудела, хотя двигалась опять теми же легкими шагами. Только в глазах застыло странное — виноватое и вместе с тем злое выражение.
Она застала его, когда он чистил оружие. Было так приятно опять прикасаться к холодному металлу, заглядывать в канал ствола и знать, что ты снова вооруженный человек, что ты не беспомощен и можешь биться, что он нарочно продлил это удовольствие, хотя коптилка почти выгорела и в подвале было так темно, что он не мог уже заметить матового блеска, легкого зеркального налета на металле, и это было неполное удовольствие.
Мария остановилась на лестнице. Почему-то он сделал движение убрать винтовку, как бы стыдясь своего занятия.
— Видно, выздоровел?
— Да.
— Значит, уходишь?
Всегда бывает так, — мужчина уходит, а женщина остается.
Он уходит от матери, едва ему минуло пятнадцать лет, едва он почувствовал себя мужчиной. И если он еще остается — мало счастья для матери, ибо он уже мужчина, он знает все, что мать никогда не скажет ему, и, может быть, он уже стыдится матери за свое знание.
Любимый уходит, потому что его ждет работа, а так мало мужчин, которые бы променяли свое мужское дело на любовь. И мало счастья, если он остается, ибо тогда он не мужчина, он никогда не сделает большого дела, он слишком слаб, такой мужчина, и мало счастья иметь его, лучше сразу прогнать, может быть, он вернется мужчиной.
И надо перевести дыхание и незаметно вытереть глаза или идти с ним, если он захочет, чтобы ты шла с ним. Или остаться и издали видеть, что он поступает, как мужчина, и гордиться им и по мере сил догонять его, может быть, после работы или после войны он снова вернется к тебе, и ему будет приятно, что ты выросла и стала такой же, как он, наученной горьким, опытом жизни и противоречивыми суждениями собственного ума.
Мало счастья, когда он уходит, и много счастья, когда он возвращается, — вот из чего состоит твоя жизнь, если ты любишь его. Только они редко возвращаются такими, какими ушли, и тебе придется мириться с этим. А может быть, он не вернется, может быть, его возьмет в плен другое дело и другая радость или убьет пуля, которую ты могла бы отвести, будь ты рядом с ним, — и тебе останется только делать его дело, как ты умеешь, и делать свое дело, как ты можешь. Мало счастья, когда он уходит. Мало. Да, мало.)
Он долго молчал и наконец твердо сказал:
— Да.
Ему показалось — она плачет. Черт его знает, что делать, если она заплачет. Он вспомнил ироническое замечание, что, когда женщина плачет, мужчина курит. И поймал себя на том, что ищет папиросу.
— Как же я?
— Мы скоро вернемся, Мария.
Он одевался, торопливо застегивая пуговицы и ремни. Он не мог больше слышать ее просительного голоса. Гранату он сунул в карман, и рукоятка торчала, словно горлышко бутылки.
Когда он взглянул на нее, уже одетый, готовый уйти, — вот только палка нужна, нога проклятая все еще сдает, — он увидел грустные глаза, сжатые губы.
— Присесть надо перед уходом.
Топчан был мал, и они сели рядом. Он слышал толчки ее сердца. Она сказала:
— Боишься, что не выдержу?
— Не надо, Мария.
— Эх, ты!
(Все они такие, когда уходят. Они боятся сказать правду и начинают лгать, что ты не можешь делать, как они. Хорошо, что он не лжет. Хорошо, что он просто молчит. Надо вставать. Время. Не вечно же сидеть рядом. Поцелует ли он ее перед уходом? Да, надо вставать.)
— Пошли.
Она встала первой, чувствуя, как тягостно ему молчать. Он послушно поднялся и, сдерживая стоны, вылез в узкий люк. Он даже не оглянулся на убежище, где она спасла ему жизнь.
— На лыжах можешь идти?
— А разве они есть?
Она вывела его в сени и отвалила приставленные к стене доски. За ними стояли лыжи с креплениями. Он заметил, что дальше была еще одна пара, но Мария заслонила их.
— Спасибо, — сказал он. — Прощай!
— Прощай!
— Мы скоро вернемся, Мария…
— Да.
Они стояли под низким темным небом. Некрупные звезды мирно висели над ними. Он вспомнил, что она не одета, и заторопился.
— Прощай. Мы вернемся.
— Да. Да.
Он пожал ей руку, взглянул в лицо, но не увидел ничего, кроме сухого блеска глаз. Пощупал палкой снег, тронул лыжу, — легко. К утру он дойдет до базы, если ничего не случится. И зачем-то еще раз повторил:
— Прощай.
Идти было трудно. У изгороди он еще раз оглянулся. Она стояла на месте. Белое пятно кофточки под сараем. «Простудится», — мельком подумал он. Лыжи утопали в снегу. Он сразу вспотел. Встав здоровой ногой на нижнюю жердь изгороди, он перекинул больную. Светлого пятна под сараем больше не было. Он вздохнул. Слышались чужие хриплые голоса. Как в ту ночь, когда он ждал ее. Она принесла лекарства. Ей тяжело. Она любит его, но это не главное. Главное — она ненавидит врага. А от остального можно излечиться. Мороз, и дым костра, и ночные налеты, и огонь автомата — хорошие лекарства против приступа тоски. Они излечат хоть кого. А если даже не излечат? Если даже ему придется платить долги, свои и чужие, многих людей, которые прошли мимо простого привязчивого сердца?
Ему представилось, как улыбаются друзья. А может быть, он плохо думает о друзьях? Может быть, они стали взрослее и вдумчивей? Ночь у костра старит человека, а стрельба заставляет его пересмотреть многое, казавшееся непогрешимым. Трусы становятся храбрецами, и старые воины умирают, как новички. Может быть, он ошибся…
Он стоял под окном. Он слушал жалкий приглушенный плач покинутой женщины. Дьявольски болела нога. Он стукнул в окно костяшками пальцев. Белое лицо прильнуло к стеклу.
— Мария, пойдем. Я жду, Мария…
ДОРОГА К ДОМУ
I
Поезд, извиваясь, выскользнул из тоннеля, вытянулся, как перед прыжком, и вдруг, задрожав всеми вагонами, остановился над самой рекой, словно побоялся сорваться в воду.
Река была ослепительно белой, она лежала под солнцем неподвижно, можно было думать, что она уснула от зноя, устав после долгого трудного пути в горах. Горы расступились, выпустив ее, и замерли вдалеке, синие, огромные, похожие на грозовые облака.
Соловаров вылез из первого вагона, прищурился, вглядываясь в белую реку, в синие горы, в дрожащее марево раскаленного воздуха, словно припоминая, где и когда он видел нечто подобное. Потом вдохнул полной грудью влажный воздух, как будто хотел вытеснить из груди духоту и тяжелые запахи вагона, и задышал часто-часто, никак не успевая напиться пахучим, свежим ветром от реки и дальних гор. Так он стоял с минуту, пропуская нетерпеливых городских пассажиров, что уже были дома и торопились поскорее открыть двери своей квартиры, сразу забыв о дальнем пути и его заботах. Соловаров стоял неподвижно, у самых ступенек, не обращая внимания на то, что его толкают углами чемоданов и корзин, волочат мешки, вздымая пыль. Стоял среднего роста сорокалетний солдат из демобилизованных, с усталым и жестким лицом, которое словно разучилось улыбаться, высохло в боях и походах. Но вот под короткими колючими усами тоненько зазмеилась улыбка, и лицо Соловарова словно осветилось изнутри, потеплело, чуть дрогнуло. Прохожие удивленно взглянули на солдата, вдруг изменившегося на глазах, но из вагона раздался сухой и какой-то болезненный оклик:
— Тима, ты тут?
Лицо солдата снова стало сухим и твердым, он повернулся к вагону и быстро ответил в темный тамбур:
— Давай мешок, Константиныч, я приму…
Из душного тамбура выполз мешок, обычный, солдатский, не слишком туго набитый, затем показался и тот, кто окликал Соловарова. Молодой паренек с болезненно исхудалым лицом, которое и без слов говорило о долгой госпитальной жизни, с тонкими, поджатыми, словно бескровными губами, опирающийся на костыль еще неуверенно, с трудом опустился на пыльный горячий перрон. Несколько мгновений он стоял молча рядом с Соловаровым, приглядываясь к новой картине и тяжело дыша. Соловаров, не оборачиваясь к товарищу, задумчиво и тихо сказал:
— Красота…
— Река как река, — сухо ответил младший и переступил костылями. — Пойдем или тут останемся стоять? — сердито спросил он, оглядываясь на Соловарова.
— Да, да, — спохватился Соловаров, поднимая свой мешок и прилаживая его на плечи. — Тут два шага до пристани. Да вон она, вон и пароход стоит, отсюда видно, что это «Добрыня». Значит, сегодня и уедем. Хорошо!
Говоря эти торопливые слова, Соловаров вскинул на плечо и второй мешок, принадлежащий товарищу. Солдат на костылях сердито потянул мешок за лямки.
— Отдай. Нечего за мной ухаживать, я не барышня.
— Брось ты, Константиныч, для меня это не ноша.
— Отдай, говорю. Не век ты ухаживать за мной будешь. Пора привыкать.
Он неловко подвернул согнутую в колене ногу, обмотанную толстым слоем бинтов и слишком короткую, чтобы казаться живой, хотя ступня ее была цела. Выругавшись, он переставил расползающиеся по асфальту костыли и снова протянул руку к мешку. Соловаров кашлянул и шагнул вперед, словно не заметив этого движения. Тогда молодой зашагал следом, подпрыгивая неравномерно и с трудом.
Ослепительно белая река лежала перед ними, похожая на расплавленное серебро. Она казалась бескрайней, потому что от солнечного блеска глазам было больно смотреть на противоположный берег. Белые пароходы стояли у товарных пристаней.
Соловаров скинул мешки возле бухты каната, указал товарищу на нее, чтобы тот присел, вытер ладонью пот с лица.
— Сейчас я оборудую с билетами и насчет обеда. Отдохни покуда.
— Я не устал, — ответил молодой и отвернулся к воде, которая здесь, в тени, казалась свинцовой.
Вернувшись через полчаса, Соловаров застал товарища все в том же положении, сидящим на бухте, опустив лицо на ладони, и глядящим в бегучую воду. Костыли лежали на полу дебаркадера, упав, должно быть, от неловкого движения. Константинов не нагнулся за ними, не смотрел на мешки, не видел людей, толпившихся рядом и поглядывавших на него с тем жалостливым соболезнованием, которое постоянно таится в душе русского человека.
Соловаров задумался, правильно ли было тащить искалеченного парня в непривычные для него северные места, в уральские горы? Константинов не видит ни красоты, ни того потайного изобилия, которое может открыться здесь знающему человеку, да и что ему до того, что местные реки полны рыбой, леса — зверем, горы — золотом, поля — хлебом, если все эти богатства добываются тяжелым трудом, к которому он, искалеченный войною, совсем не способен. Может быть, и вправду надо было оставить его в госпитале, как просил Константинов, там, наверно, нашли бы ему подходящую работу, там он, может быть, скорее забыл бы об утраченных близких, об исчезнувшем доме, о потерянной молодости… Но, подумав об этом, Соловаров сердито тряхнул головой, провел ладонью по лицу, словно стирая досаду, так что лицо снова стало спокойным, и окликнул Константинова.
Последние два года войны они провели рядом. Казалось, ничто не соединяло их, сорокалетнего и двадцатилетнего, ни землячество, ни характеры. Константинов родился и прожил всю жизнь на Смоленщине, да и жизнь эта была короткой, только и знал он в ней свой колхоз да школу, которую помнил лучше, чем работу, потому что работал еще мало. Соловаров же пришел на войну с Урала, где побыл всем понемногу: горщиком — добытчиком самоцветного камня, охотником — ловцом дорогого зверя, председателем колхоза, старостой в лесорубных и плотницких артелях, то есть всю свою жизнь прожил в самостоятельном труде, в заботе о многих делах и людях. Может быть, именно это и послужило причиной их неловкой и немного смешной дружбы… Слишком уж труден был даже в разведывательной роте, где собирались самые смелые и отчаянные люди, молодой красноармеец Константинов. Лишь значительно позже узнал Соловаров, что из всего хлебопашеского рода Константиновых в селе Верея уцелел один Михаил… Но сдружился пожилой этот человек с Константиновым значительно раньше, сдружился именно потому, что привык жить как рачительный хозяин, в заботе о людях, в думах о них. Он и в роте был старшиною, что опять-таки было привычно именно заботою о людях, будто он так и остался даже на войне председателем колхоза или старостою артели лесорубов. Только теперь душевный разговор шел не о постатях на лесоповале или на жнитве, а о ночном поиске, о ранах, о переднем крае врага.
Последний раз, и тяжело, Михаил Константинов был ранен на реке Нейсе, когда был уже виден конец войны. Его увезли с раздробленной левой ногой в тыловой госпиталь. Если бы у Константинова были где-нибудь родные или близкие люди, очень может быть, что Соловаров никогда бы больше и не услышал о нем. Иной раз он вспоминал бы о товарище, как вспоминал о многих других людях, с которыми приходилось делить и горе, и радости. Но у Константинова не было близких. И он написал письмо Соловарову в роту.
Бывают слова, от которых переворачивается сердце и долго в нем таится боль. Такими словами Михаил описал свое горе. Нога у него осталась, но вряд ли будет он когда-нибудь наступать на нее, щупать босыми пальцами колкие весенние травы, ходить по стерне после жнивья. Пуще всего хотелось Михаилу, чтобы в последние дни войны товарищи отплатили немцам за его кровь и раны. И по тому, какими словами написано было письмо, понял Соловаров, что трудно живется молодому его приятелю.
После расформирования части Соловаров сделал крюк в двести километров и заехал в госпиталь, где выздоравливал Михаил. И уговорил его поехать на Урал, где есть дом, в котором он никому не будет в тягость, где найдется работа по силам больному человеку, где сам воздух лечит людей, а горы заставляют забывать все, что заслоняет горизонт, что туманит глаза. Так лег их путь через всю страну и приблизился к дому…
— Билеты будут, Константиныч, — нарочито беспечным голосом сказал Соловаров. — Пароход отвалит через час, так что на нем и пообедаем. Там для демобилизованных особый буфет есть и даже по сто граммов выдают.
Константинов медленно обернулся к товарищу. На солнце лицо его казалось еще более бледным и тонким. Оно было бы, пожалуй, красиво, если б не тени по углам губ, если бы не застывшая, словно навек, гримаса страдания и обиды. Он посмотрел прямо в глаза Соловарову и сердито сказал:
— Какого черта, Тимофей, ты все время так говоришь, будто подрядился утешать меня? И слова просто не скажешь!
Соловаров смотрел на него, опешив от неожиданности. Михаил выдавил на тонких бескровных губах подобие улыбки, потом снова нахмурился, словно ему было трудно удерживать эту улыбку.
— Ну вот что, старик, я дальше не поеду… — тихо выговорил он, словно прочел то, о чем только что думал Соловаров. — И ты меня извини, и я на тебя серчать не стану. На войне была у нас дорога общая, а на миру пора расстаться. И не пяль ты на меня глаза, пожалуйста, я не продажный, смотреть не на что. Спасибо за заботу, обратно я и сам как-нибудь подамся…
Гулко пронесся над водой гудок парохода, словно ударялся о ее блестящее зеркало, подпрыгивал и снова касался воды, но уже более спокойным касанием. Соловаров молча поднял мешки, свой и товарища, подал Константинову костыли, потом сказал:
— Ну, двигай за мной, пароход сейчас пристанет…
— Да ты слышал меня или нет?
— Хватит, наслушался, — сурово ответил Соловаров.
— Не хочу я в твою глухомань ехать! От нее до города семь дней добираться будешь, а опоздаешь, — сам же говорил, — реки замелеют и пароходы ходить перестанут. Я уж лучше прямо в собес пойду, пусть меня в инвалидный дом отправят…
— Я тебе и там инвалидный дом обеспечу. Не в ногах счастье, была бы голова на плечах, а ты все ее норовишь потерять…
Он отвернулся от Константинова и пошел в проходные комнаты дебаркадера, на которых была надпись: «Для демобилизованных», не глядя на товарища, который досадливо потоптался на месте и запрыгал за ним. В комнате Константинов присел на краешек скамьи с выгнутой спинкой, заново покрашенной и пахучей, и принялся свертывать цигарку трясущимися пальцами. И было видно по их поведению, спокойному у Соловарова и злому у Константинова, что происшедшая сцена явилась лишь повторением многих предыдущих, в которых осиливал всегда старший. Дав Константинову немного успокоиться, Соловаров снова заговорил добродушным тоном:
— Ты у меня через две недели забегаешь, как молодой жеребец. Я тебе такую невесту сосватаю, что ахнешь.
— Оставь, Тимофей, — устало сказал Константинов и откинулся на скамье, судорожно запрокинув бледное лицо.
Соловаров вскочил и бросился с кружкой к эмалированному бачку. Набрав воды, он подбежал обратно и брызнул в лицо Константинову. Тот с усилием открыл глаза. Соловаров поднес кружку к его губам, постепенно приподнимая ее, как поят маленького. Потом уложил Михаила на скамье, сунув мешок под голову. Человек пять демобилизованных, находившихся в комнате, подошли к ним.
— Обескровел, — сказал один из них.
— Да он здоров, жара только стомила, — нехотя ответил Соловаров.
— Где ранен? — деловым тоном спросил другой с двумя нашивками на груди и с негнущейся рукой.
— На Нейре, — ответил Соловаров.
— Там немцы здорово дрались, — поддержал третий, совсем пожилой солдат. — Лечить его надо, — он кивнул на Михаила.
— Небось дома оклемается, — сказал четвертый весело, — там и стены за него постоят…
— Нет у меня дома, — неожиданно сказал Константинов, с усилием приподнимаясь. — Некому за меня постоять. В чужой дом он меня тащит…
— Теперь каждый дом — свой, — так же весело сказал четвертый солдат.
— Нет у меня дома, — упрямо повторил Константинов.
— Он что, твой товарищ? — спросил четвертый солдат у Соловарова.
— Да, — ответил Тимофей.
— Плохой товарищ, — сказал четвертый, скучно вздохнул и пошел к своему мешку. Уже присев на скамью, из угла зло крикнул:
— Его за волосы из беды, как из воды, тащат, а он еще упирается, — мне, мол, на дне все видней! Какой же это товарищ?
Остальные солдаты отошли вслед за ним, переговариваясь между собою, словно Михаил перестал интересовать их. Константинов тяжело приподнялся на скамье, оглядел их и сказал, с усилием произнося слова:
— Здоровому да семейному хорошо. Дома жена баню топит…
Первый солдат с досадой стукнул ногой. Звук был такой, словно ударили деревом по дереву. Константинов снова лег и закрыл глаза. Соловаров тихонько отошел к солдатам, сказал:
— И обижаться нельзя, семья побита, сам инвалид…
— Это ты правильно сказал, — заметил солдат с протезом. — Только трудно тебе с ним будет. Я таких, которые с белыми губами, знаю, насмотрелся. Они к жизни неласковы, ну и она к ним тоже.
— У нас на Колве жизнь трудная, за нее поневоле держаться будешь…
— И это верно, — сказал солдат. — Если только он не из трусливых.
— Два года с ним провоевал…
— На войне не в миру, — с досадой сказал солдат. — Там храбрым быть вроде и легче…
Дебаркадер качнулся от удара. Подвалил пароход. Затем раздался долгий гудок, топот ног — началась посадка.
II
Двое суток они плыли по реке. Демобилизованных на пароходе собралось много, и дорога оказалась шумной, разговорчивой и веселой. Но люди постепенно уходили, а новые не прибывали, так что Михаилу стало казаться, что придет время и они с Соловаровым останутся в одиночестве, в такую пустыню везет их пароход. И в самом деле берега становились все пустыннее, глуше, деревеньки встречались все реже, а река все синела, словно вытекала из самого неба. Больше пароход не подваливал к пристаням, шел ходко, возле деревенек долгими гудками заранее вызывал лодку, и старший помощник сбрасывал в лодку тугие пакеты с письмами, посылки. Последний демобилизованный солдат, тот, что был без ноги, поцеловался с Соловаровым и Михаилом, — в пути они совсем сдружились, — и прыгнул в лодку, громко стукнув протезом о деревянные стлани. На берегу, далеко-далеко, над синей водой голосила женщина, но голошенье это было радостным, должно быть, она узнала мужа, несмотря на расстояние. Солдат долго махал шапкой Михаилу и Соловарову и все кричал, чтобы не забывали, спустились бы по осени в гости к нему в низа.
Михаил задумчиво смотрел на товарища, все теснившегося к борту и еще подававшего какие-то советы солдату. Ему теперь казалось даже, что Соловаров как-то вырос, стал шире в плечах, уверенней, словно родной воздух исцелил его от долгих военных забот и горя. И еще было одно удивительно Михаилу. На все и про все Соловаров смотрел с практической точки зрения, не было в нем излишней, этакой любопытствующей жалости к людям, а между тем люди, с которыми встречались они в эти дни, к Соловарову относились особенно душевно, поверяли ему самые тайные думы и горести. Чем же пленял их этот невысокий человек с рябоватым спокойным лицом? Душевной простотой своей, что ли? Но он не так уж прост! И, оборвав эти размышления, Михаил сердито спросил у Соловарова, который наконец откачнулся от борта с такой грустью, словно потерял родственника:
— Одно ты мне не сказал, дядя Тимофей, зачем ты меня к себе везешь? Для толку?
— А что ж, — с усмешкой сказал он наконец, — вот выколочу из тебя всю бестолочь, один толк и останется… Так-то, племянничек.
Тимофей прищурил глаза и отвернулся, копаясь в мешке, но и Михаил глядел в сторону, на чистую синюю воду. Он все удивлялся этой редкой синеве и чистоте воды, хотя Соловаров объяснил ему, что чем выше в верховья, тем чище будет вода, — ледниковый цвет, изумрудный набор.
— Письмо от Пьянкова к супружнице сохранил? — вдруг сурово спросил Соловаров.
— Сохранил, — вздрогнув, ответил Михаил.
— Что скажешь ей?
— То и скажу, что заказано, — недовольно ответил Константинов. — Скажу, что вместе лежали в госпитале, что на глазах умер, только и всего…
— Ну и глупо, — сказал Тимофей, хмурясь так, что шевельнулись мохнатые брови. — Письмо Пьянков дал тебе, чтобы успокоить жену, а ты будешь сердце ей бередить… Рассказать ей о муже надо так, чтоб душу утешить…
— А как? — снова вспыхнув от ярости, спросил Михаил. — Как о смерти расскажешь? Что это выпивка или вечеринка с танцами?
Пьянков умирал в том же госпитале, где вылечивался Михаил. Они были ранены в одном бою, но у Пьянкова оторвало обе ноги, его подобрали поздно, и как врачи ни старались, не спасли солдата. Умирал он рядом с Михаилом, умирал тяжело и долго. Приходя в сознание, он все просил Михаила доставить его последнее письмо жене, передать через Соловарова или другого земляка, когда вернется Михаил в роту. Но Соловаров отказался взять на себя передачу письма, он вез самого Михаила, словно нарочно для того, чтобы Михаил хлебнул чужого горя, будто ему не хватало своего. И Михаил подозрительно поглядел на Соловарова, догадка эта уколола его сердце.
— Вот мы и дома, — вдруг сказал Соловаров спокойным голосом.
Михаил увидел длинную песчаную косу, разделявшую две одинаковых реки, сливавших здесь свои синие воды. На той реке, что текла справа, далеко под горою виднелся дебаркадер, потемневший от тени, бросаемой горою. А на горе белели колокольни и дома, теплые, осиянные солнцем. И хотя был вечер, солнце по-северному было еще высоко в небе, разве только жар от него был теперь как бы призрачным, воображаемым. Пароход подваливал к пристани, разводя волну, на которой покачивались рыбацкие лодки и плоты.
Небольшая группа пассажиров вывалилась одновременно с дебаркадера, оглядываясь на пароход, свое временное пристанище. У подножия горы стояли подводы. Михаил спросил:
— Ты телеграмму давал, чтобы нас встретили?
— Зачем? — спросил Тимофей. — Телеграмма, она волнует человека. Это тебе не письмо. А добраться до дому, когда ты на пороге, самое простое дело. Здесь нас каждый кустик ночевать пустит, каждая стежка за руку поведет…
Пассажиры рассаживались по подводам, кое-где еще торговались с подводчиками. Михаил сердито поглядел на Тимофея и прибавил шагу, тяжело выбрасывая тело между костылями.
Маленький седой старичок с длинным кнутом, одетый в армяк из домотканой шерсти, каких Михаил нигде не видывал, преградил им дорогу и закричал преувеличенно радостным, как показалось Константинову, голосом:
— Которые демобилизованные, айда сюда, с ветерком прокатим!
— Денег, отец, не хватит, — попытался отшутиться Михаил.
— Кто о деньгах говорит, служивый? — восхищенно удивился старичок. — Это ж добровольная помощь, потому, как это, что вы ветераны! Давай, давай, служивый! В какой колхоз путь держишь?
Тимофей, следивший с добродушной усмешкой за этими переговорами, выдвинулся вперед и громко сказал:
— Что ж, Игнатий Никитич, спасибо на привете, мы с товарищем не откажемся. Давно на телеге не ездили, все больше на автомобиле приходилось…
— Поломался наш автомобиль, — грустно сказал старичок и вдруг взвизгнул, узнавая — Да это же Тимофей Соловаров! Тимоша! — и потянулся, обнимая солдата. — А это кто же с тобой, не признаю? И обличье незнакомое и говор будто не наш?
— А это мой богоданный племянник, Михаил Константинов, в гости к нам едет…
— Вот счастье-то Варваре, ждала одного, а двух заполучила! Наша Настя почти что к каждому пароходу ездит, а все своего сокола не встретит…
— А где она? — осторожно спросил Соловаров.
— Да вон высматривает мужика своего на горке… С ней, значит, и поедем. Ты на моей подводе, а племянник на Настиной…
Михаил глянул на горку, где стояла молодая женщина, прикрыв рукой глаза от резкого солнца, и все смотрела в толпу растекавшихся пассажиров. Резкий толчок в сердце почувствовал он, словно давно уже знал, что так вот и увидит жену Пьянкова. Если б даже не видел он ее фотографии, все равно узнал бы по рассказам товарища, такая отличная от всех, тихая, с внимательным и достойным видом стояла она в стороне, ища потерянного мужа. Он побледнел и невольно оперся на край телеги. Старик испуганно сказал:
— Ай плохо тебе, служивый?
Тимофей пристально смотрел на Константинова, и в глазах его была укоризна, словно он хотел сказать, что не ожидал такой трусости от товарища. Отвернувшись от Михаила, Соловаров сказал:
— Вместе с Пьянковым воевал Михаил. Был такой случай, прорвались два немецких танка на переправу, что мы охраняли. Было это на немецкой реке Нейсе… Как раз Пьянков и Михаил сваю вбивали на том берегу, после бомбежки мост чинили. Один танк Пьянков остановил гранатой, а другой…
— Значит, не вернется к Насте Серега?
— Нет…
— Так что же ты бледнеешь, парень? — строго спросил старик. — Али там смелости было много, а здеся не хватает? — он взял Михаила за руку, обернулся к женщине и крикнул — Настя, иди сюда, есть пассажир для тебя… Поехали!
Михаил видел, как поднялась грудь женщины от долгого и тяжелого вздоха. Она повернулась и медленно сошла к подводе. Узнав Соловарова, распахнула длинные ресницы, вдруг бросилась к нему, обнимая.
— Тимофей Семенович! Может, весточку привез от Сереги?
Тимофей взглянул на Константинова, и тот медленно сунул руку в карман гимнастерки. Тогда Тимофей сказал.
— Прими Серегиного дружка, Настя. Есть у него письмо к тебе. Вместе они смерть встречали, а выжил один…
Лицо Насти вдруг сделалось белым, но рука не дрожала, беря письмо. Не глядя на Михаила, она сказала:
— Садись, служивый, в гору тебе трудно будет идти…
Первая телега тронулась. Старик и Соловаров шли рядом с нею, держась за грядки. Вывоз был крут. Настя подобрала вожжи и пошла за телегой, все еще держа письмо в руке. Михаил сидел спиной к лошади и прятал глаза, чтобы не видеть болезненно вопросительного взгляда Насти. Шла она теперь очень тяжело, словно ноги у нее подгибались, раскачивалась всем корпусом, но молчала. И Михаил подумал, что было бы ей легче, если б передал это письмо Соловаров, если б она поплакала на его плече, потому что сочувствие знакомого человека милее для души.
Так они поднялись в гору. Настя села на передок телеги, оглянулась, удобно ли пассажиру, подвинула к нему мешок с сеном, чтобы было на что опереться, и понукнула лошадь. Лицо ее стало словно каменным, все черты обострились, на лбу образовались поперечные складки.
Письмо она так и не стала читать. Тягостной была эта дорога, хотя в лесу пели птицы, светило солнце, на вырубках пахло ягодой и грибами, а там, где начинались поля редких деревень, сочно шумела рожь и пшеница, радуя глаз. Только радость была мимолетной и для него и для Насти, она не трогала сердца. И все острее хотелось Михаилу сойти незаметно с подводы, укрыться в лесу, переждать, пока скроется согнутая спина Насти, чалая ее лошадка, дребезжащая телега, а потом повернуть обратно и ковылять к пароходу, чтобы увез он его с его горем-злосчастьем подальше от этого чужого горя. Вечерело, когда показалась вдали деревня, запахло теплым избяным и хлебным духом, послышалось блеяние овец, мычание коров. Первая подвода приостановилась на взгорке, поджидая их. Соловаров спрыгнул с телеги, помог сойти Михаилу, тихо сказал:
— Благодари хозяйку. Ей одной легче будет. Не на людях же горе горевать. Завтра все ей расскажешь…
Настя словно не слышала их короткого разговора. Старичок, отец Насти, стоял поодаль, осунувшийся, постаревший. Но когда Михаил запрыгал на костылях мимо него, сказал спокойным голосом:
— Спасибо, служба, за вести. Не ты в том виною, что вести печальные…
Широко распахнулась калитка в резных воротах, загрохотали двери дома, раздался женский крик, потом выбежали пожилая женщина и две дочери Тимофея, повисли на его морщинистой шее, не замечая Михаила, а он стоял и думал о том, как несправедлива к нему судьба. Никому не принес он радости тем, что остался жив, только сожаление видит он в равнодушных глазах посторонних люден. Нужно ли было ехать в эти глухие места, надо ли было искать чужой радости, когда нет своей?
Тимофей что-то шепнул жене, она оторвалась от него, подошла к Михаилу, протягивая широкую твердую руку, сказала:
— Милости просим в дом, будьте ласковы…
Девушки-погодки, одна лет шестнадцати, другая — семнадцати, подражая матери, протянули руки Михаилу, сказали похожими певучими голосами:
— Входите в дом за брата, за родича, пусть жизнь вам будет легкой, крыша теплой, еда сытой… — и поклонились низко-низко, как, должно быть, велел уральский обычай.
У Михаила защипало в горле, он склонил голову, пряча глаза, с усилием налег на костыли и прошел в ворота. Перед ним был высокий дом, венцов на восемнадцать, с непривычно высокими окнами, на уровне второго этажа, крутая лесенка вверх, откуда пахнуло давно забытым теплом домашнего очага, запахом сена, хлева и парного молока. Он вошел в дом первым и вдруг опустился на лавку у порога, ослабев от усталости или от того, что застлало глаза туманом, от чего задрожали руки и ноги, — от ощущения родного дома. Но в следующее мгновение он оторвался от лавки и снова встал, глядя исподлобья на жену Тимофея, на него самого, — все-таки дом этот был чужим.
III
Итак, все здесь было чужое, начиная от неярких луговых цветов над рекою, что были видны из горницы, кончая неразговорчивыми, как будто хмурыми людьми, что окружали его.
Никто не беспокоил Михаила, не напоминал ему, что он только гость, и, наоборот, не упрекал его в том, что он живет, как гость, не принимая участия в жизни большой деревни, что раскинулась за окнами дома. Правление колхоза выписало на него продукты, каждый день доярка с молочной фермы приносила литр молока, хотя жена Тимофея и отказывалась принимать его. Целые дни дом был пуст, вся семья Тимофея и сам он уходили на поля, где началось жнитво, страдные дни. В пустом доме неумолчно жужжали мухи, иной раз в открытое окно залетала пчела или оса, досаждая особенно громким звуком, напоминавшим гудение снаряда. Вечером семья сходилась в дом, к столу, за которым для Михаила было отведено место в красном углу, рядом с Тимофеем. Если Михаил притворялся спящим, его будили, без него за стол не садились. Утром же ему оставляли завтрак на столе, прикрытый рушником с вышивками, совсем такими же, какие делала на рушниках мать Михаила. В обед приходили или жена Тимофея, или одна из дочерей, приходили словно бы по домашнему делу, но Михаил видел, что домашнее дело было предлогом, просто приходили накормить его, услужить за столом. И никто ни слова не говорил о том, что пора ему перестать чувствовать себя гостем, пора начать трудиться.
Настю он не видал. Приходил ее отец, долго сидел на кровати Михаила, курил, говорил: «Да, да, грехи наши, господи, да, да», слушая рассказ Михаила о смерти зятя, повздыхав, уходил, чтобы снова прийти на следующий вечер вздыхать над ухом Михаила, повторяя изредка свое присловье: «Да, да, как это, да, да, грехи наши, господи…» Приходили еще два инвалида, один без правой руки, другой без левой. Они мрачно шутили, что из них двоих получился бы один вполне приличный пахарь или тракторист, но держались спокойно. Они работали в колхозе, хотя Михаил не спросил, какую же работу нашли в колхозе для калек. Ему казалось, что только эти два товарища по несчастью понимают его состояние. Но, удовлетворив свое любопытство, инвалиды перестали навещать его, и тогда Михаил с горечью подумал, что все окружающие его — равнодушные люди.
Настя пришла как-то утром, когда все домашние уже ушли. Она стояла у порога горницы, куда только что проник утренний луч солнца. В этом почти призрачном свете лицо ее показалось Михаилу скорбным и гневным, так что он смотрел на нее с некоторым испугом. Он встал, роняя костыли, опираясь рукой о стенку, и попросил ее присесть. Настя осталась на месте и спросила так, словно они и не прерывали какой-то долгой беседы, может быть, начатой ею еще тогда, на телеге:
— Трудно он умирал?
Михаил ответил раньше, чем успел подумать:
— Умирать всегда трудно…
— Неправда, служивый, жить бывает труднее…
Он молчал, не зная, какими словами утешить эту молодую и такую в то же время старую женщину, у которой через весь высокий лоб пролегли морщины, каких не нанесла на его лицо даже война.
— Что он тебе сказал перед смертью? — спросила она.
Можно было солгать, что Сергей думал и говорил о ней, но Михаил помнил, как умирающий заговорил о танках, должно быть, ему показалось, что он все еще в том бою, когда им пришлось отражать атаку немцев на мост.
Настя смотрела в глаза Михаила и ждала, а он не мог солгать и не мог сказать всю правду. Он осторожно выговорил:
— Сергей умирал в беспамятстве… А до этого написал вам письмо…
— Правда… — задумчиво согласилась она. Потом посмотрела на него с неожиданным и странным любопытством и спросила — А это верно, что вы по счетной части можете?
Вопрос был неожиданный, как неожиданно она перешла на вы, словно все грубое и страшное, что говорится только на ты, было сказано и теперь между ними возникли какие-то новые, так сказать, официальные отношения. Он смущенно ответил:
— Нет… Кто вам сказал?
— Наши ребята. Вы, сказали, грамотный, а то у меня фуражная ведомость не сходится, а председатель голову оторвет, если какая проруха будет…
Тут он заметил, что в руках она держит тетрадку, сминая ее постепенно в трубочку. Он невольно протянул руку.
— Может быть, разберусь…
С какой-то робостью она прошла к столу, присела на краешек скамьи, впервые обвела комнату задумчивым, нелюбопытным взглядом, словно лишь для того, чтобы узнать, как он живет. Михаил развернул тетрадь. Это была счетная книга молочной фермы, тут же лежали ведомости на полученный фураж, на выданное молоко. Настя терпеливо сидела в той же неловкой позе. Михаил мельком взглянул на нее и удивился, как она молода. Теперь лицо ее стало спокойным, видно было, что ей не больше двадцати лет.
— У вас дети остались? — спросил он.
— Нет, — коротко ответила она. Потом, по-видимому, подумав, что ответ прозвучал грубо, пояснила — Мы ведь только перед его уходом в армию поженились. В сорок третьем.
Он кончил считать, все в книге было в порядке. Она поблагодарила кивком, собрала записи, сказала:
— А не скучно вам дома сидеть? Все в избе да в избе… Вышли бы как-нибудь на улицу…
— Трудно и непривычно, — ответил он, ударив ладонью по костылю.
— А как же совсем которые без ног вернулись?
— Не знаю.
— Ну, спасибо за помощь, — сказала она уходя. — Сама-то бы я не знай сколько просчитала. Еще раз спасибо…
— Ну что вы, не стоит благодарности, — смущенно сказал он. И, подумав, добавил — Заходите еще, если нужда будет…
— А у нас всегда нужда, — вдруг строго сказала она, — только беспокоить вас неловко, — и вышла, тихонько притворив дверь…
Улица была пуста. Михаил упрямо шел вперед, не видя конца этой прокаленной белой улице, на которой тени лежали решетчатыми письменами, словно предупреждали об опасности. Все тело ныло от усилия, с которым он передвигался. Костыли глубоко зарывались в пыль. С конца деревни слышался звон металла и женский плач вперемежку с руганью. Женщина не умела ругаться, и потому все слова ее звучали горестно. Михаил усмехнулся этой жалкой бабьей брани. От этой усмешки стало даже легче.
Кузница, из которой доносился до него звон металла и голос женщины, вынырнула неожиданно. Все равно, дальше идти бы он не смог. Он привалился к стене кузницы, прерывисто дыша.
— Ой, господи, кто тут? — спросила женщина и выглянула из открытой двери. Увидав Михаила, она приободрилась, сказала — А я уж нивесть что подумала. Да вам никак тяжело?
Подхватив Михаила за локоть, она ввела его в прохладное темное помещение кузницы, где даже огонь горна казался жалким и тусклым. Усадила его на столбушок рядом с наковальней, подала холодной воды в туеске. Михаил отдышался и пристально посмотрел на женщину. На больших серых глазах ее еще не высохли слезы.
— Да и вам не легче, — неловко улыбнувшись, сказал он.
— Где уж тут легче! — простодушно согласилась женщина, но сразу поправилась — Одно у меня, хоть руки-ноги целы, а вы вон чуть дышите… Чего это вы один-то вышли? Али забота какая?
— На помощь вышел, — снова усмехнулся Михаил.
— Какой уж из вас помощник, сидели бы лучше дома, силы накапливали. Всему время будет, с вас пока что не спросится. Заслужили…
Он промолчал в ответ на эти участливые слова и спросил:
— А почему вы одна тут?
— Нету мужиков-то, не хватает на другие дела. А у меня муж в кузне работал, я присмотрелась.
— Где он?
— Там остался, — просто и спокойно ответила женщина.
Вдруг Михаил с удивлением подумал о том, что и Настя, и эта вот незнакомая женщина говорили о смерти так просто, словно она не трогала их. А может быть, именно потому, что уж слишком горькой была смерть, они и старались забыть о ней. Нашла же Настя силы работать в тот день, когда он передал ей последнее письмо мужа, работала она и теперь. Хватило у нее силы прийти к нему, печальному вестнику. А Михаилу казалось, что никогда бы он не пожелал видеть человека, принесшего весть о несчастье.
Женщина смотрела на него с любопытством, но потом вдруг спохватилась и прошла к горну. Выхватив из огня два куска металла, она стала прилаживать их на наковальне. Ей было неловко работать сразу и клещами и молотом, обломки сползали с наковальни. Повернувшись к наковальне, Михаил предложил:
— Дайте, я подержу.
— Ну, если можете, — нерешительно сказала женщина.
Когда куски были сварены, он понял, что это был сломанный нож из жатки. И сама жатка стояла недалеко от двери, распахнув крылья, словно раненая птица. Михаил с любопытством смотрел, как женщина приладила нож на место. Машину она знала плохо, но терпение у нее было большое. А может быть, его присутствие ободряло ее. Он вылез из кузни, присел на земле, вытянув ногу, и сказал:
— Гайки тут обратного хода. Дайте-ка я раскручу…
— А вы и в этом деле понимаете? — с уважением спросила женщина. — Тимофей говорил, что вы по счетной части…
Неловкое подозрение, что Настю прислал именно Тимофей и, может быть, только для того, чтобы пристыдить его, задело Михаила. Но он промолчал, во-первых, потому, что надо было смотреть в оба, чтобы нож не соскочил раньше времени и не поранил неловкую женщину, во-вторых, потому, что у него не хватило силы привернуть гайку, а женская рука была и совсем не к делу. Так он ползал вокруг жатки, временами забывая о боли, временами бледнея и откидываясь всем телом, чтобы прислониться к чему-нибудь и переждать острый приступ, когда неловко двигал больной ногой. Женщина смотрела на него сначала с изумлением, потом с благодарностью и даже некоторым страхом, словно боялась, что он может вдруг отказаться от дальнейшей помощи и оставить ее наедине с машиной. Вместо одного ножа, который женщина хотела исправить, они начисто разобрали жатку и переставили все ножи, и теперь машина лежала бескрылая, беспомощная; может быть, женщина больше всего боялась именно того, что он может уйти.
На дороге показалась скачущая лошадь в хомуте. На ней сидел парнишка, закричавший еще с дороги:
— Скоро ли, Васса, сделаешь? Председатель бранится!..
Увидев Михаила, он застыл с широко открытым ртом, потом медленно сполз с лошади и присел в стороне, так и не закрыв рта.
Женщина собирала жатку, повинуясь коротким указаниям Михаила. Не удержав тяжелый шкворень, она крикнула парнишке, и тот начал робко помогать. Михаил с важностью доброго работника снисходительно сказал:
— Еще минут десять…
Втайне он побаивался, что крылья жатки не будут вращаться, что ножи будут цепляться один за другой. Уже три года он не прикасался к сельским машинам, да и раньше-то разве лишь видел, как их ремонтируют. Но умел же он разобрать и прочистить такую сложную машину, как, скажем, пулемет, значит должен сделать и эту работу. А кроме того, было просто приятно ощущать запах масла, приятно было чувствовать, что металл подчиняется ему…
Парень запряг лошадь. Она помахала хвостом с безразличным видом и пошла. Женщина сидела на железной скамеечке для жнеца и с испуганным видом регулировала рабочие части машины.
— Не бойтесь, Васса, — громко крикнул Михаил, вздрагивая от скрежета металла. — Жатка действует!
До самого вечера в кузницу то и дело прибегали люди с мелкими делами. Одному надо было сварить литовку, другому — перековать лошадь, третий потерял чеку… И по тому, как скоры и требовательны были эти люди, чувствовалась напряженная работа в поле, ее могучий ритм, захватывающий всех. И уже никто не обращал внимания на Михаила, наоборот, и на него покрикивали, если он не успевал вовремя приковылять к горну или подать то, что требовалось занятому человеку.
Было уже темно, когда он добрался до избы Тимофея. Семья Соловарова сидела за столом. Михаил смущенно ждал, что сейчас начнут расспрашивать его о первом рабочем дне, но никто ничего не спросил, только Соловаров сказал, подвигая тарелку:
— Есть у меня пол-литра. Однако выпьем, пожалуй, в воскресенье. День будет нерабочий, удовольствия больше…
Михаил промолчал. Еда казалась вкусной, хотя все тело ныло, под мышками прощупывались волдыри от непривычно долгой ходьбы. Но голова была ясной, усталость лишь обвевала ее. Хотелось спать, но даже зевота была сладкой и успокоительной. Соловаров поднялся из-за стола, сказал:
— Так я наряд на тебя на кузню выпишу. Думал по счетной части определить, но раз ты и в машинном деле горазд, придется там оставить… К осени дом тебе отгрохаем, а пока что невесту присматривай. Ну, пошли, брат, спать…
Все было так просто, что стало несколько печально на сердце. Впрочем, и печаль эта была тихой и сладкой, как сонная зевота, как истома, ломившая тело. Михаил подобрал костыли и прошел вслед за Соловаровым в сарай, где пахло сеном и были разбросаны постели. Сквозь сон был виден дом и покой. Война кончилась. Кончилась бесприютная жизнь…
Примечания
1
Стихи здесь и далее — автора.
(обратно)2
«Ищите женщину!» (франц.).
(обратно)3
Незаливаемое место на пойме реки.
(обратно)4
Части обеспечения военно-автомобильных дорог.
(обратно)


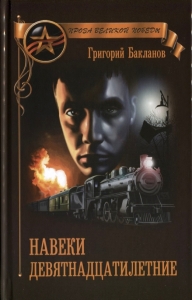




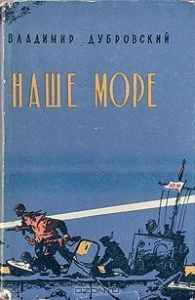


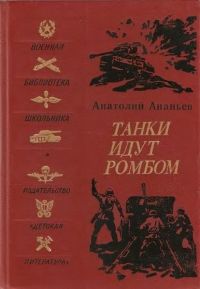
Комментарии к книге «Огненная дуга», Николай Александрович Асанов
Всего 0 комментариев