Леонид Первомайский ДИКИЙ МЕД Современная баллада
ПРЕДИСЛОВИЕ
ЭТО УЖЕ ТОЖЕ В ПРОШЛОМ, ЗА ПЛЕЧАМИ, там, где осталось много других дорог, а все-таки закроешь глаза, и кажется, что и сейчас тот самолет летит на север. Вверху — синее небо и большое солнце. Все уже давно сбросили меховые куртки и остались только в новых свитерах, заправленных в глубокие полярные штаны, в которых утопаешь по грудь; ноги блаженствуют в лохматых унтах, шапки полетели прочь, попробуй найди их! Сколько же градусов может быть теперь там, за стенами кабины, в голубом пространстве, в котором самолет, кажется, висит без движения на одном месте?
В хвосте самолета свободный бортмеханик хозяйничает возле газовой плитки. Аромат крепкого кофе наполняет самолет, смешиваясь с запахом свежей картошки, мороженой рыбы, оленьих шкур и бензина.
Из-под крыла однообразно выплывает медленная пустыня облаков. Когда смотришь вниз, кажется, что самолет скользит по снежной равнине; белые продолговатые пряди, оторвавшись от неподвижного на вид, а в действительности беспокойно клубящегося скопления облаков, летят навстречу самолету, как полупрозрачные языки поземки.
Самолет загружен до отказа. Из-под теплых ватных чехлов для моторов видны подогревательные лампы и трубы к ним, рядом — движок для зарядки аккумуляторов; на кулях с хлебом и мороженым мясом лежат брезентовые мешки с почтой и плоские круглые жестянки с новыми кинофильмами; на бочках с бензином — листы фанеры, доски, бур, ледомерная рейка, оленьи шкуры, наконец, палатка — все, что будет нужно там, куда они летят.
В разрывах облаков темнеет земля; впрочем, это давно уже не земля, синеет море, загроможденное льдами… Уже скоро и та неизвестная льдина, на которую сядет самолет.
Бортрадист появляется в дверях кабины летчиков, в шлемофоне у него странный вид, у этого парня, — словно он упал с другой планеты. Бортрадист широко улыбается, показывая зубы, белые как сахар, что-то кричит и машет руками. Ее спутники понимают эту сигнализацию: они не впервые летят на льдину; только она ничего не понимает и, чтобы понять, до боли в глазах всматривается в молочно-синее марево, плывущее под крылом самолета.
Ей тесно и неудобно в меховых полярных штанах, подпоясанных тонким ремешком под самой грудью; ноги в унтах кажутся слишком большими и тяжелыми, она не представляет, как будет ходить в них на льдине. Самолет кренится набок, поднимает крыло, оно закрывает все небо, его зернистое серебро слепит глаза. Пилот врезывает в синюю пустоту крутой вираж, потом другой и третий, стрелка альтиметра ползет вниз, вот уже крыло вонзается в гущу облаков и начинает разрезать их, словно огромный блестящий нож.
Она еще никогда не забиралась так далеко от своего Сивцева Вражка. Много летала, плавала, ездила — в поездах, машинах, на пароходах, один раз даже пришлось на подводной лодке, но все это ничто в сравнении с этим полетом. И верно, не в расстоянии тут дело, а в чем-то другом, чего она не может сразу выразить, — сознание того, куда она летит, наполняет ее жуткой радостью, хоть в конце концов это только льдина в море, большая льдина, на которой живут и работают люди.
Живут и работают — это легко сказать, нетрудно представить, но, чтобы понять до конца, нужно вспомнить тех, кто шел впереди. О них нужно всегда помнить. Она помнит, но пусть не забывают другие, чтобы не успокаиваться. Ни от чего не отказываться, ничего не бояться — льдина так льдина. Она сделает на ней свою работу, и никто не сможет сказать, что она испугалась трудностей, отказалась, сославшись на то, что ей обязательно нужно быть в Москве.
У Гали там, в Москве, сейчас тяжелые дни.
Галя исхудала и побледнела, до ночи засиживаясь в мастерской над проектом городского микрорайона, где должно быть все: жилые дома, школы, кино, торговый центр, скверы, спортивные площадки, детские сады и ясли, не говоря уже о множестве других сооружений. Откуда это у нее, у Гали? Откуда она может знать, как нужно все разместить, чтобы было хорошо и чтобы во всем было не только удобство, чувствовался не только разум зодчего, но и необходимая людям красота? Возможно, это в крови у поколения, которое хочет обновить и украсить землю после военного опустошения. Возможно, но все же могла ли она подумать, что та девочка с острыми коленками, которую она несла на руках из Москвы в Тарусу, та крошка, с которой она ночевала ночку в поле под высокими звездами на теплой земле, ее кровинка, будет архитектором, станет работать в большой мастерской, участвовать в конкурсах, волноваться и худеть от неудач? Господи, как быстро летит время… Даже на этом скоростном самолете нельзя догнать его, отстаешь, жизнь в конце концов обгоняет тебя — начинает казаться, что ты стоишь на месте.
А самолет пробивает толщу облаков, и хотя ей ничего не видно, она знает, что льдина уже совсем близко, что на подготовленном для посадки ледяном поле люди ждут самолет, всматриваются в затянутое высокими облаками небо и ловят грохот моторов, что принесли ее сюда, за тридевять земель.
У мамы ночью подскочила температура, как всегда неожиданно; мама уже совсем старенькая, с трудом ходит по их маленькой двухкомнатной квартирке в Сивцевом Вражке. Как же она могла полететь на льдину, как она могла решиться, если ей нужно быть там, возле них, возле усталой Гали и больной мамы? Нужно было пойти к редактору, к Дмитрию Лукичу Пасекову, и решительно отказаться, пусть бы полетел кто-нибудь другой. Полетела, полетела, полетела… Ничего не скажешь, ничего не поделаешь, ничего не вернешь — поднялась и полетела, так, словно они девочка, словно у нее нет обязанностей, кроме службы, словно она ждет чего-то от этого дальнего полета для себя, для своего сердца, — ведь об этом нечего и думать, правда?
Дело не в этом: можно было отказаться, никто не стал бы ее заставлять, — только как же тогда думать о трудных дорогах, которые нужно не только открывать, но и продолжать?
Сверху видно всю льдину: маленький остров в океане, отделенный темными разводьями от других таких же островов и скоплений битого льда, — маленький остров и расположенный на нем лагерь. Она видит черные куполообразные палатки, кубики сборных домиков, тонкую мачту радиоантенны, ярко выкрашенные треноги над лунками во льду, засыпанные снегом бочки и ящики — склады горючего и продовольствия. Сначала все это, а также оранжевый вертолет, стоящий в стороне от домиков и палаток, и трактор, который тянет на полозьях за собой красные газовые баллоны, похожие издали на револьверные патроны, — все это кажется совсем маленьким, игрушечным, и расстояние между неподвижными палатками, домиками лагеря и этими заводными игрушками совсем незначительное. Потом все начинает увеличиваться, словно разбегаться в стороны, а те мелкие зернышки — она давно уже обратила на них внимание, — так ведь это человеческие фигурки, они тоже увеличиваются, то возникая в поле зрения, то скрываясь под крылом; самолет кружится над льдиной, заходя на посадку.
Льдина плавно летит вверх, мягко ударяется о лыжи самолета, люди бегут по неожиданно устойчивому и надежному льду, размахивают шапками, самолет медленно подползает к ним на своих больших лыжах, смолкают моторы, в последний раз качнулись и остановились пропеллеры, разноголосо звучит салют из ружей, пистолетов и ракетниц. Она выходит последней, неуклюже ступая в больших унтах; она тут никого не знает, и ее не знает никто, но и на ее долю хватает объятий и поцелуев, кто-то сильно хлопает ее медвежьей лапой по плечу — так встречают гостей удивительные люди, дрейфующие в океане.
Ну хорошо, допустим, она не нашла своего счастья в жизни: так сложилась ее судьба или, проще, биография; такое было время, когда все ломалось, не она одна знает чувство утраты, нет ни одной женщины ее поколения без рубцов на сердце, но Галя, почему Галя возвращается из своей мастерской поздно вечером, одна, она ведь уже совсем взрослая, и время теперь лучше, значительно лучше для счастья. Проекты, эскизы, чертежи… То же, что и у нее: пленка, негативы, снимки, напечатанные в очередном номере журнала. И за каждым снимком — поездка, поход, полет. И всякий раз кажется: приложишься к старенькому «ФЭДу», поймаешь видоискателем тот кадр, за которым охотишься всю жизнь, щелкнешь затвором — и наступит вечное счастье.
До какой же поры? Ты бы лучше думала про Галино счастье, а не про свое.
Так ведь я и думаю про Галино счастье, думаю, но не знаю, каким его видит Галя. Не может быть, чтобы все Галино счастье состояло только в том, чтобы проектировать дома, стадионы, детские сады… Хоть это, конечно, большое счастье. А разве может быть большее или меньшее счастье? Счастье — то же, что правда. Не существует половины, трех четвертей, девяти десятых правды — в таком, случае одна десятая будет ложью и вся правда рушится в пропасть. Девять десятых счастья — все равно что его нет, одна десятая беды съедает все. Может, Галя и сидит до ночи в своей мастерской потому, что ей нужно все время что-нибудь подбрасывать той ненасытной одной десятой? Свое счастье я хорошо знаю, сразу узнала бы его в лицо, хоть и в темноте бы встретила, а вот Галя…
Она ходит по льдине и удивляется, как все тут просто и надежно устроено. Солнце теперь не закатится полгода, работать можно круглые сутки, — время разделено на вахты, каждый знает свое утро и свою ночь. От нее зависит — вернуться через несколько дней с самолетом, что принес ее сюда, или остаться тут надолго, днем и ночью видеть солнце, ослепительное мерцание льда, жить в палатке, слушать непрерывное тарахтение дизеля электростанции и чувствовать и знать, что ее счастье тут.
Она спросила у начальника станции, можно ли отправить радиограмму в Москву: там у нее заболела мать.
— Как же вы улетели? — спросил начальник и сам отвел ее в радиорубку.
Бородатый, похожий на голландского шкипера из забытой книжки молодой парень в радиорубке отстукал ключом ее радиограмму в Сивцев Вражек и отметил что-то в своем журнале.
Радист был не только молодой, но и славный парень, его, наверное, тронула тревожная радиограмма, он сказал, что волноваться не нужно: в Москве на каждом шагу доктора, там мама не останется без квалифицированной медицинской помощи, да и Галя с ней — присмотрит. Вот на одной зимовке был случай, за которым следили все радисты Севера: врач сам себе делал операцию аппендицита, стояла штормовая погода, никто не мог прилететь ему на помощь.
Она сфотографировала радиста за работой, и, чтобы отблагодарить ее, а может быть, и отвлечь от тревожных мыслей, он сказал, что на льдину заплывает огромная белая медведица с двумя медвежатами; она, если хочет, может увидеть и даже сфотографировать эту милую семейку, вот он закончит свою вахту, и они засядут за торосами, он знает любимое местечко белой мамаши.
Радист разговаривал с нею обдуманно небрежно, наверное от молодости, — чтобы она не подумала, что он хвастает опасностью — какое тут может быть хвастовство, когда приходится брать с собой многозарядную винтовку! До конца вахты осталось часа полтора, прогуляемся?
Что же, она не прочь. За два дня сфотографировала все, что могла (дрейфующая станция — большое хозяйство, но людей тут не так много), всех сняла: гидрологов возле треноги над лункой, аэрологов с радиозондом, океанографа в лаборатории, совершенно здоровых пациентов на приеме у врача, все и всех — не только научных работников, но и худощавого, жилистого кока возле газовой плиты в камбузе, и трактористов, срезавших заструги на льду каким-то прицепным устройством, и выпуск стенгазеты, и оранжевый вертолет над льдиной сфотографировала тоже, и целую пленку портретов для пересылки семьям, — теперь можно сходить и за белой медведицей.
На границе летного поля они встретили высокого старика, борода у него блестела, как серебряная, он поднял руку, приветствуя их, и крикнул, не останавливаясь:
— Куда направляется король эфира после очередной вахты?
— Хозяйка Севера назначила нам свидание, — ответил радист тоже на ходу.
Седой старик крикнул уже издали:
— Передайте ей, чтобы чаще смазывала ось: скрипит, заснуть нельзя… Я буду жаловаться начальнику экспедиции.
Хотя они думали, что это только им одним понятные шутки, она все поняла, почувствовала и ту невольную грусть, что скрывалась за веселой иронией этих людей: если край света не здесь, то где же он?
В Москве теперь ночь… Галя давно возвратилась из мастерской, мама не спит и окликает ее из своей комнаты:
— Галочка, молоко в холодильнике у соседки, она говорила, что поздно не будет спать…
И Галя идет через площадку к соседке, берет молоко из холодильника и пьет прямо из бутылки, переохлажденное, с волоконцами льда, пьет маленькими, осторожными глотками и перелистывает страницы архитектурного журнала — принес почтальон, когда она была на работе. Их двухкомнатная квартирка — только маленький закоулок в большом улье многоэтажного дома, вписанного темным кристаллом в ночное небо. Дом стоит на твердой почве, под ним не колышется черное чрево океана, там надежная земля, безгранично щедрая земля, которая еще подарит тебе счастье, а если не тебе, то твоей Гале.
Счастье, счастье, счастье… Что же это такое, в конце концов? И может ли она считать себя несчастливой? Ведь у нее все было в жизни, ей не на что жаловаться, она бы и не унизилась до жалоб. Белая мамаша — это тоже счастье, вот она сейчас ее увидит, а могла бы и не знать о ней.
Солнце плещется в черно-зеленой воде. Она лежит за ледяным торосом и ждет — сейчас над водой возникнет продолговатая голова белой медведицы.
Этого не нужно было делать, вопрос обернулся против нее самой, но она спросила:
— Трудно вам тут?
— Седову было трудно. Пири и Амундсену тоже. — Бородатый молодой радист засмеялся. — А мы каждый месяц смотрим новые фильмы… К нам даже артисты с концертами прилетают.
Нет, я не о том, совсем не о том, — упрямо спрашивала она, добиваясь ответа не от него, а от себя. — Не страшно?
— Давайте помолчим, медведи — народ чуткий, — вдруг помрачнев, ответил радист. — Страшно на печке лежать.
Это она и хотела услышать. Ей тоже не было страшно. Нигде и никогда. Хотя для нее и не стояли вертолеты, не дежурили день и ночь радисты, не спешили на помощь ледоколы. И трудно никогда не было. Была усталость, болезнь, ранения на войне, были утраты, но, значит, не тяжело, если она все это вынесла… Что же она, железная? «Боже, — ответила она себе, — я ведь обыкновенная баба, но могла б сказать то, что и он: страшно на печке лежать».
Поднялась и полетела. Это только в песне так поется. Не нужно себя обманывать. Она не птица, ей не легко летать. Для ее души нужны большие крылья: слишком тяжелый груз в ее душе. Хорошо, пусть большой, но крылья растут и растут, — может, и вырастут они в конце концов так, что появится та легкость, что снилась ей всю жизнь, — только хватит ли для этого ее жизни?
Радист тронул ее за локоть.
Медведица высаживала на льдину своих детенышей, подталкивала их мордой под зад. Она не успела это сфотографировать. Зато когда медведица спокойно устроилась на льду, а медвежата прижались к ее животу и с любопытством стали оглядываться вокруг и обнюхивать воздух, она уже щелкала затвором аппарата.
За спиной у медведицы колыхался и блестел жирными волнами океан; медведица высоко подымала тонкую голову, медвежата прижались к матери. Все они были ослепительно белые — почти сливались со льдом, только три черных пятна выдавали их: нос и глаза. Солнце пылало, синие тени лежали на снегу… Хорошо, что в аппарате была цветная пленка.
Радист держал наготове винтовку.
— Все? — спросил он шепотом. — Отползайте потихоньку.
Значит, была какая-то опасность? Все же не такая, как на войне…
Радист догнал ее, оба были вооружены: у нее — аппарат на потертом ремешке, у него — многозарядная винтовка за плечом. И там, на войне, было то же самое — всегда кто-нибудь прикрывал ее. Одного она даже видела, когда он лежал под плащ-палаткой. Боже мой, и фамилия уже вылетела из головы, только и помнит: что-то неестественно длинное и неподвижное, совсем не похожее на живого человека. Да еще как он всхлипнул ночью, когда они сидели в окопе на плацдарме. Неожиданно начался ливень. А утром его уже не было…
— Вы могли бы убить белую мамашу?
Радист молча взглянул на нее удивительно чистыми глазами.
— Если нужно, почему бы и нет?
— А на войне вам приходилось убивать?
— Мне было двенадцать лет, когда все окончилось.
— Все?
— Не знаю.
— Я верю, что вам не придется убивать.
Ей стало жалко его чистых глубоких глаз. Они молча дошли до домиков станции.
Неожиданно затянуло тучами небо, ветер налетел сразу со всех сторон, и все потонуло в снежном мраке. Нельзя было выйти из засыпанной снегом палатки. Она волновалась, ждала ответа на свою радиограмму и слушала рассказы профессора с серебряной бородой. Он вовсе не был стариком, просто ему удалось живым вернуться из гитлеровского концлагеря, — профессором он стал уже после войны, а бороду тут отпускают почти все.
Пурга на время утихла, все сошлись в кают-компании, каждый показывал свое искусство: летчики играли на губных гармониках, кок жонглировал тарелками и ножами, трактористы спели дуэт Одарки и Карася. Она тоже не заставила себя просить и спела — неизвестно, почему именно это пришло ей в голову, — ту песенку, которой убаюкивала Галю, старую песенку про ветер, солнце и орла. Может, потому, что все время думала про Галю и про маму, от которой перешла к ней эта колыбельная. Пела она так просто и так искренне, что не было конца восторженным крикам и аплодисментам полярников. Ее заставили еще раз спеть про ветер, солнце и орла, она и не заметила, что свободный от вахты радист записал ее песню на магнитную пленку, и в третий раз зимовщики аплодировали уже магнитофону, а она удивленно слушала свой голос и не узнавала его — такой он был чужой и нежный.
После концерта начальник станции вручил ей давно уже полученную радиограмму.
«Проект утвержден, — сообщала Галя. — Возвращайся как можно скорей».
«Мама!» — сразу поняла она.
Ей так хорошо было среди людей на льдине, тут собрались настоящие люди, с ними ей было легко., она не чувствовала ни своих лет, ни утрат. Нужно возвращаться. А она могла бы остаться с ними. Могла бы. У полковника Лажечникова в землянке она тоже хотела остаться, а что из этого вышло? Нужно возвращаться.
Может, если бы она осталась там, в землянке у Лажечникова, все сложилось бы иначе, откуда она может знать? Всегда кажется, что один ошибочный шаг в жизни решает все, что случается потом. Если бы можно было вернуть ту землянку! Она сразу же испугалась этой мысли: вместе с землянкой вернулись бы война, страдания миллионов людей, сожженная земля и убитая трава, — слишком дорого обошлась бы та землянка, которой она не может забыть… Пусть живет она только в ее памяти, так спокойней, так легче для всех.
Снова налетает пурга, льдина медленно плывет во мраке по ревущим просторам океана, слышен грохот торосов, словно непрерывно бьют тысячи орудий и падают многотонные бомбы; она никогда не слыхала ничего подобного, даже в то лето, когда ей пришлось ползать по полю от одной воронки до другой, чтобы сфотографировать фашистский «тигр», — никогда не слыхала и не представляла, что существуют в природе такие оглушительные звуки, такой треск и вой.
Радио непрерывно связывается со всеми метеостанциями Севера, льдину раскалывают трещины, зимовщики перетаскивают склады и палатки, летчики ставят на ледяной якорь самолет, ветер рвет и ломает защитные щиты на моторах, но синоптики обещают: это ненадолго.
Ненадолго — легко сказать! Время остановилось, откуда она может знать, когда оно снова двинется вперед и вынесет ее на твердую землю, да и вынесет ли? Чувство вины не оставляет ее. Хорошо, она виновата, что оставила маму, но при чем здесь все другие на льдине? Ее жизнь так крепко переплелась с чужими жизнями, что их нельзя разделить, все теперь общее, все отвечают за всех. В старину было легче: грешника выбрасывали за борт корабля, океан принимал или отвергал жертву, не нужно было ломать себе голову, сразу было видно, кто виноват.
Утихает штормовой ветер, тучи летят вверх, расходятся, глаза ослепляет фантастическое нагромождение ледяных обломков, свежих торосов, зияют бездонные разводья, солнечные лучи преломляются в прозрачных гранях льда, горят, сверкают, переливаются бесконечной гаммой оттенков синевы — от светло-зеленоватых до чернильно-фиолетовых, почти черных.
Ничего не случилось, напрасно она испугалась, трусиха. Зимовщики расчищают аэродром, — к счастью, трещины не повредили его. Экипаж самолета подогревает моторы, бортрадист обметает обыкновенным веником снег с антенны; катят бочки с горючим, погрузка уже закончена, взревели моторы, вот уже и последние рукопожатия, хлопают дугообразные двери самолета, — небо, дорога, земля ожидают ее. Самолет отрывается от льдины, она видит: белая медведица под крылом самолета могучими лапами борется с волнами, белая узкая голова ее колышется над бездной, рядом — головы ее детенышей…
…А если открыть глаза — потертый фабричный коврик плывет со стенки на тахту, вытканные на нем медвежата стоят на задних лапах, далекие родичи тех, что на льдине, — у одного осталось только полголовы: Галя выщипала по ворсинке еще в детстве, лежа в скарлатине на этой тахте.
ЧАСТЬ I
1
Еще не открывая глаз, сквозь сомкнутые веки Варвара почувствовала, как в зрачки ее входит яркий и теплый свет. Он обнимал ее всю, касания его были осторожно-ласковые, нежные и спокойные, как речная волна. Сон сразу исчез. Тело отдохнуло за ночь и теперь не напоминало о себе ничем, словно оно существовало отдельно от нее, совсем ей ненужное, а вместо него было только давно забытое чувство собственной невесомости, свежести и легкости — то радостное чувство, с которым просыпается вполне здоровый и счастливый человек.
Под пятнистой трофейною плащ-палаткой шелестело сухое сено. Пахло привядшей полынью — Варвара нарезала ее с вечера под тыном и положила под плащ-палатку от неизбежных блох. Маленькая подушечка в красной наволочке — думки — ускользнула из-под головы. Варвара раскрыла глаза и увидела над собою дощатый, в щелях, потолок сеней, открытый лаз на чердак, — на верхней ступеньке приставленной к лазу тонкой лесенки сидела рябая курица и, склонив набок голову, смотрела на нее одним глазом.
Сквозь широкий и низкий проем настежь открытых дверей в сени вливался могучий поток света, за ним еле просматривались двор, поросший бурьяном, тропка, протоптанная к колодцу, черно-зеленый плетень и ослепительно белая стена соседней избы.
Высоко в воздухе послышалось бормотание мотора, звонкий женский голос во дворе пропел:
— Снова летит, ирод проклятый!
— Пускай летит, — пренебрежительно отозвался другой голос, мужской. — Каждый день летает… Ищет!
— Нет того, чтоб ссадить его, — насмешливо пел женский голос. — Зениток в кустах понаставили… А для чего, если они не стреляют?
Мужской голос лениво объяснил:
— Из-за какой-то паршивой «рамы» штаб демаскировать? Пускай летает, нас не найдет…
Видно, у мужского голоса были еще и руки, потому что женский удивленно и испуганно ахнул и словно начал отталкиваться от него:
— Что ты, что ты, Федя? Иди себе, иди!
Теперь только Варвара со всей ясностью вспомнила, что хотя яркий и теплый свет заливает сени, хотя мирная курица сидит на ступеньке лестницы, война не окончилась и она снова на фронте после долгого лежания в госпитале и короткого отпуска, снова в чужой избе, снова должна ездить на попутных машинах, ходить пешком из части в часть, ползать по передовой, фотографировать, проявлять и посылать пленку в редакцию.
«Ну вот и хорошо», — сказала она себе.
Варвара легко подняла свое большое тело и теперь уже сидела, укрыв колени легким байковым одеялом, в углу сеней, на широком дощатом лежаке, который служил ей кроватью.
«Хорошо, очень хорошо…»
Скорее всего это относилось не к войне, а к тому, что она жива, теперь уже здорова и снова вместе со всеми может делать все, чтобы окончилась война, чтоб не слышалось над головою в высоком прозрачном воздухе бормотание мотора, чтоб остался только этот теплый свет, курица на лесенке, голоса во дворе, белая стена за плетнем — жизнь, которой никто и ничто не угрожает.
Варвара блаженно покачивалась, охватив колени, словно купалась в теплом свете, которым были наполнены сени.
Вчера утром с вещевым мешком за спиною, в котором было все ее добро, в цветастом платье и туфлях на высоких каблуках, но в пилотке, Варвара шла пешком вверх по улице Горького, через мост у Белорусского вокзала и дальше по Ленинградскому шоссе — на аэродром. Она могла поехать на метро, но ей некуда была спешить, самолет улетал только в девять, кроме того, ей хотелось еще раз посмотреть на Москву, что уже снова наполнилась людьми, жила и работала, правда еще не похожая на довоенную Москву, которую помнила Варвара, но не походившая уже и на тот недавний тревожный город, который тоже трудно было забыть.
На громадном поле аэродрома было не много самолетов и совсем мало людей. Подъезжали пузатые бензоцистерны, заправщики карабкались на крыло с шлангами, тарахтел моторчик, бензин лился в баки. Варваре показали облезлый «дуглас», он не вызывал доверия; трапа возле него не было, кто-то протянул ей руку из дугообразного отверстия дверей и втащил в кабину. Двери сразу же захлопнулись у нее за спиной, и она увидела себя в загроможденном какими-то ящиками проходе, между двумя рядами молодых и немолодых лиц под летными фуражками и пилотками. Варвару качнуло — уже ревели моторы, самолет выруливал на стартовую дорожку. Капитан с маленькими усиками подхватил ее за локти, она перелезла через ящики и почти упала на его место на длинной дюралевой скамье. Два молодых лейтенанта сидели верхом на больших брезентовых бочках с запасным горючим по обе стороны двери в кабину экипажа. Самолет поднялся в воздух, лейтенанты сунули в рот папиросы и начали чиркать трофейными зажигалками. Варвара охнула, все вокруг засмеялись, с этого и начался полет, полный беззаботного смеха, словно впереди не бои ждали летчиков, а веселая прогулка.
Старшим в группе был капитан с усиками, он одинаково хорошо относился и к опытным летчикам, возвращавшимся в действующую авиацию из госпиталей и резерва, и к молодым выпускникам авиаучилища, которые еще не нюхали пороху в воздухе.
Рядом с Варварой сидел черноглазый мальчик в новой форме, он мило улыбался и по-девичьи краснел каждый раз, когда к нему обращались, — лицо мальчика прямо вспыхивало, словно освещалось изнутри, так действовали на него слова «младший лейтенант», сказанные кем-нибудь из товарищей, а особенно старшим в группе капитаном с усиками. Но еще больше он краснел, когда его называли не младшим лейтенантом Савичевым, а просто Володею… Глаза его сразу начинали влажно блестеть, ему очень не хотелось быть Володею, он чувствовал себя совершенно взрослым, на плечах у него были новенькие погоны с одной маленькой звездочкой — он время от времени искоса влюбленно поглядывал на звездочку, — в кармане лежала новенькая книжечка офицерского удостоверения, он летел на фронт, и все, что связывалось в его сознании с мальчишеским именем Володя, было уже далеко позади: энергичная мама, которая играла такую большую роль в его жизни, неоконченная десятилетка, авиаучилище, которое, по сути, если б не тренировочные полеты, было продолжением десятилетки… Только большеглазую девочку с рыженькой челочкой на лбу, подавальщицу Тоню из их столовой, он оставлял за собой из далекого прошлого, которое едва вчера окончилось; теперь он чувствовал себя младшим лейтенантом Савичевым и больше никем не хотел быть.
Летчики шутили, пели песни, старшие даже понемногу потягивали из заветных фляжек. Не до этого было только сержанту, что сидел высоко над ящиками под самым потолком самолета, высунув голову в люк, в котором вращался на турели спаренный пулемет, — но тот сержант был из экипажа «Дугласа».
Ей тоже предложили глотнуть из обшитой ворсистым сукном фляжки.
— Нет, я не пью, — сказала Варвара, и это была правда, хотя летчики не очень охотно притворились, что поверили ей. — Ей-богу, я не пью ничего, кроме воды и молока, — побожилась Варвара, и это вызвало такой взрыв смеха, что из кабины экипажа выглянул бортрадист, оторопело посмотрел на всех, ничего не понял и попятился в кабину.
— Как хорошо, что вы не пьете, — наклонился к уху Варвары Володя Савичев, когда бортрадист исчез и все стихли, заедая спирт черным шоколадом. — Я тоже не пью… Никогда еще не пил. И даже не хочется.
— Вам и не надо пить, — сказала Варвара, — вы еще совсем мальчик.
Володя вспыхнул, блеснул влажными глазами, — он рассердился скорее на себя, чем на Варвару, отвернулся и заговорил со своим соседом, таким же младшим лейтенантом в новенькой форме, только не с черными, а с серыми глазами и смешным носом картошечкой.
— Так тебе и надо, Савичев, — сказал сероглазый, — не ухаживай за старыми бабами.
Он хотел выглядеть бывалым воздушным волком.
Варвара услышала его слова и улыбнулась: она действительно должна казаться старухой этим мальчикам, слова сероглазого лейтенанта ничуть не обидели ее.
«Съела? — подумала Варвара. — Не будь моралисткой».
На земле летчики выстроились под крылом «Дугласа», и Варвара сфотографировала их, потом они заставили ее стать в центре группы, и капитан с маленькими усиками умело щелкнул «ФЭДом»; она дала им свой московский адрес, никто из них не знал еще номера своей полевой почты, неизвестно, куда они получат назначение! Пускай напишут, она пошлет снимки.
Гурьбой они отошли от самолета, все еще смеясь и переговариваясь; в это время застучали зенитки, пришлось бежать, падать в какую-то канаву. Рядом с Варварой очутился капитан с усиками. Капитан, должно быть, хлебнул в самолете немного лишнего из обшитой сукном фляжки, но держался хорошо: не обгонял Варвару по дороге к канаве и только, тяжело дыша, громко шептал: «Быстрей, еще один рывок! Не останавливайтесь!» Они вместе упали в канаву, которая отделяла аэродром от поля, и переждали в ней налет бомбардировщиков.
Из глубокой канавы не было видно, что делается на аэродроме, только слышались взрывы бомб, бешеный стук зениток и длинные очереди тяжелых пулеметов.
Зенитки отогнали девятку «юнкерсов», и завывание моторов начало угасать вдалеке. Они поднялись и, стоя еще на дне канавы, увидели, что в разных концах аэродрома пылают самолеты. Фюзеляж и крылья «Дугласа», на котором они прилетели, также облизывало пламя.
К самолетам бежали солдаты аэродромного обслуживания, летчики боевых экипажей, шоферы выводили неповрежденные бензоцистерны за границы летного поля, бойцы и летчики оттаскивали бомбы от самолетов. Капитан вылез из канавы, махнул Варваре рукой и, не оглядываясь, побежал к «Дугласу». Он придерживал рукою большой планшет и на бегу выбрасывал ноги как-то в стороны — отвык, должно быть, в небе от твердой земли. Варвара но уловила того мгновения, когда на месте «Дугласа» посреди аэродрома рванулась вверх туча черного дыма, в ней сразу исчезли и бойцы, что выбрасывали из самолета ящики, и капитан с усиками, и его большой планшет.
Варвара выкарабкалась из канавы, вышла через поле на дорогу и, сидя под телеграфным столбом, заплакала.
Она боялась вернуться на аэродром, боялась узнать, что черноглазый мальчик, который еще никогда не пил в жизни и так нежно, словно девушка, вспыхивал всем лицом, тоже погиб.
Телеграфный столб громко гудел проводами у Варвары над головой, тут и подобрал ее шофер «студебеккера», нагруженного снарядами для «катюш» в длинных решетчатых ящиках. Варвара, как во сне, ехала через разрушенный город, по узким разминированным проходам между черным горелым кирпичом, пережженным, смятым, как папиросная бумага, кровельным железом и россыпями битого стекла. Задымленные коробки домов без окон и дверей стояли облитые жарким солнцем. Минеры медленно шагали, выставив вперед длинные тонкие жерди миноискателей, спереди и сзади грохотали грузовики, все это отлагалось в памяти навсегда, особенно медленные, напряженные движения минеров, кроме которых, казалось, никого и не было в этом городе.
Под вечер, измученная долгой дорогой, Варвара прибыла в село, где размещался штаб.
На поперечной перекладине шлагбаума лежал грудью низкорослый сержант, он спросил у Варвары документы и долго разглядывал подпись и печать на ее командировочном удостоверении, светя себе карманным фонариком, хотя было еще достаточно светло.
— Ефрейтор Пильгук! — крикнул наконец сержант, возвращая Варваре удостоверение. — Ты где там, Пильгук?
Из-под темных деревьев возле крайней избы вышла девушка в солдатской одежде, на щеке у нее что-то темнело. Варвара присмотрелась — это было большое родимое пятно, которое называют «мышкой».
— Меня зовут Саня, — сказала ефрейтор Пильгук чистым, приветливым голосом.
Ей хотелось завязать разговор с приезжей, но Варвара не отозвалась, и Саня молча довела ее до часового у низкой избы с завешенным изнутри окном.
— Тут! — сердито сказала ефрейтор Пильгук, приложила руку к пилотке и пошла назад к шлагбауму. Ей решительно не понравилась молчаливая полувоенная женщина с вещмешком за плечами.
«Вольнонаемная… Должно быть, машинисткою в штаб приехала, — рассуждала Саня Пильгук. — Есть чем гордиться!»
Варвара сразу же поняла, что невольно обидела Саню, но поздно было жалеть: часовой, тоже проверив документы, уже пропустил ее в избу.
И вчера, в избе генерала Савичева, и теперь, проснувшись, Варвара почему-то не могла забыть девушку, которая назвала себя таким милым именем, и ее сердито-обиженное «Тут!». Было что-то детское в обиде девушки. Варвара решила извиниться перед Саней, как только снова увидит ее возле шлагбаума.
В сени входило все больше и больше жаркого света, словно солнце вкатилось прямо во двор и расплылось по траве.
— Ладно, приду вечером, ты поджидай, — сказал мужской голос во дворе, послышался тяжелый топот больших сапог, отдалился и затих. Потом часто затопали босые ноги, зашелестела юбка, и на пороге появилась маленькая женщина. Солнце, освещая женщину со спины, окутывало всю ее фигуру прозрачным сиянием, золотило и насквозь просвечивало волосы на непокрытой голове.
— С кем это ты, Аниська? — спросила Варвара, натягивая на себя московский цветастый сарафан. Ее большие белые ноги свисали с лежака и пальцами прикасались к прогретому солнцем земляному полу.
— Да повадился прохвост один, из военторга приказчик, или бог его святой знает… Все они одним миром мазаны!
Аниська вышла из косого солнечного снопа, и теперь видно было ее молодое лицо, живые, быстрые глаза, красивые усталые губы.
— Гони ты его в шею, — сказала Варвара, стала на ноги и начала обдергивать на себе сарафан. — Нужен он тебе?
— Мне-то он не нужен, — запела Аниська, — я ему нужна, сатане мордастому… Сарафан у тебя красивый, довоенный или теперь шила? Может, сменяемся?
Варвара засмеялась:
— Прогонишь прохвоста, я тебе его и так подарю… Да он тебе велик будет.
— Можно перешить.
Аниська вздохнула, словно жалея, что нет у нее надежды получить в подарок такой красивый сарафан.
Варвара босиком прошла к колодцу. Холодная вода обжигала тело. Аниська поливала ей на руки из черного щербатого кувшина и без умолку пела своим высоким веселым голосом.
— Одного прогонишь, другие двое появятся… Нету от них отбою! Мойся, мойся, я еще вытащу. Воды не жалко!
Тут и нашел Варвару посыльный из штаба, тот, что поставил ее вчера на квартиру к Аниське.
— Вас генерал вызывает к себе, — сказал он еще издалека. — Как спалось на новом месте?
Он шел к колодцу медленно, широкими и удивленными глазами глядя на сильные плечи и белые руки Варвары, такими широкими и удивленными, словно глаза эти никогда не видели таких сильных плеч и таких красивых белых рук.
— Вот оденусь, — сказала Варвара и отряхнула капли воды с пальцев.
Посыльный, оглядываясь на каждом шагу, пошел со двора.
— Ишь какой! — с полным пониманием дела хохотнула Аниська, выплескивая воду из кувшина на траву.
Варвара вытерлась у колодца вафельным неподрубленным полотенцем, вернулась в сени и прикрыла за собой дверь. Когда она снова вышла во двор, это была уже совсем другая женщина, не похожая на ту, что в цветастом открытом сарафане умывалась у колодца, а немного раньше с закрытыми глазами лежала в сенях на плащ-палатке, вся еще во власти своих мыслей и воспоминаний.
Накладные карманы неновой чистой гимнастерки некрасиво увеличивали ее грудь, синяя юбка была слишком коротка и позволяла видеть над широкими голенищами сапог полные колени, обтянутые темными чулками. Только старательно уложенные светло-каштановые волосы, на которых хорошо держалась пилотка, напоминали о той Варваре, что покачивалась на лежаке, охватив руками колени. Фотоаппарат в потертом кожаном футляре висел у нее через плечо.
Аниська, стоя на пороге, взглядом вывела Варвару со двора.
Широко шагая, Варвара шла по улице, длинной и единственной улице хутора, от которого лишь кое-где остались хаты. Где-то поблизости стучал топор. Вскоре Варвара увидела и самого плотника — он сидел верхом на стене недостроенного сруба и поблескивал острым топором на солнце, веселый, с лысою в венчике серебряных волос головою, как святой Иосиф.
— Здравствуй, милая! — крикнул плотник со стены, придерживая топор. — Что-то я впервые вижу тебя у нас… Новенькая?
— Новенькая, — Варвара усмехнулась плотнику и подумала: «Какой приветливый дед! И как ловко он топором: сверк, сверк!»
— Дедушка, — остановилась Варвара и начала доставать из футляра фотоаппарат, — вы себе так и работайте, я вас сфотографирую…
Дед сверкнул топором, поднял над стеной ногу и исчез внутри сруба. Он тут же появился в оконном проеме, оперся грудью на будущий подоконник и, держа перед грудью топор лезвием вперед, медленно и неласково заговорил, вбуравливаясь в Варвару холодными голубоватыми глазами:
— Фотограхвировать — беса тешить… Душа идет на небо, а тело в землю. Не годится свое подобие меж людей оставлять. Сказано: не сотвори себе кумира! Соображаешь, что к чему? Иди своей дорогой, милая, меня люди и без карточки вспомнят!
«Жаль, — подумала Варвара, — хороший сюжет пропал: восстановление села в прифронтовой полосе… И почему мне показалось, что он добрый, этот дед?»
Улица неожиданно кончилась, упершись двумя неогороженными дворами в картофельное поле, за этим полем стоял полуразрушенный амбар на опорах из песчаника; когда Варвара миновала амбар и вышла на пригорок, сразу же стало видно большое село, где находился штаб и генерал, вызвавший ее к себе.
Картофельное поле по обе стороны дороги, которой шла Варвара, и колеблющаяся стена высокой ржи за этим полем, и тонкая теплая пыль, взлетающая из-под сапог, и желтый донник, и крупный жилистый подорожник, и белые колокольчики повилики, выползающей из неглубоких канав, и безоблачное небо над дорогой, травой, цветами, картофельным полем и высокой рожью — все это наполняло ее душу беспричинною радостью, чувством мирного счастья, такого глубокого и полного, что она и вправду поверила бы в него, если б не видела, как рядом с нею, прямиком через картофель и рожь, шагают тонкие жердочки полевого телефона, неся на плечах темные, почти незаметные в слепящем сиянии дня, провисающие провода.
2
Адъютант генерала Савичева стоял на пороге низкой, соломою крытой избы и красным пластмассовым гребешком расчесывал на косой пробор черные волосы. Адъютант был молодой и красивый, новая гимнастерка хорошо облегала его сильную грудь, погоны с четырьмя маленькими звездочками блестели на плечах, на сапогах не было ни пылинки.
Он был подтянутый, чистый, на его хорошо выбритом розовом лице выделялись тонкие, словно нарисованные брови и припухший юношеский рот. Варвара отметила этот рот и брови адъютанта, — не одна медсестра, но одна девушка из штабного узла связи сохнет, должно быть, по этому парню. Вчера от усталости она не заметила, что он такой молодой, — может, потому, что адъютант не улыбался и говорил с нею тихо, почти шепотом, все время оглядываясь на двери в комнату, где отдыхал генерал. И по телефону с комендантом штаба адъютант тоже говорил шепотом, прикрывая рукой трубку. Ей даже показалось вчера, что он нарочно напускает на себя начальническую сдержанность и даже суровость, тогда как в действительности в его натуре нет ни чрезмерной сдержанности, ни искусственной суровости, свойственной людям, близко стоящим к большим начальникам.
— Устраивайтесь и отдыхайте, — сухо сказал адъютант Варваре вчера. — Посыльный проводит вас в корреспондентский хутор. Там теперь, кажется, только майор Берестовский, вы его знаете? Он тоже из Москвы.
Он даже не кивнул ей головой на прощание и, чтобы показать, что разговор окончен, начал перебирать цветные карандаши в стоявшем на столе граненом чайном стакане.
Все это было вчера, а сегодня, увидев еще издалека Варвару, адъютант положил гребешок в пластмассовый футлярчик и спрятал его в карман. Молодое красивое лицо его расплылось в улыбке. Он сделал несколько шагов навстречу Варваре, протянул руку и сказал, словно старой знакомой:
— Хорошо, что вы вовремя… Здравствуйте. Генерал ждет. Есть большое дело к вам.
Адъютант говорил молодым, звонким и свежим голосом. Слова о большом деле, которое есть у генерала Савичева к фотокорреспонденту Варваре Княжич, звучали в его устах так многозначительно, что Варвара невольно улыбнулась.
«Что за дело у генерала ко мне?» — подумала Варвара, переступая порог, но не спросила адъютанта, не успела: он опередил ее и, одергивая на ходу гимнастерку, исчез в дверях генеральской комнаты.
Варвара ждала у маленького, накрытого листом серой бумаги столика, на котором в большом порядке были разложены разной величины блокноты и стоял вчерашний граненый стакан с остро отточенными карандашами. Адъютант вернулся и показал рукой на открытую дверь:
— Генерал просит вас.
В комнате генерала было полутемно. Генерал Савичев стоял спиною к Варваре у завешенного ряднинкой небольшого окна. Генерал держал руки за спиною, его длинные белые пальцы медленно шевелились. Варвара заметила сведенные брови и прищуренные глаза на повернутом к ней в три четверти лице и подумала, что хотя, возможно, у генерала и есть к ней большое дело, но не может это дело так беспокоить его и заставлять напряженно сводить брови и медленно шевелить пальцами, — есть у него дела побольше и поважнее, чем то, в связи с которым он вызвал ее.
— Фотокорреспондент Княжич… Явилась по вашему вызову, товарищ генерал! — стоя у дверей, неумело приложила большую руку к пилотке и тихо проговорила Варвара.
Генерал медленно обернулся, увидел Варвару и недовольно вскинул брови: он не ожидал, вызывая к себе корреспондента, увидеть женщину.
Генерал Савичев привык к женщинам в армии и мирился с их присутствием в таких местах, где, по его мнению, им не следовало быть, но фотокорреспондент… Последний фотокорреспондент, которого видел генерал, был молодым пробивным парнем. Его можно было послать хоть к черту на рога — он и там бы не растерялся и сделал свое дело… Его-то и имел в виду Савичев, приказывая своему адъютанту вызвать фотокорреспондента.
«Опять этот Петриченко напутал, — подумал генерал, подходя к Варваре. — Для нее это будет, наверно, слишком тяжело».
Но вслух он сказал:
— Вы у нас новенькая?
Казалось, это был праздный вопрос, которым встречают каждого нового человека (так встретил Варвару и плотник, похожий на святого Иосифа), но в вопросе генерала отражалось и недовольство тем, что Петриченко вызвал к нему женщину, и неловкость, которую он чувствовал оттого, что приходилось давать ей поручение, слишком трудное для женщины.
— Новенькая, товарищ генерал, вчера вечером прибыла…
— Ну вот и хорошо, — сказал генерал, все еще чувствуя себя неловко оттого, что перед ним неумело тянется и неумело козыряет эта большая женщина, которую гимнастерка с пузырями накладных карманов на груди, кирзовые сапоги с низкими голенищами и пилотка делают такой неуклюжей и беспомощной.
Чтоб избавиться от неловкости, мешавшей ему говорить о деле, для которого он приказал вызвать фотокорреспондента, генерал решительно протянул Варваре руку. Рука у него была тонкая и сухая, она утонула в привыкшей к стирке и мытью полов, сильной и большой руке Варвары.
— Садитесь… Вот тут, пожалуйста.
Генерал подвел Варвару к столу. На покрытом темно-вишневым сукном столе одиноко белел небольшой листок бумаги, на нем лежала граненая палочка школьного карандаша. Генерал сел за стол напротив Варвары, взял карандаш и нарисовал на листке аккуратную решетку, которую рисуют школьники, играя в «нолики и крестики». Нарисовав решетку, генерал поднялся и отошел к окну. Варвара тоже встала.
— Сидите, сидите… — остановил ее генерал. — Не в этом дело.
Сквозь серую ряднину пробивался рассеянный свет, сосредоточенное тонкое лицо генерала словно расплывалось в нем.
— На нашем фронте у немцев появился новый тяжелый танк «тигр», — сказал генерал, повернувшись к Варваре и заложив руки за спину. — Одного такого «тигра» подбили наши петеэровцы… Вы не могли бы срочно его сфотографировать и, скажем, сегодня вечером дать мне снимок?
Генерал подбирал слова и старался говорить не в тоне приказа потому, что имел дело с женщиной. Варвара это понимала; чтоб положить конец понятным ей опасениям генерала, что женщина не сможет выполнить его приказ, она решительно встала и положила руку на фотоаппарат.
— Будет выполнено, товарищ генерал, — сказала Варвара, улыбаясь от радости, что верно поняла состояние генерала.
Генерал тоже обрадовался: этим исчерпывался разговор, который по многим причинам был для него трудным.
— Ну, вот и хорошо, вот и хорошо… Петриченко вам расскажет, как найти дивизию генерала Костецкого. Ни пуха вам, ни пера.
Лицо генерала вспыхнуло улыбкой и сейчас же погасло. Варвара пошла к дверям, почувствовав и по вспышке улыбки, и по тому, как быстро эта вспышка погасла, что генерал уже не думает о ней, что он перешел уже к другим мыслям, более важным и более неотложным. В конце концов, порученное ей фотографирование танка — дело обычное, нет тут ничего особенного, ей не раз приходилось выполнять такие поручения. Но, уже взявшись за щеколду, она снова услышала голос генерала:
— Надеюсь, вы понимаете, как это важно?
Варвара остановилась.
— Понимаю, товарищ генерал.
Генерал смотрел на нее внимательно и, показалось Варваре, немного печально. Должно быть, он не хотел так сухо и официально отпустить ее, иначе не спросил бы:
— Кстати, как вы у нас устроились?
— Очень хорошо, — кратко ответила Варвара, с неожиданною неприязнью подумав: «А какое тебе, собственно, дело до этого? Как устроилась, так и устроилась».
Так же неожиданно, как появилось, неприязненное чувство исчезло, и она добавила:
— Я ко всему привыкла, товарищ генерал…
Эти простые слова сразу же сняли ту существенную разницу, что была между ними — между озабоченным большими делами фронтовым генералом и безвестной женщиной-фотокорреспондентом, которую привела в эту избу случайная командировка редакции.
— Вы давно… — сказал генерал, на минуту запнувшись, — давно воюете?
— Давно, — улыбнулась Варвара, — с самого начала.
— Вот видите! И я с самого начала! — снова обрадовался генерал, хоть, собственно говоря, тут совсем нечему было радоваться. — Трудно вам?
— По-разному.
Значит, не очень легко.
Варвара приложила руку к пилотке. Генерал кивнул головой. Теперь выражение его лица показывало, что он уже решительно не думает ни о Варваре, ни о танке, который только что поручил ей сфотографировать.
Варвара вышла, тихо прикрыв за собою дверь.
Петриченко, молодой адъютант генерала, знал, о каком деле разговаривал генерал с Варварой.
Адъютант не сомневался в том, что хорошо сделал, вызвав к генералу новоприбывшую женщину-фотокорреспондента. Варвара понравилась ему еще вчера, понравилась тем, что была не похожа на всех других фотокорреспондентов, с которыми ему приходилось встречаться. Получив распоряжение от генерала, Петриченко сразу же подумал о Варваре и о том, что ей, очевидно, будет приятно получить такое ответственное задание, хоть она только прибыла на фронт и ее тут еще не знают. О том, что Варваре может прийтись трудно, Петриченко не подумал; он не знал, что подбитый новый немецкий танк стоит на ничейной полосе земли между нашими и немецкими позициями, то есть не знал именно того, что было известно генералу и что заставило его так колебаться и смущаться, поручая фотографировать танк Варваре.
— Ну что, интересное задание получили? — радостно поднялся навстречу Варваре Петриченко.
— Очень интересное, — искренне ответила Варвара. — Объясните мне, как ехать к Костецкому… Кажется, я не перепутала фамилию?
Петриченко сразу же начал подробно объяснять ей, как найти дивизию Костецкого, но, объяснив все, что нужно, даже написав на клочке бумаги название пунктов, через которые Варвара должна была ехать в дивизию, он забыл спросить, как она будет туда добираться. Петриченко некогда было входить в такие подробности: генерал в любую минуту мог вызвать его, чтоб поручить другое дело, которое надо будет выполнить так же быстро и хорошо, как он выполнил дело с вызовом фотокорреспондента. Капитан Петриченко считал, что генерал в своей комнате с занавешенным от зноя окном забыл уже о Варваре и думает теперь о том, другом деле, которое ему, Петриченко, через несколько минут придется выполнять, поэтому и он постарался сразу забыть о Варваре и о немецком танке и стал думать о деле, которое мог поручить ему генерал.
Теперь уже помнила о немецком танке только Варвара. Шагая со своим фотоаппаратом по улице штабного села, она думала о том, что трудно до вечера выполнить такое сложное задание, что ей еще надо зайти к Аниське, взять свой вещевой мешок и только потом искать машину в дивизию генерала Костецкого.
3
Ни Варвара Княжич, ни капитан Петриченко не знали, о чем думал генерал Савичев, оставшись в своей комнате у занавешенного рядниной окна.
Варвара Княжич не могла знать мыслей генерала потому, что впервые его видела. По ее представлениям, он должен был постоянно думать о важных и неотложных военных делах, среди которых порученное ей фотографирование «тигра» не могло быть самым важным. Она видела в генерале только генерала. Две большие звезды, вышитые на его золотых погонах, и два ряда орденских ленточек в прозрачном целлофане на генеральском кителе заслоняли от нее человеческую сущность Савичева и исключали возможность предположения, что кроме генеральских забот у него может быть и непременно есть своя собственная человеческая забота, не связанная со служебными обязанностями.
Капитан Петриченко благодаря своей постоянной близости к генералу был более или менее знаком с его очередными заботами, но он не мог знать сегодняшних мыслей Савичева потому, что как раз уходил завтракать, когда генералу Савичеву позвонил командующий авиацией и сообщил, что в десять часов на фронтовой аэродром прибывает самолетом из Москвы Катерина Ксаверьевна, жена генерала.
То, что Катерина Ксаверьевна прилетала без предупреждения, волновало Савичева. Это не могло быть прихотью жены, которая соскучилась по мужу. Катерина Ксаверьевна всегда все решала сама. К тому же она не любила и даже боялась летать. Если она отважилась сесть в самолет и лететь к нему на фронт, значит, что-то случилось. Но что могло случиться? Катерина Ксаверьевна давно уже вернулась из эвакуации в их московскую квартиру, о ней заботятся, здоровье у нее крепкое… Может, что с Володей? Володя еще не скоро окончит авиаучилище, он далеко от войны и опасности.
И все-таки тревожная мысль о том, что Катерина Ксаверьевна не из прихоти без предупреждения летит к нему на фронт, не выходила из головы генерала Савичева. Эта мысль беспокоила его не только теперь, когда он остался один в комнате. Разговаривая с Варварой Княжич, Савичев все время так или иначе думал о Катерине Ксаверьевне, и именно потому, что он думал о своей жене, ему трудно было говорить с женщиной-фотокорреспондентом и еще трудней было отдать ей приказ сфотографировать подбитый немецкий танк.
Генерал Савичев каждый день отдавал много приказов, выполнение их было связано с риском для жизни, но никогда он не чувствовал так остро, как сегодня, своей ответственности за судьбу человека, к которому относился его приказ.
— Петриченко, — тихо позвал Савичев.
Петриченко сразу же вырос в дверях. Лицо Петриченко выражало радостную готовность выполнить любой, самый трудный даже, приказ генерала, выполнить добросовестно, преданно, в полную меру той любви, которую он чувствовал к Савичеву.
— Машину на аэродром, — сказал генерал.
— Есть машину на аэродром! — повторил Петриченко все с тою же радостной готовностью. — Прикажете мне ехать с вами, товарищ генерал?
— Нет, вы оставайтесь, Петриченко, — не поворачиваясь от окна, как и прежде, тихо проговорил Савичев. — Приготовьте тут все, что нужно… Завтрак на двоих, молоко… Я вернусь с аэродрома с женой.
— Катерина Ксаверьевна прилетает?
Радость на лице Петриченко сменилась искренним восторгом, хоть он совсем не знал Катерину Ксаверьевну и даже не очень часто слышал от генерала ее имя. Петриченко по своей натуре не мог не восторгаться Катериной Ксаверьевной — она была женой его генерала, лучшего в мире человека, которого знал Петриченко, поэтому и сама должна была быть лучшей в мире женщиной.
— Что ж вы стоите, Петриченко?
В голосе Савичева слышалось нетерпение и даже сдержанное раздражение. Лицо Петриченко сразу же приобрело выражение приличествующего случаю понимания, хотя он ничего не мог понять. «Что это сегодня с нашим генералом?» — подумал Петриченко и вышел, тихо прикрыв за собой дверь.
Савичев снова повернулся к окну и сквозь тонкую ткань ряднины стал разглядывать знакомый зеленый двор.
Генералу трудно было отдать Варваре Княжич приказ сфотографировать «тигра» потому, что, увидев ее в своей комнате, он с болью представил на ее месте Катерину Ксаверьевну, не только представил, что Катерина Ксаверьевна стоит несмело перед каким-то генералом в неуклюжих сапогах и фронтовой застиранной гимнастерке, а увидел ее на ничейной полосе земли, где надо сфотографировать «тигра», то есть подползти к нему по открытой местности, возможно под огнем, не растеряться, не испугаться и, главное, не остаться там навсегда.
Савичев не впервые ставил Катерину Ксаверьевну на место других женщин, с ужасом думая, что было бы, если б ей пришлось выполнять ту работу, которую делают другие женщины.
Савичев забыл уже, что когда-то, в дни их молодости, Катерина Ксаверьевна не только учила детей в школе и ликвидировала неграмотность среди красноармейцев, но выполняла всю ту работу, которую выполняют другие женщины: носила с базара тяжелые кошелки с провизией, стирала белье, мыла полы, воспитывала Володю, то есть кормила, обмывала и обшивала его собственными руками и, кроме всего этого, находила время для книг, театров, концертов и даже для армейской самодеятельности. Забыл Савичев и о том, что его Катя делила с ним тяготы военной жизни, переездов из гарнизона в гарнизон, нелегкие годы учебы в академии, всю неустроенность их молодости.
Только потом, когда он стал теперешним Савичевым, тяжелая домашняя работа, от которой всю жизнь не освобождаются другие женщины, отпала от Кати, появились и адъютанты, и домашние работницы, и шоферы, было кому стирать белье и варить обед, а для Кати остались только книги, концерты, поездки по магазинам — словом, все то, что сделало ее теперешнею Катериной Ксаверьевной и заставило Савичева еще до войны, встречая на московских улицах работниц Метростроя в грубых брезентовых робах и резиновых сапогах, ужасаться от мысли о той тяжелой, неженской работе, которую им приходится выполнять под землей.
Однажды он пережил тяжелое чувство, в основе которого тоже лежала его любовь к Кате.
На площади Свердлова, у фонтана, женщины-работницы долбили компрессорными молотками толстый слой вязкого асфальта. Молотки напряженно вздрагивали и вырывались у них из рук. Особенно трудно приходилось одной молодой работнице, повязанной красной косынкой. Руки у нее были тонкие, почти девичьи, она часто прекращала работу и выпрямлялась, держась левой рукой за поясницу. Савичев остановился. Он почувствовал, что должен взять у этой женщины молоток, помочь ей, как помог бы своей жене, но на нем был генеральский китель, рядом остановился его адъютант — другой, тогда еще не было Петриченко, — Савичев с трудом оторвал глаза от работницы и медленно пошел через площадь.
И все-таки тогда ему было легче, там он не чувствовал прямой ответственности за груз непосильной работы, которая ложилась на плечи женщины в красной косынке.
Сегодня же, отдавая приказ Варваре Княжич, он чувствовал прямую ответственность не только за чрезмерную тяжесть порученного ей дела, но и за ее жизнь, и острота этого чувства тем более поразила его, что он по привычке поставил на место Варвары Княжич Катерину Ксаверьевну.
Трофейный «оппель-адмирал» шуршал скатами по мягкой полевой дороге.
Савичев обычно садился рядом с шофером, но сегодня устроился на заднем сиденье, словно уже рядом с Катериной Ксаверьевной, по дороге с аэродрома. С заднего сиденья Савичеву был виден откормленный, аккуратно подбритый затылок, словно подрезанный чистым подворотничком, и погоны старшины на плечах шофера. По этому затылку, по этим всегда новеньким погонам он с усмешкой представлял надутое лицо своего Калмыкова, который от гордости, что возит своего генерала на таком «самолете», давно уже не разговаривал, а только что-то гундосил себе под нос, если к нему обращался кто-нибудь званием ниже капитана.
Савичев отвернулся, чтобы не глядеть на затылок Калмыкова.
Самым удивительным в сегодняшнем стечении обстоятельств было то, что он, отдавая приказ Варваре Княжич, представил на ее месте Катерину Ксаверьевну и таким образом будто бы послал к генералу Костецкому свою жену. Слишком много в их, Савичева и Катерины Ксаверьевны, общей жизни было связано с Родионом Костецким.
Почти всю жизнь Савичев и Костецкий шли рядом. Они были друзьями и не раз подтверждали свою дружбу не словами, а делом, в обстоятельствах разных и не всегда легких. Однако была в их дружбе одна трещинка, в которую оба не любили заглядывать, потому что за той трещинкой всегда возникало лицо Катерины Ксаверьевны, Кати…
Проходило время, проплывали годы, закрывались более тяжелые и глубокие раны, а эта трещинка не хотела зарастать, всегда была свежей, и воспоминание о ней всегда причиняло боль Савичеву и Костецкому. И хоть Савичев и Костецкий давно уже не были молодыми курсантами школы краскомов, в полном составе брошенной из глубины России на польский фронт, хоть за каждым была прожитая большая жизнь, свежесть боли не проходила, словно каждый чувствовал ее впервые, словно они все еще стояли со своей школой в маленьком местечке на правобережье Днепра и впервые увидели в своем курсантском клубе молодую учительницу с властным выражением почти угольно-черных глаз на тонком белом лице под дугами красивых, сурово очерченных бровей.
Катя Ружевич работала по ликвидации неграмотности среди бойцов гарнизона; ничего удивительного не было в том, что она оставалась в курсантском клубе на танцы. Ходила Катя в чем-то похожем не то на короткий казакин, не то на длинную венгерку, носила высокие, почти до колен, шнурованные ботинки; она покрывалась вязаным шерстяным платком — и все же выглядела гордой аристократкой.
Ксаверий Ружевич, Катин отец, высокий костлявый поляк с остроконечными усами, работал на почте. Мать, крещенная в католичество, темнолицая молдаванка, в которую Ксаверий влюбился, когда служил в Бессарабии еще в дни своей молодости, шесть дней в неделю хлопотала в доме и кормила поросят в хлевушке, а по воскресеньям вместе с мужем пела в костеле. Собственно, это от матери унаследовала Катя угольно-черные глаза и почти синие ирокезские волосы, — характер у нее был отцовский.
Танцевала Катя легко и красиво. Почувствовать ее руку на плече было величайшей мечтой курсанта Алексея Савичева, но учительница неизменно танцевала с приземистым Родионом Костецким, гордо запрокидывая голову и прикрывая глаза так, что тень ее ресниц отчетливо ложилась на белом лице.
После танцев Родион Костецкий провожал Катю по улицам местечка домой, а Алексей Савичев подпирал плечом ворота маленького домика, где они вдвоем с товарищем жили в длинной узкой комнате, в которой их койки стояли спинка к спинке вдоль стены. По пульсу — семьдесят два удара в минуту — Алексей отсчитывал время и старался представить, о чем говорит Родька с Катей… Наверно, он мог бы тоже танцевать с нею и провожать ее домой, но только он один мог кое-как играть на пианино, и, когда начинался вечер, все курсанты обступали его и кричали, громче всех Родька: «Савичев! Алеша! Одну полечку… Ну всего только одну, ей-богу!» И он весь вечер барабанил полечки, вальсы, краковяки и мазурки на расстроенном пианино, с силой и ненавистью ударяя по желтым клавишам.
Неужели так близко до аэродрома? Слишком быстро ходит эта немецкая машина… Откормленный затылок Калмыкова неподвижно торчит у Савичева перед глазами, словно высеченный из гранита. Откуда берется у простого крестьянского парня столько спеси? И все потому только, что в руках у него баранка трофейного «оппель-адмирала»! В «эмке» у Калмыкова был вполне приличный вид. Надо будет кому-нибудь подарить эту таратайку, парень совсем испортится, а ведь ему после войны трактор или комбайн водить. Он уже и с капитаном Петриченко свысока разговаривает. Правда, Петриченко не лишен чувства юмора, все понимает, а все-таки дисциплина… И вообще Савичев не любит пользоваться трофеями и у своих подчиненных воспитывает отвращение к ним. Неудобно было отказаться, когда еще на Дону комкор Курбатов прислал ему этот «оппель-адмирал» в подарок, а теперь уже можно и передарить… Только кому? Может, Костецкому? Нет, больному Родьке эта роскошная машина ни к чему, да и время не для подарков: Костецкий истолкует это как желание Савичева чем-то загладить перед ним свою вину… Словно Савичев виноват, что Костецкий безнадежно болен и что его непременно надо освободить от командования дивизией! И без вмешательства Савичева его так или иначе освободили бы, может только неделей позже.
И вправду до аэродрома совсем близко, но Савичев уже снова не замечает расстояния, он снова далеко и от аэродрома и от того времени, когда Катерина Ксаверьевна, Катя Ружевич, летит к нему на самолете.
Над местечком висит сырой туман. Домики, крытые дранкой и ржавым железом, вишневые садики, покосившиеся заборы едва проступают из густой измороси, деревянные тротуары в две доски утопают в жидкой грязи. Он стоит у ворот и курит цигарку за цигаркой. Родион Костецкий не возвращается. Не стоит отсчитывать время по ударам пульса, это не очень точный хронометр, удары его то ускоряются, то становятся слишком медленными, неизвестно, сколько их теперь приходится на минуту. Надо идти в узкую пустую комнату с двумя кроватями, лечь и притвориться, что спишь, чтобы не видеть счастливого лица Родиона, укрыться с головою, чтобы не слышать, как он самодовольно крякает, снимая свои хромовые сапоги. В будущую субботу очередной вечер танцев, через неделю он им покажет, и Родьке, и Кате, и всем… Пускай ищут себе тапера, с него хватит подыгрывать чужому счастью!
На горизонте возник кудрявый дубовый лесок, аэродром уже близко, за этим леском. «Оппель-адмирал» подплывает к нему по узкой полевой дороге, меж двумя стенами жаркой пшеницы.
Странная, ошеломляющая мысль пронизывает Савичева. Странность этой мысли состоит для него в том, что она так поздно появилась, словно он не мог ее понять, не способен был раньше сделать из нее те простые выводы, которые напрашиваются теперь сами собою, а ошеломляющая сила этой мысли — в ее кажущейся неожиданности.
Савичев всю свою жизнь либо воевал, либо готовился воевать; земля казалась ему продолжением тех карт и макетов разных местностей, по которым он изучал прошлые войны и получал знания для будущих битв: она понемногу переставала быть для него живой землею, на которой текут живые реки, колышутся живые леса и рощи, шелестит живая пшеница. Реки давно стали в его сознании водными рубежами, а холмы — высотками. Он знал слова «дефиле», «пересеченная местность» и другие подобные этим термины; они были наполнены военным содержанием; он рассматривал то, что скрывалось за этими терминами, с точки зрения пригодности для обороны или для наступления и, только когда начались трагические события нынешней войны, вдруг снова почувствовал их утраченное содержание, словно та кровь, что пролилась на всех этих «пересеченных местностях» и «дефиле», стала живой водою, воскресила их человеческое значение в сердце Савичева.
Не всегда же так было, нет, не всегда! Ведь в детстве, хоть он жил в большом губернском городе, лес был для него лесом, озеро — озером, а не водной преградою… И тогда, когда он с трехлинейной винтовкой ходил на бандитов Антонова и на петлюровцев да белополяков, села были селами, а не узлами сопротивления врага!
Что же он приобрел и что утратил в жизни, если то простое и милое, что зовется у всех людей такими простыми и милыми именами, стало укладываться у него в сухие, выдуманные слова, которые не могут вместить всего, что он чувствует к реальности, кроющейся за ними? С Родионом, наверное, не случилось того, что с ним. Родион всегда был насквозь земной, никакие схемы, карты и макеты не могли вытравить из него того, что он знал и любил с детства.
Было время, когда Родька Костецкий завидовал Алешке Савичеву. Да и как ему было не завидовать сыну учителя алгебры и геометрии в казенной гимназии! Савичев не только умел выводить квадратный корень из «пи», свободно представлял, что такое и где находится Тананариве, на память читал малопонятные стихи поэтов, которые назывались символистами и футуристами, он, кроме всего, умел извлекать своими длинными белыми пальцами веселые польки и заигранные вальсы из черных ящиков по нетопленным клубам и ободранным школам, где им приходилось стоять, умел так, как никогда не сумел бы Родион своими короткими и негибкими крестьянскими пальцами!
Было время, когда Костецкий завидовал Савичеву, но Савичев завидовал Костецкому всегда, хотя у обоих это не было той злобной завистью, которая отравляет жизнь человеку, превращает ее в вечную муку. Савичев завидовал слитности Родиона с миром, той цельности, которой ему самому так не хватало. «Родион твердо стоит на ногах!» Когда Савичев так говорил или думал, он имел в виду не только умение Костецкого сливаться с жизнью, но и способность безошибочно вести себя в соответствии с требованиями жизни в любую, самую сложную и тяжелую ее минуту.
Была в Родионе беспощадная правдивость по отношению к людям и к себе. Именно этой правдивостью отличались всегда его слова и поступки.
Давно, очень давно, когда оба они ходили еще в шапках-богатырках и не только не думали о генеральских погонах и лампасах, но и не могли представить их на себе, в те времена, когда они учились в школе краскомов, где встретились и вместе вступили в партию, был среди курсантов красавец и весельчак, неутомимый плясун и ухажер, Демон провинциальных Тамар, — дай бог память, его звали Ларионом, Ларькой, а фамилия навсегда уже забылась. Откуда у этого Ларьки бралось столько беспардонного форса, откуда были у него золотые перстни на пальцах, как попали к курсанту старинные серебряные часы на толстой цепочке? Где он добывал душистый легкий табак, когда все они давились вонючей махоркой? Почему девушки млели от его жирного голоса? Почему все курсанты как завороженные глядели ему в рот, и только Костецкий определял Ларьку одним коротким и не очень деликатным словом, в котором было все: ненависть и отвращение, презрение и пренебрежение, все оттенки отрицательного отношения, такого острого, какое может быть только к врагу?
Под Збаражем обнаружилось, что Ларька — мародер и всегда был мародером, выяснилось с такой убедительной очевидностью, что суд правый и скорый состоялся сразу же, на месте преступления. Осужденный Ларька стоял, увядший и поблекший, у стенки в своих шевровых коричневых сапогах, в чистой гимнастерке, перетянутой блестящими ремешками. Родион не спеша вытащил из кобуры наган и разрядил его в лицо мародера. Ларька сполз по стене и упал ничком в болотистую лужу, где смешалась конская моча с дождевой водою. У Савичева дергались губы, когда он спросил: «Как ты смог, Родион?» — «А я всегда знал, что Ларька…» — сказал спокойно Костецкий, пряча наган в кобуру. Больше никогда он про того мародера не вспоминал и не жалел, что взялся исполнить приговор, а у Савичева еще долго всплывала перед глазами болотистая лужа, в которую упал лицом весельчак и ухажер Ларька.
Костецкий умел видеть в человеке его скрытую сущность и соответственно этой сущности любил или ненавидел, не жалея себя. Вот почему Костецкий мог и расстрелять врага и, рискуя собственной головой, стать на защиту друга.
История с Катей Ружевич усложнила их взаимоотношения, но Родион всегда оставался Родионом. В тот тяжелый год, когда многие замечательные советские военачальники погибли в результате сталинского произвола и жестокости, он, Савичев, был на переподготовке в академии. Против него выдвинули обвинение, которое при всей своей смехотворности могло повлечь за собой страшные последствия. Катя уже собирала ему белье в солдатский вещмешок. На собрание, где должна была решаться его судьба, Савичев шел с тяжелым сердцем, зная, что, если его исключат из партии, домой ему не вернуться. Пришел, обвел глазами квадратный зал с высокими, узкими окнами. Первый, чье лицо он увидел, был Родион Костецкий… Что ему нужно тут? Родион служил в другом военном округе; между ними была та старая трещина, они уже несколько лет не встречались и не переписывались. Приехал тоже копнуть землю под его могилу? Все может быть, не раз и такое случалось на его глазах в том году. Родион попросил разрешения присутствовать на собрании. Савичев стоял у стола, отвечал на вопросы и видел, как все ниже и ниже опускаются плечи Родиона, как темнеет его лицо, как он медленными кругообразными движениями трет свои обтянутые сукном бриджей колени. Выступало много ораторов. В тот год человек, которого в чем-то подозревали, заранее был виновен. Был виновен и тот, кто сомневался в его виновности. Чтобы доказать свою невиновность, надо было не оправдывать себя, а обвинять друга. Ни слова не нашлось у ораторов в защиту Алексея Савичева; говорили уже не о нем, а о его случайных знакомствах и подозрительных поездках на охоту, даже о том, что Катя перестала работать в совете жен командиров и слишком часто в служебной машине мужа ездит по магазинам. И тут поднялся и попросил слова Родион.
Квадратный зал замер, когда председатель дал слово Костецкому. Его знали, знали и о той трещине, что была между ними. Родион Костецкий проскрежетал свою речь заржавленным голосом, и никто не посмел ни перебить, ни остановить его. Трудно сказать, что переломило настроение собрания — страстная убежденность Костецкого в невиновности Савичева или то решительное спокойствие, с каким он ринулся на защиту друга; он мог бы вслед за Савичевым положить партбилет, к этому шло, но вдруг председательствовавший корпусной комиссар, седой человек с жестким, непроницаемым лицом, заулыбался и закивал головой, словно подтверждая каждое слово Костецкого… Ропот прошел по залу и тут же стих. Судьба Савичева была решена. Его не исключили из партии, ограничились строгим выговором с предупреждением. Он вернулся домой. Костецкий проводил его до дверей, но в квартиру не зашел, сказал, что спешит на поезд.
Прибыв на место службы, Костецкий узнал, что его перевели из штаба корпуса на полк. Впрочем, Савичева тоже ждало понижение по службе. Только перед самой войной про обоих вспомнили, оба они получили назначения: Костецкий по командной, Савичев по политической линии.
Савичев глянул на небо. Тихое рокотание мотора его машины слилось с тяжелым гудением моторов в небе. Распластав крылья, низко над землей летел «Дуглас». Савичев усмехнулся, поймав себя на мысли, что с такой же тревогой ждет встречи с женой, как и десять и двадцать лет тому назад, как и в те дни, когда они жили с Родионом в одной комнате и он ждал субботнего вечера, чтоб увидеть Катю на танцах в клубе…
…На мокром тротуаре послышались шаги. Родион спешил домой, счастливый, веселой, легкой походкой. Нет, у Родиона не такие шаги, Родион приземистый, широкий в плечах. Алексей поднимает отуманенную цигарками голову и видит перед собой высокую фигуру Кати Ружевич. Катя останавливается возле него, платок небрежно покрывает ее волосы, концы закинуты за плечи…
— Родион сказал мне, что, кроме вас, никто не умеет играть на пианино, — задыхаясь говорит Катя, и угольно-черные пропасти на ее лице блестят огнем. — Это правда? Поэтому вы со мной не танцуете? Они вас нарочно заставляют? Это нечестно!
Родька был верен себе, он не мог врать. Алексей отбросил цигарку далеко от себя; она упала в лужу, огонек ее погас. Савичев стоял перед Катей, как перед начальником школы, навытяжку. Они были одинакового роста, им удобно было глядеть друг другу в глаза. Лицо Кати приблизилось к его лицу, и он услышал горячий, властный ее шепот:
— В будущую субботу у железнодорожников танцы до утра под духовой оркестр… Пойдем танцевать к железнодорожникам!
— А Родион? — несмело спросил Савичев.
Может, это ему показалось, он не поверил себе, он и теперь не верит своим воспоминаниям. Губы его обожгло прикосновение Катиных сухих губ. Он не успел ее остановить; мягко застучали каблуки высоких шнурованных ботинок — он вспомнил, такие ботинки назывались тогда «румынками», — застучали по деревянному тротуару и стихли вдалеке. Родион возник из сырого тумана, словно отлепился от забора, прошел молча мимо Савичева в калитку и нырнул в темные сени.
Родион долго молчал. Они продолжали жить в одной комнате. Молчание тянулось не неделю и не две. Когда Родион наконец заговорил с Савичевым, голос его впервые проскрипел ржавым железом.
Все это давно прошло: и первый вальс с Катей у железнодорожников под духовой оркестр, и серый осенний рассвет, который освещал им дорогу к домику Катиных родителей, и молчание Родиона.
Почему же Савичев до сих пор чувствует себя так, словно он в чем-то виноват, словно он ограбил Костецкого? Наверно, и Родион чувствует себя ограбленным, хотя Катя танцевала с ним только потому, что Савичев все вечера просиживал за пианино. Прошло больше двадцати лет. Родион доказал, что может оставаться другом, но ведь Катя не с ним, а с Савичевым, а Родион так и не полюбил никого, ни жены, ни детей у него — один как перст, безнадежно больной, безжалостно добрый…
«Оппель-адмирал» вдоль леса подошел к аэродрому, когда самолет уже приземлился. Савичев на ходу поздоровался с аэродромным начальством и поспешил на летное поле. В глазах у него все еще стояло правобережное местечко с белым костелом и деревянною двухэтажной синагогой, узкие улочки, покосившиеся дома и фонари, мокрые грачиные гнезда на вербах и осокорях, громадные, как черные папахи.
Навстречу ему, несколько поодаль от группы офицеров, прилетевших вместе с нею, с маленьким чемоданчиком в руках шла через поле его Катя. Еще издали Савичев заметил, что лицо у Катерины Ксаверьевны бледное, измученное, черные тени лежат под глазами, она словно через силу держит прямо свою красивую голову.
Савичев взял у Кати из рук чемоданчик, наклонился к ее лицу и почувствовал, как неожиданно беспомощно вздрогнули ее теплые сухие губы под осторожным прикосновением его губ.
Проезжая мимо полей спелой пшеницы, которую некому было жать, Савичев вдруг снова вспомнил женщину-фотокорреспондента. Вспомнил потому, что рядом с ним сидела Катерина Ксаверьевна, странно отчужденная и до боли родная. Как ужаснулся бы Родион Костецкий, если б Катя явилась к нему и доложила, что ей приказано сфотографировать «тигра», который стоит на ничейной полоске земли между нашими и немецкими позициями!
Обеспокоенно глядя на жену, Савичев сказал тихо, боясь, что откормленный Калмыков услышит то, что ему не полагается слышать:
— Случилось что-нибудь, Катя?
— У Володи ускоренный выпуск в училище, он получил назначение на ваш фронт, — шевельнула бледными губами Катерина Ксаверьевна.
Из-под опущенных ее ресниц выкатились две прозрачные слезинки и поползли по щекам, оставляя влажный извилистый след.
Катя не умела плакать. Ее слезы испугали Савичева.
4
Машина влетела в сырой, заболоченный лес и затарахтела на постланных поперек дороги толстых жердях. Узкая дорога петляла между двумя рядами высоких деревьев. За сплетенными вверху густыми, почти черными ветвями подвижными пятнами синело небо.
Грузовик трясло и подбрасывало, иногда он подпрыгивал всеми четырьмя колесами вверх, деревья и дорога перед радиатором летели в пропасть. Варваре казалось, что они разобьются, но дорога подлетала к колесам, колеса, бешено вращаясь, хватались за настил, и снова раздавался грохот сухих жердей, снова мелькали по сторонам стволы высоких деревьев и в черных кронах просвечивалось синее небо.
Все это не предвещало ничего хорошего, но что поделаешь? Бывают и такие дороги. Разве лучше буксовать в грязи и знать, что рядом с этим лесом сухая, как выжженная сковорода, горячая степь?
Это Аниська сказала ей, что машину на передовую лучше всего искать на обменном пункте. Например, майор Берестовский, что стоит у Аниськиной соседки — Людки, всегда так делает, да и все другие, у кого нет своего транспорта. Все та же Аниська объяснила Варваре, как искать обменный пункт; ей трудно было не знать чего-нибудь, водясь с военторговским Федей.
Обменный пункт находился недалеко — сразу же за штабным селом. Там Варвара и встретилась с майором Берестовским, с которым все равно нужно было знакомиться, живя в одном хуторе.
Усатый Берестовский сидел под стогом прошлогодней соломы и раскуривал потухшую трубку, небрежно бросая спички куда попало. В его черных кожаных галифе жирно отражалось утреннее солнце. Рядом с Берестовским лежал трофейный автомат. Варвара остановилась посреди забитого грузовиками двора. Берестовский поднялся и пошел ей навстречу. По фотоаппарату он сразу узнал в ней корреспондента.
Она давно уже привыкла к встречам с незнакомыми людьми, а эта и совсем была кстати — два часа на обменном пункте прошли незаметно. Берестовский знал тут все порядки и помог ей устроиться на машину. Правда, ей не нужно было так много говорить о себе, он ведь и не расспрашивал, только хмыкал как-то осторожно, а она не могла остановиться, словно специально приехала сюда из Москвы, чтобы рассказать свою биографию совсем незнакомому человеку. Главное, она чувствовала, что говорит лишнее, и сердилась на себя — что это, мол, за утро воспоминаний! — чувствовала, но не могла остановиться. Ей стало легче, когда появилась машина в хозяйство Костецкого. Берестовский так и остался под стогом со своим автоматом, а она поехала. Хорошо, что шофер попался разговорчивый: она слушала его болтовню и понемногу забывала о неожиданном припадке откровенности перед Берестовским. Может, она никогда больше его не встретит; пусть себе ходит в своих кожаных галифе, какое ей дело до него!
Шофер бешено газовал и всю дорогу не закрывал рта.
— Мессеры! — крикнул шофер сразу же, как они выехали из ворот обменного пункта. — Мессеры, гады, за каждой машиной гоняются… Вот будем проезжать через Гусачевку, я вам покажу, что они делают!
Он мог бы и не показывать, она сама хорошо знала, но шофер все-таки остановил машину на гусачевской горе возле церкви и показал ей из машины шесть свежепокрашенных пирамидок за оградой.
— Только выскочила машина на шоссе, так он на них и упал, гад, с неба. В кузове лежала бочка с горючим, обгорели — никого узнать нельзя было. Только капитана Рассоху узнали, помощника по комсомолу, парень был золото, не раз я его возил. А от шофера и вовсе ничего не осталось, ну, может, какие там головешки…
Шофер замолчал и сидел, впившись черными пальцами в баранку руля. Его заросшее рыжей щетиной лицо было не то что печальным, а каким-то удивленным, словно он мысленно разводил руками, не зная, как и чем объяснить ту беду, что заставляет людей ездить по опасным дорогам, падать под пулями, а потом лежать на чужом кладбище под красной пирамидкой… Да еще и хорошо, если на кладбище, если есть над тобою пирамидка и на ней написана твоя, а не чужая фамилия.
— Ну что ж, — сказала Варвара, недоверчиво поглядывая на небо, — а нам все-таки надо спешить.
Когда за Гусачевкой выехали на белое пустынное шоссе, шофер так громко и так весело запел, что Варвара сразу поняла, как неспокойно у него на душе. Иногда он пригибался над баранкой, стараясь из-под лобового стекла увидеть, что делается в небе над крышей кабины, но и в это время гнал машину с такой скоростью, что белая полоса асфальта ревела под колесами, нажимал на акселератор и пел — и так все десять километров до поворота, за которым снова начались поля, балки, невысокие холмы, засеянные ячменем и рожью, успокоительно ласковые и совсем, казалось, мирные. Варвара подпрыгивала на твердом сиденье пропахшей бензином кабины и вспоминала сожженную солнцем и ветром августовскую степь между Волгой и Доном, тучи тонкой белой пыли на дороге, грузовик, в котором тряслись пятнадцать, а может, и двадцать офицеров и солдат, ту попутную машину, которую она остановила по дороге на Котлубань. С ними тогда ехали две девушки, совсем молоденькие; они только что прибыли на фронт и получили назначение на узел связи в танковую армию. Небо было тоже голубое, но казалось бесцветным, словно выгоревшим. Они старались петь, грузовик подбрасывало на полных белой пыли выбоинах, выходило очень нескладно и очень весело, и вдруг одна из тех девушек, что спешили к месту назначения в танковую армию, крикнула, схватив Варвару за руку:
— Смотрите, смотрите!
Варвара увидела в запыленном небе почти над головою дюралевое брюхо самолета, распластанные крылья, услышала короткий страшный свист и закрыла глаза.
У девушки были красивые волосы и влажные глаза с золотыми искорками в зрачках, тоненькие плечи и маленькие белые руки с короткими ногтями в белых пятнышках… А ее подруга, русая, стриженная под мальчика, голубоглазая, курносая? И тот немолодой офицер с расстегнутым воротом гимнастерки, который помог Варваре перелезть через борт, когда она остановила грузовик?..
Небо рухнуло и придавило Варвару темнотой.
Она открыла глаза. Над нею плыл высокий белый потолок, на скрученном винтом проводе качался налитый желтым жидким светом стеклянный пузырь. Была ночь, слышалось дыхание многих людей и временами тихий стон. Пошевельнуться, даже повернуть голову она не могла. Варвара повела глазами и увидела себя в госпитальной палате, к подбородку подползало коричневое шершавое одеяло, дальше виднелась железная, окрашенная в синий цвет спинка койки. И справа и слева были точно такие же железные синие койки и на них искалеченные женщины под шершавыми коричневыми одеялами.
Контраст между той последней минутой, когда она увидела над собою в потемневшем вдруг небе блестящее брюхо и крылья немецкого бомбардировщика, и минутой пробуждения, возвращения к жизни был таким разящим и таким неожиданным, пропасть меж двумя этими минутами была заполнена таким глухим неведением, что Варвара невольно, со все возрастающим страхом одними губами прошептала:
— Где я? Мамочка…
Зашлепали чьи-то мягкие усталые шаги. Над ней склонилось морщинистое круглое лицо в рамке серебряных волос.
— В Москве, милая, в госпитале… Опомнилась? Пойду скажу доктору…
Лицо уплыло, зашлепали войлочные туфли, и снова настало небытие…
…Машина влетела в лес, в узкий коридор высоких деревьев, разговорчивый шофер поехал медленней, откинулся на спинку сиденья, повернул лицо к Варваре и спросил:
— Из корреспондентов будете? Вольнонаемная? Я почему вижу: погон нету. Корреспонденты — хороший народ, веселый. И жизнь у вас куда легче нашей! Начальство далеко, сам себе хозяин.
Лицо у шофера было широкое, открытое и, хоть заросло щеткой рыжих волос, казалось совсем молодым. Назвался он Васьковым.
— Героев фотографировать будете? Какие сейчас могут быть герои! На фронте тихо, герои до поры отсыпаются, только наш брат шофер геройствует… Шоферов вы не фотографируете?
— Почему? Можно и шоферов, — улыбнулась Варвара.
— Сфотографируйте меня, а? За баранкой. Жена очень просит прислать карточку, пишет: убьют тебя, Васьков, детям вспомнить некого будет… Правда, Васькова не так легко убить, а вы все-таки сфотографируйте, я пошлю.
Варвара пообещала сфотографировать его, как только приедут на место.
Васьков знал все фронтовые новости, знал он и про новый немецкий танк.
— Так это вам надо прямо в полк к Лажечникову, если тот танк вас интересует… «Тигр» называется. Ничего страшного. Петеэровцы разбили ему триплексы, ослепили, тут он и дал дуба! Теперь стоит между нами и немцами. Как же вы будете фотографировать? Там каждый метр простреливается.
— Посмотрим, — сказала Варвара.
— Я вам говорю, — значит, правда, — не успокаивался Васьков, словно ему не хотелось, чтоб Варвара ехала фотографировать танк.
Он глянул на нее искоса, мотнул головой, а потом громко и весело засмеялся.
— И там у них все кругом заминировано от танков… На своей мине подорветесь!
— Вот смешно будет, когда сапоги вверх полетят!
Варвара бросила эту фразу из старого солдатского анекдота и сама засмеялась. Васьков смутился.
— Нет, вы не думайте, что я поэтому… Просто случай вспомнился, недалеко от нас было дело. Тут везде минные поля — танкоопасное направление, — а за минными полями лежат петеэровцы, и в лесу стоит артиллерия, чтоб прямой наводкой немца лупить… И был там жеребенок, у одного ездового за кобылой бегал. Ездовой сам татарин, лошадей любит, это каждый знает. Так этот жеребенок выскочил из лесу, хвост трубой, проскочил мимо петеэровцев — и прямо на минное поле. Все прямо ахнули, жеребенок — бог с ним, а вот мины начнут рваться, немец и увидит, что ему тут приготовлено. Татарин, я его и фамилию знаю — Мустафаев, выскочил за своим жеребенком, зовет его… Ну да, он замерз в лесу, жеребенок-то, а тут солнце, весело, воля! Один петеэр уже нацелился, чтоб этого жеребенка ухлопать. «Стой, — кричит Мустафаев, — я его сейчас поймаю!..» И что бы вы думали, идет на минное поле, даже немцы со своей стороны головы поподнимали и смотрят, как тот жеребенок его по полю водит, не говоря уже про наших: подорвутся же, черти, оба! Ну и что ж дальше? Поймал его Мустафаев и привел в лес, и, скажите, нигде на мину не наступили! Когда они вернулись, Мустафаев и шальной жеребенок, такой смех там стоял, что и рассказать нельзя! Видно, с радости. А один из ваших, корреспондент, про это написал — сам он не видел, ему потом рассказали, — вышло совсем не смешно, вот как и теперь, когда я вам рассказываю… Чтоб смешно было, надо самому видеть, а так, конечно, что тут смешного? Жеребенок, да и все тут.
Васьков резко затормозил. Машина остановилась перед березовым шлагбаумом. Из-за дерева вышел усатый солдат.
— А, Васьков! — сказал солдат и, увидев в кабине незнакомую женщину без погон на гимнастерке, добавил: — Кто это с тобой?
— Корреспондент к нашему хозяину… «Тигром» интересуется.
— А что там интересного? Танк как танк.
— Ну не скажи… Значит, надо, если интересуется, не для себя же.
Они разговаривали так, словно Варвары тут не было.
— Как ты думаешь, Зубченко, ей прямо к Лажечникову?
— Хозяин обидится. Обязательно надо к хозяину.
Усатый Зубченко поднял шлагбаум и подошел к кабине.
— Вам лучше пешком, товарищ корреспондент, — сказал он, сверкая зубами из-под пушистых усов. — Тут метров триста, не больше, если напрямик. Грузовик туда все равно не пропустят.
Лес влажно дохнул на Варвару. Земля была мягкая и словно колыхалась под ногами. Осины и березы переплетались ветвями над головой. Небо чуть просвечивало вверху и тоже казалось влажным и холодным.
— Видите провод? — продолжал Зубченко, одной рукою держась за поясной ремень, а другой расправляя свои пышные усы. — По этому проводу и пойдете, он вас и приведет к генералу.
— Темно тут, — берясь за аппарат, сказала Варвара. Ничего не выйдет, Васьков.
— А может, на мое счастье, что-нибудь и выйдет?
— Попробуем.
Она обошла грузовик спереди. Васьков высунулся из кабины, лицо его окаменело, глаза полезли на лоб, он весь, казалось, готов был впрыгнуть в объектив. Варвара навела аппарат, совсем открыв диафрагму, и сделала самую большую выдержку. Васьков не шевельнулся; только когда уже щелкнула шторка и Варвара начала прокручивать пленку, он с шумом выпустил зажатый в груди воздух и замотал головой:
— Думал, душа из меня вон!
Варвара вытащила из нагрудного кармана маленькую книжечку.
— А я вас сам найду, товарищ корреспондент, — неожиданно сказал Васьков. — Приятно будет продолжить знакомство… Я ваш хутор знаю.
Он вдвинулся в кабину, нажал на акселератор и исчез в глубине леса.
Варвара пошла по проводу.
5
Она шла по узкой, хорошо протоптанной тропинке, и провод бежал перед нею. Уставшее от тряски в грузовике тело отдыхало, охваченное прохладой. Она услышала дятла и увидела его на сухой ольхе. Дятел долбил клювом кору, крепко уцепившись лапками за ствол, — чубатая красивая птица в красных шелковых штанах.
Варвара долго глядела на работу дятла. Кусочки сухой коры летели на землю от ударов его крепкого клюва. Он был похож на лесоруба, которому некогда отдыхать, обстукивал свою ольху со всех сторон, словно обследовал ее перед тем, как валить. Вдруг отозвалась кукушка, она проговорила свое «ку-ку» таким низким, словно простуженным голосом, что Варвара невольно улыбнулась. Дятел приостановил работу, послушал немного и снова начал долбить. «Э, некогда мне с тобой», — будто сказал он. Кукушка не умолкала.
Варвара пошла на голос кукушки, не думая ни о тропинке, ни о проводе, ни о том, почему она очутилась в этом лесу, полном спиртного запаха гнилых пней, прелой листвы и ломких, втоптанных в землю сухих веток.
Кукушка вела ее за собой.
Ничего странного не было в том, что лес и кукушка напомнили ей Галю, потому что они заблудились тогда с Галей в лесу, тоже идя на голос кукушки.
Поняв, что без посторонней помощи им не выйти к дачной платформе, Варвара села на пенек на солнцем залитой полянке, где росло много разных цветов. Галя стояла рядом и смотрела на цветы испуганными, остановившимися глазами. У Гали от испуга всегда останавливались глаза и делались невероятно большими на маленьком личике. Такие глаза были у Гали и тогда, когда она пришла с бабушкой к Варваре в госпиталь, тихая, напуганная большой общей палатой, синими койками и коричневыми одеялами… Галя стояла у нее в ногах, держась маленькими руками за железную спинку койки, и ушки у нее были бледные и совсем прозрачные, как осенняя листва на солнце, а старательно причесанные волосы казались приклеенными к голове, как у большой куклы.
Ну да, и тот подмосковный лес, в котором они заблудились, и палата госпиталя были теперь так далеко, что трудно и вспомнить их во всех подробностях. Они были отделены друг от друга глубокой темной пропастью небытия, которое началось в тот миг, когда Варвара увидела над собой распластанные в воздухе крылья немецкого самолета и услышала вой бомбы, — началось совсем неощутимо, неизвестно сколько продолжалось и кончилось лишь на синей койке. А могло и не кончиться, и она даже не знала бы, что не существует. Только на госпитальной койке Варвара поняла, что потеряла бы вместе с жизнью: худенькую девочку с кукольными волосами и прозрачными ушками… Потом она подумала, что все наоборот: девочка потеряла бы ее, потому что для нее, Варвары, уже не существовало бы ни девочки, ни возможности потерь.
Вся ее жизнь за последние годы в существе своем была постоянным чувством утраты, невозвратной, безнадежной потери. Саша, ее муж, с которым она была так счастлива, исчезнув из жизни, не мог уже чувствовать той постоянной горечи, что наполняла ее. Для него все кончилось в то мгновение, когда он неизвестно где в последний раз закрыл глаза, а для нее в это же мгновение мир, ранее заполненный их совместным существованием, превратился в обширную пустыню, по которой она должна была идти одна. «Мертвые ничего не теряют, — думала Варвара, — терять — удел живых».
Когда она опомнилась от своих мыслей, уже не было ни тропинки, ни провода, не слышно было ни голоса кукушки, ни стука дятла. Лес молчал. Варвара поняла, что заблудилась. Но, кажется, тогда, в подмосковном лесу, она испугалась больше, чем тут. Если не волноваться и не теряться, можно отыскать тропинку. Опасности угодить к немцам тоже нет. Правда, можно неожиданно выйти на передний край, но ведь это же к своим.
Лучше использовать время и сменить эту неудобную юбку на солдатские штаны, что лежат у нее в вещевом мешке.
Варвара стянула сапоги, достала из мешка штаны и, хоть никого не было видно кругом (даже птиц не было слышно), зашла за куст орешника, чтоб переодеться. Сбросив юбку, она хорошенько вытряхнула ее, стоя в сиреневых рейтузах, потом аккуратно сложила и спрятала в мешок. Неудобно было прыгать на одной ноге, чтоб попасть другою в штанину узковатых для нее в икрах галифе. Варвара мотала головой, понимая, как смешно она выглядит в эту минуту. Господи, если б кто увидел ее со стороны! Но ничего не поделаешь, штаны — лучшая одежда в этой обстановке, тысячи женщин их носят, тысячи женщин так же прыгают на одной ноге… Наконец со штанами было покончено. Заворачивать портянки она умела хорошо. Варвара одернула гимнастерку, поправила ремень и вышла из-за куста.
Худощавый лейтенант с острыми, как иголки, зрачками маленьких, глубоко посаженных глаз смотрел на нее, прижимая к животу выставленный дулом вперед револьвер.
— Руки вверх! — сказал лейтенант.
Варвара медленно подняла руки вверх — ладонями к лейтенанту. Конечно, она могла бы попробовать объясниться, но что ему мешает выстрелить ей в живот?
— Вы кто? Как вы сюда попали?
Варвара объяснила. Он велел показать документы, проверил их и спрятал в карман.
— Оружие есть?
Варвара дотронулась до фотоаппарата. Лейтенант приказал ей идти впереди. Было смешно и грустно идти под дулом пистолета в первый выезд на передовую, к тому же Варвару раздражала мысль о том, что лейтенант видел, как она танцевала на одной ноге в своих сиреневых рейтузах. Черт бы его взял, этого лейтенанта, не мог он появиться немного позже, все было бы хорошо… А, да что там, так тоже хорошо! Без него поплутала бы тут в лесу. А рейтузы…
Лейтенант уже спокойней проговорил за спиною у Варвары:
— Может, вы и вправду московский корреспондент… Наше дело быть бдительными, сами знаете.
— Конечно, — отозвалась она, невольно замедляя шаги,
— Не останавливайтесь! — скомандовал лейтенант.
Варвара вскипела:
— Идите вы к лешему с вашей бдительностью! Стыдно подглядывать, когда женщина переодевается.
Лейтенант даже охнул от удивления.
— Ну погодите! — только и смог он сказать.
Неизвестно, что крылось за этим «погодите» — возможно, «вы пожалеете», возможно, кое-что и похуже. Заросли кустарника, сквозь которые они продирались, кончились, открылась широкая утоптанная поляна. Варвара увидела несколько блиндажей под высокими зеленокорыми осинами и поняла, что это и есть штаб дивизии генерала Костецкого.
Новенький «виллис» с поднятым брезентовым верхом приютился в кустах за блиндажом, над накатом которого поднимался из железной трубы и расплывался в воздухе белый дым, какой бывает от сырых дров. Часовой усмехнулся и, словно испугался, сразу же проглотил улыбку, увидев за спиной Варвары лейтенанта. Из блиндажа вышла девушка в белом халате и белой косынке, в руках у нее блестела никелированная коробочка, в которой обычно держат шприцы. Девушка остановилась рядом с часовым и, глядя на лейтенанта, который все еще прижимал к животу револьвер, мелко и звонко засмеялась, открывая рот, маленький и круглый, словно у окуня.
— Опять диверсанта поймал, Кукуречный?
— А иди ты знаешь куда! — прошипел лейтенант, которому принадлежала эта странная фамилия.
Девушка прыснула, весело посмотрела на Варвару и, не обращая внимания на слова Кукуречного, снова сказала:
— Веди ее, веди к генералу, медаль получишь… Поздравляю с наградой, Кукуречный!
Часовой, уже не пряча улыбки, пропустил Варвару и лейтенанта в блиндаж.
Генерал Костецкий лежал в аккуратно срубленном блиндаже на земляных нарах под тяжелым белым тулупом, запрокинув голову и высоко подняв колени. На белой подушке резко вырисовывалось его иссушенное жаром, почти коричневое лицо. Из-под тулупа торчали носки ярко начищенных сапог.
Белый свет автомобильной фары, подвешенной под потолком и подсоединенной к двенадцативольтовому аккумулятору, заливал все закоулки блиндажа, нары, на которых лежал Костецкий, его отделанный смушкой тулуп, генеральскую шинель и фуражку на стене, узкий сосновый стол, где рядом с исчерченною красными и синими линиями картой стоял зеленый ящик телефона и низко срезанный стакан от снаряда скорострельной пушки с пучочком светло-синих лесных колокольчиков и бледного папоротника.
В углу блиндажа солдат подбрасывал в чугунную низенькую печку коротко напиленные толстые полешки.
Было душно, как в бане. Варвара стояла ошеломленная, голову пришлось пригнуть: блиндаж был низковат для нее.
Лейтенант, который задержал и привел ее сюда, доложил генералу все, что считал нужным, и теперь самоуверенно сопел за ее плечом, удовлетворенный своей бдительностью и тем, что эта бдительность привела его в блиндаж командира дивизии.
— Куда же вы, собственно, направлялись? — наконец услышала Варвара резкий и неприятный голос Костецкого.
Варвару кинуло в дрожь: она смотрела себе под ноги, боясь увидеть глаза, похожие на этот голос.
— Вы что ж, говорить не умеете?
Варвара подняла голову и увидела, что Костецкий говорит с закрытыми глазами. Тонкие, до черноты искусанные, пересохшие от жара губы устало раскрывались, чтобы пропустить с напряжением выговоренные слова, и плотно смыкались, словно навсегда. Широкое лицо генерала Костецкого было чисто выбрито, в ямке на коротком подбородке лежала тень.
Трудно было соединить это сожженное жаром лицо, на котором отпечаталось выражение затаенного страдания, и голос, напоминавший скрежет напильника о железо. Казалось, что лицо, на котором бронзовый загар странно сливался с болезненной бледностью, принадлежит одному — усталому и доброму человеку, а голос — совсем другому, раздраженному и уязвленному до глубины души.
— Почему не умею? — выговорила Варвара. — Я шла к командиру дивизии, генерал-майору Костецкому. По проводу, как мне посоветовал солдат у шлагбаума… Заблудилась.
— Ага! Заблудилась… Ну и что ж?
В голосе Костецкого все сильнее звучало раздражение.
— Думала, найду дорогу, бояться нечего, и стала переодеваться. Мне неудобно в юбке, я всегда так делаю.
Лейтенант за спиной у Варвары не то хмыкнул, не то крякнул. Варвара замолчала.
— В чем дело? Вы чего крякаете?
Костецкий, не раскрывая глаз, повернул лицо на голос лейтенанта. Лейтенант проглотил некрасивый смешок и выдохнул скороговоркой:
— Прошу прощения, товарищ генерал-майор, я не нарочно!
Костецкий уложил голову в выдавленную на подушке ямку и уже тише и спокойней обратился к Варваре:
— Значит, вы шли к генерал-майору Костецкому? Я и есть он. Очень хорошо.
Голос Костецкого снова заскрипел и заскрежетал.
— Очень хорошо, — повторил он, — что вы решили не обходить больного генерала. Многим теперь наплевать на Костецкого, доживает последние дни в дивизии, идут прямо в политотдел, к начальнику штаба или в полки… Вы с чем ко мне?
— Я должна сфотографировать новый немецкий танк, подбитый вашими петеэровцами.
— Интересуются?
Костецкий раскрыл глаза, и Варвара увидела, что они у него большие и светлые на темном лице, зеленовато-золотистые, неожиданно прозрачные и полные внутреннего тепла. Костецкий глядел на нее внимательно и, казалось, немного удивленно: он не мог с закрытыми глазами, по голосу представить себе, что перед ним стоит такая большая, неуклюжая в гимнастерке и солдатских штанах женщина, и теперь, увидев ее и худощавого лейтенанта за ее плечом, не мог сдержать улыбку. Он силился скрыть эту улыбку, потому что боялся обидеть женщину, не зная, что улыбка его была похожа на гримасу — так сводила мускулы его лица боль.
Костецкий одним движением сбросил с себя тулуп, неожиданно легко оторвал плечи от подушки и спустил ноги с нар.
— Можете идти, Кукуречный, — сказал Костецкий, поглаживая ладонями острые колени, обтянутые тонким сукном генеральских бриджей. — Я позову, если нужно будет.
Лейтенант, козырнув, вышел. Уходил он, медленно переставляя ноги, так, словно ему стоило больших усилий, отрывать их от пола блиндажа. То, что генерал отослал его, могло означать лишь одно: лейтенант Кукуречный снова перестарался и попал в смешное положение:
— Садитесь, — морщась от боли, сказал Костецкий и через силу улыбнулся. — Вон вы какая большая!
— Я тороплюсь, товарищ генерал. — Варвара присела на некрашеную табуретку, которую подсунул ей солдат, на минуту оторвавшись от печки. — Сегодня нужны снимки.
— А это невозможно: у Лажечникова головы нельзя поднять. Разве что издалека посмотрите.
То же самое говорил ей и шофер Васьков, хоть в голосе Васькова не было той ничем, казалось бы, не вызванной раздраженности и резкости, которая слышалась в каждом слове генерала. Что ж, резкость резкостью, но и шофер и генерал сходились на одном — это убеждало, что обстановка у неизвестного Лажечникова, к которому Варваре надо было идти, действительно трудная и что с этим надо считаться.
Варвара не могла считаться с обстановкой.
— Как-нибудь изловчусь и сниму, я же не для развлечения сюда прибыла.
— Вон как? — Костецкий хмыкнул, не глядя на нее, и кинул коротко в угол блиндажа, где у печки сидел на корточках солдат: — Ваня, чаю!..
Солдат вскочил, и сразу же в углу блиндажа послышалось бульканье воды из чайника и звяканье ложечек о стаканы. Костецкий, прислушиваясь к этим домашним звукам, молча смотрел на Варвару.
— Не для развлечения, — наконец сказал он со вздохом. — Как я этого не понял! Вон вы какая молодчина, пристыдили боевого генерала!
Ваня аккуратными движениями свернул карту и поставил на стол чай в граненых стаканах; неправильной формы кусочки сахара он подал на маленькой тарелочке с красным ободком, местами уже поблекшим и вытершимся.
— Мне крепкого, Ваня, — сказал генерал, подвигая один стакан Варваре.
Ваня испуганными глазами смотрел на генерала, он был совсем молодой и казался робким; его чистое лицо понемногу бледнело, он переступал с ноги на ногу и не спешил выполнять просьбу генерала, которая была для него приказом.
— Ну?
— Нельзя, товарищ генерал.
— Откуда ты можешь знать, что можно и что нельзя?
— Мне от военврача Ковальчука приказ был, что нельзя вам крепкого… Ну что же, когда нельзя!
В голосе Вани звучали упрек, и мольба подчиниться приказу врача, и искреннее восхищение генералом, которому и доктор, и упреки, и мольбы — все нипочем.
— А трижды в день колоть генерала можно?
Костецкий неожиданно весело подмигнул солдату. Ванино лицо расплылось в улыбке, все еще испуганной, но уже не такой бледной. Он сорвался с места, словно подмигивание генерала освобождало его от всех приказов и запретов военврача Ковальчука, нырнул рукою в какой-то ящик в углу блиндажа и вернулся с низкой пузатой бутылкой. Генерал отхлебнул чаю из граненого стакана и протянул стакан к Ване. Ваня наклонил бутылку над стаканом, его лицо снова сделалось испуганным. Густая красноватая жидкость, булькая, полилась в стакан.
— А корреспонденту мы нашего чаю не дадим, Ваня, — удовлетворенно сказал Костецкий, глядя, как Ваня старательно затыкает бутылку перед тем, как спрятать ее в ящик. — Корреспонденту будет слишком крепко… Не помогают уколы, какой от них толк!
Он маленькими глотками пил из стакана, после каждого глотка ставя его на стол.
— Не для развлечения, говорите… Для развлечения, конечно, хорошо на рыбалку ездить в выходной. Помните? Или по грибы ходить. У нас, на Тамбовщине, грибов вволю… Я родом оттуда. Речку Цну на карте видели? Сколько рек приходилось форсировать, а такой милой не видел, может потому, что они ко мне не тою стороной оборачивались, как эта самая Цна… А вы откуда будете?
Варвара, держа пальцы на стакане с горячим чаем, сказала:
— Я москвичка.
— По фамилии вы должны бы украинкою быть… Или это у вас фамилия мужа?
— Нет, моя. Дед у меня был белорус, сама я уже русская, родилась в Тарусе, там и выросла. А живу в Москве.
Генерал тоже охватил обеими руками горячий стакан.
— А я тамбовский мужик, в генералы вышел… Видите, чай с ромом пью? А отец мой хлебом с мякиной давился да квасом запивал… Вот мы какие с вами аристократы!
Костецкий отхлебнул своего крепкого чая из стакана и вдруг, словно обжегшись, закричал:
— Не разделяю людей по расам, нациям, цвету кожи! По носам и волосам также! Меня русский живоглот в городе Кирсанове, Тамбовской губернии, купец первой гильдии Абалакин, голодом, кнутом и кулаками на всю жизнь выучил, что есть на свете только рабочий человек да токарь по пшенице, а против них помещик и буржуй!
Глаза Костецкого сузились, кожа, туго натянутая на выступающих скулах, заблестела капельками мелкого пота. Он вздохнул и сказал совсем спокойно:
— А фамилия у вас почему девичья? С мужем не записаны? Раньше это можно было — на веру. Теперь такой водоворот пошел в этом вопросе, что советую вам обязательно оформить.
— Конечно, хорошо было бы оформить, — начала Варвара, но вдруг поняла: она не должна говорить, что ей не с кем и нечего оформлять, что тот, для которого это не имело, так же как и для нее, никакого значения, был связан с ней такими узами, для которых не было ничего крепче их самих.
Все сегодня приводило Варвару в прошлое — к Саше. Непонятно было, почему сегодняшний день, день ее первого после долгого перерыва выезда на передовую, складывался так, словно он должен стать ее последним днем, когда надо передумать все самое важное в жизни.
— Разрешите идти, товарищ генерал, — поднялась Варвара.
— Нечего делать, разрешаю. — Костецкий тоже поднялся. — Приказ есть приказ.
Он пропустил Варвару вперед и по узким крутым ступеням поднялся за ней из блиндажа. Кукуречный сидел на бугорке под ольхою и с угрюмым видом чертил что-то сломанной веточкой на земле. Кукуречного сразу же словно пружиной подбросило, он отшвырнул веточку за спину и вытянулся в струнку.
— Кукуречный, отведите корреспондента на командный пункт полковника Лажечникова и не вздумайте там задерживаться, — остановившись возле часового, сказал Костецкий.
— Слушаю, товарищ генерал! — Лейтенант Кукуречный с обидой в голосе повторил приказ: — Есть отвести и не задерживаться!
На поляне было солнечно. Лицо Костецкого выглядело тут не таким темным, как в блиндаже, и вообще он уже не казался Варваре таким тяжело больным.
Костецкий стоял, заложив руки за спину, у входа в блиндаж, приземистый, казалось, крепко сбитый — с расчетом на много лет жизни, — и внимательно смотрел вслед неуклюжей женщине в солдатских штанах, которая должна была средь бела дня пройти туда, куда и ночью не так легко пробраться.
Варвара уже не видела, идя за Кукуречным, как лицо Костецкого вдруг потемнело и передернулось от боли. Костецкий медленно повернулся, осторожно взялся за поясницу и, ссутулившись, втянув голову в широкие плечи, стал спускаться в блиндаж.
Генерал лег навзничь на нары, поднял колени и, накрывшись тулупом, тихо окликнул Ваню, который снова сидел на корточках и подкладывал в печку короткие поленца дров.
— Соедини меня с Лажечниковым, Ваня.
Ваня подал генералу трубку.
— Слушай, Лажечников, — трудно и медленно заговорил в трубку Костецкий, — к тебе пошел корреспондент… Собственно, не пошел, а пошла. Ну, знаешь, насчет этой коробки интересуется. Ей бы хорошо пеленки стирать… Ну, я про это и говорю. Мужиков у них не хватает, что ли? Ты проследи, чтоб зря не лезла куда не следует. Они, знаешь, бабы — народ отчаянный, — конечно, чтоб не подумали, что им страшно. Так что ты меня понял, Лажечников? Ну вот и хорошо.
Костецкий устало положил трубку себе на грудь. Ваня осторожно взял ее из холодных пальцев генерала.
Генерал снова лежал с закрытыми глазами, выпуклые глазные яблоки круглились у него под твердыми надбровными дугами, как на темной бронзовой маске. Ваня на цыпочках отошел от стола и положил трубку в зеленый телефонный ящик.
— Ох, мама, — сказал шепотом генерал и натянул на лицо полу тулупа.
6
Из записок Павла Берестовского
Я вернулся из дивизии полковника Лаптева поздно — наш хутор уже спал.
Шофер попутной машины высадил меня на околице, я подхватил с сиденья шинель и пошел темной улицей от избы до избы, утомленный и взволнованный очередной бесплодной поездкой на передний край.
У Лаптева ничего не происходило, как и на всем фронте. Солдаты сидели в окопах, штаб спокойно делал свое дело, разместившись в обжитых блиндажах. Иногда вспыхивала перестрелка, завязывались артиллерийские дуэли, над передним краем пролетал вражеский самолет — по нему не стреляли. По ночам разведчики искали «языков». В редакции считали, что на войне воюют двадцать четыре часа в сутки, и требовали от меня подробной информации о боевых действиях, а писать было не о чем, разве что о подвигах отдельных людей. Я и решил писать про храброго разведчика Ивана Перегуду, который семь ночей охотился за «языком», но и тут мне но хватало многих подробностей, домыслить которые я не мог, потому что никогда не ходил в разведку, а Перегуда не хотел или не умел рассказывать о себе.
— Значит, вот так лежу я, — говорил Перегуда в землянке разведчиков, сидя передо мной навытяжку, как перед большим начальством, — а вот так от меня немцы… А курево забыл! Без курева, сами знаете, солдат не солдат и война не война… А вы сами курящий? Ну, значит, можете сознавать.
Так мы проговорили с Перегудой о курении и о разных сортах махорки до самого вечера, а о том, как он взял немецкого офицера, мне пришлось расспрашивать у его товарищей — разведчиков и их командира капитана Бондаренко, который искренне восхищался своим бесстрашным Перегудой, но рассказать о нем тоже почти ничего не мог.
Бесплодной поездка была для моей газеты — я снова возвращался с пустым блокнотом. Взволновало же меня то, что, познакомившись на обменном пункте с фотокорреспонденткой Варварой Княжич, я впервые от нее услыхал, что на нашем фронте есть командир дивизии Костецкий, — она ехала в его хозяйство выполнять важное поручение генерал-лейтенанта Савичева, какое именно — я не стал расспрашивать. Дело в том, что с остатками дивизии Костецкого я отступал из Киева.
Казалось, все уже забылось, исчезло из памяти, уснуло в моем сердце. Столько дней пролетело, столько событий, полных трагизма и величия, произошло на моих глазах, что невольно все личное, как бы глубоко ни затрагивало оно сознание, должно было отступить в тень. Я давно уже жил будущим, как и каждый в то лето. И все-таки достаточно было одного слова, одной фамилии, чтобы недалекое прошлое ожило и наполнило меня незабытой тревогой.
Снова видел я перед собой знакомые киевские улицы, серебряную полосу Днепра и песок Труханова острова; появлялась перед моими глазами каменная свеча лаврской Колокольни так, как видишь ее с левого берега; бурлило скопище людей и машин под Борисполем; снова слышал я грохот взрыва, неистовый, много раз повторенный эхом грохот, и знал, что это батальонный комиссар Лажечников взорвал мост Евгении Бош… Потом проплывало передо мной зрелище ночного, словно залитого асфальтовым лаком Трубежского болота, где мы строили переправу. И бой на свекловичном поле, и изба Параски вспоминалась мне, и фельдшер Порфирий Парфентьевич с его шершавыми, как наждак, руками… Дмитрий Пасеков сидел возле меня на чердаке Параскиной избы, потом они вместе с Параской учили меня ходить на том же чердаке. Еще больно было ступать на ногу, но нужно было идти, впереди нас ожидал длинный и тяжелый путь. И снова я видел Лажечникова, он держал руку на грязной марлевой перевязи и тяжело дышал, стоя над раненым Костецким. В темноте Костецкого положили на носилки, женщина-военврач пошла сбоку, а небо выло и раскалывалось над нами. Где теперь Лажечников, жив ли он? А Гриша Моргаленко, тот круглоголовый киевский парень, с которым я встретился в голосеевской траншее? А его Маруся?
Про Дмитрия Пасекова я кое-что знал, хоть и не встречался с ним с того времени. Он был тяжело ранен в начале сорок второго года и долго выздоравливал в тыловом госпитале. Рассказывали, что Пасеков ходил с бойцами в глубокую разведку, там получил осколок гранаты в грудь, — было это на Карельском перешейке, в морозы и снега, — Пасеков чуть не погиб от потери крови и холода. Теперь он снова работал в своей газете, имя его часто встречалось под фронтовыми корреспонденциями; я даже написал ему как-то письмо на редакцию, но он не ответил… Почему? Долго я ломал над этим голову, а потом обида забылась: Пасекову я был обязан жизнью. Теперь я снова думал: почему Пасеков не ответил на мое письмо? Мы вышли из окружения под Валуйками, и я был уверен, что дорога, которую мы прошли, навеки породнила нас.
Невозможно было уйти от всех этих вопросов и мыслей. К тому же, возвращаясь из дивизии Лаптева, я завернул на полевую почту. Подолгу не получая из дома писем, я чувствовал себя одиноким и забытым.
Горько и смешно было думать о «моем доме», о моей Ане, которая не переставала кочевать со своим театром с того дня, когда волна эвакуации подхватила ее в начале июля сорок первого года и вынесла из Киева в далекий Семипалатинск. Аня редко писала мне. Без ее писем было тяжело, с письмами еще тяжелее. Стриженые девушки на полевой почте, наверно, по виду моему понимали, что значат для меня письма, о которых я часто справлялся.
— Пишут, — печально шутили они. — Вам пишут, товарищ майор…
Приходилось им верить.
Я шел по тропинке вдоль плетней, долгожданное письмо Ани лежало у меня в кармане, теплая трубка догорала в кулаке, она давно уже треснула, пришлось обмотать ее медной проволочкой. Иногда мне казалось, что и в сердце у меня трещинка, только некому его перевязать проволочкой, чтобы можно было в нем разжигать огонек надежды.
Под черным шатром старой груши звучали тихие голоса.
— Да ведь грех… — услышал я низкий, приглушенный голос хозяйки моей избы, молодой солдатки, которая требовала, чтоб ее звали Людой.
— В природе нет греха, это ты всегда помни, — ответил самоуверенный мужской голос, и я узнал местного плотника, похожего на святого Иосифа, хитрого деда с молодыми глазами и венчиком седых волос вокруг лысины. — Грех идти против природы, природа есть добро.
Голова его была набита странной путаницей из прописных истин православного благочестия и сектантских непереваренных догм.
— Сказано: бог есть любовь, — настаивал плотник.
— Да, наверно, не такая, — отзывалась устало Люда.
Я увидел Люду, — сложив руки под высокой грудью, обтянутой белой кофточкой, она стояла, опершись спиной о ствол груши.
Плотник держал одну руку высоко поднятой, словно благословлял или проклинал Люду. Подойдя ближе, я разглядел, что он держится за ветку.
— Добрый вечер, — поздоровался я.
— С приездом, — отозвалась Люда, не пошевельнувшись.
Плотник блеснул в темноте глазами.
— А у нас поздний разговор: просит солдатка ей новые стропила поставить, крыша проваливается… Да нет времени днем договориться — все работа. Один я теперь мастер на все село.
— Да они знают, — Люда откачнулась от груши, — они всем интересуются.
Не попрощавшись с плотником, она пошла рядом со мною по тропинке к хате.
— У вас гости. Говорят, из Москвы, не знаю — не бывали раньше.
Она задержалась на минутку у порога, чтоб оглянуться — плотник все еще стоял под грушей, — и сказала тихо, низким своим голосом, словно извиняясь:
— Стропила и вправду нужно менять, начисто прогнили.
— Ну и что ж, договорились?
— Очень много он с меня запрашивает, — вздохнула Люда, не нарочно толкнув меня мягким плечом в темных сенях.
Я нащупал щеколду и открыл двери. В избе горела лампа, на моей кровати сидел худощавый капитан с бритой головой и писал, навалившись запавшей грудью на стол. Молодой лейтенант с тонкими черными усиками на красивом лице тарахтел кассетами и шуршал пленкой, запустив по локти руки в черный мешок, лежавший у него на коленях.
— Здравствуйте, товарищи, — сказал я, снимая пилотку и не зная, куда ее положить: на гвоздике, где обычно я вешал шинель, висел чужой офицерский плащ и поверх него, упираясь блестящим козырьком в воротник, новая фуражка. Все это, очевидно, принадлежало капитану. Лейтенант не по сезону сидел в роскошной мерлушковой кубанке с донышком в позументах крестом.
Наконец я нашел место для своей пилотки — повесил ее на ветку фикуса, блестевшего большими жестяными листьями в углу хаты: Люда любила городские цветы; шинель пришлось положить рядом с фикусом на пол.
— Вы из Москвы? — спросил я своих гостей.
Опять ни капитан, ни лейтенант не ответили мне. У лейтенанта был тот сосредоточенно-глуповатый вид, который всегда появляется у людей, принужденных делать что-то на ощупь, а капитан так ушел в свое писание, что, начни тут бить артиллерия, он и то, кажется, не прекратил бы работы.
Все это мне не нравилось. Кто они и что им нужно в моей избе?
Люда посмотрела на меня с откровенным сочувствием, передернула плечами и ушла за дощатую перегородку в свою каморку.
Красивый лейтенант вдруг перестал шуршать пленкой в мешке и уставился на капитана черными блестящими глазами:
— Уинстон, слушай… Ты не знаешь, что такое выя?
Я остолбенел от неожиданности этого вопроса, а возможно, и имя, которым лейтенант назвал бритоголового капитана, произвело на меня такое сильное впечатление.
— Выя? — капитан поднял голову и почесал карандашом за ухом. — По-моему, Миня, это коровьи сиськи…
— Слушайте, вы! — крикнул я, чувствуя желание стукнуть кого-нибудь по голове. — Вы долго будете злоупотреблять моим терпением?
Капитан и лейтенант удивленно переглянулись, словно только сейчас меня заметили.
— Из какой вы газеты? — продолжал я.
— Из вашей же, — холодно и спокойно сказал капитан, — напрасно вы так волнуетесь. Нас прислали сюда, потому что вы не обеспечиваете газету оперативной информацией, в то время когда все взгляды прикованы к вашему фронту. Понятно?
Капитан вылез из-за стола и вплотную подошел ко мне, продемонстрировав всю неуклюжесть закоренелого штатского, словно на маскарад переодетого в новые сапоги с короткими широкими голенищами и новое, еще не стиранное солдатское обмундирование.
Нацеливаясь мне в грудь заостренным концом карандаша, Уинстон говорил начальственным голосом:
— Редакция считает, что вы занимаетесь крохоборством. Нужно оперативно информировать читателей о положении на фронте, готовить народ к большим событиям, которые скоро начнутся. Понятно? Ваша беллетристика никому не нужна. Понятно?
То, что моя «беллетристика» никому не нужна, я хорошо знал. По правде говоря, это не очень волновало меня. А вот события — какие события имеет в виду капитан? Неужели им в Москве больше говорят, чем мы можем знать тут, на фронте?
— Что же вы сразу не сказали? — протянул я руку капитану. — Очень рад! Я мог бы догадаться, что кто-нибудь приедет мне на подмогу: из других редакций тоже съезжаются.
— А кто? — поинтересовался лейтенант Миня.
— Варвара Княжич, например… Вы ее, наверное, знаете?
— А, знаю, — засмеялся лейтенант. — Такая большая тетя… Ей с авоськой в очередь ходить, а не с фотоаппаратом ползать по передовой.
Я выразился бы иначе, но, если отбросить форму выражения, лейтенант был недалек от истины: мне и самому казалось, что Варваре Княжич нелёгко на фронте, она казалась слишком заурядной, домашней женщиной для довольно тяжелой и опасной профессии военного фотокорреспондента. Видно, капитан Уинстон думал совсем не об этом, когда, пронзив карандашом воздух, непримиримо сказал:
— Я ее вообще не пускал бы на фронт. Нечего ей тут делать.
— Почему? — поинтересовался я.
— Раз я говорю, значит, есть основания… Советую помнить, в какой редакции вы работаете, и поменьше с этой Княжич якшаться.
Это не только удивило меня, но и возмутило. Но, несмотря на все мои попытки установить причину его непримиримости, Уинстон ничего больше не захотел сказать. Совсем утомленный и этим разговором, и долгим бесплодным днем, полным тревожных мыслей и воспоминаний, я взял со своей кровати одеяло. Во дворе лежала куча свежего сена, там я и решил переспать ночь, чтоб не докучать моим гостям.
— Спокойной ночи, — сказал я и направился к дверям.
Люда, откинув занавеску, выглянула из-за перегородки уже в одной юбке и сорочке, из которой словно выплывали ее круглые плечи.
— Вы ж не ужинали, наверно… У меня есть картошка и простокваша.
— Спасибо, Люда, — отказался я.
Она медленно опустила занавеску и спрятала за перегородкой свои белые круглые плечи, потом исчезла и ее рука, тоже полная и белая, только с загорелой и огрубевшей от работы, почти коричневой кистью.
Свежее сено пахло в углу двора за маленьким сарайчиком. Месяц стоял уже высоко, блестящий и холодный, как большой диск, только что вынутый из никелировочной ванны. Тишину нарушало очень отдаленное бухание, которое можно было услышать, только лежа на земле.
Ничего не поделаешь, придется браться за Ивана Перегуду утром… А может, мне нечего и приниматься за него, если капитан Уинстон прав и скоро начнутся события… Никто тогда не обратит внимания на моего храброго разведчика: не до него будет. Ну что же, еще один подвиг останется неописанным, как сотни и тысячи других, сольется с подвигом всего народа, — может, это и лучше, может, и не нужна солдату личная слава, не для нее он создан… Может, оперативная информация — это и все, что нужно! Нет, не может быть, чтобы прав был этот Уинстон или как там его. И откуда у него такая непримиримая враждебность к Варваре Княжич? Что он знает о ней? Снова течение мыслей привело меня к этой женщине.
Не может Уинстон знать о ней ничего плохого. Она так откровенно и по-товарищески разговаривала со мной, сидя во дворе обменного пункта, так доверчиво рассказала о своих семейных делах, что я не мог не почувствовать к ней того, что называется старомодным словом «симпатия». В Москве ее ожидают маленькая дочка и старая мать, муж погиб… Где? На войне? Она не ответила. Неудобно было расспрашивать. Я вообще никогда никого не расспрашиваю. На мой взгляд, все должно выясняться само собой, в процессе жизни. Чужая жизнь должна стать частью моего существования, чтобы я мог понять ее до конца.
Тогда я еще не знал, что судьба Варвары Княжич вскоре раскроется для меня. Мне казалось, что встреча с ней — это одна из многих случайных встреч на моих фронтовых дорогах: как сошлись дороги, так и разойдутся, я никогда и не вспомню об этой женщине с фотоаппаратом. Мог ли я думать тогда, что через много лет образ Варвары Княжич всплывет в моей памяти и я не успокоюсь, пока не расскажу людям все, что знаю о ней?
Запах сена дурманил и без того отяжелевшую голову.
Чем это пахнет? Я глубоко вдыхал прохладный воздух и задерживал его в груди, весь проникнутый каким-то непонятным блаженством и еле ощутимой горечью. Ах, боже мой, чем же это пахнет?
Где-то и когда-то я вдыхал уже этот запах и ощущал уже это блаженство и эту неуловимую горечь, и оттого, что ощущение повторялось, оттого, что я не мог сказать себе наверняка, где и когда оно впервые возникло во мне, горечь и блаженство с еще большей силой охватывали меня и не давали заснуть.
Да это же просто донник и полынь и та жесткая кустистая трава, из которой делают веники, старался я успокоить себя. На ней еще растут такие кругленькие шишечки, как у мимозы, только не желтые, а сизоватые.
Что-то защекотало мне щеку легким касанием. Я протянул руку и вытащил из сена длинную привядшую плеть повилики, усыпанную белыми расплющенными колокольчиками — в свете луны они казались восковыми. И словно с этим стебельком повилики, с этими восковыми, не белыми, а сероватыми колокольчиками вытянул я конец длинной нити воспоминаний, которые связывались с запахом донника и полыни, воспоминаний недавних, но от этого не менее острых, хотя еще лишенных той разящей силы, которой заряжены давние впечатления бытия…
…Хуторок был маленький, он стоял меж высокими осокорями над глубокой балкой, всего-навсего с десяток беленых хаток под соломой, низеньких, с подслеповатыми оконцами. Мимо хуторка пролегала пыльная степная дорога, мы остановились тут, возвращаясь с передовой. Нет, года еще не прошло, месяцев одиннадцать… Это было в конце июля, кажется.
В хуторке стоял санбат, раненые лежали в палатках под высокими деревьями, грелись на солнышке; в кустах расположилась походная кухня, повар, голый до пояса белотелый татарин, большим блестящим ножом свежевал распятого меж двумя деревьями бычка.
Вид у нас был такой измученный, что начальник медсанбата, маленькая женщина с копной непослушных смолисто-черных волос, на которых чудом держалась новенькая пилотка, приказала нас накормить.
Нас было четверо: толстый лысоватый фотокорреспондент Костя, он болел сенной лихорадкой и непрерывно чихал, закрывая большие круглые глаза; маленький, щуплый сотрудник армейской газеты с грузинской фамилией, большой любитель популярных стихов и популярных острот; корреспондент центральной газеты Василий Дубковский, спокойный, молчаливый капитан, с которым я впервые встретился; он казался сухарем и не очень мне нравился… Я был четвертым в этой случайной компании.
Веселая кареглазая санитарка в ослепительно белом халате привела нас в маленькую хатку, совсем пустую и наполненную прохладой; в хате была полутьма: кусты заслоняли маленькие оконца. Чисто выскобленный ножом стол и две длинные лавки вдоль стен — больше ничего тут не было. В сенях за дверьми стояла кадка с водой, медный ковшик с длинной ручкой плавал в ней.
— Можете умыться, пока я принесу вам поесть, — щебетала веселая санитарка. — Вы корреспонденты? А я думала, корреспондент — это не меньше полковника!
Она брызгала карим золотом веселых глаз на всех нас по очереди, одаряла всех своей радостью, девичьей счастливой откровенностью и чистотой.
— Снимайте, снимайте гимнастерки, не стесняйтесь, я санитарка, все видела, что следует и что не следует.
Она поливала нам на руки, обливала из ковшика спину, холодная вода обжигала тело.
— Меня зовут Валя. И разве я думала, что смогу на все это смотреть? А когда немцы подошли под нашу Городню, я все бросила и пошла в санитарки. Разве можно дома с мамой сидеть в такое время? Коля тоже пошел добровольцем, мы с ним вместе учились в десятом классе… Живой, здоровый, ни разу не был ранен и в окружение не попал, я от него письма получаю и ему пишу.
Увидев, что нам нечем утираться, Валя бросила ковшик в кадку, побежала по тропинке между деревьев и очень скоро вернулась с полотенцем. Она развернула его и, держа на протянутых вперед ладонях, подала мне — я как раз кончил умываться и стоял, стряхивая воду с рук.
— Он меня так любит, так любит, — почему-то громко шептала Валя, — и в письмах у него такие красивые слова. Я верю, что он это искренне, в школе он не мог так писать, по литературе у него больше тройки никогда не бывало… у Коли…
Валя засмеялась, лицо у нее так засветилось, из-под длинных пушистых ресниц брызнуло столько золотого огня, что и я улыбнулся, словно все это относилось ко мне, а не к тому неизвестному Коле, который учился на тройки, а теперь пишет продиктованные любовью красивые письма этой девушке.
— Эх, как бы дожить бы до свадьбы-женитьбы и обнять любимую свою, — не пропел, а продекламировал сотрудник армейской газеты (не помню его фамилии).
— Доживем, — весело крикнула Валя, — ничего нам не будет, доживем!
Она перекинула полотенце через плечо и побежала по тропинке к кухне.
— Идите в хату, сейчас я вам принесу обед!
Фотограф Костя нашел в хате темный чулан и заперся в нем со своими кассетами.
Капитан Дубковский, так и не промолвив ни слова, уже сидел за столом на лавке. Он достал из кирзовой полевой сумки блокнот и мелким аккуратным почерком что-то в нем писал. Сванидзе — наконец-то я вспомнил его фамилию! — осматривал пустую хату, белые, подсиненные стены, на которых когда-то висели фотографии, — чистые прямоугольники светились там, и черные гвоздики еще торчали кое-где. Он заглянул в уголок под лавку, оттуда слышалось недовольное клохтанье.
— Сиди, сиди, дуреха, — сказал Сванидзе и сообщил: — Клушка. В одном решете сидит, другим накрыта.
Валя внесла и поставила на стол бачок с горячим борщом. Четыре грубых алюминиевого литья ложки она вытащила из кармана своего халата.
— Сейчас будет и хлеб.
Валя выскочила из хаты, а мы остались у стола, вдыхая запах борща. Мы позвали Костю, но он не откликнулся из своего чулана.
В отдалении возник знакомый завывающий звук моторов. Сванидзе глянул куда-то в угол под потолком и, как всегда, прибег к полуцитате:
— О, Герман, я его знаю!..
Звук моторов нарастал, они захлебывались и выли уже над крышей. Воздух громко вибрировал. Эта вибрация, казалось, прижимала низкий потолок нашей хаты к глиняному полу, чисто подметенному и сбрызнутому для свежести водой.
Капитан Дубковский закрыл свой блокнот, сунул его в полевую сумку и вышел из хаты. Он сразу же вернулся, и мы за долгое время услышали от него первое слово.
— Бомбардировщики. Восемь. — Дубковский сел за стол и взял ложку. — Будем обедать без хлеба.
Он помешал в бачке, зачерпнул навару и понес ложку ко рту. Валя вбежала в хату с нарезанным хлебом в руках, она несла его, прижимая к обтянутой халатом груди.
— Кружат прямо над нами, — тяжело хватая воздух и блестя на нас почти остановившимися глазами, громким шепотом крикнула Валя, — а у нас же столько тяжелораненых!.. Я побегу. Куда мы их денем?
Пронзительно, с нарастанием звука завыли бомбы. Мы попадали на пол. Валя, прижав руки ладонями к груди, стояла посреди хаты.
— Ложись! — крикнул, поднимая голову, Василий Дубковский.
Взрывы тряхнули нашу хату, словно подбросили ее вверх и снова поставили на место.
Под лавкой у моей головы забеспокоилась клушка. Она сбросила верхнее решето и взволнованно кричала, заглядывая под себя. Я глянул в решето. Мокрый крохотный цыпленок только что вылупился из яйца. Клушка, не переставая громко разговаривать, лапами выкатила расколотую пустую скорлупу из решета, уселась и накрыла своего первенца крылом.
Бомбы продолжали падать. Окна в хате давно вылетели. Нас обсыпало глиною с потолка, мы лежали, прижимаясь к полу, и запах мокрой, сбрызнутой водою глины смешивался со смрадным дымом, наполнившим хату через выбитые окна.
Моторы еще раз завыли над крышей, самолеты еще раз вошли в пике, но бомб уже не сбрасывали, звук их стал отдаляться и замер, погас, потонул вдали.
Я поднял голову. На пороге чулана стоял фотограф Костя, руки он держал в черном мешке и большими, как блюдца, беловато-голубыми глазами смотрел на пол. Лицо его темнело и на моих глазах сделалось совсем серым, как обмытый дождями некрашеный деревянный забор, губы дрожали.
Валя лежала на полу среди осыпавшейся глины и разбрызганных осколков стекла. Она лежала, уткнув в ладони то, что было ее красивой веселой головою, кровь стекала по нежному девичьему затылку, исчезала под белым халатом и вытекала расплавленным сургучом из-под руки на пол, на осколки стекла, на куски голубой глины. Ломти черного солдатского хлеба валялись возле Вали.
— До тебя мне дойти не легко, а до смерти четыре шага, — пробормотал маленький Сванидзе, и мы ему ничего не сказали. Нечего было сказать. В конце концов, каждый высказывается как может.
А потом мы лежали ночью на сене в балке, куда перенесли раненых, и рядом с нами сидела маленькая черноволосая докторша, начальник медсанбата, и, блестя в темноте влажными глазами, рассказывала про Валю и просила обязательно написать что-нибудь о ее санбате. И так же, как сегодня, пахло донником и стебелек повилики высунулся из сена и щекотал мне щеку, только вместо месяца висели на небе и заливали мертвым сиянием склоны балки немецкие осветительные ракеты, и слышался грохот танков, идущих по дороге над балкой.
Что-то зашуршало рядом со мной, и сонный голос пробормотал:
— Это ты, Людка?
Я не ответил. Над моим лицом склонилась взлохмаченная мальчишечья голова со стебельками сена, запутавшимися в волосах.
— А я думал, что Людка.
Я узнал Кузьму, пятнадцатилетнего брата Люды, похожего на цыганенка смуглого паренька, от острых глаз и острого ума которого ничего не могло укрыться — ни один шаг Людки, как он называл сестру, ни один взгляд солдат и офицеров, что стояли в их избе, ни одно слово плотника, который запрашивал с Люды слишком большую цену за новые стропила.
Кузьма положил голову на сено и громко, не по-мальчишечьи вздохнул.
— Вы не спите?
— Спи, Кузя. Ночь, я устал.
Он посопел носом, лежа на спине, потом повернулся на живот, подпер подбородок кулаками и зашептал мне в самое темя:
— Убегу в бойцы. Надоело мне с этой Людкой. Все вокруг нее как кобели вокруг сучки, не дождется она Сереги.
— По-моему, она честная женщина, — отозвался я.
Кузьма скрежетнул зубами.
— От Сереги третий месяц писем нет, а она каждый вечер с Демьяном под грушей. Знаю я эти стропила!
Он снова перевернулся на спину и засопел, полный недетской обиды и большой печали.
— Убегу, будь она проклята! — услышал я еще раз, как Кузя процедил эти слова сквозь стиснутые зубы, но тут сон одолел меня, и я провалился в дурманящий, горьковатый запах свежего сена.
7
Майор Сербин поднялся во весь рост в траншее, медленно оправил новую габардиновую гимнастерку и тогда только выпрыгнул на кукурузное поле. Но и тут он не стал спешить, хотя знал, что его хорошо видит немецкий наблюдатель, который сидит за речкой на высокой церковной колокольне.
Сербин наклонился над траншеей:
— Ну что ж, товарищ полковник, хоть вы и не проявили большого желания помочь мне, а все-таки спасибо.
— Больше ничего не могу сказать, майор, — отозвался холодно из траншеи полковник Лажечников, не поворачиваясь на голос Сербина.
«Да не торчи ты на глазах у немца, не торчи!» — хотел добавить полковник, но сдержался: этот молодец из третьего эшелона может бог весть что подумать.
За спиной у Лажечникова зашуршала сухая кукуруза. Сербин наконец-то ушел. Подумаешь, герой! Заявился на полчаса на передовую и хочет удивить людей, которые месяцами не выходят из-под огня, своим показным спокойствием и наигранной храбростью. Стыдно ему пригнуться! А демаскировать полковой НП не стыдно? Не успеешь ты перейти кукурузное поле, как немец начнет кидаться снарядами, и хорошо, если обойдется без потерь… А ты в это время уже будешь пить чай в Гусачевке.
Сдерживая раздражение, Лажечников снова наклонился к окуляру стереотрубы. Шуршание кукурузы за спиною утихло. Вот и хорошо, наблюдатель на колокольне, должно быть, зазевался и не заметил храброго майора, обстрела не будет.
В стереотрубу Лажечников видел ярко освещенные солнцем зеленые луга с копешками почерневшего сена, блестящее зеркало медленной реки, что наискось пересекала луга, образуя дугообразный выступ, подмытый водою противоположный правый берег и на нем, в зелени садов, большое село.
Каменная колокольня белою стрелой поднималась в небо над зелеными и красными крышами в центре села. Ближе к окраине избы стояли под соломой и камышом, а еще ближе к берегу реки тянулось длинное и приземистое, крытое тяжелой цементной черепицей строение колхозной свинофермы или коровника. Поблескивали остатками стекол низенькие продолговатые оконца, прорезанные высоко под самой крышей, — все строение хоть и было сплошь исклевано пулями, выглядело весело и мирно. И все село, и луга перед ним, и белая каменная стрела колокольни тоже выглядели мирно, хоть полковник Лажечников знал, что на белой колокольне сейчас сидит, как всегда, немецкий наблюдатель и смотрит в окуляр стереотрубы на высокий, в стеблях прошлогодней кукурузы обрыв над лугами левого берега, на его замаскированный НП, на иссеченную снарядами кустистую опушку леса, что начинается сразу же за кукурузным полем.
Село, которое разглядывал в стереотрубу полковник Лажечников, хоть и выглядело мирно, хоть и казалось уютным и веселым, на деле не было ни мирным, ни уютным, ни веселым.
Село имело мирный вид кладбища, на котором растут деревья и кусты, цветут цветы и зеленеет трава, в то время как между этими деревьями и кустами, под этими цветами и травою делают невидимое свое дело могильные черви.
За длинным строением колхозной свинофермы, за каждой избой, за плетнями и садами и даже за копнами прошлогоднего почерневшего сена на лугах левого берега сидели немцы. То, что они сейчас не стреляли, не имело никакого значения; ведь его люди тоже не стреляли, его людей тоже не было видно немецкому наблюдателю, однако этот наблюдатель знал: напротив села в лесу сидят советские солдаты — и, вполне возможно, знал не только номер части, к которой они принадлежат, но и фамилию их командира, то есть то, что хорошо знал о немцах и полковник Лажечников.
За излучиной реки у Лажечникова была переправа и небольшой плацдарм на правом берегу. С этого плацдарма позавчера на рассвете немцы, введя в дело новые танки, пытались сбросить в реку батальон капитана Жука.
Капитан Жук со своим батальоном не только висел на фланге у немцев, создавая угрозу для превращенного ими в узел сопротивления большого села, — он прикрывал переправу на левый берег в том месте, где кончался лес. Немецкие танки, если б им удалось прорваться через реку, могли выйти на оперативный простор в обход заболоченного леса и окружить дивизию генерала Костецкого.
То, что происходило позавчера на плацдарме капитана Жука, еще не было попыткой прорыва, скорее всего это была разведка боем, но эту разведку немцы осуществили при помощи своих новых танков и самоходных пушек, и уже одно это говорило об опасности их намерений.
Капитан Жук хорошо встретил немцев: его батальон, поддержанный огнем артиллерии с левого берега, выстоял на плацдарме и нанес гитлеровцам большие потери. А самым большим событием боя на плацдарме было то, что петеэровцам удалось подбить новый немецкий танк.
«Молодец Жук!» — думал полковник Лажечников, вспоминая командира батальона, который и вправду был похож на жука — маленький, худощавый и черный, с острыми встопорщенными усиками и такими же колючими глазками.
Капитан Жук действительно был молодец, и батальон его действительно отличался хорошими боевыми качествами, это не подлежало сомнению, хотя в то утро, когда немцы пробовали новые танки на плацдарме, в этом батальоне и случилось ЧП.
Петеэровец Федяк испугался «тигра», который двигался на его окоп, несмотря на огонь противотанковых батарей и выстрелы бронебойных ружей. Снаряды отскакивали от брони танка. Сам Федяк расстрелял все свои патроны, но от волнения и страха, очевидно, не мог попасть в уязвимые места танка — ни в его триплексы, ни в бензобаки. Федяк выскочил из окопа, бросив ружье и своего напарника, и побежал на переправу. На командном пункте батальона его задержали. Федяк дрожал всем телом, глаза у него были сумасшедшие, он не мог объяснить своего поступка. Обо всем этом пришлось давать много объяснений, и устных и письменных. В полку Лажечникова давно уже ничего подобного не случалось, да и во всей дивизии тоже. Неудивительно, что на это ЧП накинулись все, кому не лень.
А теперь еще и майор Сербин, председатель дивизионного трибунала, который должен судить Федяка, пристал со своими чисто психологическими вопросами. Может, он и вправду искренне заинтересован в том, чтоб понять, как мог стать дезертиром Федяк, немолодой солдат, отзывы о котором со всех сторон самые лучшие. Конечно, хорошо, что Сербин хочет разобраться в деле до конца, но ведь закон есть закон. Какое Сербину дело до того, что думает о Федяке Лажечников? Даже если б он был самым лучшим командиром полка, все равно не мог бы он знать всех своих бойцов, не может он знать по-настоящему и Федяка. Командир роты лейтенант Зимовец говорит, что лучшего солдата у него за всю войну не было. Этого Лажечникову довольно, так он и сказал Сербину.
Какая тяжелая обязанность ни лежала бы на твоих плечах, ты не должен перелагать ее на другого. На то ты и судья, чтоб судить без подсказок; никто не может с тебя снять ответственность за приговор, который тебе продиктует закон и твоя собственная совесть. Если же твоя совесть входит в противоречие с законом, значит, либо закон несправедлив, либо совесть у тебя не в порядке, и тут уж тебе никто не поможет. Конечно же Лажечников считал, что дезертира нужно судить, что бы ни толкнуло его на дезертирство, но вместе с тем он был полон сочувствия к Федяку, потому что знал, как тяжело было солдату встретиться с новым оружием, о котором давно ходило столько преувеличенных слухов, — не знал Лажечников только того, что иногда страшнее быть судьею, чем подсудимым, что иногда судья ставит себя на место подсудимого и словно самому себе выносит приговор.
Хорошо, что Сербин наконец ушел.
Лажечников знал майора Николая Иосифовича Сербина еще меньше, чем Федяка, ему не нравилась осторожная замкнутость председателя трибунала, постоянная настороженность, с которой он, казалось, вслушивался во все, что делалось вокруг, Лажечников не догадывался, что чрезмерно подтянутый и аккуратный, всегда чисто выбритый и вымытый майор Сербин прислушивается к тем голосам, которые в нем самом ведут непрерывный спор, оценивает и проверяет каждый свой шаг, каждый поступок и каждое слово и что эта самопроверка идет не от нерешительности или трусости Сербина, а от необходимости быть справедливым, которую он постоянно чувствует. Не знал Лажечников также и того, что требование справедливости от собственной души часто возникает как реакция на причиненную когда-то несправедливость, которая тяготеет над душою и угнетает ее.
Этого чувства Лажечников и не мог бы понять, оно было чуждым ему, потому что он был справедливым и добрым человеком по природе своей, его доброта и справедливость не стоили ему усилий. Возможно, это и не преимущество перед теми, кто должен выстрадать в себе доброту, понимание и сочувствие к человеку, а только счастливое свойство, избавляющее от душевных мук, — не в этом в конце концов дело, — хорошо, если человек не способен совершать преступлений против своей совести, но хорошо и то, что существует совесть, которая не дает спать человеку и спасает его от окончательной гибели.
Солнце стояло высоко над селом и лугами в чистом небе.
Солдат-письмоносец подполз к траншее почти неслышно.
— Вам письмо, товарищ полковник!
— Спасибо, Зубарев! — Лажечников взял у письмоносца аккуратно сложенное треугольником письмо, повертел, его в руках и спрятал в нагрудный карман гимнастерки. — Ты зачем сюда, мог бы и в штабе оставить.
— Так я ведь знаю, что вы давно ждете, товарищ полковник, — ответил Зубарев, лежа над окопом. — Сам жду не дождусь от своей старухи.
Он передвинул на спину сумку с письмами, чтоб удобней было ползти.
— Разрешите идти?
— Можно идти, — сказал Лажечников и попробовал пошутить: — Только осторожно, а то придет письмо от старухи, некому будет прочесть…
— Да это уж как водится, — улыбнулся на эту шутку Зубарев. — Старшина прочтет, поносит дня два, а потом пустит на раскурку… Я пошел, товарищ полковник, счастливо оставаться.
Зубарев пополз кукурузой к лесу.
Лажечников не спешил читать письмо. Адрес выведен рукой Юры, — значит, в тот день, когда треугольничек попал в почтовый ящик, с мальчиком все было хорошо. Этого было достаточно, чтоб согреть сердце Лажечникова. Жена его погибла от дистрофии в блокированном Ленинграде: она отдавала сыну почти весь свой скудный паек. Мальчик пережил мать. Вконец истощенного, его вывезли по Ледовой дороге через Ладогу в тыловой детский дом. Юре было неполных восемь лет, когда началась война. Это был веселый и крепкий мальчик, широкоплечий и высокий, весь в отца. Когда наконец после долгих розысков Лажечников нашел Юру в городе Камышлове, о существовании которого раньше не знал, и получил первое письмо с фотокарточкой, на него глядел с плохого снимка маленький печальный старичок с исхудавшим лицом и тонкими плечиками. Возможно, заведующая детдомом поступила неразумно, послав Лажечникову карточку Юры, — трудно ее упрекать, она хотела порадовать отца. Лажечников долго отказывался узнавать в старичке на фотографии своего Юру, хоть сомнений не могло быть: у мальчика было его лицо, и на этом истощенном, бледном даже на фотографии лице тусклыми угольками блестели глаза Ольги.
Лажечников не мог без боли думать об Ольге.
За три месяца до начала войны его призвали в армию. Войну Лажечников встретил на границе Украины. В октябре, на выходе из киевского окружения, когда не зажила еще его первая рана, полученная на Трубеже, он был тяжело ранен под Богодуховом.
Когда Лажечников вышел из госпиталя, Ленинград давно уже был в кольце блокады, — так он и не увидел больше Ольгу. Изредка приходили письма, полные отзвуков молчаливого героизма, с которым боролись и гибли ленинградцы, отрезанные от страны, в голоде и холоде блокадных дней и ночей. Позже, когда письма от Ольги перестали приходить, Лажечников начал вспоминать адреса друзей и знакомых. Никто не отвечал. Он сразу понял, что означает это ленинградское молчание. Лажечников снова писал и снова неделями ждал ответа. Наконец знакомая старушка Ксения Ивановна, на ответ которой он почти не надеялся, с трагическим простодушием написала Лажечникову все. Ему было трудно представить Ольгу с опухшими ногами, в дважды обернутом вокруг тела зимнем пальто, подпоясанную полотенцем, в очереди за пайком блокадного хлеба. Трудно было поверить, что его легкая, сильная, веселая Ольга упала на обледенелой лестнице, карабкаясь к себе на четвертый этаж, и больше не встала. Сердце его сжималось, когда он вспоминал письмо Ксении Ивановны.
На фанерный лист положили зашитое в одеяло тело Ольги. Управдом, останавливаясь на каждом шагу для отдыха, потащил его между сугробами к ближайшему пункту приема покойников. Ксения Ивановна, спотыкаясь, едва не падая, плелась сзади. Могил в городе уже не копали — мерзлую землю подымали взрывчаткой. Через месяц можно было узнать, на каком кладбище похоронен умерший, но некому уже было сходить за справкой. Управдом еще успел сдать Юру в детдом, а потом и самого управдома отвезли на листе фанеры.
Лажечников мог не думать об этом, но забыть не мог. Иногда он ловил себя на том, что вспоминал не письмо старушки, а видел перед собой Ксению Ивановну, старорежимную старушенцию, как они называли ее, видел так, как в те далекие дни, когда она приходила к ним шить Ольге блузки. Она покачивала головой при каждом слове и рассказывала все с такими подробностями, которых ему лучше было бы не знать.
«А Юру я нашла в коридоре, — глядела на него Ксения Ивановна старушечьими, почти прозрачными глазами, — он надел на себя все, что было, и хотел идти с нами, но упал и загородил собою полуоткрытые двери. Пришлось отодвинуть его, чтоб войти в квартиру. И я подумала, что и Юра уже отмучился и что скоро и меня приберет господь… А управдом сказал: вы не знаете, как написать Юриному отцу? Откуда ж мне было знать ваш адрес! Хорошо, что вы догадались написать мне. Теперь от моих заказчиц никого не осталось. Да я уж и не удержу иголку в пальцах, и никому мои блузки теперь не нужны».
Лажечников написал ей письмо, когда отыскался в Камышлове Юра, но ответа не получил.
Письмо Юры надо все-таки прочесть. Лажечников притронулся к карману гимнастерки, письмо лежало на месте, он начал медленно отстегивать пуговицу… На колокольне что-то сверкнуло, словно кто-то кусочком зеркала поймал зайчика и послал его через реку и луга. Очевидно, немец поворачивал стереотрубу, и солнечный луч, отразившись в ее шлифованном на иенской оптической фабрике объективе, перелетел от колокольни к траншее на обрыве и ударил в глаза Лажечникову.
— Сидит! — усмехнулся недоброй усмешкой Лажечников, отклоняясь от окуляра.
Впереди раздался ясный звук пушечного выстрела. Сразу же за ним второй и третий. Снаряды прогудели над головой и разорвались в лесу. Пронзительно и тоскливо заржал где-то за спиною у Лажечникова конь, и чей-то раздосадованный знакомый голос прокричал на высокой ноте:
— Ах, дьявол, прямо в кухню, ну прямехонько в кухню попал!
Конь снова заржал, словно крикнул от боли, и устало затих.
Немцы били с закрытых позиций за селом, Лажечников хорошо знал, где стоят их батареи, — они были у него давно нанесены на карту. Он мог бы дать приказ ответить огнем на огонь, но не давал такого приказа, так как считал, что обстрел вызван только тем, что наблюдатель с колокольни заметил на обрыве храброго майора из третьего эшелона, — выбросят несколько снарядов и утихнут. Но обстрел усиливался, и это беспокоило Лажечникова.
Лажечников приказал телефонисту соединиться с капитаном Жуком; гитлеровцы обстреливали его обрыв, но атаковать могли только на плацдарме.
«Хоть тот майор и храбрый дурак, — подумал Лажечников, — но тут он не виноват».
В трубке уже слышалось усиленное мембраною тяжелое дыхание капитана Жука.
— Что у тебя слышно, Жук? — пригнувшись к телефонной трубке, крикнул Лажечников.
— Хорошая погода, не капает, — по своей привычке слегка иронизируя, ответил Жук, и Лажечников представил себе, как при этом шевелятся усы командира батальона и сверлят воздух его колючие черные глазки. — Не знаете, что он задумал?
— Он мне не докладывал, — в тон Жуку ответил Лажечников. — Гляди в оба, понятно?
Снаряды летели через кручу, но теперь разрывались уже не глубоко в лесу, а все ближе и ближе на поле — за спиной Лажечникова, словно немцы поставили себе целью сровнять его НП с землей. Сырая земля и искалеченные кукурузные стебли падали в окоп. Лажечников сидел, прижавшись спиной к стенке окопа, и выжидал.
— Ложитесь, товарищ полковник, — дернул его за рукав телефонист.
Лажечников глянул в его сторону и увидел, что солдат лежит на дне окопа, прикрыв животом зеленый ящик телефона. Характерный звук зуммера послышался из-под живота сержанта, и Лажечников не мог сдержать улыбки. Телефонист неловко вынимал из-под себя трубку. Лажечников сунул руку ему под живот, схватил теплую трубку и прижал к уху.
— Чего ждем? — шелестел в трубке голос командира артдивизиона капитана Слободянюка. — Прикажите отвечать!
Слободянюку недавно удалили верхние передние зубы — это была довольно смешная история, — капитан шепелявил и свистел в трубку.
— Скоро будут готовы твои зубы, Слободянюк? — с деланным сочувствием спросил Лажечников.
— При чем тут мои зубы? — обиженно зашепелявил Слободянюк. — У меня двух солдат убило, что ж мы, молчать ему будем?
— Ну что ж, Слободянюк, дай им жару, — сказал Лажечников и снова пригнулся к окуляру стереотрубы.
На левом фланге громыхнули пушки Слободянюка, и сразу же Лажечников услышал, как снаряды начали взрываться за селом, там, где были расположены артиллерийские позиции немцев. Немцы ответили оглушительным залпом. Артиллерийская дуэль завязывалась надолго.
Лажечников, глядя в стереотрубу, вдруг увидел, что зеленый купол колокольни, на котором косо торчал ажурный, некогда позолоченный, но давно облезший крест, качнулся и засиял большою щербатой пробоиной, сквозь которую блеснуло беловато-синее небо… Крест еще больше покосился.
— Молодец, капитан, — шевельнул губами Лажечников и увидел, как новый снаряд вырвал дощатый щит, который закрывал проем под сводами колокольни, там, вверху, под самыми колоколами, где сидел немецкий корректировщик. — Молодец, Слободянюк!
На миг артиллерия с обеих сторон затихла, и в тишине, которая окутала лес, луга и село, послышалось беспорядочное звяканье малых и больших колоколов. Меткий выстрел артиллеристов Слободянюка раскачал их на колокольне, теперь они беспорядочно трезвонили, и звон этот постепенно угасал… Артиллеристы словно прислушивались к этому угасающему звону, а когда он совсем замер, снова с обеих сторон ударили пушки, снова навстречу друг другу через обрыв полетели снаряды и начали разрываться за селом и в лесу.
8
Из записок Павла Берестовского
Бритоголовый капитан, которого фотокорреспондент Миня называл Уинстоном, работал в центральном аппарате редакции и впервые за все время войны прибыл на фронт, прибыл с глубоким убеждением, что все мы тут работаем не так, как должны работать, во всяком случае не так, как работал бы он, если б на него были возложены те обязанности, что должны выполнять безответственные люди, которые называются специальными корреспондентами, носят фронтовые погоны, жрут фронтовой паек, а обеспечить свою газету в нужное время нужной информацией не способны.
— Корреспондент не должен отрываться от узла связи! — глядя на меня, грозно сказал капитан, когда мы сошлись утром за длинным столом в Людиной избе. — Что вы думаете делать сегодня?
Я еще ночью решил убраться подальше от мутных глаз Уинстона.
Если бы не очерк об Иване Перегуде, я поехал бы в дивизию Костецкого. Никто меня там не знает, вряд ли остался кто-нибудь из бойцов сорок первого года, кто мог бы меня помнить, о Костецком и говорить нечего — он был тяжело ранен на Трубеже, а до этого я видел его всего один раз, да и то издали, — все равно меня тянуло в дивизию Костецкого. Только чувство служебного долга заставило меня отказаться от несвоевременного желания искать следы прошлого.
— Поеду в хозяйство Лаптева, — ответил я на повторный вопрос капитана.
Капитан посмотрел на меня похожими на студень на тарелке мутными глазами и, ничего не сказав, начал собираться в штаб. Он надел новенький серый плащ из прорезиненного материала, который топорщился на нем во все стороны и от каждого движения трещал, как шаровая молния. Бритый, весь в шишках и царапинах, череп его исчез под новенькой фуражкой, большая полевая сумка, набитая газетами, тетрадями и карандашами, очутилась на боку, и, треща, шурша, стреляя своим плащом на каждом шагу, он пошел к дверям.
— А эта Княжич тоже поехала к Лаптеву? — вдруг остановился капитан в дверях и повернулся ко мне лицом.
Я, должно быть, попортил бы ему новую фуражку, если б не вмешался неожиданно Миня, он прокручивал пленку в черном бачке, примостившись на краю стола под образами.
— Уинстон, — закричал Миня, еле сдерживая хохот, — стой и не шевелись, я тебя сейчас увековечу!
Миня схватил свой «ФЭД», и не успел Уинстон опомниться, как дважды щелкнула шторка и удовлетворенный Миня вернулся к своему бачку.
— Можешь идти, Уинстон, — сказал Миня. — Уверяю тебя, это будет необыкновенный снимок: такого идиотского лица я еще ни у кого не видел!
Уинстон хлопнул дверью так, что глина брызнула на пол.
— Эх, жаль, — покрутил головою Миня, — жаль, что в аппарате нет пленки! Снимок был бы действительно чудесный… Вы видели когда-нибудь такого самоуверенного индюка?
— А почему он Уинстон?
— Это я его так прозвал для смеха, никакой он не Уинстон, а просто себе Иустин Уповайченков, кажется из псаломщиков… Видали фигуру?
Я посмотрел в окно и увидел Уповайченкова: он гордо шел посреди улицы в своем жестяном плаще, поднимая тучи пыли кривыми ногами, обутыми в большие сапоги с низкими голенищами.
— Вы не обращайте на него внимания, — продолжал Миня. — Он и мухи не обидит. Не от доброты, а оттого, что считает муху способной кусаться.
— Так что ж он, трус?
Миня посмотрел на меня жаркими, похожими на маслины глазами, словно проверяя мои умственные способности: неужели мне все еще непонятно, кто да что этот Уинстон? Приходится только сожалеть, что таким поверхностным типам, не умеющим разбираться в людях, доверяют ответственную корреспондентскую работу. Должно быть, он так и отрубил бы, скорчив сочувственную гримасу на своем красивом лице, но тут в избу вбежал растрепанный Кузьма и еще с порога крикнул:
— Людка, где ты там?
— Я тут, — отозвалась за перегородкой Люда.
— К тебе Аниська пришла, выйди…
Кузьма стоял на пороге, лохматый, похожий на цыгана загорелым неумытым лицом, и сверкал на меня глазами, словно сигнализируя одному ему известную тайну: что Людка, что эта Аниська — одного поля ягоды, он знает им цену и от всей души презирает их.
— Так пускай зайдет в избу, — нехотя отозвалась Люда за перегородкой.
— В избе, говорит, офицеры.
Кузьма уже не сводил глаз с Мини, с его черного бачка, с разложенных на столе фотографических принадлежностей.
— Подумаешь, — не то удивленно, не то пренебрежительно вслух рассуждала за перегородкой Люда, — подумаешь, офицеров не видела? Съедят ее офицеры?
Кузьма не ответил сестре — он зачарованно глядел, как Миня вытягивает из бачка мокрую зафиксированную и промытую пленку.
— Снимите меня на карточку, — попросил Кузьма, подступая к Мине.
Люда вышла из-за перегородки, босоногая, в синей кофте и сборчатой юбке. Закинув за голову полные руки, она шевелила огрубевшими пальцами — поправляла уложенные тяжелым кренделем косы. Миня, который, должно быть, вчера вечером не обратил внимания на хозяйку избы, теперь не мог оторвать от нее глаз.
— Аниська, — закричала Люда, полошив руку на щеколду, — с каких это ты пор стала офицеров бояться, Аниська?
Миня, как околдованный глядя на дверь, которая уже закрылась за Людой, спросил у Кузьмы:
— Зачем тебе карточка, Кузя?
Кузьма мотнул лохматой головою так решительно, что она у него, казалось, должна бы оторваться, и прошипел сквозь сжатые от злости зубы:
— Назло святому Демьяну.
Кузьма уселся на столе и, небрежно болтая босыми черными ногами, продолжал с презрением в голосе:
— Немцы его назначили главным попом над нашей штундой. Не то в Курске, не то в Воронеже. Корчит из себя черт знает что: табаку не кури, водки не пей! Все мужики на войне, хоть бы и наш Серега… Нет той бабы в селе, до которой бы он не добрался.
— Ишь какой петух! — искренне удивился Миня, тараща на Кузьму глаза и отодвигая свои бачки и бутылки с химикалиями, потому что Кузьма неистово ерзал по столу худым мальчишеским задом. — Прямо-таки султан турецкий, а?
Кузьма рассудительно сверху вниз смотрел на Миню, словно удивляясь и сожалея, что тот не знает обычных, хоть и непотребных дел и отношений, которые существуют меж людьми в их хуторе.
— Тут ни одной целой хаты после немцев не осталось, а он плотник… Вот ты и понимай, что к чему. Теперь к Людке пристал, чтоб ей стропила новые ставить. Знаем мы эти стропила!
Он плюнул с такой злостью, что плевок его шлепнулся о подмазанный глиной пол со звоном, как стеклянный шарик. Кузьма спрыгнул со стола, растер плевок пяткой и, неожиданно беспомощно заморгав пушистыми черными ресницами, проговорил:
— То же самое и с карточками — запрещает фотографироваться, потому что в писании сказано: не сотвори себе кумира.
Миню это не могло не возмутить, так как прямо относилось к его искусству.
— Эх, жаль, пленки мало, — заблестел глазами Миня, вскидывая их то на меня, то на Кузьму, — показал бы я этому Демьяну, кто из нас сильней… Ну, а тебя, Кузя, я обязательно сфотографирую! Пошли!
Он ловко вбросил кассету с пленкой в свой «ФЭД» и, подталкивая Кузьму перед собой, вышел во двор. Я остался. Сквозь неплотно прикрытую дверь из сеней доносился громкий шепот Аниськи и Люды.
Я плохо спал ночью на сене и рано проснулся. Меня клонило ко сну, и эти голоса за дверью, этот шепот двух женщин, что обменивались своими тайнами и заботами, которые были так или иначе известны каждому, одновременно и навевали на меня дремоту и не давали заснуть. Свесив на пол ноги в сапогах, я лежал с закрытыми глазами уже не на моей койке (на ней расположился Уинстон, как сказал мне Миня) и невольно слышал, о чем говорили меж собою женщины в сенях.
— А гони ты его ко всем чертям, — убежденно пела звонким шепотом Аниська. — Старый черт… Захочешь согрешить, разве ты себе помоложе кого не найдешь?
— Да все они одинаковы, — отзывалась Люда, и низкий голос ее звучал, как вздох; в этом вздохе слышалось сочувствие ко всем тем одинаковым, от посягательств которых ей не было покою. — Тебе хорошо, знаешь своего Федю. Тебе за ним как за каменной стеною.
Было в этих словах понятное сожаление, что у нее, у Люды, нет кого-нибудь определенного, надежного, нет стены, за которой она чувствовала бы себя в безопасности, была и зависть к Аниське, у которой нашлась стена, к Аниське, сумевшей так привязать к себе Федю, что их отношения выглядели не временной игрой двух безразличных друг к другу людей, а завязанным на много лет жизненным узлом, который спроста не развяжешь, если дойдет до этого.
Аниська словно угадывала мысли Люды и печально выводила своим певучим голосом:
— Привяжешься к нему, черту, всей душой, а тут как раз и конец — пойдут вперед, и пиши пропало.
Она извинялась перед Людой и голосом своим и своими словами, давая понять Люде и самой себе, что не так уж крепка, не так надежна та стена, на которую она опирается, — может рухнуть в любую минуту.
— Ох ты горюшко мое, — вдруг крикнула Аниська, — дверь не прикрыта, там ведь, должно быть, все слышно!
— Подумаешь, — сказала Люда пренебрежительно и прикрыла дверь, стукнув щеколдой.
Послышался приглушенный смех. За дверьми говорили обо мне, нетрудно было догадаться даже, что говорят, хотя слов не было уже слышно, — наверное, какой-то насмешливый бабий вздор — обе они, и Аниська и Люда, охотницы почесать языки… «Ну да что мне до этого?» — подумал я и, вслушиваясь невольно в смех и неясные голоса за дверьми, незаметно для самого себя заснул, словно оттолкнулся от одного берега и поплыл к другому. Спал я долго и, когда открыл глаза, снова увидел Миню и Уинстона.
Миня делал свое дело у стола, — прищурив левый глаз, просматривал на свету просохшую пленку, — а Уинстон, в жестяном своем плаще и фуражке, с полевой сумкой на боку, ходил из угла в угол. Он был угрюм и суров. Его плащ шуршал и трещал, как наэлектризованный.
— Не может быть, Уинстон, чтобы он тебе это сказал!
Уинстон готов был броситься на Миню с кулаками.
— Как так не может быть? Ты что, не веришь мне, Миня?
Голос его звучал угрожающе. Он начал снимать через голову ремень полевой сумки, плащ гремел на нем, и, раздраженный этим докучливым громом, Уинстон рассердился еще больше.
— Что ж, я вру, по-твоему?
— Как ты мог подумать! — Миня сделал испуганные глаза. — Может, ты просто не понял оперативного дежурного?
— Не понял? А что там было понимать? Я честь честью обратился к нему с просьбой проинформировать меня насчет обстановки на фронте, а он, не глядя, процедил сквозь зубы… Такой, знаешь, франт, разрядился, как на парад!.. Процедил, понимаешь, сквозь золотые зубы: «Информацию у нас собирают на передовой!» Нет, ты только подумай! Я приехал сюда не за боевыми эпизодами…
Уинстон бросил на меня полный презрения взгляд, из которого следовало сделать вывод, что для собирания фронтовых эпизодов гожусь именно я, а его назначение состоит в большем — брать обстановку в целом, осмысливать, обобщать. Ну что ж, вот и обобщай с точки зрения того разведчика, который семь ночей охотился за «языком», а не с точки зрения оперативного дежурного, который не хочет не только информировать, но даже и разговаривать с тобой… Да и не имеет права.
— Ну хорошо, — продолжал тем временем Уинстон, — от меня так быстро но отделаешься, ты же меня знаешь…
— Да знаю, знаю, — отозвался Миня.
— Я говорю дежурному: «Если нельзя получить подробных сведений насчет общей обстановки, то проинформируйте меня о намерениях противника». — «А вы, говорит, если вам надо знать намерения противника, расспросите у него сами…» — «Вы что, шутите?» — «Нет, говорит, не шучу, мы так и делаем». Вот фрукт!
Миня с заговорщическим видом подмигнул мне, и я понял, что он все уже знает, а расспрашивает Уинстона специально для меня, незаметно подбрасывая ему свои, словно бы вполне невинные вопросы, которые Уинстон ловит, как голодный окунь крючок с наживкой.
— Что ж ты решил, Уинстон? — с хорошо имитированным сочувствием спросил Миня.
— «Война делается не в штабе, а на передовой…» — Уинстон снял фуражку, внимательно посмотрел в нее, потом вытащил из кармана плаща носовой платок и начал старательно вытирать мокрую от пота дерматиновую подкладку околыша. — Афоризмами бросается… Испугал! Я и на передовой добуду, что мне нужно.
— Когда собираешься?
Не глядя на Миню и продолжая изучать что-то внутри своей фуражки, Уинстон кратко бросил:
— Сейчас.
Я давно уже знал, как труден корреспондентский хлеб, особенно когда не имеешь опыта блужданий по частям, не знаешь подхода к военным начальникам, у каждого из которых свои привычки и свой характер.
— Давайте поедем вместо в дивизию Лаптева, — предложил я Уинстону.
— А что мы там будем делать вдвоем?
С ним трудно было договориться, но я попробовал все-таки доказать ему, что дивизия такое большое хозяйство, где хватит работы и для пяти и для десяти корреспондентов.
— Можете не учить меня, — буркнул Уинстон.
Мне оставалось только замолчать.
Уинстон решительно надвинул на голову фуражку, спрятал в карман платок и, не попрощавшись с нами, вышел из хаты.
Миня вздохнул и углубился в свою работу. Разыскав в своем фотохозяйстве длинный кусок шпагата, он протянул его из угла в угол и деревянными зажимами для белья начал прикреплять к нему промытую пленку. Вдруг он бросил зажимы на стол и выбежал из избы. Я услышал его голос со двора.
— Уинстон, не будь дурнем! — кричал Миня. — Лучше было б вам вдвоем… Или подожди до завтра, поедешь со мною!
Ответа не было слышно. Миня вернулся в избу и опять взялся за свои пленки.
— Даже не оглянулся. Плохо, когда человек дурак. Еще попадет в какую-нибудь беду. Он же впервые на фронте.
Я тоже начал собираться в дорогу. Мне обязательно надо было закончить очерк о разведчике Иване Перегуде.
9
Снаряды летели через окоп, перекрытый тонкими кривыми бревнами, и разрывались с грохотом и звоном между деревьями опушки. Слышно было, как с треском и хрустом, словно выворачивались суставы у очень большого и очень терпеливого существа, падали убитые наповал осины и березы, прощально прошумев молодой листвой. Меж бревен, что перекрывали окоп, на голову и плечи Варваре сыпалась земля, мелкая сухая пыль, перемешанная с какими-то корешками. Из лесу отвечали наши батареи, гудение снарядов перекрещивалось над окопом, и во время такого скрещивания дрожание воздуха нарастало то на высокой, то на очень низкой ноте и исчерпывалось звуком далекого или близкого взрыва, в зависимости от того, где и чей снаряд разрывался: немецкий на опушке или наш за рекою, в садах села, из которого немцы вели обстрел наших позиций.
Варвара, упав в окоп, пригнулась у самого входа, так что только голова и плечи ее уходили под перекрытие, а вся она оставалась ничем не прикрытой, и эту свою неприкрытость, беззащитность чувствовала всем позвоночником, в который словно ввинчивалось гудение снарядов.
За долгое время лежания в госпитале Варвара отвыкла да, по правде говоря, никогда и не могла привыкнуть к неистовым звукам боя, к пронизывающему свисту и гудению, наполняющему небо, к тяжелым ударам железа, которым не предвиделось конца. Ежеминутное содрогание и вибрирование земли отзывалось в ней так, словно она и земля были продолжением друг друга, словно и ожидание ударов и та страшная боль, которую они причиняли, была у них общей, словно общим для них был и тот похожий на стон глубокий вздох облегчения, который вырывался из их общей груди после каждого удара.
Варвара знала войну с первого дня. С первого же дня войны, где бы она ни была, всюду ее сопровождало чувство личной причастности не только к страданиям миллионов людей, втянутых в неумолчный водоворот событий и катастроф, называемый войною, но и к страданиям всего мира вещей, растений и животных, что окружают человека, живут и страдают, борются и побеждают или же гибнут вместе с людьми.
Варвара умела только фотографировать; педагогический институт, где она училась, окончить ей не удалось. Маленький журнальчик, в котором Варвара печатала свои снимки, в первые же дни войны прекратил существование. То, что в другое время представляло бы почти непреодолимую трудность, осуществилось с удивительной легкостью. Варвара пришла в редакцию специального иллюстрированного издания, рассчитанного на солдат действующей армии, и сказала, что хочет поехать на фронт. Оказалось, что ее знают по снимкам, которые ей иногда удавалось помещать в большой прессе. Варваре выдали документы, и в тот же день она уже тряслась в редакционном грузовике по дороге на Смоленск. Все это вспоминалось теперь как очень далекое и очень обычное начало дороги, которая с течением времени становилась все более грозною. То, что Варвара была дважды ранена — впервые на Волоколамском шоссе и во второй раз по дорого на Котлубань, — не имело большого значения. Жизнь не кончилась, она стала иной; иною становилась и Варвара. То, что казалось невероятным вчера, сегодня было простым и само собой разумеющимся. Спать на земле, ходить в солдатских шароварах и сапогах, не бояться налетов авиации и артиллерийского обстрела… Кстати, как гремит! Если это надолго, то дело совсем плохо. Надо было не засиживаться у генерала, а идти прямо в полк, тогда она успела бы все сделать до этого обстрела.
Глаза Варвары постепенно привыкли к серой полутьме, которая царила в окопе.
Собственно говоря, это был не окоп, а скорей узкий блиндажик, перекрытый бревнами, поверх которых насыпан был тонкий слой земли. В блиндажике сидели два телефониста и смуглый майор, попавший сюда, вероятно, так же как и она, чтобы пересидеть обстрел. Лейтенант Кукуречный, перекатившись через ноги майора и телефонистов, устроился в углу. Он прислонился спиной к узкой стенке блиндажика и сидел, втянув голову в высоко поднятые худые плечи. Телефонисты, не прислушиваясь к обстрелу, наклонялись над зеленой коробкой телефона, время от времени продували мембрану и выкрикивали позывные, проверяя исправность линии; эти позывные звучали в блиндажике, над которым все время летели снаряды, какой-то печальной шуткой.
— Ландыш! Ты слышишь меня, Ландыш? — кричал в трубку телефонист с нашивками сержанта, кричал и все время озирался на своего товарища, белобрового молодого солдатика, который низко пригибал голову каждый раз, как над блиндажиком пролетал снаряд. — Какого черта ты молчишь, Ландыш? Ага, наконец откликнулся… Гремит! А у нас, думаешь, не гремит? Слушай меня, Ландыш! У тебя есть связь с Сиренью? Нет? Так попробуй связаться через Папоротник…
Сержант помолчал немного, посмотрел на солдатика и передал ему трубку. Солдатик испуганно и восхищенно глядел на сержанта; тот, вдруг посерьезнев, собрав в морщины загорелый лоб и обдернув гимнастерку, начал пристраивать на стриженой голове полинявшую пилотку.
— Чего ты вытаращился на меня, Костюченко? — прикрикнул на солдатика сержант. — Впервой мне, что ли? Ты тут смотри! Я скоро.
Он бросил на плечо брезентовую лямку катушки с проводом и, обращаясь к Варваре, сказал:
— Новенький он, этот Костюченко. Из пополнения, не привык еще к нашей музыке.
Наверное, ему очень трудно было вылезать из укрытия, каким бы ненадежным оно ни было. Сержант оттягивал то мгновение, когда ему в конце концов придется вылезть на кукурузное поле, на котором с неровными промежутками рвались снаряды.
— Ну, а в случае чего, — сказал сержант, — тогда уж придется тебе, Костюченко… Помнишь все, что я тебе рассказывал?
— Помню, — шевельнул побледневшими губами солдатик.
Еще раз передвинув обеими руками пилотку с затылка на лоб и снова на затылок, сержант вылез из блиндажика, больно прижав при этом Варвару к стенке.
— Эх, мама рόдная! — услышала Варвара веселый голос сержанта уже над блиндажиком, в котором теперь стало просторней.
Зашуршал и загудел в воздухе тяжелый снаряд. Смуглый майор ухватил за руку и молча потянул Варвару под перекрытие блиндажика, как-то странно при этом на нее посмотрев.
Новый снаряд разорвался совсем близко. Не успел еще отгреметь взрыв, как над головой Варвары что-то зашуршало, обдавая ее теплым ветром. Невольно закрыв лицо руками, Варвара втянула голову в плечи и зажмурилась. Все смолкло, и в тишине послышалось мягкое воркование. Варвара удивленно стала прислушиваться, все еще с закрытыми глазами. Спокойное воркование, от которого на душе становилось неожиданно легко и радостно, не прекращалось. Варвара открыла глаза и увидела вблизи от себя лицо белобрового солдатика — оно расплывалось в детской улыбке. Не отрывая трубки от уха, солдатик смотрел куда-то под бревна перекрытия и говорил, медленно шевеля большими мальчишескими губами:
— Вернулся, гуленька… Нашел дорогу, молодец!
Варвара проследила за взглядом солдатика и увидела высоко в стене окопа, под самым перекрытием, аккуратно выкопанную небольшую нишу — в ней стояла низенькая жестянка из-под консервов и кучкой лежала каша-концентрат. Белый, с рыжеватыми перьями на крыльях голубь пил воду из жестянки. Напившись, он затоптался мохнатыми лапками и заворковал, поглядывая на людей круглым, блестящим, как бусинка, глазом.
И все смотрели на голубя. Белобровый солдатик Костюченко радостно кричал в трубку, не сводя с него восхищенных глаз.
Майор сдержанно улыбался. Он вообще вел себя под обстрелом так, словно был совсем равнодушен к опасности. На гудение и разрывы снарядов он не обращал внимания, только иногда склонялся подбородком на неудобно поднятые колени, а потом снова поднимал голову и смотрел на стенку блиндажика перед собою.
Даже Кукуречный, который, казалось, хотел слиться с землею, врасти в нее, весь серый от смертной тоски, делал попытки улыбнуться, хотя улыбка у него выходила несмелая, похожая на гримасу испуганного ребенка.
— Папоротник! — кричал в трубку Костюченко, весело блестя глазами. — Я Подснежник… Ты слышишь меня, Папоротник? Эх, не отвечает! Не нашел еще сержант Грицай обрыв на линии… Не иначе как снарядом перебило!
Костюченко продул мембрану, постучал по ней ногтем, снова продул — Папоротник не отвечал.
— Это сержант Грицай приручил голубя, еще до меня; я когда пришел, голубь уже жил тут. Он все время летает, а как начнется стрельба — возвращается… Привык.
Костюченко легко и глубоко вздохнул, снова склонился над ящиком телефона и начал выкрикивать в трубку названия разных цветов, большинства из которых он, может, никогда и не видел.
Голос у Костюченко был еще совсем мальчишеский, хрипловатый; когда он кричал в трубку, лопатки резко выступали у него под гимнастеркой и тонкая шея с глубокой впадиной на затылке вытягивалась. Варвара глядела то на голубя, то на Костюченко и понимала таинственную взаимосвязь между белой мирной птицей, что нашла приют и защиту в полутемном блиндажике, и молодым парнем, для которого этот блиндажик был теперь домом и мог оказаться последним земным пристанищем. Она видела по лицу и по веселым глазам Костюченко, что этот голубь в маленькой нишке у жестянки с водой и кучки каши-концентрата освобождает его от неизбежной у молодых солдат постоянной мысли об опасности и смерти; она угадывала мысли Костюченко, словно прочитывая их на его мальчишеском лице, и выговаривала их сама для себя, снова закрыв глаза и вслушиваясь в вой снарядов над головою: «Пока этот голубь… гуленька… пока голубь тут, со мною ничего не случится… Не могут ведь снаряды убить такую красивую, такую мирную птицу… Не может этого быть — и не будет!» Но хоть Варвара старалась убедить себя в том, что думает о Костюченко, что повторяет прочитанные на лице его мысли и слова, это были ее мысли и слова, она думала о себе и о Костюченко вместе, как об одном существе.
Чья-то рука притронулась к колену Варвары, и она услышала ровный глуховатый голос:
— Вы не узнаете меня?
Варвара открыла глаза и увидела рядом с собою темный профиль, под ним белую, словно мелом нарисованную линию подворотничка, согнутое плечо, обтянутое тканью защитной гимнастерки, и на этом плече полоску майорского погона с латунной эмблемой военюриста.
«Где я видела это лицо? — метнулась в мозгу Варвары напряженная и почему-то тревожная мысль. — Конечно, я его видела, но где и когда?»
Майор повернул к Варваре лицо. Крепкие, плотно стиснутые губы, туго натянутая кожа щек, линия прямого толстоватого носа и внимательный взгляд темных, почти черных глаз — все это было так знакомо и поднимало в душе такую неистовую бурю, что Варвара невольно отшатнулась от майора, беспомощным движением руки словно обозначая границу между ним и собой, и только после минуты тяжелого молчания ответила:
— Кажется, узнала.
Тяжкий грохот потряс окоп, забухали по перекрытию большие комья разбросанной взрывом земли, потянуло едким смрадом.
— Я Подснежник! Я Подснежник! — радостно закричал в трубку Костюченко. — Это ты, Сирень? Какая там у тебя погода? Около нас только что такой огурец разорвался…
Он с видимым удовольствием выговаривал новые для него слова немудреного прозрачного кода, которым тут пользовались, чтобы скрыть содержание телефонных разговоров от возможного подслушивания немцев.
— Хорошо, хоть канделябров над нами нет, — продолжал Костюченко. — Слушай, Сирень, а к вам канделябры не прилетали? Это хорошо, что не прилетали, с артиллерией еще можно жить…
Голубь отряхивался в нише как ни в чем не бывало; он круто изогнул шею, поискал клювом у себя под крылом и снова стал пить воду.
Варвара, казалось, не слышала ни разрыва, ни голоса Костюченко, ни тяжелого сопения в углу окопа, где согнулся в три погибели лейтенант Кукуречный.
Но если б она и слышала, теперь ей было уже безразлично, попадет ли снаряд в блиндаж или пролетит над ним и разорвется где-нибудь в лесу или на кукурузном ноле. Лучше было бы, чтоб попал и сразу положил конец ее существованию, которое внезапно снова наполнилось давним, еще не утихшим страданием, тем страданием, что уже несколько лет медленно отравляло ей жизнь.
10
Если бы той августовской ночью тысяча девятьсот тридцать седьмого года Варваре Княжич сказали, что она при таких обстоятельствах и в таком месте встретится с тогдашним капитаном, а теперь майором Сербиным — она вспомнила, вспомнила его фамилию! — с человеком, которого она видела лишь раз в жизни, в ту ночь, когда капитан Сербин арестовал ее мужа, если б кто-нибудь, способный знать будущее, напророчил ей это, Варвара не поверила бы, как почти не верила в реальность этой встречи и сейчас, так она была невероятна.
— Не думал я увидеть вас среди защитников Родины, — проговорил майор Сербин, почти касаясь своим плечом плеча Варвары.
— Родина большая, — ответила Варвара и удивилась, не почувствовав в себе той враждебности, с которой она думала раньше об этом человеке. — В ней хватит места и для вас и для меня.
— Я не об этом, — сразу же отозвался майор, не глядя на нее, — я ведь еще раз приходил к вам.
Варваре некуда было отодвинуться, левое плечо ее уже и так упиралось в горбыль, которым был укреплен выход из блиндажа, но она все-таки попыталась отклониться от соседства горячего плеча, на котором поблескивала потемневшей латунью эмблема справедливости.
— Приходили? — прошептала Варвара, холодея от неожиданного признания майора, словно тот, давнишний, второй его приход мог иметь сейчас какое-то значение. — Зачем?
— За вами.
Майор, казалось, не выговорил, а выдохнул эти слова.
— Дело прошлое, — проговорил он, подняв голову и прислушиваясь к вою очередного снаряда. — Дело прошлое, говорю, но ордер на вас уже был подписан.
Новый взрыв потряс окоп, земля посыпалась Варваре за ворот гимнастерки, она почувствовала, как пот побежал ручейком меж лопатками, и подумала: «Все равно».
Горячий и тяжелый, как мешок с песком, в окоп упал сержант. Он пахнул землею и пороховым дымом, лицо его, грязное до черноты, казалось похудевшим, глаза сухо горели, как два больших уголька.
— Живые? — хрипло крикнул сержант, с трудом раскрывая пересохшие губы. — И я живой! Эй, Костюченко, вода у нас есть?
Костюченко выхватил откуда-то, словно из-под себя, котелок с водой и подал сержанту. Став на одно колено и высоко запрокинув голову, сержант лил себе в рот мутную теплую воду, обливал шею и грудь, крякал и тяжело дышал после каждого глотка. Голубь заворковал в пише.
— А, гуля, и ты тут? — держа над собой за ручку котелок, словно фонарь, отозвался голубю сержант. — Теперь только в нашем окопе и спасешься.
Он отдал котелок Костюченко, вытер ладонью рот и протянул руки лодочкой к голубю. Голубь доверчиво пошел к нему.
— Ах ты милый, — тихо и печально проговорил сержант, думая, должно быть, совсем о другом, — милый ты мой, милый… Где теперь твоя голубка, не знаешь?
Сержант гладил грязной, шершавой ладонью голубя и улыбался растроганно и печально, и, глядя на него, растроганно и печально улыбалась Варвара, и ее мысли, так же как и мысли сержанта, были далеко и от голубя, и от блиндажика, и от людей, что сбились в нем, как зверюшки в тереме-теремке…
…Когда увели Сашу и двери захлопнулись за ним, Варвара осталась одна над кроваткой, в которой, так и не проснувшись, спала Галя.
Для того, что случилось, в сознании Варвары не было имени.
Это не было неожиданностью. Можно было ждать беды, и они, сами того не зная, ждали ее, притихнув, как птицы в лесу перед грозой. Вся катастрофа виделась Варваре в образе грозы, но что молния поразит ее, она сначала не думала, чувствуя себя за Сашей как за каменной стеной.
Пока беда не постучит в твои двери, ты не задумываешься над ней, особенно когда живешь с закрытыми от счастья глазами и считаешь, что весь мир так же счастлив, как ты.
Саша работал инженером в большой строительной организации. Они были одинакового роста, только он пошире в плечах; и глаза у них были одинаковые, серые с синевой. Саша рано начал полнеть и спасался от этой беды спортом. Когда они проходили вдвоем по улице, люди невольно оглядывались — такой они были хорошей парой, такие счастливо-доброжелательные были у них лица. Саша умел хорошо работать, смеяться, отдыхать; все, что он делал, было хорошо. Он научил ее фотографировать, по воскресеньям они садились в пригородный поезд и ехали куда-нибудь, захватив с собой провизию в небольшом фанерном баульчике. Там были ее любимые еще с детства конфеты — «раковые шейки» и для Саши бутылочка, самая маленькая, какую продавали, называлась она «пионерчиком». А зимой были прогулки на лыжах, оба они надевали одинаковые, под цвет глаз, серые свитеры с вышитыми на груди синими оленями. Лыжи были чудесные, и чудесные бамбуковые палки, и мазь для лыж Саша варил сам по какому-то особому норвежскому рецепту… И они все время фотографировались, то на фоне заснеженных берез, то над зеркалом речки, то над семейством белых грибов — в зависимости от времени года.
Вечерами затемнялась маленькая кладовушка в их двухкомнатной квартире загорался, красный лабораторный фонарь, и они вдвоем проявляли пленки, печатали фотографии, промывали их под струей воды в ванной и сушили на разложенных на полу газетных листах.
Кто мог думать, что их увлечение фотографией обернется против них?..
— У вас с мужем, кажется, были разные фамилии? — услышала Варвара голос майора Сербина и послушно ответила, словно она обязана была ему отвечать:
— Разные.
— Я помню, у него была двойная фамилия, которая наводила на мысль о дворянском происхождении. Не то Довнар-Запольский, не то Коваль-Самборский?
— Коваль-Самборский — это был такой киноактер, — горько усмехнулась Варвара. — Всех не запомнили?
Кажется, Сербии что-то ответил, она не слышала: снова над головой загудел снаряд и тяжко вздохнула земля.
Возможно, так было и лучше, потому что не приходилось сосредоточиваться на слишком тягостных воспоминаниях о прошлом. Весь этот разговор в блиндаже под обстрелом ложился бременем на душу, пробуждая и выводя на поверхность то, что всегда лежало на самом дне, под слоем повседневных дел и забот, которые только и делают возможным человеческое существование. Память могла бы убить нас, если бы не имела спасительной способности забывать, хоть забвение это не вечно — всегда она наготове, память людей и память целых народов, чтобы в подходящую минуту воскресить то, что, кажется, навсегда умерло и вычеркнуто из жизни живых.
Девочка родилась маленькой и слабенькой, не надеялись, что она и выживет. К тому же у Варвары пропало молоко.
Варвара лежала в постели с высокой температурой, когда Саша, смущенный и взволнованный своими новыми обязанностями, впервые принес молоко из молочной кухни, — он держал маленькую бутылочку с молоком в больших руках, поросших милою рыжей щетиной, и не знал, что с ним делать. Варвара велела ему подогреть молоко на спиртовке. У них был сухой спирт — белые, похожие на сахар продолговатые таблетки. Спирт вспыхнул, и в комнате запахло жженым: обгорели волосы на руке у Саши. Он стоял посреди комнаты и беспомощно дул на руку. Варваре стало до слез стыдно и жалко его.
— Подойди ко мне, Саша, — сказала Варвара и, когда Саша подошел к кровати, взяла обеими руками его руку, на которой темными спиральками свернулись обгоревшие волосы, тоже подула на нее, по-детски складывая губы, а потом, переполняясь нежностью, поцеловала и заплакала…
— А разве шла речь и о дворянском происхождении? — удивилась Варвара. — Его отец был не дворянином, а дворником у присяжного поверенного в Хамовниках… Это же легко было проверить!
Майор сидел уткнувшись подбородком в колени, он снова что-то ответил, но снова так неразборчиво, что Варвара не услыхала. Да ей и не нужен был ответ: ответом на давнишние ее вопросы был весь этот почти фантастический разговор, эта встреча с бывшим капитаном Сербиным, который тогда казался ей живым воплощением страшной беды, грозным в своей молчаливой таинственности, а теперь выглядел усталым и смущенным, таким же человеком, как и все люди тут на войне.
Они сидели рядом, почти соприкасаясь плечами, подпирая одеревенелыми спинами земляную стенку блиндажа, и над ними тоже была земля, насыпанная на кривые, неошкуренные бревна, тонкий слой сухой, как пепел, земли. И все, что произошло когда-то, было так далеко и казалось таким невероятным, что невольно возникал вопрос: как же могло случиться то, что случилось, если им суждено сидеть тут рядом, и прислушиваться к полету снарядов, и знать, что в любую минуту один из этих снарядов может попасть в их блиндаж и положить конец всему: и тяжелым воспоминаниям, и этому горькому удивлению перед прошлым, которое не принимало в расчет всех неожиданностей будущего и, вместо того чтобы объединять, сделало все, чтобы разъединить их подозрением, недоверием и страхом?
Для них обоих — для женщины, что не могла забыть мужа, с которым ее так жестоко и так несправедливо разлучили, и для майора с эмблемою справедливости на погонах, который, помимо своей воли, в силу сочетания целого ряда не зависящих от него обстоятельств и причин, был причастен к ее жизненной катастрофе тем, что арестовал ее мужа и должен был арестовать также и ее, — для них обоих не было теперь пути к отступлению. Узнав женщину и заговорив с нею, майор Сербин уже не мог не думать о том, какую роль сыграл он в ее жизни, не мог не вспоминать обо всем, что он хотел бы забыть. То, что он встретился именно с нею и думал о ее случае, было только стечением обстоятельств — он мог бы встретиться с женой другого человека и тогда так же думал бы о других людях, хотя, возможно, в его памяти возникали бы другие подробности, которые в конечном счете не имели никакого значения в сравнении с тем, что делалось уже давно в его душе. И Варвара Княжич, если б она, допустим, сделала вид, что не знает его, тоже не могла бы отгородиться от своих воспоминаний никакой стеною: они были сильней ее, жили в ней постоянно и лишь были прикрыты пеплом повседневных забот.
Если б они могли знать, Варвара Княжич и майор Сербин, о чем думает каждый из них в эту минуту, то, наверно, их грустное удивление возросло бы. Они, конечно, знали, что думают сейчас об одном и том же, но что в их воспоминаниях возникает по-разному освещенная одна и та же картина — этого они знать не могли и этого им не следовало знать, достаточно было и того, что они встретились.
…На лестнице послышались шаги, задребезжал звонок, в одном халате она подбежала к дверям, на ее встревоженный вопрос из-за дверей ответил знакомый голос дворника:
— К вам, Варвара Андреевна.
Она сразу все поняла, потому что хоть и верила в Сашу и знала, что он не может быть причастен ни к какой деятельности, направленной против Родины, но уже неясно ощущала, что не обязательно быть причастным, и ждала, что ночная беда, которая так часто появлялась на лестнице, может подойти и остановиться у их дверей.
Саша сразу начал одеваться. Он не глядел на капитана Сербина, на его вопрос: «Где ваша лаборатория?» — ткнул пальцем в сторону кладовушки, где стоял самодельный увеличитель, снова наклонился и стал завязывать шнурок на ботинке.
Дворник стоял, прислонясь плечом к дверному косяку, и пустыми глазами глядел то на Сашу, то на капитана. Еще один человек в штатском, пришедший вместе с Сербиным, ходил по комнате, засунув руки в карманы, глядя больше на стены и потолок, чем на хозяев квартиры, ошеломленных этим ночным визитом. Варвара, открыв дверь, как была в полинялом старом халате, давно уже для нее узком — приходилось придерживать его на груди, — стояла у кроватки Гали.
Сколько это длилось, она не помнит. Не сходя с места, словно окаменев от предвиденной неожиданности этого прихода, сухими и горячими глазами она глядела на все, что делали капитан Сербин и тот, второй, в штатском.
Августовская ночь кончалась, в окнах на сером фоне рассвета, над низкими крышами вырисовывались редкие кроны старых деревьев, вся улица выступала из предутреннего сумрака медленно, как снимок на негативе в ванночке с проявителем.
Сербин подошел к телефону и вызвал машину. Его спутник в штатском запихал в Сашин чемодан фотобумагу, проявленные и непроявленные пленки, отпечатанные снимки… Сашин фотоаппарат лежал на столе, футляр был раскрыт, тускло поблескивал объектив, ремешок, свернувшись коричневой спиралью, свисал и вырисовывался на белой с синими цветами скатерти. Саша медленно зашнуровал ботинки, достал из шкафа свой лучший галстук и старательно повязал его перед зеркалом. Он был удивительно хорош в ту минуту, когда подошел к Галиной кроватке и взялся своей большой, сильной рукою за тонкие поручни. Так они и стояли по обе стороны белой железной кроватки, в которой, не проснувшись, спала их маленькая дочка.
«Много красивых людей встречаешь в жизни, — думал майор Сербин в эту минуту, — но редко встретишь такое смелое, спокойное и мужественное лицо, как у мужа этой женщины, которая сидит теперь рядом со мной…»
Майор Сербин поглядел на Варвару. На лице ее, большом и добром, не было и тени волнения. Ему показалось оно, насколько он мог припомнить, очень похожим на то смелое мужское лицо, которое он не раз видел после той памятной ночи уже в другой обстановке; скорее всего это было внутреннее сходство двух очень близких по характеру, сильных и верных людей, которых любовь делала еще более близкими и еще более похожими.
Сербин вдруг подумал, что не эта женщина должна была бы сидеть теперь тут, в блиндаже, а ее муж, что он был бы тут на месте как командир или политработник, что все любили бы его за спокойное мужество и суровую, требовательную доброту. Все — и солдаты, и офицеры, и он, майор Сербии, — вероятно, с радостью воевали бы под его командованием и чувствовали бы себя счастливыми, что им приходится выполнять приказы такого командира. Эта естественная мысль так поразила майора, что он даже скрежетнул зубами.
Варвара чувствовала себя ошеломленной и притихшей перед неизбежностью того, что уже давно случилось в действительности, но лишь должно еще было случиться в ее воспоминаниях.
…Под окном послышался сигнал автомобиля. Капитан Сербин подошел к Саше. Дворник — он и теперь работает в их доме, больной, преждевременно состарившийся, потому и не на войне, — дворник отлепился от косяка двери и вытянулся, как перед начальством, перед человеком в штатском, который никак не мог закрыть туго набитый чемодан.
— Вам придется пойти с нами, — обратился к Саше капитан Сербин, и темное лицо его окаменело, а впадины под глазами, казалось, заполнились какой-то черной жидкостью.
Саша, не глядя на него, протянул к ней руки над кроваткой Гали. Варвара, холодея от страха разлуки, бросила свои руки навстречу его большим, надежным рукам, которые теперь словно просили у нее поддержки. Узкий халат разошелся на груди, открывая ночную сорочку; она обошла кроватку девочки и поцеловала Сашу в глаза. Возможно, она заплакала бы, но человек в штатском сказал недовольным голосом:
— Ну что вы, гражданка…
Сказал так, словно ее Саша должен был выйти в соседний киоск за папиросами.
Саша коротким пожатием стиснул ее плечи и опустил руки. Она увидела, как капитан Сербин, проходя мимо стола, накрыл газетою фотоаппарат. Машина на улице снова засигналила.
— Что это было… тогда? — скорее у самой себя, чем у майора, спросила Варвара и удивилась, услышав его голос:
— Не знаю… Никто не знает.
Ей казалось, что она ничего не сказала вслух, как же он мог угадать тот главный вопрос, который не давал ей покоя долгие годы? Может, он ждал этого вопроса, может, этот вопрос преследует его, — не ее, Варварин, а большой вопрос всех, на который придется когда-нибудь давать ответ? «Не знаю…» Может, он боится не столько вопроса, сколько ответа?
«Никто не знает»… Тебе спокойней не знать или притворяться, что не знаешь, — думала Варвара. — Но ты знаешь, не можешь не знать. Еще никому ничего не известно, а преступник уже знает о своем преступлении, знает, когда оно еще не совершено… Знает раньше, чем жертва. Вот поэтому ты и боишься моего вопроса, а я не боюсь спрашивать, не боюсь и ответа, каким бы жестоким он ни был. Легче всего сказать «не знаю» и успокоиться. Но нельзя жить с мертвым сердцем, как ты. Не спрашивать — это значило бы закрыть все пути, остановиться, отречься от жизни, а мы не хотим отрекаться… Вопреки твоей жестокости».
Варвара посмотрела на Сербина: в сером сумраке блиндажика лицо его, окаменевшее и неподвижное, показалось ей неживым: восковая бледность ползла по лицу Сербина, распространяясь от запавших висков по лбу. Сербин глядел в стену блиндажика прямо перед собою и ничего не видел, взгляд его был пустой и мертвый.
«Вина моя слишком тяжела, — думал в это время Сербин, — слишком тяжела моя вина перед этой женщиной и ее мужем… Что же произошло, как могла эта вина лечь на мою совесть? Ведь я не хотел быть несправедливым, до определенной минуты я был уверен, что закон борьбы требует от меня тех поступков, которые я совершал… Я должен был быть карающим мечом революции для врагов, как же случилось, что настоящих врагов расплата миновала, вместо этого падая на головы друзей? Она не знает, эта женщина, что мы учились с ее мужем в одном институте, только он шел на два курса впереди. Он также мог меня не помнить, хотя, возможно, сам подписывал мою комсомольскую характеристику, когда меня посылали работать туда, где мы позже встретились… Кажется, он узнал, вспомнил меня потом. Ни ему, ни мне не стало от этого легче. В институте он был примером для нас, младших, он и теперь остается примером для меня: до конца не дрогнул… И то, что он сказал мне, кем я стал, также шло от его непоколебимой верности тому делу, которое я защищал, как мне казалось. В действительности же он защищал его от меня до последней минуты всей своей верностью и чистотой. То, что он тогда сказал, так и останется на мне навсегда… Хорошо, пусть я стал таким не по собственной воле, а по принуждению, разве это снимает с меня вину? Разве я не виноват в том, что разрешил себя принудить? Не было выхода? У него ведь был, он не испугался его, а я закрыл тот выход перед собой, и ничто теперь не может спасти меня от собственного суда, даже то, что я добровольно пошел на фронт…»
Нельзя было вырваться из круга этих мыслей. За одним вопросом возникал другой, еще более страшный, круг только расширялся, разорвать его Сербин не мог.
— А чего мы, собственно, еще сидим тут? — послышался вдруг самоуверенный голос лейтенанта Кукуречного из угла блиндажа. — Обстрел-то давно кончился, а хозяин мне приказывал, чтоб я не задерживался!
Тишина наполняла небо и землю. Ворковал голубь в нише. Сержант Грицай негромко покрикивал в трубку: «Я Подснежник! Я Подснежник!» Толкаясь и наступая всем на ноги, лейтенант Кукуречный полез к выходу. Он оперся костлявой рукой о Варварино плечо. Резким движением она освободилась от этого прикосновения, расправила одеревенелые ноги и поднялась. Уже выбравшись на поверхность, Варвара оглянулась и сказала майору Сербину:
— Прощайте.
Майор не поднял головы и не отозвался. Прошло немало времени, прежде чем он выпрямился, вылез из блиндажика и, не маскируясь, ступая во весь рост между искалеченной кукурузой, зашагал к лесу.
11
От блиндажа телефонистов до траншеи НП, где у стереотрубы сидел полковник Лажечников, было не более двухсот пятидесяти метров. Это расстояние можно было бы пройти за пять минут, но хотя обстрел прекратился, а вернее, потому, что обстрел прекратился и можно было малейшей неосторожностью снова вызвать его, Кукуречный лег на землю и пополз по узким зигзагообразным проходам между стеблями сухой кукурузы, где ползали все, кому приходилось днем пробираться на полковой НП.
Варвара ползла за Кукуречным, не замечая ни расстояния, ни времени: теперь ей было совершенно безразлично, сколько будет еще продолжаться ее дорога к неизвестному полковнику, от которого зависело порученное ей фотографирование танка. Сухо шелестели и качались кукурузные стебли, земля была горячая, словно раскаленная тем огнем, что так недавно еще падал на нее. Варвара уже не обращала внимания ни на лейтенанта, который, как уж, то сокращаясь, то удлиняясь, раздвигал плечами кукурузные стебли впереди, ни на серую землю, пересохшую, потрескавшуюся, переплетенную отмершими корешками, ни на свежие воронки, на дне которых почва была черная и влажная.
Встреча с майором Сербиным словно убила в ней способность что-нибудь чувствовать и видеть, кроме прошлого. Оно снова и снова вставало перед ней во всей своей бессмысленности и откровенной жестокости, которой она в эти минуты, больше чем когда-либо, не находила ни объяснения, ни оправдания.
Сидя в блиндаже телефонистов, Варвара, казалось, готова была примириться с майором Сербиным, — это чувство было вызвано тем, что они находились теперь в одинаковом положении, и тем, что он показался ей таким же человеком, как и все люди здесь, на войне. Теперь, на кукурузном поле, ползя за Кукуречным, она думала уже совсем по-другому, в ней проснулась та враждебность, которую она всегда чувствовала к Сербину. Если ее личное глубокое горе было частью еще более глубокого общего горя, то и Сербин не мог не быть частью той беды, что изуродовала ее жизнь, и, не примиряясь ни на минуту с той бедой, она не могла ни примириться с Сербиным, ни оправдать его.
Сашу увезли. Дворник вышел последним, ссутулив плечи, как-то боком продвинувшись в двери, — то, что происходило, угнетало его. Варвара осталась одна над кроваткой Гали.
Электрическая лампа под большим бумажным абажуром — Варвара сама когда-то разрисовала его разноцветными полосами и зигзагами — ненужно горела над столом. Рассвет все отчетливее проявлял контуры деревьев и строений за окном. Дворник уже взял свою метлу и теперь устало шаркал ею по тротуару.
Слабое пятно света ложилось из-под абажура на газету и желтило, словно подсвечивало изнутри серую бумагу со строчками мелкой печати, большими заголовками, знакомыми портретами и фотографиями. Коричневый потертый ремешок фотоаппарата выползал из-под газеты и спиралью прочерчивался на фойе белой скатерти в больших синих цветах. Еще не зная, что ей делать и что она сделает, Варвара отошла от кроватки Гали, задернула занавеску на окне и начала быстро бросать в небольшой баульчик, в тот самый баульчик, с которым они с Сашей выезжали за город, Галины платьица, рубашки, лифчики и чулочки. Фотоаппарат она осторожно, но касаясь газеты, взяла со стола, тщательно закрыла футляр и положила между Галиными вещами.
Зачем она это делала? Зачем так поспешно укладывала эти детские одежки? Куда она собиралась? Где могла скрыться? Варвара ничего не знала, кроме двух слов: «Так надо». Это «так надо» и заставляло ее собирать свою девочку в дорогу.
Но, собирая Галю в дорогу, поспешно и беспорядочно бросая ее вещи в баульчик, Варвара еще не до конца была уверена, что именно так нужно, ей не у кого было спросить совета: того, кто мог бы ей посоветовать, уже не было.
Перед Варварой все время стояло лицо Саши. Она видела на нем только глаза — большие, серые с синевой, полные печали, они словно хотели ей что-то сказать перед расставанием, они должны были ей что-то сказать, потому что уста Саши были скованы присутствием капитана Сербина и его спутника в штатском. Что говорили ей Сашины глаза? Их уже не было, их увезли, неизвестно куда и на какой срок, в машине, которую вызвал капитан Сербин, но Варвара чувствовала на себе взгляд этих глаз, они следили за каждым ее движением и словно говорили: «Хорошо, ничего иного ты не можешь сделать, другого выхода у тебя нет, ты прекрасно меня понимаешь…»
Варвара умылась, надела старенькое платье. Туфли у нее были на высоких каблуках, она покачала головой, обувая их на босую ногу. Теперь оставалось только разбудить Галю.
Галя обняла мать теплыми ручонками, как всегда делала спросонок, и вся она была теплая, ушки у нее были розовые и прозрачные, одно даже красное — отлежала во сне… Варвара быстро начала одевать Галю: пальцы ее не слушались, пуговицы не лезли в петли, чулки надевались наизнанку.
— Пей скорей молоко, Галя, — сказала Варвара, когда Галя, уже умытая, с заплетенными косичками, сидела за столом. — Нам надо торопиться.
— Куда? — спросила Галя, хлебая молоко из блюдечка.
— К бабушке, в Тарусу, — ответила Варвара так, словно это был давно и без колебаний решенный вопрос.
Саша одобрил бы ее поступок, теперь она знала это наверняка. Стоило только вспомнить его глаза, чтоб сомнения исчезли.
Трудней всего было выйти из Москвы. Сначала Галя семенила рядом с Варварой маленькими ножками, потом пришлось взять ее на руки. Можно было поехать в Серпухов, а оттуда пароходом в тот глухой городок на берегу Оки, где в садах на окраине затерялся маленький деревянный домик, в котором прошло детство Варвары. Но Варвара побоялась идти на вокзал, в толпу чужих и незнакомых людей. Ей казалось, что каждый, взглянув на нее, сразу поймет, что с ней случилось; хорошо, если это будет доброжелательное понимание… Ее угнетало чувство непоправимой утраты, но больше всего пугала возможность потерять Галю. Арестуют ее, Галю заберут в детдом, жизнь кончится… Эта мысль безостановочно гнала ее по обочине вдоль шоссе на Подольск.
Когда позади остались последние дома предместья, когда она очутилась в подмосковных полях, под лучами нестерпимо жаркого солнца, под просторным августовским небом, ей стало легче, словно этот простор укрывал ее успокаивающей синевой, как шапкой-невидимкой. Было пустынно и тихо кругом, иногда пролетал по шоссе грузовичок, иногда проезжала запряженная косматой клячонкой подвода, но Варваре и в голову не приходило попроситься на грузовичок или на подводу, она боялась выйти из защитного одиночества, в котором можно думать обо всем, что случилось, и обо всем, что может случиться, вдалеке от взгляда человеческих глаз, которые всегда хотят все знать. Никто не должен был знать, что творится у Варвары на душе.
Она поняла, что говорил ей глазами Саша в минуту расставания: «Галя… Береги Галю».
Варвара прижимала к себе Галю, а дорога делалась все более утомительной: маленькая Галя ничего не весила, когда Варвара дома брала ее на руки, теперь девочка становилась все тяжелей, к тому же еще и баульчик — пришлось его привязать платком за ручку через плечо… Потом сломался высокий каблук на одной туфле, Варвара спрятала туфли в баульчик и шла теперь босиком по горячей тропке. Галя плакала от жары. Варвара обвязала ей голову рубашечкой — в спешке она забыла взять белую панамку.
Под Подольском Варвару догнал вечер. Небо поплыло вверх, темнея, сделалось недосягаемо высоким, несмело замерцала на нем первая звездочка.
«Что ты тут делаешь? — сказала звездочка, глянув на землю и увидев, что Варвара стоит у дороги и растерянно смотрит вокруг то на разбитое шоссе, устало лежащее среди полей, то на низкие копешки ржи за придорожной канавой. — Тебе еще не приходилось спать в поле? Тут тебе будет хорошо ночку ночевать, а утром пойдем дальше».
И Варвара переночевала ночку с Галей в поле под копной ржи. Теплая сухая земля после целого дня пути под палящим солнцем показалась ей мягкой как пух, гораздо мягче, чем их большая тахта в Сивцевом Вражке. Галя лежала у Варвары на руке, свернувшись калачиком и упираясь острыми коленками ей в бок. Варвара долго глядела в высокое небо, отыскивая ту первую звездочку, которая посоветовала ей ночевать в поле, но уже не могла найти ее среди множества больших и малых звезд, что усеяли темное небо и разговаривали меж собой одними глазами, как она с Сашей в минуту прощания.
Через Подольск она прошла на рассвете. Город еще спал, только на главной улице, где ютились по склону низенькие, дореволюционной постройки магазины, усталый милиционер разговаривал с большим бородатым стариком, который стоял перед ним, обеими руками опершись на метлу; милиционер и старик с метлою замолчали и внимательно поглядели на Варвару, когда она проходила мимо них. У Варвары похолодело сердце. Они долго смотрели ей вслед, потом вернулись к прерванному разговору.
Стрелка с надписью на столбе, что стоял на углу, велела Варваре свернуть в переулок. Тут жил человек, которому Варвара могла сказать все не колеблясь, не задумываясь ни на минуту о последствиях, которые может иметь ее откровенность. Она поверила в человечность этого человека еще подростком и теперь почувствовала здесь, на углу у столба со стрелкой, что вера ее окрепла, стала еще глубже и больше из-за той бесчеловечности, которая только что ее коснулась.
Варвара шла переулком и думала, что в ящике стола у нее в Сивцевом Вражке осталась серая книжечка, теперь уже не нужная ей. И она вспомнила день, когда ей вручали эту книжечку в райкоме, и как она волновалась, и как волновался секретарь райкома, глазастый худенький мальчик в юнгштурмовке; он всем говорил одну и ту же фразу и всем одинаково пожимал руку. Комната райкома, где вручали билеты, была почему-то неприбранная и серая, словно запыленная, но вместе с тем полная солнца, света.
С этим ярким пыльным светом навсегда слились в ее памяти лица всех, кто стоял вокруг секретарского стола, на котором белела школьная чернильница-непроливайка в засохших ручейках фиолетовых чернил.
Райком стоял в саду. Когда Варвара вышла, зажав в руке билет, деревья сделали шаг ей навстречу, плеснули листвой, заговорили с ней на жарком, ей одной понятном языке юности, счастья, сбывшейся мечты, дальней дороги… Теперь она возвращалась и не могла не прийти к дому, где жил человек, открывший перед ней ту дальнюю дорогу.
Старая женщина с добрым морщинистым лицом протирала изнутри стекла. Женщина на минуту прекратила работу и, не отнимая от стекла руки с зажатой в круглом мягком кулаке тряпкою, посмотрела сквозь стекло на Варвару. Варвара стояла, охваченная великой печалью этой встречи, и не в силах была двинуться с места.
Галя дремала, положив головку ей на плечо. Женщина открыла окно и сказала:
— К Ленину пришла? Директора нет — еще рано. А хочешь, я тебя без директора пущу?
— Не надо, я приду позже, — ответила Варвара и ушла, поклонившись прозрачным окнам маленького дома.
Сквозь стекло виднелись в комнате стол, кровать и книжный шкаф, а когда Варвара поклонилась, изменился угол ее взгляда, и она увидела в стекле свое окаменевшее от удивления и напряженной надежды лицо, всю свою фигуру, вместе с Галей на руках, с дощатым забором, строениями и деревьями за спиной.
Она понимала, что стекло оставалось прозрачным, надо было только, не кланяясь, глядеть сквозь него, чтоб видеть то, что было самым дорогим…
С этой мыслью она пошла дальше, неся на руках своего ребенка…
За городом Варвару обогнал грузовик. Пустые бочки и ящики подпрыгивали и грохотали в кузове. Варвара посмотрела вслед грузовику, ее удивляло равнодушие шофера. Грузовик остановился метрах в трехстах впереди.
«Наконец догадался привести в порядок свой груз», — подумала Варвара и не ускорила шаг.
Она ошиблась.
— Садись, подвезу, — высунулось из кабины заросшее черной щетиной круглое лицо с мягким носом в угрях. — Далеко не уйдешь с ребенком на руках.
Она не отказалась, почувствовав вдруг, что не дойдет не только до Серпухова или Тарусы, но и до ближайшего уголка в тени, где можно было бы отдохнуть и накормить Галю.
Шофер был как шофер (возраста его нельзя было угадать) — в замасленной кепке, в распахнутой черной рубашке, под которой виднелась красная грудь. От него попахивало водкой и луком. Он молча гнал машину, время от времени ловко выдергивал одной рукой прямо из кармана брюк тонкую, как гвоздь, папиросу и одного же рукою зажигал спичку.
Проскочили Лопасню. Расстояние исчезало под скатами грузовика, ящики и бочки в кузове грохотали, это грохотанье своим непрерывным однообразием убивало все мысли, оставалось только смотреть вперед на дорогу и ждать, когда она кончится и настанет тишина, в которой можно будет снова сосредоточиться.
Серпухов возник неожиданно, скорее, чем она рассчитывала. Шофер не останавливаясь гнал машину через город. Когда выехали на тарусскую дорогу, он сбавил газ и сказал:
— Тут уж добирайся сама как знаешь…
В последний раз громыхнули ящики и бочки в кузове. Варвара вылезла из кабины и стала искать деньги в сумочке.
— Не надо, — пробормотал шофер, подавая ей баульчик. — Не у тебя одной горе…
До Тарусы Варвара добиралась целый день, то пешком, то на попутных подводах, которые попадались ей на короткие расстояния.
Варвара давно не была у матери, ей казалось, что она уже забыла тихий маленький город на высоком береговом склоне, где с каждого двора видны тусклое зеркало Оки и далекие, словно затушеванные расстоянием безграничные просторы Заочья.
Разбитая дорога, мощенная булыжником, вела ее дальше и дальше. Облупившиеся церкви с разнообразно покосившимися крестами маячили в придорожных селах. В полдень Варвара перешла мостик через Протву, всю забитую набухшим и почерневшим сплавным лесом. До Тарусы оставалось, может, километров двадцать, а у нее не было сил их пройти.
И все же она шла, и несла на руках Галю, и садилась отдыхать в тени березовых рощ, и даже вздремнула часок, и снова шла, и память все отчетливее воскрешала перед ней те улочки, но которым она ходила в детстве, так же вымощенные булыжником, между которым каждый год прорастала трава, кирпичные дворянские домики в центре города, гостиный двор с заколоченными лавками, грачиные гнезда, как взлохмаченные шапки, на вербах и осинах.
Глубокий глинистый овраг перерезал город на две части. За городом, у Кургана, где по вечерам собиралась молодежь, она встретилась с Сашей. Он приехал в усадьбу-музей художника Поленова и влюбился в этот маленький город. Неужели она не понимает, среди какой красоты живет, — сказал Саша. Он научил ее любить деревянные срубы, в которых тут жили, и маленькие крылечки, и светлые березовые леса, широким полукругом обступавшие город. Саша сказал, что эти леса посажены еще в восемнадцатом столетии, она не знала этого и не замечала их красоты. Он всему научил ее, а теперь его нет, и уже некому каждый день раскрывать ей глаза на мир, в котором она живет, в котором она могла и должна была быть счастливою.
Уже вечером, когда Варваре казалось, что снова придется ночевать с Галей в поле, впереди замерцали редкие огни Тарусы.
Варвара перешла глинистый овраг, сумрачный и неприветливый. В деревянном флигельке в глубине двора было уже темно. Варвара осторожно постучала в окно. Мать вышла на порог в одной юбке и платке, наброшенном на плечи, увидела босую Варвару с Галей на руках, маленький баульчик на крыльце у ног дочери и сразу все поняла.
— Прыгайте, — услыхала Варвара голос лейтенанта Кукуречного, — прыгайте, что же вы?
Голос Кукуречного вернул ее к действительности, она увидела ничем не прикрытую щель траншеи, земляную невысокую насыпь в стеблях кукурузы, выкрашенную в защитный цвет трубу на треноге, согнутую большую фигуру возле нее и поняла, что это и есть полковник Лажечников.
Варвара сползла в траншею, ей показалось, что она падает, не доставая дна узкой щели; она невольно ухватилась за плечо полковника. К ней повернулось большое удивленное лицо с симпатичным мясистым носом и недовольно поднятыми бровями.
— Вы кто?
Варвара не успела ответить, Кукуречный, лежа на животе над траншеей и приложив руку к фуражке, уже докладывал полковнику о ней. Конечно, он не забыл сказать, что генерал Костецкий приказал ему не задерживаться и немедленно возвращаться на КП дивизии.
— Можете быть свободным, лейтенант, — кивнул ему сдержанно Лажечников и обратился к Варваре: — Как вам понравилась наша музыка?
Над траншеей зашуршала кукуруза, они оглянулись вместе и увидели ноги Кукуречного, уже отползавшего к лесу. Даже ноги Кукуречного говорили о том, что душе его тем спокойней, чем дальше он от опасности.
12
Вся сложность человеческого поведения состоит в том, что человеку приходится одновременно думать о бесчисленном множестве дел и вещей, не одинаковых по своей важности, неравномерно далеких или близких к сегодняшнему его душевному состоянию и к той главной внутренней задаче, что всегда есть у каждого человека, независимо от того, появилась ли она по причинам, которые можно назвать внешними, или возникла из собственной потребности деятельной человеческой души.
Если бы человек мог сосредоточить все свои усилия на выполнении только той внутренней задачи, решение которой имеет главное значение для его существования, человеческая жизнь была бы и проще и плодотворней; еще проще и плодотворней была бы она, если бы человек, решая свою жизненную задачу, не сталкивался с препятствиями и трудностями, которые возникают на каждом его шагу то в виде внешних обстоятельств, то в форме внутренних сил, что постоянно противоборствуют и держат в напряжении механизм человеческого сознания. И вместе с тем — каким однообразным стал бы мир человека, если б человек был свободен от необходимости жить, действовать, мыслить и чувствовать одновременно по многим направлениям и не должен был бы выбирать единственно приемлемый путь из многих возможных путей, которые в каждом случае открываются перед ним.
Все уже было переговорено между ними, все она ему рассказала — до мельчайших подробностей, оставалось лишь одно, самое тяжелое, на что она не решалась. Ответ она знала заранее, она не могла его не знать, прожив столько лет со своим Алексеем Петровичем, и все-таки должна была собраться с силами и говорить.
Они сидели на завалинке в тени избы, генерал Савичев и Катерина Ксаверьевна, его жена, Катя… Окно генерал приказал открыть — на случай, если позвонит телефон. В избе, за столиком с разноцветными карандашами в граненом стакане, сидел капитан Петриченко. Он распорядился уже убрать завтрак, к которому не притронулись генерал с женой. На молчаливый — взглядом — вопрос официантки из штабной столовой Петриченко так же молча пожал плечами, — ничего, мол, не знаю, ничего не понимаю.
Иногда Петриченко смотрел в окно, видел согнувшуюся спину генерала, а когда тот поворачивался к жене, — его потемневшее лицо. И согнутая спина всегда подтянутого Савичева, и его лицо, которое даже в самые трудные минуты не теряло приветливого выражения, а теперь казалось окаменевшим и холодным, волновали и беспокоили Петриченко.
С чем приехала к мужу Катерина Ксаверьевна? О чем они говорят тихими голосами, шепотом, так что нельзя разобрать ни слова? Хорошо, что они сидят в тени, под тем окном, что выходит во двор. С улицы их не видно. Бог знает, что могли бы подумать штабные болтуны, увидав сегодня генерала Савичева… И Катерина Ксаверьевна — капитан Петриченко совсем не такою представлял ее себе, — хоть и сидит она напряженно, высоко держа голову, видно, как плечи ее опустились, будто их придавила какая-то тяжесть.
Иногда Катерина Ксаверьевна вынимает платочек из небольшой продолговатой сумочки, нерешительно мнет его в руках, словно собирается приложить к глазам, но глаза у нее сухие, платочек снова исчезает в сумочке, тихо щелкает замочек, и Катерина Ксаверьевна снова сидит молча рядом с Алексеем Петровичем, в десятый и сотый раз обдумывая те последние слова, которые должна ему сказать. И хоть Катерина Ксаверьевна в красивом столичном платье, хоть волосы ее тщательно причесаны и длинные ногти покрыты розовым лаком, а Алексей Петрович в новом кителе с блестящими генеральскими погонами, почему-то капитану Петриченко кажется, что ни генерал сейчас не похож на генерала, ни Катерина Ксаверьевна — на генеральскую жену. Вот так, должно быть, сидят на завалинке под избой где-то в Чкаловской области его отец и мать, которых он успел из-под носа у немцев вывезти из Миргорода, — сидят и думают о нем.
«Конечно же отец и мать сидят под окном, — наконец решает капитан Петриченко, — у них ведь есть сын, Володя, и все, что сейчас говорится под окном, может говориться только о нем, о Володе».
Зазвонил телефон, Петриченко быстро схватил трубку, послушал и сказал тихим железным голосом: «Генерал сейчас занят». Может, поэтому он и не услышал, как Катерина Ксаверьевна сказала те слова, которые ей трудней всего было произнести.
— Нет, Катя, — ответил на эти слова Алексей Петрович, — этого я не смогу сделать.
— Почему? — Катерина Ксаверьевна поспешно вынула свой крохотный платочек, но словно опомнилась, не поднесла его к глазам, а разостлала и начала разглаживать у себя на коленях. — Ты же знаешь, как опасно быть летчиком-истребителем.
Солнце совершает свой путь по небу, тень избы укорачивается и переползает по траве, и там, где трава попадает под его горячие, лучи, она сразу молодеет, эта вытоптанная, пропыленная трава, становится яркой и блестящей, а та, что остается в тени, кажется седой и холодной, словно мертвой.
«Вот, значит, в чем дело, — неподвижным от удивления взглядом смотрит поверх плеч генерала и его жены на седую холодную траву капитан Петриченко, — вот в чем дело у нашего генерала. Боевой век летчика-истребителя действительно недолог».
— Скажут, Савичев прячет своего сына от опасности, — слышит Петриченко, как совсем тихо отвечает генерал жене.
— Люди всегда слишком много говорят, — сразу же отзывается Катерина Ксаверьевна, — а Володя у нас один.
Снова звонит телефон, Петриченко снова протягивает руку к трубке, собираясь сказать, что генерал Савичев занят, но подносит трубку к уху, и лицо его вдруг освещает радостный испуг.
Держа трубку на расстоянии, как гранату, что вот-вот разорвется, Петриченко говорит в окно тем особым, адъютантским голосом, от которого никак не может отучить его Савичев:
— Член Военного совета просит вас!
Генерал Савичев поднимается, всовывает голову со двора в окно и берет трубку. Вид у Савичева совсем не генеральский: он лежит грудью на подоконнике, лицо у него темное и измученное. Катерина Ксаверьевна еще выше поднимает голову. Петриченко замечает, что в ее прямых черных волосах, собранных небольшим узлом на затылке, просвечивают серебряные нити. Сколько ей может быть лет? Шея у Катерины Ксаверьевны тонкая, как у молодой женщины, а ей уже, наверное, под пятьдесят.
Савичев разговаривает с членом Военного совета бодрым, деловым голосом, даже что-то похожее на шутку или остроту прорывается в его речи, но по темному огоньку в глазах видно, что слова, которые он произносит, говорит не он, а кто-то другой, возможно, это говорит его китель или веселые золотые погоны, а сам он молчит, прислушивается к тому, что делается сейчас в душе Катерины Ксаверьевны, в его собственной душе.
Петриченко старается не глядеть на генерала. Он боится, что Савичев заметит в его взгляде жалость и сочувствие, берет из граненого стакана и начинает старательно оттачивать карандаш.
Савичев положил трубку на подоконник и сел рядом с Катериной Ксаверьевной.
— Не только у нас с тобою один сын. Сотни тысяч отцов уже отдали своих единственных сыновей, Катя.
— Ты знаешь это — отдали.
— Знаю, Катя, все знаю.
— Ему ведь нет еще и двадцати.
— Мне было ненамного больше, когда я пошел на войну, а видишь, ничего.
— Тогда была не такая война.
— Я и потом воевал и теперь воюю, Катя…
— Кто знает, чем все это кончится? Теперь совсем иначе воюют.
— Да, я согласен, тогда было легче.
— Чем дальше от огня, тем лучше.
Катерина Ксаверьевна едва шевелит губами, но Петриченко слышит ее слова, лицо его покрывается красными пятнами, он не видит этого, конечно, но чувствует, как жаркая волна стыда поднимается и заливает его с головою. Петриченко прикладывает ладонь к щеке, словно кто-то дал ему пощечину. Катерина Ксаверьевна не думала о нем, конечно же она о нем не думала, он для нее не существует, она сказала это, думая только о своем Володе, но словно наотмашь ударила его по лицу своими тихими словами. Ведь это он, он сидит далеко от огня, в чистой избе, возле воспитанного, доброжелательного генерала, который трижды подумает, прежде чем послать своего адъютанта в опасное место. А там — даже трудно представить себе, как далеко там, на такой же завалинке, — молча сидят его отец и мать, ждут писем, не спят по ночам, боятся за него…
Там не знают подробностей, все прикрывает номер полевой почты, а что за этим номером не окоп на передовой, а чистая, тихая изба — откуда им знать, он ведь об этом не писал!
— Подумай, Катя, — говорит Савичев медленно и твердо, — подумай, как будет чувствовать себя Володя, если я посажу его куда-нибудь в штаб. Под крылышко знакомого генерала…
И Савичев говорит это, не думая о своем адъютанте, ему сейчас не до Петриченко, он не знает, не может знать, что каждое его слово бьет молодого капитана, как удар кнута. Петриченко прислоняется к прохладной выбеленной стене, погон блестящей арочкой поднимается у него на плече, одна из четырех звездочек колет щеку. Правда, все правда: первое время ему было совестно чинить карандаши, соединять телефоны и вызывать Калмыкова, а потом он привык, и, если б не сегодняшний разговор генерала с женою под окном, чувство стыда так никогда и не проснулось бы в нем…
— …Я посажу его в штаб, а его товарищи…
Катерина Ксаверьевна резко поворачивает лицо к мужу:
— У тебя в штабе сидит молодой капитан, у него тоже, наверное, есть товарищи. Ты же не задумываешься над тем, как он себя чувствует. Кто-то должен сидеть в штабе, почему же сидит этот капитан, а не Володя?
Савичев закрывает лицо руками. Неужели это его Катя, та Катя, что покинула родителей и пошла с ним в водоворот, в опасности гражданской войны, во все ее неожиданности, ни о чем не думая, проникаясь только его мыслями, его верой, его энтузиазмом, верная, самоотверженная Катя! Дело же не в том, что будут говорить люди, собственная совесть иногда говорит такие жестокие слова, какие никто не решится бросить человеку в глаза. Неужели она не боится собственного сердца? Да, годы изменили его Катю, душа ее устала, она думает уже только о собственном спокойствии, и ее страх за Володю — это страх за себя.
Какое значение имеет, что будет чувствовать Володя? А что буду чувствовать я, если… Что будешь чувствовать ты?
Савичев молчит. Он знает, что будет чувствовать. Он давно уже носит это в себе. Оттого ему и тяжело посылать людей в огонь, что каждый раз он думает о своих близких — о ней, о Володе… Но он не хочет уклоняться от испытаний. Зная цену человеческим страданиям, он не просит для себя льготы. Человек не может быть счастлив за счет чужих страданий. Собственное счастье завоевывается счастьем всех, оно не меньше становится, а больше, если разделить его на миллионы сердец. Мир, труд, жизнь… А если надо отдать жизнь за мир и возможность труда? Не только за то, чтоб фашисты не топтали поля отчизны, не гноили людей в концлагерях, не душили в газовых камерах, но и за то, чтоб женщина не шла в тяжелой робе под землю, чтоб не налегала тонкими руками на ручку компрессорного молотка, — за это тоже надо отдавать жизнь… И если отдают ее миллионы, то чем же он лучше любого среди этих миллионов, чтоб сохранить жизнь для себя, для собственного счастья? Собственным счастьем можно убить душу так, как не убьет ее общее горе.
— Ты всегда понимала меня, Катя.
— Меня ты сегодня не понимаешь.
На языке Катерины Ксаверьевны это значит: ты не любишь меня. Она не знает, что в эту минуту, в минуту наибольшей ее слабости, он любит ее сильнее, чем когда бы то ни было в жизни. Но он не может ей этого сказать, он не может даже продолжать этот разговор. Член Военного совета уже второй раз интересуется фотографиями «тигра».
— Извини, Катя, — говорит Савичев и поворачивается к окну: — Петриченко, соедините меня с генералом Костецким.
— Есть, — поспешно отвечает Петриченко и начинает крутить ручку телефонного аппарата.
Буря бушует в душе этих трех людей, буря, которой не видно на поверхности, которая разрушает и укрепляет, убивает и воскрешает сердца.
«Как хорошо, что прилетела Катерина Ксаверьевна, — думает Петриченко, думает и крутит ручку телефонного аппарата, — как хорошо, что она прилетела и что идет этот разговор под окном… «Молодой капитан… У молодого капитала тоже есть товарищи…» Боже мой, а где же они? Игорь Куценко попал в окружение, Мишу Романовича разорвала бомба, прямое попадание. Сема Любарский остался без ноги…»
— Петриченко, — слышится голос Савичева, — почему не отвечает Костецкий?
«Ты сидишь здесь у телефона, молодой, здоровый, с четырьмя звездочками на погонах, — слышит Петриченко в голосе Савичева, — а твои товарищи… С ними теперь никаким телефоном не свяжешься! Мой Володя будет летать на истребителе, за ним будут гоняться фашистские асы, а ты будешь крутить ручку телефона…»
Петриченко неистово крутит ручку, бледный, с закушенными до боли губами.
Член Военного совета дважды напоминал о снимках, — он должен иметь их сегодня. «Едва ли это возможно», — подумал Савичев, но ответил члену Военного совета, что снимки под вечер обязательно будут готовы, не позже утра, во всяком случае. Что касается листовок, о которых тоже напоминал член Военного совета, то с ними дело куда проще, текст уже написан, Савичев сам прочел и выправил его, и приказал сдать в редакционную типографию. Но листовки без клише подбитого «тигра» все равно нельзя печатать: надо, чтоб солдаты видели этот танк неподвижным, бессильным, мертвым. Ничто так не укрепляет дух бойца, как вид мертвого врага и его разбитого оружия. Надо еще раз позвонить в редакцию, чтоб ни в коем случае не давали в печать листовок без клише. А Катя сидит рядом и ждет от него ответа на вопрос, в котором он услышал: жить или не жить? Что он может ей ответить? Что он может ответить себе? Ответ один — жить, но это значит также — не отступать перед жизнью, смотреть прямо в глаза опасности, тревоге, смерти. Иного ответа он не знает. Но как это сказать, в какие слова вложить, чтоб Катя поняла его так, как понимала когда-то? Хоть бы поскорее неповоротливый Петриченко связал его с Костецким, с генералом Родионом Павловичем Костецким, с больным, одиноким Родионом, с его ограбленным другом Родькой… Сказать ему, что Катя приехала, что вот она — рядом, может взять трубку, если он хочет с ней поговорить? Сколько лет прошло с того вечера, когда он поджидал Родиона на улице и считал время по ударам пульса?.. Может, лучше было бы, чтоб Родион был теперь на его месте, а он там, в землянке Родиона, с единственным спасением от всех болей — с известным крепким чаем генерала Костецкого… Нелегко об этом думать. Вообще все нелегко. Нелегко воевать. Нелегко быть отцом. Нелегко отвечать за судьбу людей, которые полагаются на тебя. Нелегко быть человеком.
— Генерал Костецкий на проводе, — сказал Петриченко и протянул трубку в окно Савичеву.
Как только Костецкий, приказав лейтенанту Кукуречному проводить Варвару Княжич в полк Лажечникова, вернулся в землянку и лег на свои нары, сразу же зазуммерил телефон.
Трубку, как всегда, снял Ваня.
Ваня по голосу узнал Петриченко и сразу же передал трубку Костецкому, зная, что его генерала вызывает генерал Савичев, с которым у Костецкого очень сложные и непонятные взаимоотношения, совсем не такие, как между начальником и подчиненным, но и не такие, какие бывают меж равными. В чем тут дело, Ваня не понимал. Величают они друг друга по имени и отчеству и вместе с тем на «ты», как друзья, а друзьями Ваня не мог бы их назвать, что-то разделяет их, какая-то невидимая для Вани стенка. Из чего сложена эта стенка, неизвестно; совершенно прозрачная, но крепкая стена, трудно пробить ее, а может, и невозможно.
Костецкий не сразу смог ответить Савичеву — боль снова мучила его.
Приступ боли, как всегда, начался ласкающими прикосновениями и, как всегда, напомнил Костецкому игру кошки с мышью: так кошка играет со своей жертвой, ласково трогая ее бархатной лапкой, прежде чем выпустить когти и перегрызть ей хребет безжалостно острыми зубами.
Костецкий натянул до подбородка свой белый тулуп, он тяжело дышал, с шумом набирая и выпуская из груди воздух, и сам слышал, как шуршит и потрескивает мембрана, усиливая его дыхание.
— Как здоровье, Родион Павлович? — услышал Костецкий в трубке голос Савичева, зажмурился от боли, но, притворяясь здоровым, ответил:
— Прекрасно себя чувствую, Алексей Петрович, благодарю за внимание!
Ему надо было притворяться здоровым и бодрым, чтоб Савичев не продолжал разговора о здоровье, который был для него нестерпимым, так как всегда заканчивался предложением лечь в госпиталь на лечение, что означало больше — сдать дивизию как раз перед событиями, которых ждет вся армия, весь фронт, вся страна.
«Дивизию я не сдам, разве что вы меня силой заставите, — думал Костецкий. — Говорю, что здоров, — значит, здоров, и у вас нет оснований не верить мне».
Костецкий еще раз упрямо, с вызовом сказал в трубку:
— Чувствую себя прекрасно!
Савичев не поверил, зная, как тяжело болен Костецкий, но притворился, что поверил, чтоб не раздражать командира дивизии: разговорами тут не поможешь, нужно спасать человека, хотя он сам не хочет, чтобы его спасали.
— Вот и хорошо, — сказал Савичев, — очень рад за тебя. Я, собственно, насчет этой… домашней хозяйки… Понимаешь? Прибыла она к тебе?
— Давно прибыла, — бодрым голосом подхватил Костецкий шутку Савичева, — давно прибыла и уже пошла на базар.
Разговор между двумя генералами происходил как бы в два ряда: один ряд складывался из слов, которые они произносили и слышали и которые мог бы услышать каждый, а другой возникал из встречных мыслей, которые они оба хотели скрыть друг от друга, но которые так или иначе были им обоим известны.
— Угощал ты ее своим чаем? — веселым голосом спросил Савичев, думая в это время, что он не должен верить притворной бодрости Костецкого — пусть это жестоко, но не должен: еще большей жестокостью было бы поверить, что Костецкий здоров, и оставить его в дивизии; еще большой жестокостью — по отношению к Костецкому и к людям, жизнь которых ему доверена. Надо еще раз переговорить с членом Военного совета… Нельзя больше тянуть. Костецкий убивает себя своим крепким чаем. Надо его в Москву, в хорошую клинику, именно в клинику, а не в госпиталь. Может, московским профессорам еще удастся спасти Родиона.
Савичев сам не верил своей надежде.
— Мой чай не для нее, — хрипло и резко засмеялся в это время Костецкий, радуясь, что ему удалось избежать разговора о здоровье.
Пусть Савичев сколько ему угодно Проезжается по поводу пресловутого чая, Костецкого он не перехитрит… Конечно, Алексей желает ему добра. Да только знает ли он, что хорошо, а что плохо для Костецкого? Кажется, мог бы понимать, что без дивизии он не проживет и одного дня… Нет, Савичеву его не перехитрить, дивизию он не сдаст, нужно только получше притворяться здоровым, выиграть время, чтобы там, наверху, не решили его судьбу до событий. Начнутся события, о нем забудут, не станут тыкать в глаза здоровьем, все будет зависеть только от того, пойдет его дивизия вперед или не пойдет, а здоровый он или больной — это утратит значение. Всю жизнь прожил на марше, где же и конец встречать, как не в бою…
Костецкий молча дышал в трубку ровно столько времени, сколько нужно было, чтоб выговорить то, о чем он думал. Савичев терпеливо слушал его молчание, наконец вздохнул и сказал:
— Будь здоров, Родион Павлович… Ты проследи, пожалуйста, чтобы она не задерживалась на базаре, мне картошка нужна к ужину.
— Как только купит, так и отправлю ее к тебе, — ответил Костецкий. И вдруг закричал в трубку раздраженно и зло: — А насчет моего здоровья, Алешка, ты не беспокойся — до Берлина дойду!
Ваня удивленно и испуганно поднял голову.
Савичев в это время опять напряженно думал, сказать Костецкому о приезде Катерины Ксаверьевны или не говорить. Бессильный, отчаянный выкрик Костецкого положил конец его колебаниям. Нет, не надо говорить… Пусть не знает… Так лучше.
— До Берлина всем нам дойти нужно, — тихо сказал Савичев и положил трубку.
Костецкий долго лежал, обессиленный своим выкриком и сдержанным ответом Савичева. Правда, до Берлина всем нужно дойти, но голос Савичева сказал Костецкому, что его старый друг не верит в возможность для него, Костецкого, дойти туда, куда нужно им всем.
«Я, может, и дойду, — слышалось Костецкому в голосе Савичева, — дойду, если не наскочу на мину или не попаду под бомбу… А тебе уже не дойти».
Боль снова зашевелилась в нем, он понял, что, если даст ей разыграться, дело может обернуться плохо: придется вызывать медсестру, а она доложит врачу — не оберешься тогда разговоров.
— Чаю, — потребовал Костецкий таким заржавелым голосом, что Ваня не посмел возражать и сразу же подал ему стакан.
— Заваривай покрепче, — не глядя на своего ординарца, сказал генерал.
— Очень крепкий, товарищ генерал, вы попробуйте…
— Крепче!
Ваня вздохнул и долил из пузатой бутылки в стакан красноватой жидкости.
Костецкий спустил ноги с нар и стал прихлебывать свой чай. Боль начала глохнуть, словно у кошки притупились когти, словно она тронула ими Костецкого напоследок и успокоилась.
Костецкий тоже успокоился, не столько оттого, что боль на какое-то время прошла, сколько потому, что наконец победил в себе вызванное болью бессильное раздражение, которое он минуту назад не мог сдержать и так откровенно выплеснул на Савичева.
Хоть их разговор был очень коротким, хоть вопрос Савичева о домашней хозяйке был изложен в шутливой форме и сделан словно мимоходом, — мол, он не очень интересуется этим пустяковым делом, — Костецкий понимал, что все это неспроста, что фотографирование «тигра» дело очень важное, если Савичев лично интересуется им. Костецкий подытожил телефонный разговор двумя краткими словами: «Уже скоро…»
Уже близок тот час, которого он так долго ждал.
Родион Костецкий хорошо понимал свою болезнь и лучше, чем кто-нибудь другой, знал, что дни его сочтены. Он не думал о смерти и не боялся ее. Если он и хотел жить, несмотря на постоянное страдание, так только потому, что его существование поддерживала мысль, ради которой стоило побеждать боль, заглушать ее впрыскиваниями и знаменитым чаем из пузатой бутылки ординарца Вани.
Почувствовав первые приступы болезни во время Сталинградской битвы, Костецкий упрямо отказывался лечь в госпиталь; тем более страшной казалась ему мысль оставить дивизию теперь, когда война двинулась на запад.
Костецкий знал, как быстро развиваются подобные болезни, знал, что болезнь давно жила в нем и теперь только заявила о себе постоянной болью: готовься, Родион, уже скоро…
Нет, до границы дойти у него уже не хватит времени. Но хоть до Украины, до того богом проклятого Трубежского болота, где легли остатки его дивизии после трехмесячного отхода под страшным натиском фашистов, после кровопролитных арьергардных боев, круговых оборон, ночных маршей и непрерывных контратак! Неужели он не дойдет до Трубежа, до Днепра, до его взорванных мостов?
Сразу же после Сталинграда Костецкий почувствовал себя лучше.
В марте пружина наступления ослабела, и освобожденный Харьков снова попал к фашистам. Поля и дороги раскисли и напоминали Костецкому вязкий чернозем украинского левобережья, по которому он выходил из окружения осенью сорок первого года. Фронт закапывался в землю, части перегруппировывались, пополнялись людьми и боевой техникой.
Казалось, что это короткая передышка перед новым движением вперед. Но прошли апрель и май, дороги высохли, а затишье на всем фронте продолжалось.
Стало известно, что немцы стягивают огромные резервы и готовят неслыханное по размаху наступление, чтобы взять реванш за разгром под Сталинградом и паническое отступление по всему фронту. Окончательные намерения фашистского командования не были ясны и самому Гитлеру. Он знал только, что должен наступать, что только грандиозным наступлением можно предупредить окончательный упадок боевого духа и разложения немецкой армии. Самым удобным местом была Курская дуга. Конфигурация фронта давала возможность одновременного наступления с севера и юга с целью окружения советских войск, расположенных внутри Курской дуги. На случай успеха можно было думать, как развить его дальше, вплоть до далеко идущего броска на северо-восток, в обход Москвы, что снова поставило бы советскую столицу под угрозу падения.
Дивизия генерала Костецкого держала оборону на главном направлении намеченного немцами удара, и Костецкий, как опытный генерал, не мог этого не знать. Против него стояла дивизия прославленных гитлеровских головорезов, для устрашения названная громким именем; она была только одной из многих пехотных, танковых и моторизованных дивизий, составляющих группу армий «Юг», которая должна была осуществлять замысел гитлеровского командования севернее Харькова.
Генерал Костецкий из своей землянки хорошо видел глазами дивизионных разведчиков, как готовит своих солдат к наступлению командир гитлеровской дивизии, стоявшей против него, видел, не терял времени и неутомимо руководил подготовкой своих бойцов к обороне.
Как то, что делал командир гитлеровской дивизии, было только частью гитлеровского плана, так и то, что делал Костецкий, было только частью мер советского командования, рассчитанных на выматывание, обескровливание, перемалывание и в дальнейшем, в ходе решающего движения вперед, окончательное уничтожение гитлеровских сил.
Меры Костецкого были не только мерами его дивизии, они были частью общей обороны армии, в которую входила его дивизия, и фронта, в который входила его армия, и, наконец, обоих фронтов, противостоявших гитлеровцам на Курской дуге, а также третьего резервного фронта, что сформировался у них в тылу и мог быть использован как для обороны, так и для наступления: для обороны в том случае, если бы фронты не выстояли и вынуждены были бы отступить, и для наступления, если бы гитлеровцы в ходе своего удара исчерпались, на что рассчитывало наше командование и в чем в конечном счете не ошиблось.
Хоть генерал Костецкий редко выходил из своей землянки, хоть он больше лежал на нарах, укрывшись до подбородка белым тулупом, он до мельчайших подробностей знал полосу обороны, порученную его дивизии.
Костецкий знал также, что, если его дивизия не выстоит на главном рубеже, если она пошатнется или отойдет, враг не сможет вырваться на оперативный простор, он натолкнется на армейскую полосу обороны, лежащую за ним в тылу, прикрывая пути к фронтовым рубежам обороны, которые имеют общую глубину до семидесяти пяти километров… Но и это еще не все — за рубежами двух фронтов, которые должны принять на себя удар гитлеровского наступления, лежит рубеж обороны резервного фронта, название которого в дивизии произносят шепотом, а еще дальше за ним — на расстоянии трехсот километров от переднего края — государственный стратегический рубеж, простирающийся от района Лебедяни на юг по течению Дона.
Костецкий давно примирился с мыслью, что он должен выстоять на своем рубеже и только потом двигаться вперед. Для него дело теперь заключалось в том, чтобы дождаться той минуты, когда все начнется: здесь и теперь все должно решиться.
Не Костецкого вина была в том, что он отступил от государственной границы в июне сорок первого года, не его вина была и в том, что остатки его дивизии легли на Трубежском болоте, как остатки многих других дивизий во многих других местах, но он не мог не брать и на себя части большой общей вины, на ком бы она ни лежала и какими бы причинами ни была вызвана… Тогда он видел много, теперь он знал уже все, и это знание придавало ему сил и уверенности, что не только он выстоит, но и никто не поколеблется: пусть грянет первый выстрел, для врага он будет началом конца.
Костецкий давно уже выпил свой чай и теперь снова лежал под тулупом на нарах. Свирепая кошка снова тронула его бархатной лапкой, поласкала, поиграла и вгрызлась со всем неистовством в поясницу.
— Вызывай Лажечникова, — проскрипел Костецкий, выгибаясь колесом от боли. Только перед Ваней Костецкий не скрывал своего состояния: он знал, что Ваня его не выдаст.
Знакомый голос Лажечникова возник в трубке сразу же, словно командир полка стоял где-то рядом, совсем близко, и говорил тихо и осторожно, глядя на искаженное болью лицо командира дивизии.
— Я слушаю, — сказал Лажечников.
— Что у тебя там слышно? — едва выдавил из себя Костецкий, сразу поняв, что Лажечникову тяжело с ним говорить.
— Ничего не слышно, — ответил Лажечников, — тихо, как на печи.
Голос Лажечникова звучал успокаивающе, почти ласково, но в этой успокаивающей ласковости Костецкий слышал лишь то, что хотел слышать, что ему подсказывали его боль и усталость.
«Зачем вам волноваться, — слышал Костецкий в голосе Лажечникова, — лежите себе в своей землянке и пейте чай, мы и сами знаем, что надо делать и когда тихо и когда гремит… Вы ведь давно уже не командуете дивизией, она сама собой командует — начальник штаба командует, и командиры полков командуют… Вам надо в госпиталь, мы тут как-нибудь без вас обойдемся…»
На деле же Лажечников думал совсем о другом. В кармане у него лежало письмо от сына, и он думал, что надо наконец улучить минуту и прочесть письмо, а тут все время мешают — то начинается обстрел, то приводят какую-то женщину-фотокорреспондента и надо с ней разговаривать, то звонит командир дивизии, а с ним надо быть особенно внимательным и деликатным: больной человек легко обижается.
Костецкий не мог обижаться на Лажечникова. Если он приписывал ему свои мысли, то только потому, что знал, с каким уважением относится к нему бывший лектор, случайно очутившийся в его дивизии в день, когда началась война… Трудно было тогда предполагать, что Лажечников так быстро превратится в боевого командира… И на границе хорошо показал себя, когда все спуталось, и на Трубеже… Костецкий вспомнил колыхание носилок над черным ночным болотом, освещенное вспышкой ракеты большое лицо Лажечникова, шедшего рядом.
Растроганный внезапно нахлынувшими воспоминаниями, Костецкий спросил, с трудом сдерживая волнение, которое совершенно не относилось к словам, что он произносил:
— Она уже у тебя?
Голос его прозвучал в трубке нетерпеливо и резко, Лажечников не знал, что думает в это время командир дивизии, и ответил коротко:
— Давно прибыла. Вот сидит рядом со мной.
Костецкому ответ Лажечникова показался небрежным, но отчитывать командира полка Костецкий не стал: разговор с Савичевым, боль и ненужные воспоминания утомили его… Трубка ускользала. Костецкий прижал ее щекой к подушке и заставил себя говорить.
Скрежетание голоса Костецкого полетело по проводу к Лажечникову, и из этого скрежетания, искаженного разными помехами на пути, вынырнули, как поплавки, одно за другим слова:
— Сверху интересуются… Лично обеспечь своевременное выполнение. Понятно? Ждут сегодня… У меня, все… У тебя есть что-нибудь?
— Ничего нет, — ответил Лажечников. — Будет выполнено.
— Выполняй, — всплеснулся голос Костецкого в трубке. — Понимаешь?
Больше ничего Костецкий не сказал, но и этого было довольно, чтобы Лажечников понял, что у командира дивизии есть причины так интересоваться корреспондентом, прибывшим фотографировать подбитый «тигр». Мысль Лажечникова сразу заработала в том же направлении, что и мысль Костецкого во время разговора с Савичевым, и он подумал теми же словами, что и Костецкий: «Значит, уже скоро…»
— Все понимаю, — сказал Лажечников, не отнимая трубки от уха (может, командир дивизии еще что-нибудь скажет), но в трубке только что-то потрескивало и слышалось обычное гудение, как всегда на линии. Лажечников подержал трубку еще немного возле уха и отдал телефонисту.
Обеспечить своевременное выполнение задания — приказ был недвусмысленный. Лажечников хорошо понимал всю важность задания, возложенного на фотокорреспондента Варвару Княжич, которая сидела рядом с ним в траншее, но, несмотря на это, ничего не мог сделать, чтобы обеспечить так необходимую «наверху» своевременность. Солнце уже поворачивало на запад — ничего не выйдет из этого фотографирования, он хорошо знает, где стоит танк; если фотокорреспондент доберется к нему, все равно солнце будет ослеплять глаза, напрасные хлопоты — лучше отложить все это на утро.
— А разве он не на этом берегу?
— Если бы капитан Жук пустил его на этот берег, мы с вами не сидели бы тут.
— Что же мне делать?
Стоило ли сидеть под огнем в блиндаже телефонистов, чтобы узнать, что по дороге к немецкому тапку надо еще форсировать реку! Неужели там, в штабе, не знают ничего? Или, может, их неверно информируют? Нет ничего легче — написать, что реку форсировали, танк подбили… Недаром же у этого полковника такой вид, словно он в чем-то виноват перед нею. Написал, что подбили, а теперь вывертывайся!
Она буквально поняла Лажечникова.
— Я же не могу вернуться к Савичеву без снимков, — с отчаянием в голосе сказала Варвара.
Лажечников закуривал папиросу, по привычке низко наклонившись в окопе. Воротник расстегнутой гимнастерки встопорщился хомутом, и Варвара увидела у Лажечникова на шее россыпь больших, неправильной формы рыжеватых веснушек.
Варвара невольно отвела взгляд. «Боже мой, у Саши были такие же веснушки на шее и на плечах… Что же это такое? Зачем эти напоминания в такую минуту и в таком месте? Зачем все сходится так, словно нарочно: и встреча с майором Сербиным, и эти веснушки на шее у полковника, который посылает неправильные сводки в штаб, а теперь не знает, что со мной делать».
Лажечников все еще раскуривал свою папиросу: в его сгорбленной фигуре было что-то беспомощное, и Варвара чувствовала к нему жалость, но жалость эта была смешана с неуловимой враждебностью и раздражением, которого она не могла объяснить. Еще больше раздражаясь от непонятности всего, что происходит с нею и в ней, Варвара сказала чужим, холодным голосом:
— Ну как вы хотите, а я должна выполнить приказ Савичева.
Лажечников поднял голову, затянулся глубоко и, пряча папиросу в кулаке, как сделал бы это ночью, посмотрел на Варвару полным понимания, доброжелательным взглядом.
— А вот стемнеет, переправим вас за реку, дождетесь там рассвета и сфотографируете. Все будет в ажуре.
Впечатление беспомощности, которое производил Лажечников, когда сидел согнувшись над папиросой, сразу исчезло. У Лажечникова был спокойный вид уверенного в себе человека. На нее глядело большое чистое лицо с симпатичным толстым носом и добрыми глазами, над которыми нависали кустистые брови, золотистые, с выгоревшими на солнце, совсем белыми волосками.
Лажечников старательно застегнул воротник, сидя оправил гимнастерку, в последний раз приложил глаз к окуляру стереотрубы и проговорил, как показалось Варваре, голосом специально для нее бодрым:
— А теперь мы пойдем обедать… Вы, я думаю, тоже проголодались? Артиллерийский обстрел всегда нагоняет на меня аппетит.
— Да, — ответила Варвара, которая давно уже чувствовала голод, — я с утра ничего не ела.
А Лажечников говорил уже деловым, начальническим голосом, обращаясь к кому-то третьему:
— Я на вас полагаюсь, Кахеладзе. Если что — сразу же связывайтесь со мной.
Тут только Варвара заметила, что в траншее кроме Лажечникова и телефониста был еще аккуратный лейтенант. Лицо ого с синими от бритья щеками, под широким зеленым шлемом, похожим на панцирь черепахи, казалось маленьким, как кулачок.
— Гору Тетнульд в Сванетии знаете, товарищ полковник? — ответил приятным голосом Кахеладзе, готовясь занять место у стереотрубы. — Полагайтесь на меня, как на ту гору.
Лажечников молча улыбнулся, глядя, как лейтенант с независимым видом уже устраивается на его месте.
— Давайте потихоньку за мной, — наклонился к Варваре Лажечников, — и делайте все, как я… Понятно?
— Понятно, — почему-то прошептала Варвара, наполняясь доверием к спокойному и уверенному в своей силе полковнику.
Лажечников поднялся и, напрягшись, вылез из окопа. Через минуту Варвара, низко пригибаясь и временами совсем припадая к земле, уже бежала за ним зигзагами по искалеченному недавним обстрелом кукурузному полю.
Они уже пробежали мимо блиндажа телефонистов, когда вдруг в тишине, что, казалось, надолго воцарилась вокруг, послышался орудийный выстрел. Снаряд разорвался у них за спиной — очень близко. Варвара невольно оглянулась и увидела столб земли и дыма над местом, где только что был блиндаж. Из этого столба падали в кукурузу обломки бревен, комья земли и еще какие-то темные, почему-то страшные куски. Потом дым рассеялся, и над местом взрыва в воздухе закружился белый, с рыжеватыми перьями на крыльях, одинокий голубь.
БЕС ПРАЗДНОЙ БОЛТОВНИ И ХОЛОДНОГО ЛЮБОПЫТСТВА живет в углу редакционного коридора, в затканном паутиной старом шкафу, между пустыми бутылками из-под чернил, рваными скоросшивателями, пузырьками с окаменевшим конторским клеем и картонными коробочками от кнопок и скрепок. Если б не он, этот старый распущенный бес, в редакции царила бы приличная сдержанность, свойственная любому другому учреждению, потому что вне редакции все ее сотрудники используют отпущенную им на день норму человеческих слов с определенными промежутками для отдыха языка и мысли, — а тут стоит им только сесть за свои столы, как беспокойный бес начинает дергать их за ниточки или щекотать под языком (не знаю уж, как это там у него устроено); вот и вспыхивает та болтовня, от которой вспухает голова даже у тети Насти, что сидит неподвижно, как скифский идол, у редакционного лифта и перемалывает языком десять тонн устарелых новостей и свежих сплетен в течение своего рабочего дня.
Спросите у тети Насти, что будет в воскресенье на обед у Дмитрия Лукича Пасекова, главного редактора, и какие подарки привез он жене из Гаваны, — спросите и получите исчерпывающие сведения, которые не нуждаются в проверке. Осведомленности тети Насти мог бы позавидовать любой отдел кадров, но и она была поражена, увидев перед редакционным лифтом красивую молодую женщину, следом за которой с убитым видом шел неопределенного возраста небритый юноша без фуражки, в рыжем свитере и стоптанных башмаках. Они не были зарегистрированы в феноменальной памяти тети Насти ни как штатные сотрудники, ни как безнадежные авторы, ни как случайные посетители редакции.
— Как пройти в отдел фото? — спросила Галя Княжич, пропуская в кабину своего спутника.
— Под самое небо, — пропела тетя Настя, — да коридором в конец направо, да по лестнице вниз на два этажа, как раз там оно и будет… Читать умеете? На дверях надпись, надо стучать… А что они там делают, в темноте, при красном фонаре, я уж вам и не скажу.
Дверь хлопнула, лифт пошел вверх; казалось бы, и делу конец, но бес уже дернул тетю Настю за язык — мельница пошла крутиться, теперь только подбрасывай мелево.
— Пришло их двое наниматься в фотокорреспонденты, — сказала тетя Настя художнице из отдела оформления, когда та, опаздывая по своему обыкновению, быстро простучала высокими каблуками по коридору и нетерпеливо остановилась у лифта. — Как раз вот полетели на небо… Она из себя ничего, в французской вязаной кофточке, и такая на кого-то похожая, такая на кого-то похожая, ну просто не вспомню, где я ее видела, а он такое ничто, такое уж ничто — свитерок на шее растянут, словно он с крюка сорвался… Возьмут их, как ты думаешь?
Лифт пришел вниз, и художница открыла дверь.
— А разве там есть свободные места, в отделе фото?
Тетя Настя задумалась.
— Вот и я думаю: а есть у нас места в том отделе? Ее можно бы взять, а его я бы не взяла…
В это время Галя Княжич и ее спутник уже стояли перед дверями фотолаборатории.
— Слушай, Белая Галка, — сказал юноша, — она нас не туда послала…
— Все-таки давай спросим, — ответила Галя и нерешительно постучалась.
Женский голос из-за дверей крикнул, что им неизвестно, где сейчас Варвара Княжич, а мужской добавил, чтоб не мешали работать, — справку можно получить в секретариате.
Галя Княжич и ее спутник, разыскивая секретариат, попали в машбюро. Шесть женщин разного возраста одновременно прекратили работу (это выглядело так, словно на поле боя замолкло сразу шесть тяжелых пулеметов), шесть женщин, держа пальцы над клавишами, сказали, что только ответственный секретарь может знать, где Варвара Княжич.
Художница из отдела оформления стояла в коридоре с практиканткой из отдела писем, когда Галя со своим юношей прошли к ответственному секретарю.
— Это они, — сказала художница. — Такая красавица и такой крокодил…
— Может, он талантливый, — подумала вслух практикантка.
Секретарь редакции глянул на Галю поверх толстых выпуклых стекол очков.
— А разве она еще не вернулась?
— Не вернулась, — вздохнула Галя, теребя полосатую сумочку. — Уже месяц, как от мамы ничего нет. Бабушка волнуется. Мама моей мамы, понимаете?
Она чувствовала себя в редакции, как Красная Шапочка в лесу.
— Стойте, стойте! — закричал Серый Волк за столом секретаря редакции. — А куда она поехала? Напомните, пожалуйста, это просто невероятно, но я забыл, куда мы ей выписывали командировку.
Трах-тах-тах-таратах, — сделали в это время шесть пулеметов в машбюро, и поверх этой отчаянной очереди прозвучал голос одной пулеметчицы:
— Я ее сразу узнала: это дочка Варвары Княжич — необычайное сходство.
— А этот, с нею, ее муж? — отозвалась другая машинистка: трах-тарарах-тах-тах!
— Что ты, что ты?! — ударили сразу все шесть пулеметов одной длинной очередью: тарах-тарах-тарах-тах-тах-тах!
— А почему бы и нет? У красивых женщин мужья всегда уроды.
— Трах-тах-тах-тарарах, — выстрелили пулеметы, словно подводя итог обмену мыслями, — тарарах-тах-тах!
— Она поехала с геологической экспедицией в Восточные Саяны, — удивилась Галя Княжич. — Как вы можете этого не знать?
— Совершенно верно, — пропустил мимо ушей Галино удивление секретарь. — Она всегда выбирает всякие медвежьи углы. Что же вы хотите? Это очень далеко, но волноваться нет оснований: слетала же она на полюс! Ну вот видите. Мы выясним, а вы позвоните.
Они вышли в коридор. Галя остановилась, чтобы поправить волосы, она в эту минуту была очень похожа на мать.
— Сева, — сказала Галя, — мне уже пора в мастерскую… Ты обещал побриться. Сходишь в парикмахерскую?
— Возможно, — ответил небритый Сева, — но я забыл накрыть глину мокрой тряпкой… Может, я потом схожу?
— Я боюсь, что твою «Счастливую женщину» не поймут и не примут.
— Почему?
— Слишком преувеличенные формы, и потом представь себе ее на пьедестале! Я не спорю, замысел чудесный… Но подумай сам… Нога у нее будет неприлично задрана.
Сева уткнулся подбородком в растянутый воротник свитера.
— Ее надо выполнить в мраморе и положить в парке на освещенную солнцем поляну, прямо в зеленую траву… Тогда все поймут и примут, — упрямо сказал он и пошел вперед по коридору.
— И потом, у нее нет лица, — сказала вслед ему Галя, пряча зеркальце в сумочку.
— Так я вижу, — услышала она издалека голос Севы.
— Подожди, — догнала его Галя, — раз уж мы тут, почему бы тебе не показать им «Счастливую женщину»?
Сева угрюмо молчал.
— Боишься? Я так и знала, что ты побоишься.
Скульптор сунул руку за растянутый воротник своего свитера и достал из кармана рубашки пачку фотографических снимков.
— Ни черта я не боюсь, Белая Галка, пойдем, если хочешь.
Секретарь редакции сделал вид, что не удивлен их возвращением. Он как раз беседовал с практиканткой из отдела писем. Обеспокоенная тем, что в отдел фото пришли наниматься корреспонденты, она тоже прибежала позондировать почву относительно перехода в штат.
— С чего вы взяли, что у нас есть места в штате? — лениво говорил секретарь. — Это приходила дочка Варвары Княжич спрашивать про мамочку. Бабушка волнуется… На сколько писем вы сегодня ответили?
Галя, держа в руке пачку снимков, остановилась у секретарского стола. Сева стоял у нее за спиной, сунув руки в карманы и угрюмо сверкая глазами.
— А, это опять вы! — Секретарь только теперь поднял голову, хотя давно уже видел их. — Что у вас там еще?
Галя молча протянула ему снимки.
— Вы тоже фотографируете?
— Нет, это совсем другое…
Секретарь с профессиональной быстротой просматривал снимки. Практикантка через стол заглянула в снимки и с независимым видом медленно вышла. В коридоре ритм ее шагов изменился, она пулей влетела в отдел оформления, словно за ней кто-то гнался.
— Слушай, — крикнула практикантка художнице, — он скульптор, ты что-то напутала насчет отдела фото!.. Пойди погляди!
Секретарь редакции уже второй раз просматривал снимки.
Большая женщина лежала на спине, закинув ногу за ногу, и смотрела на младенца, которого держала на раскрытой ладони поднятой вверх руки. Глиняные волосы заплывали ей под затылок, лицо было еле намечено, в глаза бросались преувеличенные формы — громадные груди, руки, бедра, особенно же ноги, будто изуродованные слоновой болезнью… Только младенец был простой, человеческий, он жмурился от солнца и казался здоровым и счастливым.
— Здорово, — сказал секретарь, безошибочно упираясь глазами в Севу и словно подтягивая его своим взглядом к столу, — только это не для нас, молодой человек.
Сева по привычке сунул подбородок в воротник свитера, словно стараясь схватить его зубами.
— Почему?
— Слишком смело, слишком откровенно… Вы знаете, какой у нас тираж? В Сыктывкаре не поймут… Ногу вы ей нарочно задрали? И в Змееве не поймут… А в Гурьеве, вы думаете, поймут?
— Вы считаете, там дураки живут? — двинулся к столу Сева, но Галя локтем преградила ему дорогу.
Секретарь обиделся. Художница из отдела оформления пришла вовремя, он небрежно протянул ей снимки:
— Как вы думаете, это можно у нас напечатать?
Художница глядела то на снимки, то на Галю, — Галя прямо похолодела от ее взгляда, — художница угадывала в преувеличенных формах глиняной счастливой женщины мягкие линии Галиной фигуры и мысленно возмущалась тем, что модель водит за собою скульптора по редакциям.
— Нет, — резко сказала художница, бросая на стол снимки, — у нас это не может быть напечатано!
Секретарь аккуратно сложил снимки и отдал пачку Гале.
Подозрения художницы были безосновательны: Галя не позировала для «Счастливой женщины», одна мысль об этом испугала бы ее. Да скульптору и не нужна была натурщица: скульптор Сева был влюблен в Белую Галку — глина выдавала его тайну.
— Почему она так смотрела на меня? — спросила Галя, когда они снова очутились в коридоре.
— Дуреха, — пробурчал Сева, — дуреха колоссальным тиражом…
У лифта стояли очень красивая сотрудница отдела литературы и известный поэт, который приходил в редакцию выяснить, почему задерживается печатание его стихов. Когда кабина подошла, они пропустили Галю и Севу — им надо было закончить разговор.
— Он, должно быть, дефективный, — сказала красивая сотрудница, имея в виду Севу, и заглянула поэту в глаза снизу вверх: он был очень высокий и худой, ходил с толстой палкой и не знал, куда ее девать. — Зачем ей было за такого выходить?
— А кто она?
Поэт переложил палку из правой в левую руку.
— Не знаю.
Поэт перебросил палку из левой руки в правую с такой быстротой, словно собирался стукнуть собеседницу по голове.
— Откуда же вы знаете, что это ее муж?
Сотрудница повела головой с видом победоносного всепонимания.
— Разве не видно?
— Мне абсолютно ничего не видно, — сказал поэт, и его худое лицо покрылось белыми пятнами. — Когда будет корректура, вы мне позвоните?
— Позвоню, только обязательно подумайте о последней строфе. Надо прояснить мысль… У нас колоссальный тираж!
Она снова заглянула поэту в глаза снизу вверх, не понимая, что смертельно обидела его: поэт был не только худ и высок, но и удивительно уродлив, он напоминал ножницы для разрезания бумаги, одетые в модный костюм.
«И такая вот дурища решает судьбу наших стихов!» — с тоской подумал поэт, мило сделал ручкой сотруднице и, не дожидаясь лифта, пошел вниз по лестнице, простукивая ступеньки своей толстой палкой, как слепой.
Потрясающая новость о том, что дочка Варвары Княжич водит за собой по редакциям скульптора, который слепил ее обнаженной из глины, в одно мгновение облетела все этажи редакции. Вот уж было работы старому распущенному бесу из редакционного шкафа! Он дергал за свои ниточки, множество языков толкло, молотило и перемалывало сенсацию на все лады, множество равнодушных голов выдумывало всякие нелепости и сразу же начинало в них верить. Сенсационная новость катилась вниз по лестнице и взлетала вверх в кабине лифта, пока тетя Настя не подвела итоги волнующей дискуссии со свойственным ей глубокомыслием и авторитетом.
— Вон какая молодежь теперь пошла! — сказала сама себе тетя Настя. — Ни стыда, ни совести. Хранцузы. — Правда, она тут же пожалела Варвару Андреевну Княжич, которую очень уважала и считала во всей этой истории безвинно пострадавшей: — За какие же это грехи ей бог такого зятька послал? Да и дочка тоже… Я ее сразу узнала, как только они подошли к лифту, — ну в точности Варвара Андреевна, вылитая мама, только характер не тот… Не тот, не тот характер!
На этом редакционный бес свернул в клубочек ниточки в своем углу, укрылся растрепанным скоросшивателем и заснул. Задремала и тетя Настя, почувствовав блаженное облегчение под языком, который хорошо наработался сегодня: лифт непрерывно ходил вверх и вниз, и всем надо было рассказать о несчастье, которое постигло такую хорошую, вежливую и добрую женщину, как разъездной фотокорреспондент редакции Варвара Андреевна Княжич, которая и на войне была, и на льдину летала, и всюду ей везло, а вот не повезло в собственной семье, — ну что вы на это скажете, граждане?
А Варвара Княжич в это время лежала с высокой температурой в палатке на берегу горного ручья и не знала о том, что у ее Гали уже есть муж, как не знала об этом и сама Галя, как не знал об этом и скульптор Сева, который называл дочку Варвары Княжич Белою Галкой, должно быть за белокурые тонкие волосы, что совсем не подходили, по его мнению, к ее имени.
Часть II
1
Из записок Павла Берестовского
Сбежав от мутных глаз Уинстона Уповайченкова в дивизию полковника Лаптева, я только через сутки вернулся в наш хутор. За это время тут многое произошло, — по правде говоря, я не ожидал такого быстрого развития событий.
В Людиной избе полновластно хозяйничал лейтенант Миня. Как черные ужи, из-под потолка свисали проявленные пленки, на полу, на листах фронтовой газеты, сохли отпечатанные фотографии. Целая портретная галерея лежала на полу — галерея женских лиц, не всегда красивых и привлекательных, но одинаково напряженных и застывших, а то и совсем испуганных черным поблескиванием объектива, от которого непривычному человеку трудно оторвать глаза.
Исключением было красивое лицо Люды, снятое с разных точек, то с опущенными ресницами, из-под которых светились большие глаза, то со взглядом широко открытым, словно удивленным, то с выражением женского всепонимания в уголках полных губ.
Миня, видно, здорово помуштровал свою натуру, хотя надобно сказать, что и у самой Люды были немалые способности к позированию: можно было подумать, что это кадры из колхозного кинофильма — так естественно и вместе с тем артистично держалась Люда перед объективом.
Миня встретил меня как старого приятеля.
— Как дела? — крикнул он, когда я переступил через порог. — Привезли полный блокнот героических эпизодов? А Уинстона не встречали? Без него я как без рук. Бывают же такие экземпляры: пока тут — все отдал бы, чтоб он куда-нибудь провалился, а без него скучновато!
Миня на какой-то немудреной машинке обрезал фотографии и небрежно кидал их на стол. С продолговатых листочков блестящей бумаги на меня исподлобья смотрело смуглое лицо Кузьмы. Аппарат подчеркнул и то, чего я не замечал раньше, — пушок мальчишеских усиков над уголками Кузиного рта.
— А он вам только для развлечения нужен, ваш Уинстон? — сказал я, наглядевшись на лицо сурового брата Люды.
Миня пропустил мой вопрос мимо ушей. Как я успел заметить, он обладал очень удобной способностью не слышать неприятных вопросов и не видеть того, что могло бы нарушить глубокий сон его совести. Относясь ко всему на свете, в том числе и к самому себе, ласково, с чрезвычайной легкостью и доброжелательностью, он считался хорошим парнем, и действительно, его натуре свойственна была широта. Правда, чаще всего она проявлялась за чужой счет, но это надо было разглядеть за его красивым лицом и горячими молодыми глазами, — не каждый хотел присматриваться.
— Вы, наверное, есть хотите с дороги? — доброжелательно поинтересовался Миня и, не дожидаясь моего ответа, закричал: — Люда, яичницу майору, да сала не жалей!
Колыхнулась ситцевая занавеска. Люда вышла из-за перегородки в новой синей кофточке, как всегда поправляя закинутыми за затылок руками кренделем уложенные на голове косы. На ее лице блуждала смущенная улыбка, в привычных движениях заметна была осторожность и скованность, словно она хотела скрыть от постороннего взгляда то, чего никак нельзя было скрыть.
Люда выглядела откровенно счастливой. Она то и дело вспыхивала, как девочка, что изо всех сил стремится скрыть свою влюбленность, но из-за чистоты натуры и силы чувства не способна притворяться, хитрить и выдает себя каждым взглядом, каждым своим словом и движением.
Это была уже совсем не та Люда, что разговаривала со святым Демьяном в ночной тени старой груши. Та Люда недоверчиво прислушивалась, словно боялась продешевить в двусмысленном торге, который навязывал ей Демьян; та Люда, что стояла ночью под грушей, знала цену и себе и Демьяну, трезво взвешивала и рассчитывала все преимущества и неудобства, которые могут возникнуть из ее отношений с Демьяном; а эта Люда, что вышла из-за перегородки в новой кофточке, ни о чем не думала, ни с чем не считалась, не знала уже цены ни себе, ни лейтенанту, который был намного моложе ее. И взгляд Люды и вся она словно говорили: «Я ничего не стою в сравнении с тобой, поэтому и не дорожу ни своей честью, ни своей любовью. Ты лучше меня, и я бесконечно благодарна тебе за то, что ты меня заметил…»
— Здравствуйте, Люда, — стараясь не смотреть на нее, поздоровался я. — Откуда у вас сало?
— Да это же все они, — качнула головой в Минину сторону Люда. — Молодухи наносили за карточки… И сало и яйца…
— А молочка у нас нет? — по-детски сложив губы, проговорил Миня. — Очень хорошо бы сейчас молочка!
— Молоко скисло, — виновато опустив руки и не зная, куда их девать, вспыхнула Люда и поглядела на Миню преданным взглядом. — Хотите, я вам простокваши принесу, товарищ лейтенант? Холодная простокваша, из погреба…
— Ну что ж, — милостиво отозвался Миня, — можно и простокваши, я не возражаю…
Люда бросилась из избы так, словно в чем-то была виновата и спешила загладить свою вину. Миня глядел на меня красивыми глазами, которые тоже словно оправдывались: «А при чем тут мы? Мы тут совсем ни при чем!»
Минины красивые глаза не выдержали моего прямого взгляда, они сначала воровато забегали, а потом со смехом признались: «Мы таки тут при чем, но разве нельзя простить нам?»
Люда внесла простоквашу в крынке, поставила на стол перед лейтенантом и отошла к перегородке. Рука ее потянулась к ситцевой занавеске. Нет, Люда не могла не оглянуться. А когда она оглянулась, ей уже было трудно оторвать взгляд от своего властелина. Так она и стояла, грудью к занавеске, глядя через плечо, как Миня взял благоговейно крынку в обе руки, припал к ней губами и начал клонить к себе, шумно глотая холодную простоквашу.
Лицо его раскраснелось от удовольствия и напряжения. Миня, отдуваясь, поставил крынку на стол. Простокваша белела у него в уголках рта, глаза блестели.
Люда вздохнула, схватившись за грудь, будто вскрикнула, и выбежала, уже не скрывая своей радостной преданности лейтенанту.
Миня кивнул ей вслед и подмигнул мне, словно спросил: «Видели? Учитесь, перенимайте опыт!» Глаза его тут же скользнули по мне, оценили с головы до ног и подвели итог: «Куда уж вам!..»
Яичница вплыла в избу на черной сковородке, которую держала тряпкой в вытянутых вперед руках Люда. Яичница сердилась и ворчала во весь голос, белок вздувался и со вздохом снова падал в растопленное сало. Райские запахи наполнили избу, устоять перед ними было невозможно. Миня нарезал хлеб, Люда принесла деревянные ложки: вилок у нее в хозяйстве не водилось. Миня сгреб со стола прямо на пол просохшие фотографии, и мы все втроем принялись за яичницу, словно никогда в жизни не приходилось нам пробовать такого кушанья. Миня мурлыкал от удовольствия, а Люда аккуратно брала ложкой небольшие кусочки и, поддерживая снизу ломтиком хлеба, несла ко рту.
— Эх, — вздохнул Миня, — хорошо было бы по чарочке ради такого случая…
Скажи он это чуть раньше, она бы лоб себе разбила, а чарочка стояла бы на столе. Может, она и сейчас бросилась бы выполнять желание Мини, но открылись двери, и в избу вошел смуглый бритоголовый паренек, в котором я не сразу узнал Кузю.
Пустая ложка задрожала в руке у Люды, она осторожно положила ее на стол и замерла, втянув голову в плечи, словно пойманная с поличным.
— А, это ты, Кузя! — закричал Миня. — Садись с нами… Карточки твои готовы.
— Спасибо, — угрюмо буркнул Кузя и прошел за перегородку.
Люда сидела, боясь пошевельнуться.
Миня молча скреб деревянной ложкой по сковородке, словно все это его не касалось. Вид у него был отсутствующий: мало ли что бывает между братом и сестрой!
Кузя выбежал из-за перегородки, в руках у него плясала большая тонкая рамочка, из которой улыбалось лицо Люды, красиво освещенное, счастливое и трепетное, будто живое.
— А это зачем? — еле сдерживая дрожь большого своего мальчишеского рта, прокричал Кузя. — А Серегина карточка? Выбросила?
Кузьма обеими руками поднял рамочку высоко вверх. Люда еще больше сжалась у стола, чувствуя, что брат сейчас разобьет рамочку о ее голову.
— Эх ты… паскуда!
Кузя грохнул рамочкой об пол, да так, что брызги стекла разлетелись во все стороны, и выскочил из избы. Люда бросилась было бежать за ним, но от дверей повернула за перегородку, оттуда послышался ее громкий плач, приступы которого походили на икоту.
Миня послушал с минуту, держа ложку над сковородкой, потом с безразличным видом нагреб шкварок на кусок хлеба.
— Что ж вы не едите? Яичница остынет.
И добавил:
— Перемелется… Мальчуган с норовом.
Я ничего не сказал, взял свой планшет с блокнотом и пошел из избы. Меня провожали всхлипывания Люды.
Уже спускались сумерки, чистое высокое небо словно излучало печаль, неслышной тяжестью ложившуюся на душу. Я особенно остро почувствовал бессмысленность всего, что происходило на моих глазах. Какое мне дело до этих людей и их мелких дел? Пусть делают что хотят, у меня хватает своих забот, и не только с разведчиком Иваном Перегудой и сердитой редакцией.
Кузя лежал, уткнувшись лицом в сгиб руки, на сене в углу двора. Мальчишеский локоть его остро выдавался. Наголо обритая голова его была светло-сиреневого цвета. Он угрюмо сопел и долго не отзывался на мои попытки заговорить. Наконец, насопевшись вволю, паренек сел на примятом сене и вытащил из кармана штанов треугольник письма с написанным карандашом, еле видным адресом и черным жирным штемпелем военной цензуры.
— Прочитайте, так и будете все знать, — протянул мне Кузя письмо и снова упал на сено.
Я развернул треугольничек и разгладил его на колене. Письмо было написано женской рукою и адресовано Людмиле Кащеевой.
«Пишет вам из госпиталя медицинская сестра Клавдия Семизвон, поскольку мне доводится выхаживать раненого вашего мужа Сергея Тихоновича Кащеева. Сам он из-за своего ранения писать теперь не может, передает низкий поклон и просит не убиваться. Живой будет непременно, хоть не буду от вас, Людмила, скрывать, ранен он очень тяжело. Ну какая бы ни была тяжелая рана, а все легче смерти. Так что просит ваш муж Сергей Тихонович, чтоб вы себя соблюдали, а он себя всегда соблюдал, и на него вам обижаться не придется. Как вернется, — может, недолго уже того и ожидать, — все будет, как в прежнее время. Ну, больше писать нечего. Незнакомая вам Клавдия Семизвон. Да вот еще забыла написать, что Сергей Тихонович ранен в правую руку, но работать сможет, так что вы не волнуйтесь. До свиданья. Клавдия».
Я свернул треугольничек и положил у Кузиной головы.
— Когда ты получил письмо, Кузя?
— Сегодня утром. Встретил Маню-почтальона. Передай, говорит, Людке от мужа радость… Читали про ту радость? Клавдия эта все неправду пишет, про руку… Отчекрыжили ему руку, разве я не понимаю? Это он, чтоб не было неожиданности для Людки, подготавливает ее…
— Люда знает про письмо?
— А ей теперь не до Сергеевых писем, покатилась с горки, как дырявая бочка. Перед святым Демьяном устояла, не поддалась на стропила, а тут за какую-то паршивую карточку…
— Надо все-таки отдать ей письмо.
— Отдам, пускай у нее немного чад из головы выветрится. Не могу я обухом по голове, хоть она и сучка…
Я удивлялся немальчишеской мудрости Кузи и силе его переживаний. Видно, хорошим человеком был Серега, что сумел так расположить к себе жениного младшего брата.
— Хороший парень Серега? — думая сделать парнишке приятное, спросил я.
Кузьма поднял ко мне лицо, уже плохо видное в сгустившихся сумерках.
— А разве не все равно, хороший или нехороший? Должен быть для нее хорошим, раз он на войне.
Кузьма замолчал и снова лег на сено — теперь уже навзничь, говорил он прямо к небу, к тем еще неярким звездам, что начинали загораться в нем.
— Эх, сучка она, сучка и есть… Что тут долго разговаривать. Я бы на его месте вернулся и застрелил ее из поганого ружья!
Как всегда со мной бывало, чужая боль помогла мне понять мое собственное состояние, шаткое и не до конца выясненное.
Возвращаясь от Лаптева, я заглянул на полевую почту. В моем планшете тоже лежал треугольничек письма. Отдавая его мне, стриженая девушка, некрасивая, с тоненькой, бледной шейкой, сказала: «Вот вы и дождались…»
Аня писала своими большими детскими строчками, расползавшимися во все стороны на листке плохой бумаги, о чем угодно: о спектаклях своего театра, о городе, в котором теперь находилась с гастролями, о госпиталях, куда ездила с концертами для раненых; все было в ее письме, не было только моей Ани, какой я привык ее помнить эти два бесконечно долгих года. Мы поженились за год до войны. Аня только что окончила театральный институт и сыграла первую роль на сцене. По правде говоря, и роль была не из лучших, и играла она так себе, и все же я всегда вспоминал тот вечер, когда, ни живой ни мертвый, ожидал ее у артистического выхода с букетиком цветов в холодной от волнения руке. Мы медленно и молча брели в нашу небольшую квартиру у Ботанического сада. По утрам, просыпаясь, хорошо было смотреть из окна третьего этажа на верхушки деревьев, что казались большим, разнообразно зеленым бугристым полем. На окне стоял аквариум с двумя золотыми рыбками — единственная вещь, кроме маленького чемоданчика, с которой Аня пришла от родителей ко мне.
Кузя всю ночь вздыхал во сне, и я хорошо понимал его вздохи.
Проснулись мы от крика в нашем дворе. Солнце едва взошло, поросший травою двор еще был покрыт капельками мелкой седой росы. У колодца, пошатываясь, стоял святой Демьян. Ноги его покрывала тень от избы, лысина блестела на солнце, он ловил руками воздух и кричал во все горло:
— Людка, выходи! Выходи, говорю, насчет стропил договоримся!
Демьян был пьян как стелька. Пьяны были не только его непослушные ноги и тяжелые руки, которыми он пытался опереться на воздух, — пьян был даже серебряный венчик волос вокруг Демьяновой красной лысины, пьяной бессильной злобой были налиты и молодые его, горячие глаза.
— Но хочешь, чтоб я тебе стропила ставил? Не хочешь? — кричал Демьян, все больше распаляясь. — А кто ж поставит, ежели я один плотник на все село? У меня и сухое дерево припасено. Выходи, Людка, договоримся!
Ответа не было. Демьян колесом покатился по двору, чуть не вспахивая его лысиной. В руки ему попала какая-то чурка, он закачался, выпрямляясь, и швырнул ее в окно Людиной избы; к счастью, чурка попала в стену, отскочила и вернулась, как бумеранг, к его ногам.
— На калачи потянуло? По ахфицерам пошла, праститутка! — закричал Демьян, снова нагибаясь за чуркой.
Люда появилась на пороге босая, в красивой праздничной юбке и кофте, с красиво уложенными на голове косами, во всей своей влюбленной красоте.
— Дурень, — негромко сказала Люда, сложила руки под высокой грудью и оперлась о дверной косяк. — Чего ты орешь, дурень?
Огонек холодного презрения светился в ее прищуренных глазах, Демьян заметил его, возмутился до глубины души и забормотал:
— Бога нашего продала, праститутка… Всю христианскую нацию с иудеем проспала! А я тебе уже новое имя приготовил… Была бы ты у меня не Людка, а Светлана, праститутка господня, убей тебя бог!
— Ох, как он ее! — горячо прошептал над моим ухом Кузьма. — Значит, сговорил-таки Демьян Людку в свою секцию, раз новое имя приготовил.
— Дурень, — еще спокойней сказала Люда и не плюнула, а сделала вид, что плюет в сторону Демьяна. — Сам ты первый христопродавец на весь свет! Плевала я на твоего немецкого бога… Не убий! Он наш колхоз дотла разорил, хлеб забрал, скотину порезал, а ты его не убий? Он жен с мужьями разлучил, а ты его милуй? Холуй ты немецкий, и бог у тебя холуйский, вот что я тебе скажу, Демьян, а ты пойди да утрись!
— Молодец, Людка! — крикнул Кузьма, хватая меня за руку, а Люда продолжала так же спокойно, будто лекцию читала, а не обиду и злость срывала на Демьяне:
— Все люди — братья!.. Это значит, и твой немец мне брат? Что от моего Сереги писем нет, то не твоего брата заслуга? Что, может, он уже в сырой земле лежит?
Люда так решительно отвергала упреки Демьяна в неморальности ее любви, так убедительно переводила разговор в рамки иной, высшей морали, что Демьян только рот разевал.
— Ты помолчи, проповедник! — Тут Люда впервые отделилась от косяка и потрясла темными кулаками перед своим лицом (она словно предупреждала Демьяна: «Не тронь моего, а то я тебе и не такое еще скажу!»). — Ноги у бойцов убитых рубить, да в печке размораживать, да сапоги в Курск на базар возить — это кто же тебя учил? Бог твой немецкий?
— Будь ты проклята, сатана злобная! — завопил Демьян, поднимая руки над белым венчиком своих святительских волос.
За плечами Люды выросла фигура Мини. Он был в голубых носках и тапочках; ослепительно белая нижняя сорочка, заправленная в синие галифе, пузырилась на его груди, красивое лицо с черными тонкими усиками смеялось. Миня сделал страшные глаза, выбросил вперед руку с торчащим, как револьвер, указательным пальцем и сказал:
— Пу!
Демьян оторопел, угрожающе поднятые его руки упали и повисли вдоль тела; не оглядываясь, он пошел со двора. Миня обнял Люду за плечи и повел в избу.
Кузьма громко вздохнул и отпустил мою руку. Только теперь я почувствовал, какие железные пальцы у этого пятнадцатилетнего паренька, — рука моя будто побывала в клещах. Может, это гнев и презрение, бушевавшие в мальчишеской душе, придавали его пальцам такую силу, а может, он просто был силен не по годам.
— Два сапога пара! — сказал Кузьма уверенно, словно подытожил что-то в своих мыслях, встал и пошел к колодцу умываться.
Какая-то особенная уверенность в то утро чувствовалась во всех его движениях. Он ловко вытащил и вылил на себя ведро воды, вытерся рубашкой и повесил ее на плетень — сохнуть. Голый до пояса, он стоял посреди двора как воплощение мальчишеской решимости, независимости и мудрости.
Камуфлированная под цвет выгоревшей травы и рыжей земли «эмка» подъехала к нашему двору и уперлась помятым буфером в ворота. Кузя взглянул на меня и побежал открывать. «Эмка» вползла во двор, дверцы открылись сразу на обе стороны, я успел заметить, как с одной стороны показались длинные ноги в новых хромовых сапогах, с другой — блеснуло золотом и стеклом очков бледно-серое лицо под офицерской фуражкой… За лобовым стеклом машины я узнал выпуклые глаза и монгольский, приплюснутый с висков череп Пасекова.
Наконец наши пути снова сошлись! Спутники Пасекова давно уже вышли из машины и теперь выбрасывали на траву свои вещмешки, чемоданы и полевые сумки, я не обращал на них внимания. Пасекова я любил, я был обязан ему жизнью… Я забыл, что он не отвечал на мои письма, так, словно мы не лежали вместе на острове посреди Трубежского болота, будто не месили вдвоем разбитыми сапогами осенний чернозем на глухих дорогах от Яготина до Валуек, — я помнил в эту минуту только чердак Параскиной хаты в селе под темными осокорями над оврагом и слышал твердый голос моего приятеля, тот голос, которым он сказал Параске свое «нет».
Пасеков приближался ко мне, широко раскрыв объятия; щербатый рот его улыбался знакомой улыбкой.
— Ну вот мы и встретились! — кричал Пасеков еще издалека. — Это только гора с горой не сходится!
Мы обнялись, он уткнулся подбородком в мой погон и лупил кулаками в спину, потом отклонялся, держа меня за плечи, всматривался в лицо и кричал, словно я был глухой:
— Под кого у тебя усы? Что-то я не пойму!.. Ты думаешь, тебе хорошо с усами? Нет, вы посмотрите, усы!
Усы я ему простил ради первой встречи — стоило ли обращать внимание на такие мелочи, — к тому же они и вправду выглядели смешно, я это знал. И все же меня поразила чрезмерность, с которой он проявлял свою радость.
В его возгласах и объятиях слышалась какая-то неестественность, наигранность… Заподозрить моего приятеля в неискренности я не мог, потому что хорошо знал его, хотя знал совершенно не таким. Впрочем, знал ли я его? Мы подружились в чрезвычайных обстоятельствах, когда проявляются самые лучшие или самые худшие свойства человеческого характера, а когда эти чрезвычайные обстоятельства окончились, разошлись каждый в свою сторону.
— Знакомьтесь, — сказал Пасеков и ткнул меня кулаком в бок. — Этот длинноногий журавль — Дубковский… Мы его подобрали на дороге, разбил вдребезги машину, шофера пришлось сдать в госпиталь… А в очках — наш знаменитый Мирных, слыхал о таком?
Неудивительно, что только теперь я узнал Дубковского: ведь мы с ним встречались один только раз — под бомбами в Старом Хуторе. Мне показалось, что он стал еще выше и что лицо у него еще больше потемнело.
Дубковский сдержанно улыбнулся мне, — как я позже понял, это было не так уж мало.
Близорукий тонкогубый Мирных молча сжал мою руку и дернул так, словно решил вырвать ее из плеча, — я не ожидал такой силы от знаменитого, но тщедушного с виду журналиста.
— Не начали без нас свадьбу? — громче чем нужно спросил Пасеков и снова ткнул меня кулаком. — Ну ничего, раз мы приехали, значит, скоро начнется! Только нас и ожидают.
Дубковский криво усмехнулся и промолчал; а Мирных впервые раскрыл свой тонкий рот и раздраженно прошипел:
— Ну, хватит, Димочка! Давайте будем устраиваться…
У старой Александровны, соседки Люды, изба была свободна. Я и повел их к Александровне, — кстати, плетня между нашими дворами не было: еще при немцах его разобрали на топливо.
Все это продолжалось не более пяти минут, но эти пять минут так всколыхнули меня, что я сразу словно стеной отгородился от всего, что так волновало меня в последние дни.
Мелкими и неинтересными казались мне теперь мои столкновения с Иустином Уповайченковым; Люда, святой Демьян и лейтенант Миня уже не стояли все время перед моими глазами — какое мне дело было теперь до них, до охватившего их безумия! — переживания малолетнего мудреца Кузи тоже уже не трогали меня, я готов был вместе с лейтенантом Миней думать, что паренек с норовом, что перемелется — мука будет… Более того, встреча с Пасековым разбудила во мне столько разных мыслей и воспоминаний, что я совсем забыл про Варвару Княжич, о которой много думал в последние дни.
Разве что письмо Ани не выходило у меня из головы, очень милое и почти нежное письмо, лежавшее в моем планшете вместе с недописанным очерком о разведчике Иване Перегуде… Оно не принесло мне облегчения.
2
Солнце уже зашло, но еще не совсем свечерело, небо сквозь ветви просвечивало пятнами потемневшей лазури.
Лажечников шел впереди уверенной походкой человека, которому дорога давно и хорошо известна.
Варвара не отставала. После обеда она отдохнула немного — не поспала, а полежала недалеко от блиндажа полковника на ворохе скошенной и привядшей лесной травы, которую кто-то бросил в кустах. Заснуть она не могла. Встреча с майором Сербиным слишком взволновала ее, к тому же трудный день уже кончался, а она все еще шла к танку, снимок которого так нужен был в штабе.
— Стемнеет, переправим вас к капитану Жуку, — сказал полковник Лажечников после обеда, — а пока что отдыхайте… Сфотографируете на рассвете.
Варвара лежала в кустах до темноты и глядела в небо между вершинами деревьев. Колыхание тонких ветвей вверху, шелест листвы, которая на фоне светлого неба казалась не зеленой, а темно-синей и даже черной, не успокаивали, будили в сердце горькую тревогу… Было в этом тревожном колыхании что-то от неровного ритма колыбельной, от той нехитрой песенки, которая осталась в памяти с детства, — она слышала эту песенку от матери и сама потом пела ее Гале:
Спи, дитя мое, усни, Сладкий сон к себе мани! В няньки я тебе взяла Ветер, солнце и орла…Варвара мысленно пела эту песню, не зная, как не знала того и ее мать, что песня эта прилетела издалека, чтоб склоняться и над ее колыбелью и над колыбелью Гали. Хоть Варвара не знала, откуда взялась эта песня, слова и мелодия песни всегда волновали ее. Была в ней какая-то незнакомая тревога, которая не могла родиться в Тарусе, в милой Тарусе березовых рощ, полотняных небес и деревянных домиков.
Может, за незнакомую тревогу и любила Варвара эту песню, и Саша любил, когда она пела ее Гале, потому что и он знал про солнце, ветер и орла от своей матери.
Саша… Она, как и всегда, искала ответа на вопрос: почему так случилось, что Саши уже нет в ее жизни? Кто-то должен ей ответить, кто-то знает, почему Саши нет, а есть майор Сербин, — знает, но молчит…
Варвара снова увидела себя в блиндажике телефонистов рядом с Сербиным.
— Что это было… тогда? — мысленно спросила Варвара.
— Не знаю… Никто не знает, — снова ответил ей майор Сербин.
За кустами слышались тихие голоса: один, ровный, усталый, принадлежал, должно быть, пожилому человеку; другой был высокий, упрямый, молодой. Высокий голос допытывался, ровный устало отвечал, но и ответы ровного голоса звучали как вопросы.
— Прямого ответа спрашиваешь? Вот так, в двух словах, чтоб все ясно стало как дважды два? — говорил ровный голос с остановками почти после каждого слова, словно боролся сам с собой. — Думаешь, я знаю такой ответ?
— Больше меня вы знаете, во всяком случае, — настаивал звонкий, упрямый голос, и чувствовалось, что он не отстанет, пока не добьется своего.
— Потому что я старше?
— Хотя бы и так. У вас опыт.
— Опыт не ум.
— Этим вас тоже бог не обделил.
Ровный голос недовольно хмыкнул, наступило молчание. Варвара напряженно прислушивалась, хоть ей и стыдно было слушать разговор людей, которые не знают, что их слушают, и, наверно, не хотят, чтобы их слышали. Но она не могла себя побороть, чувствуя, что и они ищут ответа на ее вопрос, — должен же кто-то на него ответить открыто и честно, иначе вся жизнь теряет смысл.
— Я тебе вот что скажу, — вздохнул ровный голос, — а ты уж сам думай… Много нас погибло за эти два года, но куда большие потери были у нас до войны.
— Вы думаете?
— Дело не в абсолютных цифрах.
— Так в чем же?
Был у меня приятель, а если прямо говорить — друг. Помытарили меня за него… Мы называли его раком-отшельником. Работал он в одном научно-исследовательском институте, его там все время прорабатывали за то, что не своими делами занимается… Ходил небритый, в каком-то потрепанном костюмчике, дневал и ночевал в своей лаборатории. Жена от него ушла к одному актеру: красиво умел повязывать галстуки и лицом был, как поросенок, розовый… Ну, не в этом дело. И была у моего приятеля одна идея. Осуществи он ее — но было бы у нас таких потерь… Но в один, как говорится, прекрасный день вызвали меня куда следует и спросили: что вас связывало с врагом народа имярек?
— Погиб?
— Я это к вопросу об абсолютных цифрах: посчитай, сколько нас гибнет сегодня, потому что вместе с ним погибли его знания, его светлый ум.
— Он был в чем-то виноват?
— А ты?
— Боюсь, что виноват.
— В чем?
— Думаю и не могу не думать о том, что было.
— Все мы думаем.
За кустами смолкли. В тишине слышался только шелест листвы. Подняться и уйти Варвара не могла — не только потому, что боялась обнаружить себя, — они еще не все сказали, эти люди за кустом, — может, они знают ответ на ее вопрос… Старший, наверное, знает, но он так осторожно говорит… Боится?
— Ты не отчаивайся, — сказал старший. — Разобьем Гитлера, кто тогда будет сильнее нас? Построим коммунизм, а то, что было, забудется.
«Нет! — крикнула про себя Варвара, испугалась, что ее мысль услышат, и прикрыла ладонью плотно сжатые губы. — Не забудется!»
Захрустел валежник, зашуршали кусты, потом все стихло. Варвара лежала неподвижно, напряжение услышанного чужого разговора обессилило ее. Они не думают или не говорят до конца, останавливаются на какой-то грани, перейти которую у них не хватает смелости… И она тоже каждый раз останавливает себя у той крайней черты, за которой начинается сомнение.
Думать об этом Варваре было тяжело — сразу же с общим большим вопросом связывался ее личный вопрос, который хоть и был для нее самым большим, но, возникая рядом с общим, начинал казаться маленьким и несущественным. Саша, Саша… Она не могла бы сказать, что его гибель повлекла за собой бесчисленное множество других жертв, — в конце концов, Саша был обыкновенным человеком… Но разве обыкновенность оправдывает его гибель? Измученная своими мыслями и всем услышанным, Варвара до боли сжала веки и словно провалилась в какую-то пропасть.
Она долго не могла понять, что хочет от нее худощавый высокий боец в гимнастерке с короткими для него рукавами, который в сумерках появился из-за орешника, раздвинув ветки руками и забелев между ними длинным немолодым лицом.
— Лажечников? — проговорила Варвара, с трудом просыпаясь. — Ох, Лажечников… Значит, уже пора? Я, кажется, задремала.
— Извините, что разбудил, — сказал солдат, когда Варвара поднялась. — На войне сон милее всего. Может, кого из своих видели… Начальству до этого дела нет.
Лажечников ждал Варвару у своего блиндажа. Он сделал несколько шагов ей навстречу, суровый, чем-то озабоченный, и проговорил почти без всякого выражения, словно выполняя обязанность, до которой ему мало дела:
— Отдохнули? Надо быть на месте, пока не взошла луна… Вас когда ждут в штабе?
— Я должна была бы уже вернуться.
— Ну ничего, завтра в это время вернетесь… Пошли.
За деревьями и кустами чувствовалось присутствие людей, звучали приглушенные вечерние голоса, виднелись неясные фигуры, силуэты машин, потом все это кончилось, глубокий сумрак и тишина леса окутали их. Казалось, что они отошли очень далеко не только от расположения штаба полка, но и от самой войны. Казалось, что война словно отодвинулась, отошла куда-то вдаль, как только они миновали темную фигуру часового, что осторожно покуривал из рукава пахучую махорку, — но это лишь казалось… Весь лес был наполнен войною, только она спала в эту минуту или притворялась, что спит, и выдавала себя то неожиданными тихими голосами, то вспышкой цигарки, освещавшей небритое солдатское лицо, то усталым храпением бойца, который, прислонясь головою к пеньку, спал на прошлогодней перепревшей листве и все время тянул на себя шинель, не спасавшую от лесной сырости.
Неровная тропинка вела их между деревьями, вводила в полные прохлады темные овражки, по дну которых бежала вода, заставляла снова карабкаться на крутые склоны, хватаясь за скользкие ветки кустов, оступаться, останавливаться на минутку, чтобы передохнуть, и снова идти вперед. В вершинах деревьев давно уже светились звезды. Становилось все темнее, мягкая тропинка скрадывала шаги.
Между деревьями возник холодный зеленовато-серебристый свет, он мерцал у самой земли, колыхался, воздух над ним струился, лишь где-то вверху сливаясь с влажной тьмою. Таинственность этого холодного струящегося света поразила и взволновала Варвару. Она остановилась, охваченная жутким очарованием.
— Что это такое? — почти испуганно, громким шепотом спросила Варвара.
Лажечников тоже остановился, они стояли рядом на тропинке, касаясь друг друга плечом.
— Гнилые пни, — чужим, сдавленным голосом ответил Лажечников. — Только и всего, товарищ корреспондент… Действует?
Тревогой, непонятной печалью, внутренним смятением прозвучали его слова. Варвара почувствовала, как неожиданно грозно заколотилось сердце у нее в груди, как тесно стало дыханию, закрыла глаза и подумала: «Саша, спаси меня!»
Лажечников коротким покашливанием прочистил неожиданно охрипшее горло.
— Вы не устали? Надо спешить.
Варвара снова шла за ним по тропинке, все еще не понимая, что коснулось ее души на сказочной поляне, освещенной фосфорическим пламенем гнилых пней. Она отказывалась объяснить простыми и понятными причинами это холодное и прозрачное пылание, что струилось и, казалось, уходило от земли вверх, к темному шатру ночных деревьев. Конечно, она понимала, что тут действовали только известные естественные причины, и ничего больше, но ей недостаточно было понимания этих естественных причин для того, чтоб объяснить свой неожиданный испуг, горькое смятение, трепет души, который внезапно проснулся в ней, и ту тревогу, непонятную печаль, что прозвучали в сдавленном голосе полузнакомого ей, совсем чужого Лажечникова.
Варвара чувствовала, что его тревога передается и ей, что в этой тревоге таится много страшного, ей ненужного, но она не могла сопротивляться этой тревоге, отступала перед ней и давала ей овладеть своею душой, словно победа ее была заранее предопределена и неизбежна.
Гнилые пни давно уже остались позади. Тропинка начала сползать вниз по крутому склону, деревья расступались, открывая простор темного, усеянного звездами неба. Они вышли в поросший кустами овраг.
Из-за кустов возник боец и преградил им дорогу. Лажечников сказал пароль, боец отстранился и пропустил их вперед.
— На тот берег, товарищ полковник? — сказал боец, идя следом за ними. — Что-то очень тихо сегодня…
— Зато днем какой концерт был, — дружелюбно ответил бойцу Лажечников.
— Верьте моему слову, товарищ полковник, немец не спит, готовится…
— А мы тоже не дремлем… Где тут лодка?
— А вот сюда, товарищ полковник, немножко левее…
Они уже шли по берегу реки, такой медленной и спокойной в эту глухую ночную пору, что ее совсем было бы не слышно, если б не дыхание прохлады, поднимающейся от воды.
Что-то темнело высокой стеною в той стороне, куда боец вел Лажечникова и Варвару. Запах тут был совсем не тот, что в лесу, и почва под ногами внушала доверие — твердый, утоптанный песок скрипел под сапогами, как снег на морозе.
— Эй, Данильченко, — тихо позвал боец, — лодку полковнику!
Темная стена с сухим шорохом раздвинулась, плеснула вода, лодка бортом подошла к берегу. Разбуженный движением лодки камыш дохнул на Варвару своим особым запахом, в котором и ночью отзывалась перегретая солнцем тинистая вода.
— Ну давай, Данильченко, — сказал Лажечников, когда они вошли в лодку. — Много рыбки поймал сегодня?
Данильченко оттолкнулся от берега.
— Да какая уж тут рыбка, товарищ полковник! С вечера два линька, а то все пескари да красноперка…
Голос у невидимого Данильченко был сильный и веселый, ему, верно, больших усилий стоило сдерживаться и говорить шепотом.
— Рыба мир любит, ей теперь тоже деваться некуда… Плывет по воде, брюшком кверху. Наверное, немец где-то бомбил реку.
Данильченко вздохнул и тихо повел лодку бортом к берегу.
— Ну вот, теперь уже совсем близко, — сказал Лажечников, выскочил из лодки и взял в темноте Варвару за руку.
И только теперь Варвара словно проснулась и вспомнила, куда и зачем она шла. Необычайность этой ночи заслонила от нее, словно какой-то завесой, то главное, ради чего она очутилась тут. Теперь это главное снова возникло в ее мыслях, и Варвара снова вся подалась ему навстречу. Она чувствовала себя виноватой в том, что, идя по лесу, не думала о главном, а просто жила, отдаваясь течению жизни, как отдается силе воды пловец, который на время перестает бороться с волнами и лежит, отдыхая, на спине.
«Ничего, — пробовала успокоить себя Варвара. — Главное начнется, когда рассветет. А гнилые пни забудутся… А если не забудутся сами по себе, то я заставлю себя забыть их. И все будет просто и хорошо. Надо только ни о чем не думать и сосредоточиться на главном».
В темноте к ним приблизился голос:
— Товарищ полковник? Давно уже вас жду.
— Жук?
— Собственной персоной. Вы не один?
— С корреспондентом. Имеет приказ сфотографировать твоего «тигра».
— Дело хорошее, пускай фотографирует.
У Жука голос был въедливый, язвительный. Варвара подумала, что многих людей на войне она знает только по голосам — встречалась и говорила с ними в ночной темноте на передовой и никогда не видела при свете солнца, не знала, как выглядят эти люди, не могла даже представить. Вот и обладателя этого язвительного голоса, увидит ли она его днем? Тех, что разговаривали за кустами, наверное, не увидит, а если и увидит — не узнает…
Об этом не стоило думать.
Жук уже вел их вверх по крутому склону. Варвара шла сзади и прислушивалась к коротким фразам, которыми он обменивался с Лажечниковым. И в том, как деловито и сухо звучали голоса Жука и Лажечникова, Варвара тоже ощущала приближение того главного, о котором она забыла в лесу и решила теперь не забывать.
Наверху остановились.
— Знакомьтесь, — сказал Лажечников.
Варвара протянула руку и в темноте наткнулась на руку капитана Жука.
— Не боитесь?
— Нет, — тихо ответила Варвара.
Жук сказал:
— Тогда надо торопиться к бронебойщикам. Взойдет луна и испортит нам все дело.
3
Приезд Пасекова, странно непохожего на того старшего политрука, который мог рисковать жизнью ради полузнакомого человека, решительно изменил и без того запутанное движение мыслей Павла Берестовского. Если продолжать это сравнение, приезд Пасекова словно перевел мысли Берестовского с одного пути на другой и заставил их двигаться в противоположную сторону, все дальше и дальше от их теперешней встречи, словно Берестовский только в прошлом мог найти объяснение той перемене, что произошла с человеком, которому он, по собственному признанию, обязан был жизнью.
Сентябрь первого года войны стоял сухой и теплый. Небо над тополями и крышами маленького левобережного городка плыло прозрачное и высокое, нестерпимой синевы, которую еще не выбелило приближение осени. Опрятные мазанки скрывались в вишенниках окраины, и даже ночной сумрак не мог погасить мелового блеска их стен. В стороне от наполненных тонкой пылью ухабов магистрального грейдера, по которому днем и ночью в обоих направлениях шли тысячи машин, было тихо и спокойно — так спокойно и так тихо, словно за Днепром не было войны, словно там, на правобережных высотах, не шли кровопролитные бои и тысячи людей не оплачивали своей кровью каждый час задержки фашистского наступления.
Возвращаться в обманчивую тишину соломенных стрех этой окраины Берестовскому было тяжелее, чем выезжать на передовую. Он не искал опасности, но на передовой перед ним во всей своей откровенности раскрывалась действительность войны — знать ее было легче, чем не знать.
Берестовский, закинув руки за голову, лежал на шинели под вишней, когда его вызвал редактор. Котелок с гречневой кашей, в которой торчала деревянная ложка, стоял возле него с одной стороны, с другой — лежала толстая тетрадь в дерматиновой обложке. Берестовский мрачно скреб карандашом небритый подбородок, строки оптимистического стихотворения, которое через час должно было пойти в номер, расползались и ускользали из памяти, их нельзя было уловить и записать… Столкновение с полковым комиссаром Курловым не выходило у Берестовского из головы, как ни старался он уверить себя, что не боится последствий этого столкновения. Берестовский не кривил душой. Он вообще решил ничего не бояться с той минуты, когда в подвале политуправления округа надел военную форму. Ему было безразлично, чем заниматься на войне — писать стихи для армейской газеты или лежать в окопе на передовой с бутылкой зажигательной жидкости под рукой. По многим причинам лежать в окопе было бы для него легче.
То, что чувствовал Берестовский, лежа под вишней, и вправду не было страхом перед комиссаром Курловым, — это было совсем другое чувство.
Впервые Берестовский познакомился с этим чувством, когда ему было десять лет. Он шел лесом, неся на спине большой мешок сосновых шишек, за которыми его послала мать. Было весело и радостно ступать босыми ногами по сухой хвое. Между высокими соснами просвечивало синее небо, пахло смолой, воздух был густой и неподвижный, словно большая печь дышала на него сухим теплом. Наклоняясь на каждом шагу за шишками, он не заметил, как небо потемнело, удушающий запах смолы стал забивать дыхание, неподвижные сосны качнулись, гром расколол небо, и хлынул ливень. Он побежал, высокие сосны скрипели, раскачивались, как камыш. Молния расколола старую сосну, разрезала ее, словно ножом, на две половины, каждая упала в свою сторону, обнажая разорванные волокна желтоватой древесины. Он остановился, почувствовав свое бессилие перед неистовством слепой стихии, которая не только не хочет, но и не может считаться с ним из-за своей силы и слепоты.
То, что он пережил тогда впервые, можно было назвать только скукой, невыносимой, тупой, однообразной скукой, да еще, может, немного нетерпением: если уж что-то должно случиться со мной, если это что-то должна сделать слепая сила, что ломает такие высокие и мощные сосны, пусть это что-то случится по возможности скорее!
Давнишняя детская скука с новой силой охватила Берестовского, когда он подумал, что редактор вызывает его в связи с Курловым. Нужно идти, никуда не денешься, только бы не наделать снова глупостей и держаться с достоинством, а там будь что будет.
Берестовский не прямо зависел от Курлова — полковой комиссар был начальником его редактора. Курлов самозабвенно любил армию и слепо верил в незыблемость военной доктрины, согласно которой война, в случае ее возникновения, должна была проходить на вражеской территории и малой кровью. Он не мог ни понять, ни оценить сразу всего, что произошло в первые месяцы войны. Что-то сломалось в нем. Курлов опустился, запил и, бессильный остановиться в своем падении, вымещал злость на подчиненных. Особенно не любил он армейских писателей. Маленького Курлова все боялись: никогда нельзя было знать, что шевелится под его неправильным, угловатым черепом, покрытым бесцветными, слежавшимися волосенками. Курлов всех считал трусами, писателей особенно — они ему не нравились уже тем, что умели видеть и понимать людей.
Собственно, Курлов был бессилен, сильной была его высокая должность, но он был слеп, поэтому сила его должности, которой он не мог разумно пользоваться, становилась страшной.
Курлов приказал Берестовскому составить листовку в стихах о храбром пулеметчике, который один прикрывал отход своего батальона под натиском превосходящих сил противника. Листовку набрали. Берестовский понес ее на подпись. Маленький Курлов долго читал и перечитывал листовку, на столе перед ним лежала куча карандашей. Вдруг он крякнул, не глядя протянул руку, на ощупь выбрал из кучи самый толстый карандаш и зачеркнул две последние строчки стихотворения, которые Берестовскому казались самыми лучшими. Это было бы еще полбеды, но Берестовский с ужасом увидел, что Курлов том же жирным красным карандашом вписал на место вычеркнутых строчек что-то совсем неуклюжее и непохожее на стихи. Берестовский, стараясь быть спокойным, сказал:
— А это уж совсем ни к чему, товарищ полковой комиссар.
Курлов, не подымая головы, написал в верхнем левом углу листовки «Печатать», поставил дату и размашисто подписался.
— Так будет лучше, — сказал Курлов.
Обо всем, что произошло вслед за этим, Берестовский не хотел вспоминать. Они оба делали одинаковую ошибку: Берестовский в эту минуту видел в Курлове только редактора своего стихотворения (с редакторами он воевал всю свою жизнь) и забывал, что перед ним его начальник, старше его по званию и должности, а Курлов, в свою очередь, не принимал во внимание, что имеет дело с поэтом, и видел в Берестовском только недисциплинированного подчиненного. Берестовский отстаивал свои две строки с непоколебимым упрямством. Курлов, натолкнувшись на непонятное для него сопротивление из-за такой, казалось, мелочи, сразу же вскипел: он привык, что его приказы выполняются без пререканий, и не понимал, что даже подчиненному поэту нельзя приказывать, когда дело касается стихов.
— В таком случае придется это печатать за вашей подписью, — положив листовку на стол, вздохнул Берестовский.
Курлов подбросил вверх подбородок, собиравшийся быть острым, но неожиданно обрывавшийся, словно неровным ударом топора срезанный снизу, и посмотрел на Берестовского мутными красноватыми глазами; он уже не владел собой и закричал пронзительным голосом, хорошо понимая, что делает глупость, и уже не в силах остановиться:
— За моей подписью вы будете отчислены в дивизионную газету! Там вы… там вас…
Курлов не знал, что будет с Берестовским в дивизионной газете.
— Хоть в ротную, если такие существуют, — криво усмехнулся Берестовский, чувствуя приступ знакомой скуки: стихийное бедствие нельзя ни убедить, ни укротить.
Курлов ринулся на Берестовского со сжатыми кулаками. Берестовский не шевельнулся; сложив руки по швам, он смотрел сверху вниз на маленького Курлова с нескрываемым сочувствием. Курлов вернулся к столу, его срезанный подбородок дрожал, побледневшие губы дергались, он спрятал под столешню кулаки и пробормотал:
— Идите… Я вам это припомню.
Наверное, он уже «припомнил», если Железный Хромец, непосредственно подчиненный Курлову редактор газеты, не очень охотно разговаривающий со своими сотрудниками, вызвал Берестовского к себе.
«Ну что ж, дивизионка так дивизионка», — успокаивал себя Берестовский, идя к редактору.
Железный Хромец сидел на табуретке в тени хаты, над щелью, в которую можно было нырнуть, если бы в небе появились немецкие самолеты. Он мог со спокойной совестью эвакуироваться в глубокий тыл: туберкулез коленного сустава давал ему полное право на это.
Железный Хромец не воспользовался правом больного человека. Он надел военную форму, терпеливо переносил все трудности военного быта, мог не спать ночами, мог почти ничего не есть, мог валяться вместе со всеми в грязи и жариться под беспощадным солнцем, — не мог он побороть в себе только страха перед «воздухом».
Рядом с редактором, сложив ноги по-турецки, прямо на траве сидел независимого вида лупоглазый старший политрук в свежем обмундировании. Он с нескрываемым любопытством осмотрел с головы до ног мешковатого Берестовского и заулыбался, когда тот в смущении начал зачем-то поправлять на себе поясной ремень.
— Вот таким макаром, Берестовский, — сказал Железный Хромец. — Поедете со старшим политруком в Киев… Знакомьтесь: Пасеков… Он на своей машине. Соберете материал в частях обороны города, с ним и возвратитесь.
Пасеков дружелюбно кивнул Берестовскому, руки их в коротком пожатии сошлись над узкой щелью.
— Меня вызывают в редакцию, нужно пополнить блокнот перед отъездом. Мы не задержимся. Вы как, готовы?
— Хоть сейчас, — ответил Берестовский. — Вот только возьму шинель и тетрадь… Поехали?
Берестовский знал Пасекова по корреспонденциям, которые не только печатались в газете, но и передавались из Москвы по радио. Пасеков тоже, наверное, слыхал о его существовании. Во всяком случае, Железный Хромец что-нибудь сказал ему, навязывая спутника, не мог не сказать. У Берестовского отлегло от сердца, и смертельная скука исчезла, словно он и не чувствовал ее только что: полковой комиссар Курлов, наверное, решил не вспоминать об их столкновении; правду говоря, это и для него было самое лучшее.
Пасеков, поднявшись, отряхнул пыль и траву со своих синих бриджей. Берестовский откозырял Железному Хромцу, редактор, против обыкновения, протянул ему свою холодную, влажную ладонь.
— Вы знаете мой киевский адрес? — сказал он притворно небрежным голосом. — Если будет время, загляните. И может, вам попадется на глаза альбом с фотографиями… Ну, знаете, семейный альбом… Вам не трудно будет его захватить? Ну, ни пуха вам, ни пера!
И добавил, глядя на дно щели:
— Вот таким макаром.
Бурачок, рыжий шофер Пасекова, чем дальше отъезжал от редакции, тем медленнее вел машину. На магистральном грейдере он пополз со скоростью пешехода за колонной крытых грузовиков, шедших на Киев.
— Бурачок, давай газу, — сказал Пасеков, — так мы и до завтра не доедем.
— Видите, какая пыль, — отозвался Бурачок, — ни черта не видно! Влипнем в историю, если будем спешить.
— Ничего не влипнем, Бурачок! — настаивал Пасеков. — Тише едешь, дальше будешь — ты эту пословицу забудь. Медленно будешь ездить, не скоро увидишь свой Жашков…
— В Жашкове давно уже немцы, товарищ старший политрук, — неохотно промолвил Бурачок и мрачно надвинул на лоб пилотку.
— Я об этом и говорю… А ты разве не хочешь в Жашков?
— Там у меня отец с матерью, вы же знаете… И жена с ребеночком, тоже знаете, как раз перед началом я их отправил туда на лето.
— Ну так давай газу!
Бурачок мотнул головой, словно отгоняя какую-то беспокойную мысль, и стал один за другим обгонять грузовики, чудом не попадая в тучах пыли под встречные машины.
В дороге Берестовский молчал. Колонны армейских грузовиков шли на Киев. Навстречу непрерывно двигались машины, среди них мелькали то набитые людьми и узлами автобусы, то грузовики, загроможденные столами и ящиками, то пожарные агрегаты со смотанными на барабаны брезентовыми шлангами… Куда они идут? Откуда? Зачем?
Пасеков не умолкал, рассказывал множество всяких историй, так что в конце концов Берестовский подумал: для известного столичного журналиста этот Пасеков довольно простой и хороший парень.
Перед самым Киевом Пасеков ловко вспорол ножом банку консервов, разложил хлеб, и они, не останавливая машину, перекусили.
В предвечерней тишине Днепр лежал под Наводницким мостом притихший, казалось, совсем неподвижный. Зенитчики стояли на мосту возле своих нацеленных в небо пушек. Над киевской горой в небо колыхалось ярко-желтое пламя заката. Когда они по Институтской и Ольгинской подъехали к «Континенталю», где жили корреспонденты центральных газет, небо уже погасло и в подъездах домов, сливаясь с сиреневым светом сгустившихся сумерек, загорелись темно-фиолетовые маскировочные лампочки.
Острая печаль обняла Берестовского на пустынных улицах, перегороженных сваренными из ржавых рельсов противотанковыми ежами. Всего две недели назад он был в городе, но теперь не узнавал его. Время было довольно позднее, по улицам не разрешалось ходить, это он знал, но чувствовалось, что и за окнами высоких домов так же холодно, мертво и пусто, что и деревья и дома стали ниже, словно все сжалось, вошло в себя в ожидании страшного удара.
— Завтра вечером на этом же месте, — сказал Пасеков, когда Бурачок остановил машину у подъезда «Континенталя». — Успеете вы до завтрашнего вечера?
— Думаю, что успею, — ответил Берестовский, доставая из машины свою шинель. — Вы меня не ожидайте специально. Сам доберусь, не впервые.
— Я, наверное, отправлюсь на Ирпенский рубеж. Может, давайте вместе?
Конечно, хорошо было бы с новым приятелем вместе, но Берестовскому хотелось остаться наедине с Киевом, в котором он прожил много лет; это чувство ничем нельзя было объяснить, он и не стал объяснять, а просто сказал:
— Нет, я в Голосеево… Я там еще не бывал.
— Ну что же, Голосеево тоже неплохо, — с сожалением сказал Пасеков. — Только зачем же вам тащить с собой шинель? Ночи еще теплые. Давайте ее сюда… Давайте, давайте!
Пасеков, не слушая возражений, взял из рук у Берестовского шинель и исчез за стеклянным турникетом гостиницы.
На безлюдном Крещатике патруль проверил у Берестовского документы. Берестовский поднялся вверх по бульвару Шевченко и мимо темного здания университета вышел на улицу Толстого. Он приближался к знакомому дому, и чувство непоправимости всего, что случилось в последние месяцы, холодной волной поднялось в нем. Темные стены, ослепленные окна, неподвижные деревья… Аня не ожидает его на третьем этаже. И он, сколько бы он ни стоял у окна, уже не услышит внизу, на асфальтовом тротуаре, частого стука ее высоких каблуков, не увидит, наклонившись через подоконник, ее маленькой стройной фигуры, ее лица, поднятого вверх, к нему.
Как быстро пролетел год, их первый год, который они прожили вместе здесь, на третьем этаже! Теперь, когда ничего уже нельзя было ни вернуть, ни исправить, он знал, что это был счастливый год, хоть и полный постоянной неуверенности и тревоги. Ему все время казалось, что это сон, что он неизбежно должен проснуться и что пробуждение его будет горьким и одиноким… Десять лет разницы не сбросишь со счетов. Аня жадно смотрела на мир вокруг себя, и ротик у нее был ненасытно полураскрыт, словно она еще не успела наудивляться небу, птицам, пролетавшим в нем, облакам и дождям, перемывавшим листья деревьев и кустов Ботанического сада под их окном, солнцу, и земле, и, нечего греха таить, таинственному племени молодых людей, ходившему по земле в роскошных галстуках и блестящих туфлях.
В глубоком, освещенном фиолетовой лампочкой туннеле-подворотне стояла высокая, повязанная темным платком женщина с противогазом через плечо. Она шагнула навстречу Берестовскому, узнала его и сказала шепотом, словно боялась нарушить глубокую тишину города:
— У вас не замаскированы окна, не включите случайно электричество… Здравствуйте!
Берестовский быстро взбежал по лестнице на третий этаж и остановился у дверей своей квартиры. Может, случилось чудо и Аня ждет его в темной комнате, свернувшись под клетчатым тонким пледом на тахте? Глупости, между ними тысячи километров, между ними война, забитые эшелонами железные дороги, затемненные города и нескошенные поля… Бог знает, что еще между ними!
В темноте Берестовский обошел комнаты, осторожно касаясь руками стульев, стола, книжных полок. В квадрате окна мерцало усыпанное большими звездами небо. Он сел у стола, склонившись головой на руки, крепко зажмурился, словно побеждая боль, и почти сразу же почувствовал, что под веки ему вползает серый холодный свет. Где-то далеко очень быстро, словно наперегонки, стучали зенитки. Самолет протрубил в небе высоко над крышей. Берестовский подошел к окну. Вода в Анином аквариуме была серо-зеленой, золотая рыбка медленно шевелила прозрачными плавниками, уткнувшись круглым ртом в стекло у самого дна. Другая — вверх желтовато-белым брюшком — лежала на поверхности воды. Берестовский взял двумя пальцами немного корма с блюдечка и посеял на воду. Полуживая рыбка не всплыла, плавники ее шевелились все медленней и медленней.
Может, нужно что-нибудь взять с собой? Какую-нибудь мелочь, которая стала бы для него амулетом, напоминала бы об этих комнатах, магической силой воспоминаний связывая со всем, что тут жило в нем, что он оставляет, возможно, навсегда. Книги стояли на полках мертвыми рядами, они уже ничего не могли сказать Берестовскому мелкой печатью своих страниц. В ореховом шифоньере висели платья Ани, теплый запах духов охватил его, он осторожно прикрыл дверцы и вышел на лестницу, ничего не взяв.
Навстречу ему подымалась высокая женщина с противогазом через плечо. Она остановилась, тяжело дыша, и сказала, держась ладонью за сердце:
— Сдаете фашистам Киев?
— Что вы, — растерялся Берестовский, — этого не может быть!
— Все может быть, — вздохнула женщина и пошла вверх, тяжело переставляя ноги на лестнице. — Слышите, какая тишина?
В большом дворе было пусто и чисто. Под стеной дома, па ящике с песком для тушения зажигательных бомб, сидел дворовый активист Субботенко, маленький старичок с лихо закрученными усами. К нему низко наклонялись лбами две немолодые женщины. Субботенко поднимал руку с согнутым в крючок пальцем и словно скреб перед ними воздух.
— Люди как люди, — услыхал Берестовский, — в девятьсот восемнадцатом, помню…
Субботенко увидел Берестовского, палец его из крючка свернулся в бараночку, рука опустилась — старикашка замолк, воинственно зашевелив усами.
«Это он про немцев, — подумал Берестовский, ныряя в холодный сумрак туннеля-подворотни, — а они теперь совсем другие…»
Каштаны шелестели листьями, иногда созревшая колючая коробочка срывалась с дерева, раскалывалась на асфальте, из нее выкатывался коричневый, в темных кольцеобразных полосках, будто только что отлакированный плод. Берестовский поднял каштан. Он был приятно холодный, свежесть его вызывала печаль, воспоминание о детстве, когда он, опаздывая, спешил в школу и на бегу набивал ранец и карманы штанишек упавшими каштанами.
На площади Толстого усаженную каннами клумбу медленно огибал грузовик. Берестовский поднял руку. Шофер притормозил.
— Давай-давай, не останавливайся! — вскочил на подножку Берестовский.
Шофер кивнул головой и нажал на акселератор. Клумба расплылась ярким пятном, остался позади театр музкомедии и новый стадион, который должны были открывать в то воскресенье, когда началась война. Машина прыгала расхлябанным передком на выбоинах, встречный ветер надувал гимнастерку. Берестовский крепко держался одной рукой, только наклонял голову, чтоб не слезились глаза. Узкий деревянный мост над железной дорогой едва просматривался сквозь облако белого пара, подымавшегося от паровозов, что стояли внизу на путях. Под деревьями у кондитерской фабрики грузовик остановился.
— Вы куда, в Голосеево? — Шофер вылез на подножку и протирал пилоткой запыленное лобовое стекло. — Идите осторожно, немец скоро начнет давать.
Берестовский кивнул ему и пошел, держась у домов. Солнце поднялось уже высоко, и улица налилась теплым светом. В этом свете все рисовалось мягкими, будто размытыми красками. Облупившаяся стена углового дома, припудренные седой пылью кривые кусты длинного, узкого бульварчика словно колыхались в воздухе.
В небольшом черном пруду у подножия голосеевской горы отражались зеленью деревья, синевой — небо, белым — скопления высоких облаков, непрозрачная вода казалась сплавом разноцветного матового стекла.
Два солдата стирали в пруду белье, оба немолодые, с усталыми лицами.
— Я пошел, — сказал один солдат другому. — Как высохнет, заберешь и мое.
Солдат посмотрел на Берестовского, поднял руку к пилотке и пошел по дороге вверх.
«Пойду за этим солдатом, — подумал Берестовский. — Он меня и приведет куда надо».
Дорога вилась серпантином среди темно-зеленых кустов орешника, клены на холмах уже начинали желтеть… Ничто тут не напоминало о войне, и только когда за деревьями возникли корпуса сельскохозяйственного института, облупившиеся, поклеванные пулями и снарядами, с темными провалами вместо окон, Берестовский понял, что он уже на передовой.
— Сюда, сюда, за мною! — вдруг повернулся к нему шедший впереди солдат и махнул рукою. — Штаб полка вон в том доме.
Берестовский, пригибаясь, побежал за солдатом через большую лужайку между вытоптанными клумбами.
В воздух ввинтился шепелявый, с присвистыванием и низким подвыванием звук, он приближался из-за дома, к которому бежал вслед за солдатом Берестовский, перевалился через крышу и всей тяжестью начал прижимать Берестовского к высветленной солнцем, вытоптанной траве.
Берестовский видел у себя под ногами каждый стебелек, каждый кустик травы, крупнозернистую смесь земли с песком, маленькие и большие камешки, словно катившиеся ему навстречу. Мина крякнула в кустах, перелетев через лужайку. Берестовский вскочил в дом и остановился, тяжело дыша. Пот заливал ему глаза, он хотел утереть лоб и только теперь заметил, что сжимает в кулаке теплый, влажный каштан.
4
Лажечников и Жук вполголоса разговаривали, осторожно продвигаясь вперед в темноте. Варвара понимала, что они говорят о чем-то очень важном, предназначенном не для нее, и держалась немного позади, только чтобы не отстать.
На душе у Варвары становилось все спокойней, словно приближение решающей минуты, к которой она шла, преодолевая длинную вереницу непредвиденных препятствий, постепенно освобождало ее от лишних мыслей и переживаний.
Никогда еще не случалось, чтоб такою заботой окружали ее при выполнении обычного корреспондентского задания. Нетрудно было понять, что дело тут совсем не в ней, Варваре Княжич, что совсем не ради нее командир полка Лажечников и комбат Жук сопровождают ее на то место, где она должна выполнить задание генерала Савичева.
— Вот ты и понимай, что к чему, — услышала Варвара голос Лажечникова и снова подумала, что это окончание какой-то не услышанной ею фразы тоже относится не к ней, а к чему-то значительно большему, к чему и она причастна, несмотря на незначительность ее места и роли в непрерывном потоке событий этого бесконечно долгого и тяжелого дня.
— Дело ясное, что дело темное, товарищ полковник, — вдруг совсем близко прозвучал голос капитана Жука.
Лажечников и Жук остановились, поэтому Варвара и услышала так ясно окончание их разговора. Она подошла к ним, совершенно уже спокойная, как всегда, когда готовилась остаться наедине со своим делом.
«Вот и хорошо, — думала Варвара, стоя в темноте между Лажечниковым и Жуком, — вот и прекрасно… Ночи теперь короткие, взойдет солнце, и я сделаю то, что мне поручено. Только чего же мы стоим? Неужели мы еще не пришли?»
— Пришли, — ответил на ее мысли голос капитана Жука. — Погодите, я сейчас…
Он шагнул в темноту, Варвара и Лажечников остались вдвоем. Они стояли рядом, плотная, теплая тьма окутывала их. Оба молчали, прислушиваясь к тихим шагам капитана Жука, к еле слышному шуршанию травы под его сапогами… Казалось, прошло много времени, проплыло много часов в темноте, которая, вопреки их желанию, связывала Лажечникова и Варвару.
В тишине, царившей вокруг, рождалось то, что должно было вскоре стать общей судьбой многих тысяч людей, и одновременно вызревало то, что должно было стать только их личной судьбой, судьбой Варвары и Лажечникова.
Они еще ничего не знали об этом. За них действовала темнота ночи, грозная тишина, жаркое дыхание избитой, израненной, искалеченной огнем и железом земли, для которой таким привычным и естественным было существование, что она продолжала существовать помимо желаний и намерений людей — в силу вечного процесса жизни. Если бы кто-нибудь спросил в эту минуту Лажечникова, о чем он думает, Лажечников вряд ли смог бы ответить, хотя весь переполнен был мыслями, которые одновременно принадлежали ему и были независимы от него.
И Варвара не смогла бы ответить на такой вопрос. Хоть то, о чем думали в эти минуты Варвара и Лажечников, уже связывало их незримой нитью; хоть то, что они чувствовали и переживали, уже было их общими чувствами и переживаниями, — все это жило еще отдельно и независимо от них обоих, они думали каждый только о себе, только себе приписывая то, что совершалось у каждого из них в душе.
«Что же это со мною творится? — спрашивал себя Лажечников. — Откуда это пришло и что должно значить в моей жизни? Почему я так волнуюсь, словно мне восемнадцать лет, словно этого еще не было на моем веку, словно я не любил? Зачем это пришло ко мне сегодня? Я ведь не хотел и не хочу, чтобы это было, чтоб это властвовало надо мной. Я не должен себе этого позволять, ведь ничего не известно — неизвестно, буду ли я жить завтра, через час, через минуту даже… Неизвестно, будет ли жить эта женщина, что так взволновала меня, неизвестно, чем окончится для нее фотографирование «тигра». Я не должен связывать ни себя, ни ее никакими чувствами. Мы должны делать свое дело — вот и все…»
«Почему я так испугалась там в лесу, на поляне? — думала тем временем Варвара, чувствуя присутствие Лажечникова рядом и почти совсем не видя его. — Неужели я испугалась только потому, что не хочу забывать прошлого? Может, совсем не в этом причина моего страха, может, это я боюсь будущего? Кто может мне сказать, чем оно обернется для меня не только через год, но и через час… Ну и что из этого? Жизнь и счастье, даже если они длятся всего мгновение, все равно остаются жизнью и счастьем, и нельзя отказываться от них потому, что они не вечны. Почему я должна бояться будущего? Я должна верить будущему и стремиться к нему, иначе это — отступление, поражение еще перед началом боя… Нет, я не хочу, не буду думать об этом!» Но она продолжала думать о том, что произошло с ней, вопреки своему решению и желанию не думать.
Жука не было слышно в темноте.
— Что ж это он так долго? — тихо сказал голос Лажечникова, и Варвара так же тихо отозвалась:
— Долгонько…
Капитан Жук безошибочно привел их на нужное место.
— Это ты, Гулоян?
Голос его прозвучал почти рядом. Оглянувшись на этот голос, они угадали темный силуэт Жука, склонившегося над окопом бронебойщиков.
— Я, товарищ капитан, — прозвучало из-под земли.
— Привел тебе гостя, Гулоян, придется немножко потесниться в окопе.
— Места хватит, — вплелся в разговор еще один голос. — А что за гость, товарищ капитан?
— А, это ты, Шрайбман, — сказал голос Жука, — не спишь? Корреспондент из Москвы, интересуется вашей работой…
— Это насчет «тигра»? Писать будет?
— Фотографировать!
— Нас?
— «Тигра», а может, и вас заодно.
— Вот дожили мы с тобою, Арам, — прозвучал насмешливый голос Шрайбмана. — А не попал бы ты в «тигра», никто бы нами и не поинтересовался…
— Мною моя жена интересуется, Сема, — в тон Шрайбману отозвался Гулоян. — Подвинься… Давай его сюда, товарищ капитан.
Томный силуэт капитана Жука выпрямился и махнул рукой. Лажечников легонько взял Варвару за локоть и на голоса повел к окопу.
— Ну, ни пуха вам, ни пера. — Лажечников остановился возле Жука и отпустил локоть Варвары.
Варвара молча полезла в окоп.
— Пошли, капитан? — сказал Лажечников.
— Пошли, — отозвался Жук.
Шуршание сухой травы медленно начало отдаляться и понемногу совсем стихло.
Варвара осталась в окопе между Гулояном и Шрайбманом. Кто из этих двух бронебойщиков Гулоян, а кто Шрайбман, она не знала. Это легко было бы узнать, если бы они заговорили, но солдаты молчали. Молчала и Варвара.
Бойцы удобней устраивались в окопе, толкали ее то локтями, то коленями. Тот, что сидел слева от нее, поднялся и начал что-то перемещать на земляном бруствере, который поднимался над окопом и заслонял полосу усеянного звездами неба.
«Наверное, это его бронебойное ружье, — подумала Варвара, — значит, он первый номер, а тот, что сидит справа от меня, его напарник».
Сделав что ему надо было с ружьем на бруствере, боец вылез из окопа: у него было еще одно неотложное дело. Он скоро вернулся и, влезая в окоп, оперся рукой о плечо Варвары. Его рука на миг замерла; потом твердые, словно из кости сделанные пальцы сыграли на плече какую-то задумчивую гамму, и Варвара услышала очень удивленный голос, который с заметным акцентом проговорил:
— Ты что, женщина?
«Это Гулоян», — отметила мысленно Варвара, а вслух тоже спросила:
— А что?
— Зачем ты тут?
— Должно быть, у мужчин-корреспондентов животы болят, — отозвался справа Шрайбман и засмеялся добрым смехом. — А я, Арам, давно уже догадался, что наш корреспондент — женщина… Это ты недогадливый!
— Какой родился, такой уж и есть! — резко ответил Гулоян. — Это не дело — посылать сюда женщин. Так и моя Кнарик может очутиться тут.
— А санитарки? — сказал Шрайбман. — Для санитарок ты, кажется, делаешь исключения, Арам?
Очевидно, за этим крылось что-то известное только им двоим, потому что Шрайбман снова засмеялся, а Гулоян кратко и недовольно пробормотал что-то по-армянски.
Они обменивались своими мыслями вслух, словно Варвара и не сидела меж ними, хотя все, что они говорили, так или иначе было рассчитано на нее.
Гулоян и Шрайбман истосковались от долгого сидения в своем окопе, поговорить им хотелось. Появление женщины их обоих взволновало, но не могли же они так сразу панибратствовать с нею!
Бронебойщики делали вид, что им безразлична эта женщина, которая неожиданно очутилась с ними, отчего в окопе стало еще теснее и неудобнее, и балагурили меж собой по-солдатски, большей частью — хотели они этого или нет — про женщин на войне.
— Без санитарок нельзя, — сказал Гулоян, отвергая намек Шрайбмана, — это все-таки женское дело. Мужчина так не перевяжет, руки не те. Хотя, правду говоря, когда ты ранен, все равно, кто перевязывает.
— Нет, не говори, Арам, — возразил Шрайбман. — Когда меня впервые ранило, очнулся я в кустах и увидел над собой черную волосатую морду… Ну, думаю, Сема, самого старшего черта прислали тебя в ад тащить! Стал меня этот черт перевязывать, я ему и говорю: «Кто тебя, дурака, на эту работу поставил? Тебе снаряды к гаубице подавать как раз хорошо было бы!» — «Молчи, говорит, если б я тебя из-под огня не вытащил, плакала бы твоя жена…»
— Чтоб вытаскивать, мужчина лучше, — согласился Гулоян.
— А вы уже были ранены? — спросила Варвара.
— Нет, бог миловал.
Гулоян трижды плюнул через плечо, а Шрайбман засмеялся:
— Не плюй в колодец…
— Не о том говорится.
— Я знаю… Женщина лучше перевяжет. И скажет что-нибудь такое, от чего сразу легче становится… Или посмотрит… Если снова суждено, пускай меня перевяжет красивая девушка с синими глазами, с легкими руками…
Они помолчали. Гулоян зевнул и передернул плечами, хоть было совсем не холодно.
— Говорят, на фронте есть авиаполки специально женские.
— Я фотографировала в таком полку.
— И ничего? Летают?
— Ничего. И летают и бомбы бросают.
Гулоян снова передернул плечами.
— Летать не тяжело, тяжело падать… А ты давно воюешь?
— С первого дня.
— Тебе, должно быть, страшно было сначала?
— Сначала было страшно, а потом я привыкла.
— Ко всему можно привыкнуть.
— К смерти не привыкнешь.
— Ты, Сема, много думаешь о смерти.
— Да и она обо мне часто вспоминает.
— Что правда, то правда.
— А недавно и о тебе спрашивала.
— Это когда же?
— А когда «тигр» полез на нас.
— «Тигр» сначала полез на Федяка.
— А кто такой Федяк? — спросила Варвара.
— Бронебойщик, как и мы, — ответил Гулоян.
— Ну и что ж этот Федяк?
Варвара почувствовала, что бронебойщики недаром упомянули Федяка, — должно быть, он тоже играл какую-то роль в уничтожении «тигра»; надо теперь не отставать от них — разговор сам собой пришел к «тигру», и они ей все расскажут.
Нам некогда было смотреть, «тигр» на нас повернул, — неохотно сказал Гулоян, словно ему вдруг расхотелось говорить про Федяка и про всю эту историю с «тигром».
— Лучше Федяка у нас бронебойщика никогда не было, — добавил Шрайбман. — Я его давно знаю, с самой Волги.
Бронебойщики замолчали, Варвара больше не расспрашивала их.
За их спиной, откуда-то из-за реки и леса, на небосклон выкатилась большая красная луна. Поднимаясь по небу, она постепенно уменьшалась, теряла красный цвет и вскоре уже блестела над ними холодной серебряной поверхностью, вокруг которой на большом расстоянии померкли звезды. В темноте Варваре казалось, что на бесконечно большом поле, которому ни конца, ни края нет, затерялся только один окон и в нем только они трое; теперь она видела, что совсем близко от того окопа, в котором она сидит, темнеют высокими брустверами другие окопы, неровной линией разбросанные по всему полю. И не только справа и слева от их окопа были окопы других бронебойщиков, — Варвара увидела, что и спереди и сзади них в земле сидят люди, и поняла, что эти люди тоже не спят, околдованные, как и она, сиянием лунной ночи; что и они думают в эту минуту каждый о своем и что, наверное, их мысли как две капли воды похожи на ее мысли.
— Дети у тебя есть? — спросил Гулоян.
— Есть, — ответила Варвара. — Девочка у меня.
— И у меня девочка, — прошептал Гулоян, — только я ее еще не видел… Родилась, когда я уже на войне был… Твою как знать?
— Галя.
— Красивое имя… А мою жена назвала без меня Рипсиме. Есть у нас, армян, такая святая — Рипсиме. Я написал жене: зачем ты назвала мою дочку Рипсиме? Если в меня пойдет, святая из нее все равно не получится… Пойди, написал я, в загс и скажи, что отец просит переписать имя. Что такое Рипсиме? Зачем Рипсиме? Пусть запишут Надежда. «Ты знаешь, сколько тысяч километров между нами? — написал я Кнарик. — Пусть она будет нашей надеждой».
Гулоян волновался, и его волнение невольно передавалось Варваре.
— А у меня никого нет, — вздохнув, сказал Шрайбман. — Жена ушла от меня перед самой войной, надоело ей за сапожником — я на четвертой обувной фабрике в Киеве работал, — нашла себе продавца из «Гастронома»… — Он помолчал и добавил, обращаясь к Гулояну: — Ну и что же, ходила твоя жена в загс, как ты велел?
— Конечно, — засмеялся Гулоян, — армянская жена послушная… Я бы ей показал «Гастроном»!
Гулоян посмотрел на небо, которое тем временем потемнело, и сказал совсем другим голосом:
— Смотрите, какая маленькая тучка, а совсем заслонила луну.
Они тоже поглядели на небо.
Продолговатая, темная внутри тучка наплыла на луну и погасила ее металлический блеск. Странно было видеть, что тучка без всякой видимой причины разрастается, словно ее раздувает ветром, и распространяется по небу.
— Большой дождь будет, — сказал Гулоян, передергивая плечами, словно вода уже лилась ему за воротник.
— Все знает! — восхищенно прошептал Шрайбман. — И «тигра» остановить сумел, и все знает… И когда дождь пойдет, и как жену к рукам прибрать! Аж зависть берет! А поглядеть на него — такой из себя невидный.
— Что вы делали до войны? — спросила Варвара.
— Я учитель, — помолчав, ответил Гулоян, — преподавал армянский язык и литературу. У нас уже в пятом столетии были свои писатели. Писали они на древнем языке, которого теперь никто не понимает.
Он пробормотал что-то по-армянски. Незнакомые слова показались Варваре вестью из какого-то иного мира, где все выглядит не так, как она могла бы себе представить, — и люди, и их дела, и их судьба…
— Две тысячи лет тому назад, — медленно, словно читая урок детям, сказал Гулоян, — две тысячи лет тому назад, а может, и больше в небольшое армянское селение Гарни пришли римские оккупанты. Что такое Гарни? Три десятка хижин из дикого камня, скрепленного глиной. Римляне построили храм из мрамора и казармы для гарнизона. Глубокую горную котловину использовали под амфитеатр. И храм, и казармы, и амфитеатр строили армяне. В храме чужеземные жрецы учили армян молиться жестоким чужеземным богам, в казармах растлевали душу народа, на арене цирка привезенные из Африки львы разрывали армянских юношей… Через две тысячи лет, окончив Ереванский университет, Арам Гулоян прибыл в Гарни преподавать армянский язык и литературу в школе и увидел поросшие виноградной лозой террасы римского амфитеатра, руины мраморного римского храма и армянское село, домики из обломков розового туфа на глиняном растворе, которые перестояли все: оккупантов, их богов и их казармы…
Шрайбман вздохнул осторожно и совсем тихо, словно ему больно делалось от этого вздоха.
— Я тоже мог бы много рассказать… — сказал Шрайбман, помолчал минутку и закончил: — Если б знал…
Молния распорола темное небо, над окопом прокатился гром. Гулоян снова забормотал по-армянски. Напрягая слух, Варвара услышала:
Допумен, допумен, допумен цзиере,
Хпумен, хпумен, хпумен пайдере…
Что означали эти слова, она не понимала, но в звуках незнакомого языка ей чудилась та сила, что преодолевает все: тысячелетний гнет, кровь, страдание…
— «Тигр», — вдруг сказал Гулоян. — Подумаешь, «тигр»!
Он словно вернулся из бесконечной дали, заметил рядом с собой Варвару, вспомнил, зачем она тут, и сказал хриповатым голосом:
— Ты сходи, корреспондент, если тебе нужно, потом уже нельзя будет… Возьми плащ-палатку.
У Варвары слезы набежали на глаза, она взяла плащ-палатку и вылезла из окопа.
Когда Варвара вернулась, уже падал частый теплый дождь. Они накрылись плащ-палаткой и сидели тихо, прислушиваясь к своим мыслям, чужие и близкие друг другу, дети грозного века, что шел по земле и перепахивал ее железом и засевал кровью.
5
Капитан Петриченко возвращался из штабной столовой против обыкновения медленно, словно его не ждал столик с карандашами и надоедливыми телефонами в приемной генерала Савичева, словно у него было много свободного времени и он мог себе позволить послеобеденную прогулку. И в столовой Петриченко вел себя более чем странно: немудреные военторговские кушанья остывали перед ним на столе, в конце концов он отодвинул стакан мутного компота из сухофруктов, отыскал свою фуражку и вышел. Серый песок длинной улицы лежал раскаленной полосой между двумя рядами плетней и побеленных мелом штакетных заборчиков. Если б Петриченко мог видеть сейчас свое лицо, он испугался бы: всегда розовое, оно посерело п цветом походило теперь на песок штабной улицы. То, что Петриченко услыхал из разговора генерала Савичева с Катериной Ксаверьевной, наполнило смятением его душу. Не его вина была в том, что он занимал место за столом в приемной генерала Савичева. Он не искал и не добивался этого места — оно само нашло его и постепенно начало воспитывать на свой лад. Возможно, если б он не услышал разговора генерала с женой, это место до конца довело бы свое дело и сделало бы с Петриченко то, что сделало со многими молодыми людьми, которые не по своей воле занимали такие места во время войны.
«Нет, — говорил себе капитан Петриченко, приближаясь к избе генерала Савичева, — не я виноват в том, что офицер из отдела кадров перенес мою карточку из одного ящика в другой и этим поставил меня на то место, которое я занимаю. Но я буду виноват, если захочу остаться на этом месте вопреки своей совести. Нет, я не захочу и не останусь. И не буду откладывать, сегодня же скажу генералу, пусть ищет себе другого адъютанта… Не прячет же он своего Володю от пуль! Не должен и меня держать у своих телефонов».
В тени двух старых верб у избы генерала Савичева высокий, стройный младший лейтенант в форме летчика спорил с часовым. Младший лейтенант что-то горячо доказывал солдату. Часовой кивал головой, будто соглашался с каждым его словом, но, когда младший лейтенант кончал говорить, упрямо хмурил брови и с неподвижным лицом, держа руки на автомате, висевшем у него на груди, отвечал:
— Приказано никого не пускать.
Петриченко, уходя в столовую, сам приказал часовому никого не пускать к генералу. То, что часовой кивал головой, означало, что он вполне понимает младшего лейтенанта; а то, что он все-таки не пускал его в избу, говорило, что он добросовестно выполняет приказ, который выше его понимания и которого он преступить не может.
Младший лейтенант вдруг подался лицом вперед к часовому, заложил руки за спину и начал шевелить сплетенными пальцами. По этому движению капитан и узнал в младшем лейтенанте Володю Савичева — молодой летчик с удивительной схожестью повторял характерный отцовский жест, только он получался у него более быстрым и резким.
Петриченко поспешил к летчику, первый козырнул, что выдавало его взволнованность, и сказал:
— Вам к генералу? Вы Володя?
Младший лейтенант тоже козырнул, стукнув каблуками, и протянул Петриченко большую мальчишескую руку.
— Я Володя, — весело сказал он. — Откуда вы меня знаете?
— Я адъютант генерала… — Петриченко подумал, что какой же Савичев генерал для Володи, и поправился: — Алексея Петровича… Идемте, я сейчас доложу. Вы знаете, что ваша мама… — Петриченко опять поправился: — Вы знаете, что Катерина Ксаверьевна тут?
Лицо Володи Савичева вспыхнуло, в глазах блеснул удивленный огонек и сразу же погас. Казалось, он хотел что-то спросить у капитана Петриченко, но сдержался и молча пошел за ним в избу.
Володя Савичев еще в самолете решил сразу же по прибытии на фронт повидать отца, но после налета немецких бомбардировщиков на аэродром, во время которого погибло двое его друзей по училищу и капитан, начальник их группы, он уже не мог оставить товарищей, большинство из которых и не знало даже, что у него отец — известный генерал. Собственно говоря, теперь, когда, еще не прибыв на место назначения, они успели побывать под огнем, этот факт Володиной биографии не имел уже значения не только для них, но и для него самого.
Убитых похоронили на пригородном кладбище вблизи аэродрома. Прозвучали три залпа, по-мужски коротко стриженные девушки — аэродромные радистки и подавальщицы из офицерской столовой — положили полевые цветы на свежую могилу. Мимо кладбища проходила большая фронтовая дорога, летчики остановили попутную машину и повезли на фронт документы погибших, завернутые в листок московской газеты.
В маленьком лесном хуторе, где помещался отдел кадров штаба ВВС, Володя терпеливо дожидался той минуты, когда закончатся формальности, связанные с назначением в часть. Больше всего он боялся, что их разбросают по разным частям, — с товарищами по авиаучилищу его соединяли теперь не только дни совместной учебы, но и пережитая потеря, похороны, три залпа и цветы на могиле друзей… Наконец все было готово. Листок назначения лежал у него в кармане, заложенный в новенькое офицерское удостоверение. Володя решил, что теперь уже может встретиться с отцом.
С чемоданчиками в руках все вместо они вышли из хутора. До штабного села было не больше двух километров. Им обязательно предстояло пройти это длинное, в одну улицу село, чтоб выйти на дорогу, где можно остановить попутную машину. Володя безошибочно угадал, в какой избе стоит отец (он так и подумал: «стоит», потому что это слово казалось ему более уместным, чем глубоко штатское и, следовательно, неподходящее для генерала слово «живет»).
В тени двух высоких старых верб переступал с ноги на ногу автоматчик в свежем обмундировании. Лицо у него было напряженное, словно из камня высеченное, на гимнастерке выше правого кармана виднелись две красные нашивки за ранения.
«Какой молодой, — подумал Володя, — а уже дважды ранен…»
У шлагбаума они остановились. Девушка-ефрейтор с большой темной мышкой на щеке приказала им «не сосредоточиваться и не демаскировать штаб». Разговаривала она с молодыми летчиками сурово, но мышка на щеке у нее прыгала от внутренней веселости: ей нравилось, что она может приказывать этим молодым, немного растерянным парням, которые — это сразу видно — прибыли на фронт прямо из училища…
«Придется им попробовать, почем фунт лиха», — думала Саня Пильгук, и веселые глаза ее суживались, словно она совсем не хотела видеть ошеломленных новою для них обстановкой молодых летчиков, остановившихся в ожидании попутной машины у ее шлагбаума.
Летчики прошли под маскировочную сетку, натянутую среди вишняка, и закурили.
— Между прочим, ребята, — сказал Володя деланно равнодушным, даже небрежным голосом, — тут мой старик воюет… Хоть и далековато он сидит от передовой, а все-таки… Надо мне наведаться к нему. Вы не возражаете?
Володя пошел по длинной улице вверх, к той избе, в которой, как ему казалось, должен был стоять его отец. Володя отходил от шлагбаума медленными небрежными шагами, такими же деланными, как и голос, которым он только что разговаривал с товарищами.
С каждым шагом, который отдалял его от товарищей под маскировочной сеткой и приближал к избе, где он рассчитывал встретить отца, Володя все яснее чувствовал, что и деланная походка его и деланный голос никого, тем более его самого, обмануть не могут. Он уже не шел, а спешил к автоматчику под старыми вербами, словно та внутренняя запруда, которую он сам построил для своих чувств, вдруг рухнула и дала свободный выход его волнению и теперь ему уже можно было спешить, чуть не бежать к отцу, радоваться близкой встрече с ним, быть самим собою.
Словно подтверждая старую истину, что быть самим собою слишком трудное искусство для молодого человека, Володя сразу же погасил в себе вспышку радости, когда услыхал от капитана неожиданное известие о Катерине Ксаверьевне.
— Мама? Как она тут очутилась?
— Прилетела, — словно извиняясь, сказал Петриченко. — Сегодня утром.
Володя не мог этого ожидать. Они ведь попрощались, мама была совершенно спокойна, согласилась не провожать его, даже написала короткое письмецо отцу… Как же и почему она очутилась тут? Мама всегда принимала неожиданные решения, они с отцом никогда не знали, что зреет под высоким белым лбом «хозяйки», как они оба называли ее. Значит, прощаясь с ним, она уже имела готовое решение. Это не могло быть внезапным желанием; мамины поступки только казались внезапными, потому что она никогда не открывала своих намерений до последней минуты… Что же она задумала? Может, что случилось с отцом? Нет, этот капитан предупредил бы тогда… Володя не мог предположить, что причиной приезда Катерины Ксаверьевны на фронт был он: ведь правда, что ж тут особенного, что он окончил авиаучилише и должен теперь воевать, как воюют все, и постарше и помоложе его? Перед глазами Володи возник аэродром, на котором приземлился их самолет, он услышал неожиданный стук зениток, забухали бомбы… Потом они стояли над раскрытой могилой на пригородном кладбище… Девушки в военных гимнастерках и подавальщицы в белых передничках положили цветы… Ничего особенного.
Володя не знал, что, соглашаясь в свое время на то, чтоб он пошел из девятого класса в авиаучилище, Катерина Ксаверьевна втайне надеялась, что, пока он будет учиться, война успеет окончиться… Она ошиблась.
Петриченко осторожно постучал в дверь к Савичеву.
Володя стоял у стола, касаясь пальцами заостренных кончиков разноцветных карандашей, веером торчавших из граненого стакана. Дверь открылась; отец быстрыми шагами пошел к нему, растерянный и непохожий на себя, совсем старый…
Обнимая отца, Володя увидел из-за его плеча мать. Поправляя обеими руками волосы, она спешила к нему, словно бесчисленное множество лет прошло с той минуты, как они попрощались.
Петриченко стоял у дверей бледный и отсутствующий, он глядел мимо них в окно, на залитую солнцем низкую траву во дворе, словно не хотел видеть этой встречи.
— Я на одну минуту, — сказал Володя, когда мать поцеловала его в лоб, как обычно, — меня ждут товарищи у шлагбаума.
У Катерины Ксаверьевны заблестели и потемнели глаза.
— Ты уже получил назначение?
— Получил, мама, мы все получили.
Алексей Петрович взял его за плечо.
— Идем, Володя, идем, — сказал Савичев и повел сына в свою затемненную ряднинкой комнату. — Петриченко, никого не пускайте ко мне.
Двери за ними закрылись. Володя увидел низкий побеленный потолок, перерезанный темными матицами, большой портрет на стене, простую деревянную ширму, за которой угадывалась кровать, небольшой, свободный от бумаг стол, несколько стульев, телефоны в желтых кожаных коробках… Так вот где стоит генерал Савичев! Он представлял это себе несколько иначе… Мама уже сидит за столом на отцовском месте. Отец отошел к завешенному ряднинкой окну… Нужно сесть. Володя нашел глазами стул и сел у стола напротив матери, чувствуя натянутость и принужденность, как на приеме у начальника.
— Куда тебя назначили, Володя? — откуда-то издалека прозвучал голос отца.
Переводя глаза то на спину отца, то на мать, Володя сказал, подавляя волнение и оттого еще больше волнуясь:
— В дивизию Кутейщикова… Нас всех назначили в одну дивизию, сегодня мы уже должны быть там. А вот попадем ли в один полк, неизвестно. Хорошо бы всем в один полк, мы так привыкли в училище друг к другу.
Он ждал большего от этой встречи. Мама молчит, у нее усталое лицо, она словно постарела, он никогда ее такою не видел.
Отец тоже волнуется, это ясно, — и что он волнуется из-за того, что волнуется мама, тоже ясно. Он военный и не может так близко принимать к сердцу то, что Володя получил назначение и сегодня уже должен быть в своей дивизии. Отец прекрасно знает, что такое война, он не может преувеличивать, как мама… Что преувеличивать? Опасность? Конечно, раз война, то должна быть и опасность, с этим надо мириться… Что касается его, то он не боится никакой опасности, и среди его товарищей нет ни одного, чтоб боялся.
Слов не слышно в этой крестьянской избе, но они все время разговаривают между собой — отец, мать и сын, — разговаривают на том языке, которому не нужны слова.
Катерина Ксаверьевна смотрит на Володю и видит по его лицу, что он все больше и больше отдаляется от нее, что он уже не принадлежит ей, что кто-то другой, сильнее, чем она, овладел ее сыном. Не в силах больше читать на лице Володи печальную для нее повесть его возмужания, она начинает смотреть на свои руки, которые ненужно лежат перед нею на столе, уже бессильные удержать ее мальчика.
«Нет, ты неправ, Алексей Петрович, что не захотел поговорить с командующим о Володе… Это только кажется, что он взрослый, он еще совсем мальчик; ты думаешь, ему легко будет в небе на утлом самолете против немецких летчиков? Они горят как спички, я сама видела в кинохронике, как горят немецкие самолеты, а если немецкие, то и наши, наверное, горят точно так же. Ты тоже не раз видел, и не в кино, а в настоящем небе. Ты не думай, я все знаю. Когда Володя пошел в это училище, я все перечитала про авиацию и летчиков, я все знаю! И сколько продолжается боевая жизнь летчика-истребителя, я тоже знаю…»
Савичев отошел от окна и остановился около Володи. Впервые война подошла так близко к генералу, впервые Алексей Петрович почувствовал сегодня, что война, которая раньше была для него общей тяжкой ношей миллионов людей и поэтому казалась относительно легким делом, вдруг стала его личным горем, личной проблемой, во сто раз более тяжелою оттого, что никто, кроме него, не может ее решить.
Алексей Петрович стоит рядом с Володей, положив руку ему на плечо. Надо что-то сказать сыну, но что именно? Он смотрит на сына, но продолжает молчаливый разговор с Катей, продолжает с ней тот безнадежный спор, в котором он не может ни убедить свою Катю, ни победить ее.
«Ты же видишь, Катя, у него давно уже сложилась своя собственная судьба, независимо от наших желаний и забот, независимо от наших страхов… Разве ты не понимаешь, что он давно уже не принадлежит ни тебе, ни мне, а только себе и сам решает, что для него хорошо, а что плохо? Решает безошибочно правильно, я горжусь этим. Ты думаешь, он случайно пошел сначала к своему начальству и только потом к нам? Его ждут товарищи. Им тоже он принадлежит теперь больше, чем нам. Представь себе, что я оставлю его тут, даже не навсегда, а на несколько дней. Я могу это сделать: Петриченко от моего имени позвонит кому следует, и все будет улажено. А товарищи ждут Володю у шлагбаума, и свой чемоданчик он оставил у них… Ты думаешь, ему легко будет вернуться за чемоданчиком и сказать: «Вы, ребята, езжайте без меня, а я тут погощу немножко у моего старика»?»
Катерина Ксаверьевна сказала:
— Ты обедал, Володя?
Алексей Петрович обрадованно и преувеличенно весело подхватил ее слова:
— Давайте пообедаем втроем, я сейчас скажу Петриченко.
— Да нет, — Володя вскочил, — меня ведь ждут… Нас накормили в штабе, там замечательная столовая, лучше, чем у нас в училище.
Володя стоял посреди избы и все время что-то делал со своими руками — то закладывал их за спину движением, перенятым у отца, то поправлял пилотку и становился тогда похожим на мать: таким же движением она отыскивала и поправляла шпильки в волосах.
Катерина Ксаверьевна подошла к Володе, хотела обнять, подняла даже руки к его плечам и вдруг затряслась в неслышном плаче.
Савичев сказал:
— Что ты, Катя, не надо…
— Не надо, мама, — сказал Володя и поцеловал мать в мокрые глаза. — Я уже взрослый, мама.
Губы его задрожали, он отвернулся и снова стал поправлять пилотку.
Володе вдруг стало жалко отца и мать, очень жалко и совестно, что они стоят перед ним такие растерянные и беспомощные, не зная уже, что творится в его душе. Еще больше, чем перед отцом и матерью, Володе стало совестно перед самим собой. Он понял, что больше, чем самого себя и своих родителей, которые еще недавно были для него самыми дорогими и самыми близкими людьми, он любит подавальщицу из столовой авиаучилища, маленькую Тоню со смешной рыжеватой челочкой на лбу, что нет теперь для него в мире никого родней и ближе ее.
Как могло случиться и как случилось, что Тоня вошла в его сердце и так свободно и просторно расположилась в нем, что ни для кого другого там не осталось места, Володя не мог бы сказать. Были же девочки в школе, с которыми он сидел на одной парте, бегал на стадион, ходил в бассейн для плавания, в кино, не замечая и не чувствуя разницы между ними и собою, той разницы, которая делает таким болезненно тревожным и наполненным мальчишеское существование.
Почему же именно Тоня, неуклюжая девчонка с толстенькими ножками, с первой же минуты, как только он увидел ее в длинной низкой столовой, заставила так горячо биться тот комок мышц в его груди, который до сих пор его не тревожил?
Тоня шла меж длинными столами, высоко поднимая перед собою жестяной поднос с полными тарелками, так что еле виден был ее белый выпуклый лобик и челочка. Она подошла к их столу, посмотрела на всех доверчивыми, по-детски голубыми глазами и почти шепотом выдохнула:
— Берите сами!
Володя сразу же вскочил со стула, начал снимать тарелки с подноса и расставлять их перед товарищами. Ребята засмеялись, а один из них — он уже лежит теперь под бугорком земли на кладбище у аэродрома — многозначительно продекламировал:
Ах, попалась, птичка, стой, Не уйдешь из сети…Володя покраснел — эта минута и решила все.
Тоня тоже не окончила десятилетку, отца ее уже успели убить на фронте; она жила с матерью поблизости от авиаучилища, трехоконный домик был виден, если стоять в воротах у проходной.
И мама у Тони была такая же маленькая ростом, как Тоня, и челочка у нее так же точно прикрывала белый выпуклый лоб.
Она очень хорошо относилась к Володе, просто не знала, куда его посадить. Анастасии Петровне приходилось тяжело работать: она шила ватники для бойцов в артели, и пальцы ее были всегда исколоты иголкой, которую надо было проталкивать сквозь толстый слой ваты. Она тоже была очень милая и доверчивая и совсем еще молодая. Володя и к ней чувствовал нежность, узнавая в ней Тонину доброту, Тонины постоянные вспышки смущения, когда вдруг вся кровь бросалась ей в лицо и слезы выступали на совсем-совсем голубых глазах от неосторожного слова или взгляда.
Анастасия Петровна всем восхищалась в Володе: и тем, что он пошел из десятилетки в авиаучилище, и тем, что отец его — генерал, и что мама его вместе с отцом принимала участие в гражданской войне.
Возможно, если б Анастасию Петровну не увезли в больницу — прямо из мастерской, где она шила ватники, — ничего и не случилось бы.
Вечером они остались одни в том маленьком домике, Тоня и Володя… Ошеломленная бедой — Анастасию Петровну сразу же начали готовить к операции, — Тоня плакала. Володе до слез стало жаль ее. Она сидела на краю железной кровати, покрытой стеганым одеялом. Он подошел и положил ей руки на плечи, как взрослый. Тоня подняла на него свои детские глаза… В эту минуту погас свет. Он часто гас: маленькая городская электростанция не выдерживала нагрузки военного времени. В этот вечер ему не следовало бы гаснуть.
Утром Тоня побежала в больницу, там ей сказали, что Анастасия Петровна умерла на операционном столе: гнойный аппендицит, операция запоздала.
«Надо сказать отцу про Тоню, — думал Володя. — Я обязан ему все сказать… Пускай он расскажет маме».
Как он скажет отцу и будет ли у него время для этого, Володя не знал. Мать не оставляла их ни на минуту. С матерью он не мог говорить про Тоню, мать ужаснулась бы, она до сих пор считает его мальчиком. Отец поймет все с полуслова, он ведь мужчина, с ним можно говорить откровенно. Надо только остаться наедине, тогда он и скажет, как Тоня пришла его провожать и в последнюю минуту, давая ему маленькую карточку, снятую для удостоверения официантки, сказала шепотом:
— У нас будет ребеночек…
Он вспомнил, как забилось у него сердце в тот миг, и снова услышал голос Тони:
— Ты жалеешь, Володя?
Володя перестал поправлять пилотку и повернулся к отцу. Взгляды их встретились.
— Ты хочешь нам что-то сказать, Володя?
— Нет, — сказал Володя и отвел глаза.
— Может, ты мне хочешь что-то сказать? — с ударением спросила Катерина Ксаверьевна.
— Нет, мама, ничего, — улыбнулся ей Володя.
Катерина Ксаверьевна склонила голову, она уже снова сидела за столом и смотрела на свои руки. Ей тоже показалось, что Володя скрывает от нее нечто важное, о чем она должна знать и что он не хочет доверить ей.
Гордость Катерины Ксаверьевны страдала оттого, что она показала — впервые в жизни — свои слезы Володе; ее суровые, требовательные глаза вдруг стали беспомощными и не могли уже ничего приказать ему, ничего не могли требовать — только просить: береги себя.
Страдала и мужская гордость Алексея Петровича: ему не пришлось до конца решить вопрос, который поставила перед ним Катерина Ксаверьевна, вопрос этот решился сам собой, тем, что Володя явился к своему начальству раньше, чем к нему, и начальство все сделало, как было нужно, взяв на себя ответственность за судьбу и жизнь его мальчика, словно сознательно хотело снять тяжесть с его отцовской души… Но хоть эта тяжесть и была снята с генерала Савичева, ему не стало от этого легче. Теперь ему нечего уже было решать.
Володя, пересилив себя, поднял руку к пилотке красивым, подчеркнуто четким движением, стукнул каблуками новых сапог и деланно веселым голосом отчеканил:
— Разрешите отбыть, товарищ генерал-лейтенант?
Савичев подхватил брошенный ему вызов. Он выпрямился и сразу стал тем подтянутым генералом Савичевым, каким знали его подчиненные, и сказал своим доброжелательно-спокойным начальническим голосом:
— Счастливого пути, товарищ младший лейтенант. Рассчитываю слышать о вас наилучшие отзывы товарищей и начальников.
Только после этих слов каким-то неестественно быстрым движением Савичев ухватил сына обеими руками за плечи, пальцы его наткнулись на обшитые колючей золотой тканью картонки погон, он прижал Володю к себе и хрипло прошептал ему в шею:
— Ты прости нас!.. Мы тебя любим, Володя!..
— Ну что ты, отец, я ведь уже не мальчик, — так же тихо отозвался Володя.
В приемной собралось тем временем много старших офицеров, даже один генерал сидел на месте Петриченко, за столиком с карандашами. Он поднялся, когда открылись двери, и Савичев вышел, пропуская вперед Катерину Ксаверьевну и Володю. Полковники, подполковники и майоры стояли смирно. Генерал Савичев улыбался им своей приветливой улыбкой.
«Вот видите, — словно говорила его улыбка, — с сыном пришлось на фронте встретиться!»
И генерал, который пришел к Савичеву на прием, и все полковники и подполковники в ответ ему улыбались сдержанно, с полным пониманием того, что происходит.
Петриченко вышел за ними из избы, с порога он увидел, как у ворот генерал прижал к себе и трижды поцеловал Володю.
Савичев остался у ворот, Катерина Ксаверьевна пошла с Володей вниз по улице к шлагбауму. Она казалась теперь Петриченко совсем маленькой рядом с высоким Володей.
Вдруг Володя остановился.
— Погоди, мама.
Катерина Ксаверьевна кивнула и тоже остановилась, опершись на штакетный заборчик у избы, мимо которой они проходили.
Быстрыми шагами Володя возвращался к отцу. Еще на ходу он начал расстегивать пуговицу нагрудного кармана; остановившись перед Савичевым, он вытащил из книжечки офицерского удостоверения маленький четырехугольник.
— Кто это? — шевельнул губами Алексей Петрович, отставляя далеко от глаз карточку, с которой доверчиво смотрело на него лицо девочки-подростка со смешной челочкой на лбу.
— Моя жена, — краснея и через силу выговаривая слова, сказал Володя. — Скажешь маме, если со мной… сам знаешь… Не оставь ее в беде на тот случай… у нее будет ребеночек… Мой!
Володя почти выкрикнул последнее слово, сунул удостоверение в карман и побежал к Катерине Ксаверьевне. Она пошла рядом, стараясь попадать в ногу с ним мелкими своими шагами.
Ни Катерина Ксаверьевна, ни капитан Петриченко не слышали, о чем говорил Володя с отцом, они лишь догадывались: было сказано что-то очень важное. Катерина Ксаверьевна не расспрашивала Володю, она надеялась, что муж расскажет ей все. Петриченко не рассчитывал, что сдержанный и замкнутый генерал что-либо расскажет ему, поэтому его мысль упорно работала; он заметил карточку и почти догадывался, о чем говорил Володя с отцом.
Савичев оттолкнулся от ворот, высоко поднял голову и прошел мимо Петриченко в избу; люди и дела ждали его.
Он не заметил, каким долгим и неподвижным взглядом следил за ним капитан Петриченко, который по-своему переживал все, что происходило на его глазах в семье генерала, и все время подставлял на место Володи себя, а на место генерала и его жены — своих родителей.
6
В блиндаже было темно, но Костецкий не спал. Он лежал на нарах с открытыми глазами и прислушивался в темноте к ударам грома, не смолкавшим над деревьями леса, над земляным холмом и четырьмя накатами его блиндажа. Гром то раскатывался глухим грохотанием, словно слитное буханье далекой пальбы из тяжелых орудий, то вдруг звучал отчетливо, со страшной силой, как близкий одиночный разрыв бомбы, сопровождаемый шелковым треском, шелестом и шорохом больших и маленьких осколков, что разлетаются во все стороны. Вспышки молний, то голубые до синевы, то желтые, то медно-красные, мелькали все время, освещая вход в землянку. Тяжелые, толстые нити ливня отвесно падали перед входом, отсвечивали серебряно-черными ртутными отблесками.
По ступенькам в блиндаж катилась вода, но Костецкий но велел закрывать дверь, сбитую из толстых досок и плотно подогнанную.
Прохлада, которая врывалась в блиндаж вместе с отблеском молний и грохотанием грома, прохлада ночного ливня, его плеск, вздохи, бульканье и шелест помогали генералу Костецкому побеждать боль, которая возникала у него в пояснице и поднималась вверх по спине, словно пересчитывая позвонки и ребра.
Военврач Ковальчук и медсестра Оля Ненашко, с которой у военврача были какие-то подозрительные, но до конца так и не выясненные Костецким отношения, только что вышли из блиндажа, оба в намокших брезентовых плащ-палатках с капюшонами. Из-под плащ-палатки у Оли Ненашко, словно на прощание, блеснула белым металлом коробочка от шприца, которую она всегда держала в немного вытянутой вперед руке. Капитан Ковальчук, высокий и неуклюжий, чуть не стукнулся о низкую притолоку, хоть и пригнулся, выходя из блиндажа, словно собирался нырнуть в воду. Надо сказать Ковальчуку, чтоб он не особенно афишировал свои отношения с медсестрою Ненашко. Эта девушка совсем отбилась от рук и даже с ним, с генералом Костецким, разговаривает, как с последним сержантом, — с грубоватой независимостью и наивной уверенностью в том, что отношения с военврачом освобождают ее от служебной субординации и чувства уважения к высшим начальникам. Правда, рука у нее легкая, от ее уколов боль затихает мягко и неслышно, но улыбка на лице Оли, на ее полном лице с маленьким, круглым, как у окуня, ртом с немного вздернутой верхней губой, слишком уж самостоятельная и смелая.
— Вы не терпите, товарищ генерал, — сказала Оля Ненашко, обернувшись в дверях блиндажа и глядя на Костецкого из-под встопорщившегося капюшона плащ-палатки. — Как только заболит, сразу вызывайте нас: мы поможем.
Она произнесла это «нас» так, что Костецкий сразу же понял, за кем превосходство в тех невыясненных отношениях, которые связывают ее с неуклюжим, словно из одних непомерно больших костей сложенным военврачом Ковальчуком.
«Обязательно надо сказать Ковальчуку», — подумал Костецкий.
Низко загудел зуммер телефона. Ваня подал генералу трубку.
Голос Савичева звучал в трубке совсем близко, так, словно между его избою и блиндажом Костецкого не было никакого расстояния, словно его голос не передавался при помощи электрического тока по бронзовому кабелю, а собственным усилием преодолевал пространство и поэтому казался выпуклым и человечески-теплым.
Военный совет наградил бронебойщиков Гулояна и Шрайбмана орденами Славы, — сообщал Савичев, радуясь тому, что награждение, в котором он был заинтересован, произошло с быстротой почти невероятной — отдельным приказом, не ожидая больших списков, в которые обычно включались люди из различных частей и за различные заслуги, объединенные общей формулой: «За образцовое выполнение боевых заданий командования».
В приказе, о котором говорил Савичев, в отличие от этой общей формулы было сказано, что бронебойщики Гулоян и Шрайбман награждаются за уничтожение нового немецкого танка «тигр», на который гитлеровское командование возлагает большие надежды и который отныне не может считаться неуязвимым.
Конечно, генерал Савичев лично не был заинтересован в этом награждении. Он был заинтересован только в том, чтоб награждение прошло как можно скорее и чтоб о нем как можно скорее узнали бойцы и командиры во всех частях, перед которыми на фронте появились «тигры», вызывая неуверенность в сердцах людей, уставших от длительного затишья и ожидания боевых действий. Кроме того, генерал Савичев по-человечески был заинтересован в том, чтоб награждение не запоздало для лично не известных ему бронебойщиков Гулояна и Шрайбмана, потому что на фронте обстановка меняется каждый день и каждый час, а вместе с нею меняется и судьба людей, сегодня живых и здоровых, а завтра… Никто не знает, что может случиться с бойцом на фронте не только завтра, но и в любую следующую минуту.
— Спасибо, Алексей Петрович, — ответил Савичеву Костецкий, придерживая подбородком трубку, которая почему-то старалась выскользнуть у него из руки. — Это награждение вызовет большой подъем в моем хозяйстве… От души благодарю за бронебойщиков.
— Что это тебя так плохо слышно, Родион Павлович? — вдруг обеспокоился в трубке голос Савичева.
Костецкий наконец ухватил и удобно пристроил возле уха трубку.
— Что-то, наверное, на линии… — Сильный спазм, от которого в страшном напряжении начало деревенеть все тело, схватил Костецкого, и он, через силу выдавливая из горла слова, докончил: — Тебя тоже плохо слышно… Спасибо, говорю, за награжденных…
Савичев недоверчиво помолчал, словно угадывая на расстоянии, что Костецкий напрягает все силы, чтобы преодолеть боль.
Он мог бы использовать эту минуту, чтоб еще раз напомнить командиру дивизии о здоровье, но щадил Костецкого: вопрос о его замене был уже решен, надо было как можно осторожней осуществить решение командования, чтоб не травмировать заслуженного генерала.
— Орденские знаки направлены к вам с офицером связи. Не задерживайте вручения…
Голос Савичева звучал мягко, несмотря на то что слова, которые он выговаривал, как нарочно выходили сухие и официальные.
— Вручу лично на передовой! — воспламеняясь от этой мысли, с особенной поспешностью сказал Костецкий, и голос его прозвучал так же свежо и бодро, как голос Савичева.
Савичев не поверил этой внезапной перемене.
Савичев понимал, что Костецкому трудно будет вручать ордена бронебойщикам на передовой, он хотел приказать, чтоб Костецкий поручил это дело кому-нибудь из своих подчиненных, но в последнюю минуту передумал: «Пускай попробует, не будем его лишать последней радости».
— Вот хорошо, а мы тут в газете напечатаем и снимок поместим, — поспешно сказал Савичев. — Кстати, домашняя хозяйка уже купила картошку?
— Да у нас тут такой ливень, Алексей Петрович, — засмеялся Костецкий резким, жестяным смехом в трубку, — а на базар далековато ходить.
Савичев тоже засмеялся, но смех у него был звонкий и приятный; далекий звук этого смеха вызвал зависть в душе Костецкого. Он что-то неясно пробормотал в ответ на вежливое пожелание доброй ночи, долетевшее до него по проводу, и уже хотел отдать трубку Ване, который стоял над ним наготове, когда снова услышал голос Савичева и уловил в нем давнюю дружескую искренность.
— Слушай, Родька, какую новость я для тебя приберег, — услышал Костецкий, и сердце у него похолодело от внезапных воспоминаний о тех далеких временах, когда Савичев вот так только и называл его — Родькой. — Ты, наверное, обрадуешься… Ко мне Катя приехала… Хочешь с нею поговорить? Она тебе передает привет.
— Повидать мне ее очень бы хотелось, — сказал Костецкий, изо всех сил упираясь затылком в подушку, которая почему-то вдруг начала уплывать у него из-под головы, — а что ж так… по телефону… Не стоит по телефону, Алеша…
По движению руки генерала, по тому, как из нее выпала трубка и, ударившись о доски нар, повисла на шнуре, Ваня в темноте догадался, что у Костецкого снова начинается приступ боли.
— Вам больно, товарищ генерал? — сказал Ваня несмело. — Может, вызвать капитана Ковальчука?
— Не надо Ковальчука, — устало сказал Костецкий, спустив ноги с нар. — Будем одеваться. Есть у тебя чай? Это если каждый раз вызывать Ковальчука, то он и не просохнет за ночь…
— Дождь уже кончается, товарищ генерал, — с тоской и надеждой в голосе проговорил Ваня, все желания которого сейчас сошлись на том, чтоб Костецкий за разговорами забыл про крепкий чай. Военврач Ковальчук сегодня еще раз приказал Ване ни в коем случае не давать генералу того, что он называет крепким чаем. Но Костецкий не мог забыть о чае так же, как Ваня не мог забыть о приказе военврача.
— Чаю! — крикнул Костецкий.
Ему сделалось стыдно собственного крика, и уже совсем тихо, совсем безнадежно, наполняясь жалостью к себе и к Ване, который должен терпеть его неуравновешенность и грубость, Костецкий проговорил:
— Все равно, Вайя, ничего не поможет.
Ваня не двигался с места. Костецкий снова лег и молчал, прислушиваясь к своей боли. Он не был уверен, что Ваня выполнит его приказ, и не имел ни силы, ни желания повторить этот приказ: крепкий чай спасал его ненадолго, почти сразу начинался новый, еще более свирепый приступ боли.
Костецкий не мог повторить свой приказ еще и потому, что любил Ваню и знал, что Ваня любит его и, выполняя его приказ, мучится нестерпимой мукой человека, который понимает всю пагубность поведения больного, но не может из-за своего подчиненного положения пойти ему наперекор.
Костецкий знал, о чем думает Ваня, стоя в нерешительности над ним.
«Зачем же вы спасли меня, товарищ генерал, — думал в отчаянии Ваня, — зачем вы спасли меня от смерти, когда я лежал на донской переправе, раненный в грудь? Лучше бы я остался там лежать навеки, чем теперь выполнять ваши приказы! Вы ведь убиваете себя — и военврач Ковальчук так говорит, и сам я вижу!»
Костецкий в эту минуту ясно видел ту самую донскую переправу, о которой думал Ваня. Дивизия его была уже за Доном. Он ехал из штаба армии в ясный морозный день в открытом «виллисе», в своем белом генеральском тулупе, в новой, серого каракуля папахе с красным верхом, и оттого, что день был такой яркий, серебряно-синий, искрящийся, оттого, что немцев так далеко погнали на запад, оттого, что командующий армией похвалил его за последнюю операцию, на душе у Костецкого тоже лежали яркие отблески этого серебряно-синего дня… «Виллис» остановился у переправы. Надо было переждать, пока пройдут на правый берег тяжелые грузовики со снарядами для гвардейских минометов, которые выглядели очень мирно в своих ящиках, сколоченных из белых сосновых планок. Костецкий вышел из машины и зашагал по берегу. Искристый, прорезанный синими тенями в колеях белый снег скрипел под его фетровыми бурками.
Кое-где чернели свежие бомбовые воронки разного размера, комья мерзлой земли лежали на снегу. Костецкий постоял над одной воронкой, посмотрел на тонкий ледок, застекливший ее в глубине, покачал головой и пошел дальше.
Батарея зениток прикрывала переправу. Костецкий пошел поговорить с зенитчиками. У него ничего не болело в тот день, и он, как всегда в такие дни, искал встреч с людьми, лично ему не подчиненными, — просто для души, для человеческого разговора… Зенитчики по уставу приветствовали генерала, но разговор с ними не получался, они хмурились, на вопросы отвечали скупо и все поглядывали на свою присыпанную снегом землянку.
— Вас обед ждет, что ли? — весело спросил Костецкий. — Если так, не смею мешать.
— Да нет, товарищ генерал, — ответил один из зенитчиков, высокий узкоплечий солдат лет двадцати пяти, — обед не волк, в лес не убежит.
— Что же у вас случилось? — спросил Костецкий, понимая, что неспроста зенитчики посматривают на своего товарища, ожидая от него последних, наверно самых главных, слов.
— Солдатика тут одного ранило, — словно нехотя сказал высокий зенитчик. — Догонял он свою часть, только что из госпиталя, а тут фриц налетел — видите, свежие воронки, — его и ранило опять… А где тут санбат, когда мы в глубоком тылу? Все машины идут на запад… Перевязали мы его как могли, — рана в грудь, кровью может изойти, товарищ генерал!
Последние слова зенитчик выговорил уже не вяло, а с такой болью и такой надеждой глядя на Костецкого, словно от этого проезжего генерала зависело, изойдет раненый солдатик кровью или не изойдет.
В холодной землянке зенитчиков Костецкий увидел на земляных нарах прикрытого до подбородка шинелью и поверх нее старым, истертым полушубком молодого солдатика. Лицо его мертвенно белело в тяжелой полутьме.
— Ваня, — сказал все тот же узкоплечий зенитчик, — не спи… С тобой генерал хочет говорить.
Раненый раскрыл глаза, и сразу его бледное, почти мертвое лицо словно засветилось синим огнем — такие они были у солдата большие и чистые, наполненные последней, предсмертной чистотой.
Костецкий видел много смертей на войне, и хоть не проходил мимо них равнодушно, заставлял себя мириться с ними во имя той цели, ради которой умирали люди и ради которой он тоже мог умереть в любой день и в любую минуту, но со смертью этого, еще час назад не известного и чужого ему солдата он не смог примириться.
«Такой у меня мог быть сын!» — с острой печалью подумал генерал Костецкий, всматриваясь в юношеское лицо раненого.
Надо было что-то сказать, хоть чем-нибудь подбодрить молодого солдата, но Костецкий не находил нужных слов, только смотрел на бледное лицо, на котором уже лежала тень смерти.
— Что, тяжело тебе? — наконец сказал Костецкий.
У солдата вдруг потускнели глаза, будто напоминание чужого генерала о его тяжелом состоянии сделало это состояние еще более тяжелым, но сразу же вслед за этим они снова наполнились прозрачной синевой, словно плеснули болью на Костецкого, и раненый сказал:
— Я ничего, товарищ генерал… Другим тяжелей бывает.
Слова раненого говорили одно, а глаза другое. Слова произносила солдатская вежливость и сдержанность, которая не позволяла жаловаться и на самые тяжелые раны, на самую большую беду, а глаза не умели притворяться ни вежливыми, ни сдержанными, они открыто жаловались на солдатскую беду, они говорили: «Разве вы не видите, что я умираю, товарищ генерал?»
— Несите его в мою машину, — приказал Костецкий зенитчикам.
— Не довезете, — сказал узкоплечий высокий зенитчик, который все время говорил за всех и высказывал мысли всех своих товарищей.
Костецкий посмотрел на раненого, словно хотел удостовериться, довезет он его или не довезет до своего медсанбата, который был уже далеко впереди, за Доном. Лицо раненого говорило, что довезти его на тряском «виллисе» невозможно, Костецкий и сам это понимал, но глаза солдата, который услышал слова зенитчика, говорили Костецкому: «Я ничего, товарищ генерал, довезете… А если не довезете… Только не бросайте меня тут без помощи…»
— Довезу, — сказал Костецкий и вышел из землянки зенитчиков.
Костецкий довез Ваню до медсанбата, и солдат выжил, несмотря на большую потерю крови.
Генерал, который не раз посылал в бой тысячи солдат, зная наверняка, что многие из них полягут в бою или будут искалечены, не мог послать этого солдата под огонь и оставил его при себе. Так Ваня Пушкарев очутился в блиндаже Костецкого, стал его ординарцем, а потом, когда болезнь начала все чаще мучить генерала, — его бессонной, верной нянькой.
— Что ж, Ваня, будем одеваться. — Костецкий заметался головой на подушке и застонал.
Военврач Ковальчук и медсестра Оля Ненашко шли под ливнем по лесу, толкая друг друга в темноте, и Оля Ненашко, с независимостью в голосе, которая не оставляла ее и в разговорах с Ковальчуком, говорила на ходу:
— Хана нашему генералу, ты как думаешь, Ковальчук?
— Что значит — хана? — раздраженно пробормотал Ковальчук. — Не понимаю твоего языка.
— Ну, амба, значит! — отрезала Оля. — Не притворяйся, ты все прекрасно понимаешь!
— Не понимаю и не хочу понимать! — Ковальчук остановился и схватил Олю за плечо под грубым брезентом плащ-палатки. — Как ты можешь так говорить про генерала… Сколько я могу терпеть тебя!
— А ты не терпи, — засмеялась, прижимаясь к Ковальчуку мокрой плащ-палаткой, Оля. — Не ты, так другой будет терпеть. Подумаешь!
В голосе ее, сливавшемся с плеском и шелестом ливня, в том, как Оля бесстыдно прижималась мокрой своей плащ- палаткой к его плащ-палатке, жарко дыша ему в лицо, для Ковальчука было нечто страшное и непонятное, но вместе с тем такое влекущее и неизбежное, что он даже зубами заскрипел от злости на самого себя, на свое бессилие перед тем неизбежным и страшным, что манило его к цинически независимой Оле Ненашко с ее белым лицом и маленьким, круглым, как у окуня, ротиком, из которого сыпались слова отвратительной ему «блатной музыки».
— А что я такое сказала? — громко шептала в шею Ковальчуку Оля. — Ведь ему и вправду хана… Что ж мне — плакать? Кругом тысячи людей погибают, на всех слез не хватит… А я жить хочу, Ковальчук! Ничего ты со мной не сделаешь…
— Смотря как жить, — попробовал сказать Ковальчук. — Разная жизнь бывает… А у нас с тобой…
— Плохая? — не дала ему договорить Оля. — Пускай плохая, но наша, моя — и никому ее не отдам! Терпи, Ковальчук.
Она толкнула Ковальчука в грудь зажатой в кулачке коробочкой для шприца и быстро зашлепала сапогами но невидимой тропинке.
Ковальчук стоял в темноте под деревьями, с которых лились потоки темной, ощутимо тяжелой воды, и с отчаяньем думал о том, что у него на оккупированной территории в районном центре Снегуровке на Херсонщине осталась жена с маленьким сыном и старой матерью и что его жена во всех отношениях лучше Оли Ненашко, во всех отношениях лучше и дороже ему уже одним тем, что она — мать его сына, что она никогда не говорила таких ужасных слов, как эта чужая и слишком смелая в разговорах и поступках девушка, которую он встретил случайно и случайно поддался ее беспокойному, тревожному очарованию, становящемуся все тяжелее для него, неуклюжего и бесхитростного военврача Ковальчука.
Он все отдал бы в эту минуту и вообще в любую минуту трудной своей фронтовой жизни за то, чтобы все, что происходило с ним, оказалось сном — разлука с женой, встреча с медсестрою Олей и тяжелые муки совести, возникавшие из его привязанности к ней, — сном, от которого просыпаешься счастливый, с чувством облегчения на душе, которая могла ошибиться только во сне, а в действительности не способна на такие ложные и ужасные своей ложностью шаги.
Вода с грохотом падала с деревьев на плащ-палатку Ковальчука, барабанила по поднятому капюшону, а он все стоял, не находя сил догнать Олю и сказать ей то, что он думает о ней и о себе и что могло бы положить конец их отношениям, которые делают его смешным в чужих и несчастным в собственных глазах.
Тут и натолкнулся на Ковальчука Ваня, выбежавший в одной гимнастерке под ливень, когда Костецкому во время одевания сделалось совсем плохо, а к военврачу нельзя было дозвониться.
Ваня больно ударился об острый, торчащий под плащ-палаткой локоть Ковальчука и сразу же узнал его, хоть в темноте ничего нельзя было увидеть.
— Вы, товарищ капитан? — потянул Ковальчука за плащ- палатку Ваня. — Генералу совсем плохо… Возвращайтесь.
— Опять давал ему чаю? — зашипел Ковальчук. — Сколько раз я приказывал тебе выбросить из блиндажа эту отраву… Под суд отдам!
Ковальчук опередил Ваню, отодвинув его костлявой тяжелой рукой, и поспешил к блиндажу с твердым намерением немедленно сообщить высшему командованию о том, что Костецкий больше не может выполнять свои обязанности и что он, военврач Ковальчук, не может больше отвечать за его жизнь и здоровье в тех страшных условиях, которые создает для себя генерал, не зная или не желая знать, какая болезнь неуклонно приближает его к концу.
Ваня бежал за Ковальчуком по пятам.
— Где ваша Ненашко? — задыхался Ваня от волнения за своего генерала. — Надо укол.
— Ненашко? — остановился Ковальчук. — Провалилась сквозь землю… Найдешь?
— Найду! — одним дыханием выдохнул Ваня и бросился в темноту между деревьями.
Генерал, одетый, в сапогах и шинели, лежал на нарах с закрытыми глазами, сплетя на груди побелевшие от боли бронзовые пальцы. Над ним стояли начальник штаба дивизии Повх и начальник политотдела Курлов.
— Спасай генерала, — тихо сказал начальник штаба.
Ковальчук холодными негнущимися пальцами начал развязывать под шеей тесемки плащ-палатки.
Курлов ничего не сказал, даже не поглядел на военврача, но по тому, как он повернулся спиной к нему и сел за стол, на котором стоял стакан с крепким чаем генерала Костецкого, можно было угадать, что думает начальник политотдела про Ковальчука.
Начальник штаба Повх не мог сказать сейчас ничего, кроме двух слов: «Спасай генерала», потому что давно уже нес на себе весь груз командования дивизией и потому, что Костецкий знал об этом и думал, что Повх ждет не дождется его смерти, чтоб самому стать командиром дивизии. Повх должен был взвешивать каждое свое слово, чтобы не дать Костецкому оснований утвердиться в этой совершенно безосновательной мысли. Повху почти наверное было известно, что его назначат командиром дивизии, и он чувствовал себя неловко, будто был в чем-то виноват перед генералом. Полковник не хотел быть командиром дивизии, как не хотел быть и начальником штаба, но с его желаниями никто не считался ни теперь, ни в любую другую минуту его фронтовой карьеры.
Больше всего Повх хотел, чтобы война вообще не начиналась, но война началась, не посчитавшись с его планами и намерениями, и за два года сделала его из капитана запаса полковником и начштадивом. Кандидатская диссертация «Миграция рыб Азовского моря» осталась лежать недописанной в ящике его стола на уютной улице Ейска.
Повх понимал, конечно, что его молчание в эту минуту и постоянное невмешательство в болезнь Костецкого по сути своей жестоко и бесчеловечно, но не мог ничего поделать с собой — «наверху» его заботу о здоровье Костецкого могли истолковать как недостойное желание поскорей занять место, которое он и так займет, раньше или позже.
Курлов не боялся, что больной генерал заподозрит его в желании стать командиром дивизии, и тоже молчал. Курлов боялся себя, своего крутого, безжалостного нрава. Он мог наговорить лишнего Костецкому и мог позволить себе лишнее по отношению к Ковальчуку и, зная это, изо всех сил сдерживал возмущение, кипевшее в нем. Уже случалось, что его маленькие, словно из кости вырезанные, сухие кулаки выходили из-под контроля. Ему стоило больших усилий владеть собой. Это требовало молчания — и Курлов молча барабанил пальцами по столешнице, отвернувшись, чтобы не глядеть на Ковальчука.
Сухие пальцы Курлова выстукивали генерал-марш на столешнице. В звуках этого угрюмого марша военврачу Ковальчуку, хорошо знавшему начальника политотдела, слышалось: «Погоди, погоди, ты у меня еще попляшешь! Я тебе все припомню, если с генералом что случится. И твое потакание капризам больного, и твой недостойный врача оппортунизм… И Олю Ненашко я тебе тоже вспомню! Ты у меня полетишь ко всем чертям, и ничто тебе не поможет, хоть в санитарном управлении тебя и считают одним из лучших врачей».
Ковальчук рванул тесемки и стащил с себя плащ-палатку. Бледный, насквозь промокший Ваня открыл дверь и впустил в блиндаж Олю Ненашко.
7
В штабе полка народного ополчения, который держал оборону в Голосееве над глубоким лесным оврагом, Берестовский не задержался. Почти сразу же он попал в роту лейтенанта Моргаленко и провел с его бойцами весь день. От полного состава роты за две недели осталось двадцать пять человек. Рядом с небритыми добровольцами непризывного возраста, страдавшими одышкой, ишиасом, ревматизмом и разнообразными колитами, в траншее сидели безусые десятиклассники из пополнения, которое непрерывно присылали райкомы комсомола. Голосеевский лес уже побывал в руках у немцев, его отбили авиадесантники. Ополченцы сменили их, когда авиадесантные бригады были отведены за Днепр, и с того времени не выходили из-под методического немецкого обстрела.
Лейтенант Моргаленко понравился Берестовскому. Невысокий, с белесым стриженым пухом на голове и выгоревшими бровями, юноша мало был похож на командира роты. Он как-то по-мальчишески подал Берестовскому руку и отрекомендовался:
— Гриша Моргаленко.
Лейтенант провел Берестовского ходом сообщения в свою траншею, на вопрос о делах коротко ответив:
— Жить можно, если б не водопровод. Четвертые сутки, как перебили трубы, воду приходится выдавать порциями. Знаете, как хочется пить, когда воды нет?
Сквозь узкую, замаскированную свежими ветками амбразуру Берестовский увидел глубокий, поросший тонкими деревьями и кустами овраг. Странно было смотреть на вершины деревьев сверху, словно с самолета. За оврагом сидели немцы, но Берестовскому ничего не было видно: солнце склонялось за лес, стена непрозрачного света колыхалась и скрывала от глаз немецкие траншеи, блиндажи, минометные позиции. Берестовскому показалось, что там, на противоположной стороне оврага, зашевелился и переместился справа налево зеленовато-коричневый куст, на котором неестественно торчали во все стороны обломанные ветки. Куст сразу же остановился, и Берестовский подумал, что все это ему показалось. Он отошел от амбразуры. Воздух угрожающе зашелестел, за траншеей, крякнув, разорвалась мина.
— Заметил, гад, — сказал Моргаленко, — опять класть начнет, а нам солнце в глаза!
Низко пригибаясь, чуть не расстилаясь по дну траншеи, подбежал боец и громко зашептал, поднимая лицо к командиру роты:
— Дядю Мокийчука убило, товарищ лейтенант! Осколком в грудь убило, он из штаба возвращался… В ход сообщения мина и попала, как на грех!
Мокийчук был самый старший в роте. Он работал в пожарной охране и как раз перед войной вышел на пенсию. В июле, когда немцы вырвались на Ирпенский рубеж, Мокийчук эвакуировал больную жену с дочерью-солдаткой в Рубцовск, запер опустевшую квартиру на Бульонской улице и пошел в ополчение. Молодые бойцы любили дядю Мокийчука — отяжелевшего, очень немолодого человека с обвисшим животом и мягкими, как из ваты сделанными, руками. Дядя Мокийчук без ранений провоевал первую мировую и гражданскую. Теперь он лежал на дне хода сообщения с пробитой грудью.
Лейтенант Моргаленко сам посылал дядю Мокийчука в штаб батальона для связи и теперь чувствовал себя виноватым в смерти старого солдата. Если бы не это чувство вины, молодой командир, наверное, подумал бы о том, с чем возвращался из штаба батальона дядя Мокийчук, и послал бы другого бойца, чтобы восстановить связь. Но лейтенант Моргаленко поддался чувству вины и жалости к старому солдату, забыл о своем командирском долге — за эту ошибку ему и бойцам его роты вскоре пришлось расплачиваться. Быстро смеркалось, ночь наваливалась на голосеевскую гору с востока, небо на западе еще долго пылало холодным желто-красным огнем.
Лейтенант Моргаленко отправился в обход по своей траншее. Берестовский шел за ним, удивляясь уверенности этого парня, его умению не только отдавать приказы, но и разговаривать с людьми. Откуда это у него берется? Самое большое, на что он с виду способен, это быть капитаном самодеятельной футбольной команды, а ведь вот не теряется, командует людьми за двести метров от врага, две недели не выходит из-под обстрела и не отойдет, хоть бы на него бросали втрое больше железа… А людей у него действительно маловато — от бойца до бойца хоть на такси поезжай!
— Схороните дядю Мокийчука, — сказал Моргаленко, — да яму копайте как следует, чтоб его миной из-под земли не выбросило.
Два бойца взяли лопатки и полезли из траншеи в темноту.
Моргаленко прилег в неглубокой нише, перекрытой бревнами. Лица его не было видно, только глаза поблескивали влажными голубоватыми вспышками. Берестовский устроился рядом с ним, высунув ноги в траншею. Тишина окутала все вокруг; темнота словно черной ватой покрыла гору, лес, строения, траншею, бойцов. Из-за оврага долетели отчетливые звуки губной гармоники: немец играл какую-то сентиментальную мелодию.
— Издевается, паразит! — услышал он голос Моргаленко. — Ну, придет время, мы ему сыграем!
Моргаленко сказал это спокойно и уверенно, будто не придавал особенного значения тому, что немцы со своими танками и губными гармошками дошли уже до берегов Днепра и он вынужден воевать на окраине города, в котором родился. Он даже засмеялся веселым мальчишеским смехом, словно представил себе ту музыку, которую должны будут услышать немцы.
Берестовский позавидовал лейтенанту — сам он давно уже так легко не смеялся, не мог он смеяться и теперь: слишком близко звучала мелодия немецкой гармошки, слишком много мыслей будила она, слишком тяжелыми были эти мысли. Мог ли он представить себе еще этой весной, когда с Аней и ее актерской компанией бродил, собирая подснежники, по этому лесу, что будет сидеть здесь, в вырытой киевскими женщинами и подростками траншее, и что за оврагом долговязый немец из Штутгарта или Ростока нахально будет дуть в свою заслюнявленную пищалку?
— А я вас знаю, товарищ Берестовский, — вдруг сказал Моргаленко, — я ведь тоже киевский… Родился на Костельной, в центре города, там и теперь наша квартира. Запертая. Своих я еще в начале июля посадил на пароход и отправил в Днепродзержинск. Не знаю, доехали или нет. Вы теперь стихов не пишете?
— Пишу, — оторвался от своих мыслей Берестовский и, неожиданно для самого себя переходя на «ты» с лейтенантом, сказал: — Ты меня по стихам знаешь?
— И по стихам и так — в лицо… Я вас еще в штабе узнал, вы у нас в школе на литературном вечере выступали, я тогда в седьмом классе был.
— Вот и снова встретились, — пробормотал Берестовский, не понимая, рад он или не рад, что этот вчерашний школьник знает его. — Давно воюешь?
Моргаленко не ответил, приподнялся на локте и прислушался:
— Очень тихо сегодня. Наверно, что-то задумал, паразит!
Он снова лег и тогда только, словно вспомнив о Берестовском, заговорил:
— Видите ли, что получилось. Школу я не окончил, мечтал быть летчиком, но не вышло, не взяли меня в авиацию, послали учиться в связь. Приехал я в отпуск к маме на Костельную, а там не знают, где меня посадить. Гуляю по Киеву, у всех девчат знакомых перебывал, с ребятами встретился. Знаете, каждый из нас мечтал быть героем — Испания, Интернациональные бригады… Никто не думал, что воевать придется дома. Меня мама не могла добудиться, когда в воскресенье налетели фашистские самолеты. Говорят, что и высокое начальство не ожидало нападения, ну а мы тем более… Одним словом, прос… — Моргаленко простодушно и совсем не обидно выговорил беспощадное слово, которое Берестовский уже не раз слышал от солдат и офицеров на передовой. — Я кинулся к коменданту. «Вам, говорит, надо доучиваться». Не помню уже, что я ему вкручивал, какие слова говорил, — послал он меня в какой-то батальон аэродромного обслуживания. Думаю, это хорошо — легче мне будет в летчики выйти. Черта с два, оказывается! Осмотрелся я, вижу, что придется всю войну торчать на тыловых аэродромах, — и опять к коменданту. «Слушай, лейтенант, — говорит он, — будешь волынить, я тебя в пехоту отправлю, узнаешь, что почем!» Не возражаю против пехоты! Он и направил меня в ополчение; комсостава не хватало, меня сразу и назначили командиром роты. Знаете, на улице Ленина, у «Гастронома» такая небольшая гостиница? Там был наш штаб формирования.
Моргаленко вдруг поднялся, высунулся из ниши и негромко крикнул:
— Эй, Рюмак, где ты там?
— Я тут, товарищ лейтенант, — послышался в ответ знакомый уже Берестовскому голос. К нише подполз боец, который сообщил о смерти дяди Мокийчука. — Не нравится мне тишина, товарищ лейтенант.
— Ну, ну, помалкивай, — сказал Моргаленко, и голос его прозвучал по-начальнически резко. — Сходи к правому соседу, узнай, что там у них.
Рюмак неслышно исчез, Моргаленко продолжал, уже не ложась:
— Натерпелся я со своими… У меня родни, как у хорошей клушки цыплят. Мама, бабка, две сестры, одна замужняя — муж у нее в музее директорствовал. Мы с ним принялись женщин эвакуировать, когда немец стал на Ирпене. Бабка твердит свое: «Не поеду! Вы, говорит, идиоты, немцев до Киева допустили, а я должна свои старые кости бог знает куда тащить?» Тогда мама говорит: «Я без тебя никуда не поеду» — и велит распаковывать вещи… «И не надо, — гнет свое бабка, — немцы нам ничего не сделают, как-нибудь переживем!» Шурин в музее картины упаковывает, нельзя их фашистам оставлять, а по ночам пишет плакаты: «Киев был, есть и будет советским!»
Рюмак вернулся и, тяжело дыша, прошептал:
— Товарищ лейтенант, нет соседа!
— Как нет? — подался ему навстречу Моргаленко. — Ты что, сдурел?
— Честное пионерское, товарищ лейтенант, траншея пустая, ни души.
В другое время ему, наверное, здорово влетело бы за его «честное пионерское», но Моргаленко пропустил неуставные слова бойца мимо ушей: так ошеломило его это известие. Он приказал Рюмаку проверить левый стык роты, а сам стал всматриваться в темноту, словно мог что-нибудь увидеть за оврагом. Берестовский стоял рядом и тоже прислушивался. Тишина не откликалась ни звуком. В окоп вскочили бойцы, вылезавшие хоронить дядю Мокийчука. От них терпко пахло потом, один сказал, переводя дыхание:
— Надо будет завтра фанерку написать.
Другой отозвался:
— Отвоевал пожарник…
— Отвоевал, — согласился первый и добавил: — Все там будем.
Когда Рюмак вернулся и сообщил, что и на левом фланге траншея опустела, лейтенант Моргаленко по ходу сообщения отправился в штаб полка.
Рюмак тяжело дышал Берестовскому в плечо.
— Ты киевский? — повернулся к нему Берестовский, чтобы прервать тягостное молчание.
— Все будем киевские, как тут ляжем… — хмыкнул Рюмак. — Забыли нас.
Лейтенант Моргаленко вынырнул из хода сообщения.
— В штабе никого нет, — сказал он угрюмо.
— Что будем делать, товарищ лейтенант, какое решение примем?
Моргаленко тяжело молчал: в эту минуту он вспомнил смерть дяди Мокийчука и понял свою ошибку.
— Без приказа полк не мог сняться, — твердо сказал Моргаленко, все обдумав. — Значит, был приказ, который касался и нас. Нас не могли забыть. Если бы дядю Мокийчука не убило… Ну, на это обижаться нечего. Надо и нам отходить, немцев мы своей ротой не остановим, а наши головы еще пригодятся Родине. Рюмак, передай приказ выходить и сосредоточиваться в подвале штаба полка. Ну, шевелись веселей!
Но Рюмаку незачем было «шевелиться веселей» — все бойцы роты стояли тут, рядом, со своими винтовками, котелками и вещмешками. Они тяжело дышали друг другу в затылок, неизвестно откуда дознавшись, что полк снялся.
— Выходи по одному через ход сообщения! Не спеши! — Моргаленко, пропуская мимо себя, стал шепотом считать бойцов: — Восемь… девять… Это ты, Самченко? Не дрейфь, браток… четырнадцать… Все забрали? Ничего фрицам не оставлять! Девятнадцать… Теперь нам каждый патрон пригодится… двадцать три, двадцать четыре… Ну все, кажется? Дядя Мокийчук нас уже не догонит. Проходите вперед, товарищ Берестовский.
Берестовский прошел в ход сообщения, Моргаленко не спеша двинулся за ним. Тихо побрякивало оружие и котелки бойцов. Звездное небо было черным, далекое мерцание звезд подчеркивало глубину тьмы. Один за другим бойцы ныряли в узкий проход, пробитый в фундаменте институтского здания, к которому вел ход сообщения. В подвале бойцы обступили лейтенанта. Берестовский прислушивался к спокойному, не по-мальчишески суровому голосу девятнадцатилетнего командира роты.
— Вот что, солдаты, — сказал в темноте лейтенант. — Мы отходим по приказу. Если в Киеве уже фашисты, будем биться до последнего патрона. Кто побежит домой, получит свою пулю от меня. Ясно? Так что выбирайте, кому как лучше. Ясно?
— Ясно, ясно! — загудели бойцы. — Ты не тяни волынку, лейтенант, сами все знаем.
— А если знаете, значит, пошли. Рюмак, ты здесь?
— До самой смерти.
— Выводи, ты тут знаешь дорогу.
Рюмак затопал сапогами, за ним двинулись бойцы. Моргаленко и Берестовский последними вышли на лужайку перед домом. В темноте дотаптывали давно искалеченные клумбы, натыкались на кусты, наконец под ногами почувствовалась серая булыжная мостовая петляющего спуска. Только по ускоренным осторожным шагам чувствовалось, как волнуются бойцы. У пруда Моргаленко выстроил своих людей по четверо в ряд — шесть шеренг с винтовками на ремне, с вещмешками за плечами — все, что осталось от полного состава его роты за две недели сидения в голосеевской траншее.
Лейтенант повел свою роту переулками мимо старого кирпичного завода, печи которого давно уже были погашены, но еще дышали тяжким смрадом пережженной глины; проходили сквозь ряды одноэтажных домиков с плотно прикрытыми ставнями, вдоль темных заборов, за которыми притаилась жизнь. Иногда испуганно начинала скулить собака, иногда что-то настороженно брякало, потом снова слышался только ускоренный осторожный топот сапог.
Берестовский замыкал небольшую колонну.
Переулками подошли к железной дороге, перелезли через кирпичную ограду, перебрели неглубокую речонку; спотыкаясь на рельсах, холодно блестевших в темноте, перебежали через мертвые пути, где стояли раскрытые настежь на обе стороны товарные вагоны.
Моргаленко первым полез но крутому склону железнодорожной выемки, и Берестовский вскоре увидел, как его фигура замаячила на фоне черного неба. Моргаленко махнул рукой, бойцы начали карабкаться вверх. Берестовский медленно лез за ними, иногда хватаясь за траву, иногда оступаясь и сползая вниз… Пасеков, наверно, не стал его дожидаться, сел в свою «эмку» и рванул на левый берег. Что он скажет там, на левом берегу? «Вот вам, — скажет, — шинель вашего Берестовского». — «А Берестовский?» — «Да что ж Берестовский, условились встретиться вечером, а тут — приказ…» — «Жалко парня», — пробормочет Железный Хромец и добавит мысленно: «Он должен был привезти мне альбом…» Страшная мысль прорезала сознание Берестовского: неужели он что-то знал, Железный Хромец? Нет, этого не может быть, стечение обстоятельств, не больше. Хорошо, пусть стечение обстоятельств, но один знает обстоятельства лучше, другой хуже, а третий знает и не обращает на них внимания… Берестовский вдруг вспомнил встречное движение машин на заднепровском грейдере и тяжело сказанные слова женщины с противогазом на лестнице: «Сдаете фашистам Киев?» Значит, и она знала, только он ничего не знал, не замечал за своими мыслями всего, что происходило вокруг… Теперь уже поздно думать обо всем и доискиваться истины, нужно быть готовым ко всему — и делу конец.
Во всю длину Красноармейской на линии стояли темные трамвайные вагоны. Поблескивало стекло, чернели вверху безжизненные контактные дуги и провода. Улицу перебегали какие-то фигуры, четверо, согнувшись, тащили зеркальный шкаф, женщина несла большую лампу со светлым в темноте шелковым абажуром, длинный шнур со штепсельной вилкой волочился за нею по мостовой.
— Вылез чертополох, — услышал Берестовский усталый и злой голос одного из бойцов, — двадцать пять лет глушили, а он — вот тебе! Недоглушили, значит!
Бойцы шли твердым шагом, не оглядываясь, словно не хотели глядеть на мародеров, растаскивавших магазины, на дворников, которые с равнодушным видом стояли на тротуарах.
Из магазина у Бессарабки выскочили двое, нагруженные белыми коробками, в которые обычно упаковывают ботинки. Один увидел бойцов, молча шагавших по мостовой, и снова нырнул под полуопущенную железную штору.
— Куда ты? — крикнул ему другой. — Это ж свои!
— Черту лысому они свои — прогудело из-под шторы.
Моргаленко остановился, пропустил мимо себя бойцов и сказал Берестовскому:
— Шлепнем гада?
— Поздно, не поможет, — ответил Берестовский, и они пошли рядом.
Чернели ночные деревья, дома стояли вдоль улиц, длинные цветочные рабатки отделяли тротуары от проезжей полосы асфальта, небо начинало медленно освещаться над всем этим, но душа города уже оставила его. Он был мертв, несмотря на видимость жизни, раскрывавшейся перед глазами Берестовского. Все доброе, что жило, трудилось, боролось, творило, радовалось и плакало в этом городе, все, что любило тут, надеялось, находило и теряло, все доброе исчезло уже или глубоко притаилось в эти минуты, зная, что прошло время для добра, а все злое, что долгие годы жило таясь и ждало своей минуты, которая никогда не настала бы, если бы не фашисты, вышло из своих нор и стало на место добра, чтобы царить на этих улицах, в этих домах, под этими неслыханной красоты деревьями.
На углу Крещатика и улицы Ленина Гриша Моргаленко остановил свой маленький отряд.
— Тут, за углом, помещался наш штаб формирования, — сказал он Берестовскому. — Я зайду… Может, там кто остался.
— Пойдем вместе. — Берестовскому не хотелось стоять на углу и смотреть, как из магазина «Гастроном» выносят ящики масла, тащат кольца колбас и головки сыра. Двери многоэтажного универмага тоже были распахнуты настежь, туда входили люди и, выходя обратно, выносили на плечах штуки мануфактуры, пальто, люстры, выкатывали велосипеды.
— Вместе так вместе, — согласился Моргаленко, и они направились к гостинице; бойцы двинулись за ними.
Рассвет пробивался в узкие окна. Внизу было пусто, на втором этаже слышались тревожные женские голоса. Моргаленко пошел по лестнице, Берестовский, положив руку на кобуру револьвера, двинулся за ним. Голоса наверху, верно испуганные их шагами, смолкли, послышалось быстрое постукивание высоких женских каблуков, все стихло.
У окна виднелась тонкая девичья фигура, белая крахмальная коронка горничной прикрывала ее волосы, на спине белели тесемки фартука.
— Ой, товарищ лейтенант! — обернувшись на звук шагов, всплеснула руками девушка. — Это вы! А мы думали… Девчата, выходите, это наши!
Девушки обступили Моргаленко и Берестовского, вид у них был испуганный, растерянный.
— Что ж вы сидите тут? — хмуро сказал Моргаленко. — Из нашего штаба никого уже нет?
— Нету, нету! — замахали руками девушки. — Еще вечером снялись, бросили нас. Всё бросили!..
Моргаленко молча посмотрел на Берестовского.
— Что ж они бросили?
— Там внизу оружия полно.
— Оружие нам нужно.
— Там и гранаты, и патроны, и винтовки…
Внизу, в превращенных в цейхгауз номерах гостиницы, бойцы уже набивали подсумки и карманы патронами, обменивали тяжелые самозаряжающиеся винтовки на более короткие и легкие карабины, обвешивались гранатами.
— Вот что, девушки, — сказал Моргаленко, затыкая за пояс две гранаты накрест, — вам тут оставаться нельзя… Плохо вам будет, понимаете?
— А немцы уже близко? — спросила девушка в крахмальной короне, развязывая у себя за спиною тесемки белого фартука.
— Не знаю.
— Я пойду с вами, товарищ лейтенант.
— Ой, Маруся! — все вместе закричали девушки. — Куда ж ты пойдешь, Маруся? А как же мы?
— Бегите домой, девчата. — Марусе наконец удалось развязать тесемки. — Слыхали, что Гриша… что лейтенант сказал?
Она поспешно набросала в сумку с красным крестом индивидуальных пакетов и крикнула:
— Чего стоите? Чтоб духу вашего тут не было!
Маруся кричала на своих девчат, глядя совсем в другую сторону. Берестовский проследил за се взглядом и увидел, что глаза девушки остановились на лице лейтенанта и ждут от него последнего слова.
Берестовский сразу все понял. Он понял, что имел в виду Моргаленко, останавливая свой отряд на углу Крещатика, что думал он, когда сказал: «Может, там кто остался…» Берестовский представил себе и те дни, когда Гриша Моргаленко «формировался» в этой гостинице, и сумерки, и рассветы у окна в полутемном коридоре, и тихие ночные шаги девушки в крахмальной коронке на каштановых волосах, и шепот за бархатными красными портьерами — все представил себе Берестовский, глядя на бледное, полное ожидания лицо Маруси.
Лицо Ани возникло перед его глазами впервые за эту ночь. Аня была недосягаемо далеко, он не знал, увидит ли ее когда-нибудь снова, и от этого его любовь к ней наполнилась болью, которой он не мог и не пытался преодолеть.
— Пошли, — сказал Моргаленко.
Маруся махнула рукой своим девушкам и первая пошла к выходу.
Светлое утро уже проплывало над каштанами.
— Ты какой дорогой пойдешь? — спросил Берестовский Моргаленко, когда отряд подошел к углу Николаевской.
Он подумал: как же без шинели в таких обстоятельствах, впереди осень, холодные дожди, неизвестно, что его ждет, — и решил разыскать свою шинель, хотя и понимал, что это нелепость: где и как бы он мог ее найти, не зная даже, в каком номере «Континенталя» жил Пасеков?
— А мы напрямик, к Днепру и на мост Евгении Бош, — ответил Гриша. — А что?
— Я поднимусь по Ольгинской и догоню вас, — бросил без дальнейших объяснений Берестовский и свернул на Николаевскую.
Под деревьями у чугунных столбов знакомого подъезда стояла камуфлированная «эмка». По тротуару, нервно навивая на палец цепочку от ключей зажигания, ходил Бурачок, рыжий шофер Пасекова.
— Что вы здесь делаете, Бурачок? — сдавленным от волнения голосом крикнул Берестовский. — Где Пасеков?
Из-за лобового стекла на Берестовского глядело лицо Пасекова.
— Где вы шляетесь, черт вас возьми? — прошипел Пасеков. — Что ж я, гибнуть должен из-за вашей шинели?
Бурачок, не ожидая приказания, крутанул ручку и вскочил в машину. Мотор заревел, из выхлопной трубы вырвалось облако молочно-белого вонючего дыма.
Шофер развернулся, машина рванулась вверх, мелькнул за каштановыми деревьями фронтон театра, они свернули влево и выползли на Институтскую. Тут Бурачок до отказа нажал на акселератор.
Захлебываясь, рычал мотор. Берестовскому казалось, что «эмка» сейчас взлетит в воздух или напорется на сваренные из швеллеров ежи, которыми были перегорожены улицы так, что оставались только узкие проходы. Бурачок пролетал между ежами с отчаянной ловкостью. Машина вылетела в конец улицы Кирова и затарахтела вниз по усыпанному опавшими листьями булыжнику крутого Днепровского спуска. Аскольдова могила метнулась в сторону, махнув опущенными ветвями плакучих ив; слева под обрывом бело-голубой полосой блеснул Днепр; песчаный берег Труханова острова был мертвым, только кое-где сиротливо торчали на нем пятнистые фанерные грибки и зеленые павильончики пляжа. Машину накренило на последнем повороте. Серыми арками поднялся над водою мост.
У самого моста Берестовский снова увидел Гришу Моргаленко. Лейтенант шел впереди своих бойцов, усталый, черный от пыли, размазанной с потом по лицу, но откровенно счастливый.
Мост был загорожен противотанковыми ежами в несколько рядов, оставался только узкий проезд — для одной машины. Сразу же за ежами стояли, радиаторами на Слободку, несколько грузовиков с включенными моторами. Тяжело дышащий старший батальонный комиссар с большим усталым лицом спешил навстречу «эмке» с револьвером в руке, несколько бойцов с винтовками бежали за ним.
— Ваше счастье, — сказал он, проверив документы Пасекова и Берестовского, и повторил: — Ваше счастье…
Берестовский и Пасеков увидели, как грузовики за ежами выпустили дым из выхлопных труб и тронулись с места. Только один не двинулся: его шофер, без пилотки, стоял на подножке и смотрел на обрыв, господствующий над мостом; тонкие волосы струились у шофера над головой, он придерживал их растопыренными пальцами. Вдруг на мосту появилось много военных, все это были офицеры, они лежали на быках возле минных зарядов и теперь, когда наступила минута, которую ценой жизни нельзя было пропустить, в последний раз проверив исправность взрывных устройств, вылезали с двух сторон на мост и на ходу впрыгивали в грузовики, медленно двигавшиеся в сторону Слободки. Несколько женщин с узлами и детьми были в это время на мосту. Они бросились бежать, их подхватили в машины, темп движения все нарастал, еще минута — и грузовики уже съезжали с моста на левом берегу.
— Стой! Кто такие? Стой, говорю! — послышался у машины голос батальонного комиссара.
К мосту подходил Моргаленко со своими бойцами.
— Это наши, наши! — крикнул Берестовский, высовываясь из машины.
— Вы их знаете? Откуда вы их знаете? — Батальонный комиссар опустил револьвер, но его бойцы держали винтовки наготове.
Солдаты Моргаленко стояли с винтовками на ремне и молча улыбались. Странно было видеть широкие, почти детские улыбки на этих грязных, заросших щетиной лицах. Моргаленко вытаскивал из нагрудного кармана свое удостоверение, он тоже по-детски улыбался, его мальчишеские губы дрожали. Маруся стояла рядом с ним, лямка санитарной сумки врезалась ей в плечо, длинная прядка волос падала на щеку, она откидывала ее, не сводя глаз со своего лейтенанта.
Батальонный комиссар раскрыл удостоверение и вдруг, не заглянув в него, поднял голову, напряженно прислушиваясь. Берестовский посмотрел в небо — оно было чистое, слух его некоторое время не улавливал ничего, потом он услышал тяжелый железный грохот, который сразу заглушил все другие звуки вокруг, — Берестовский понял, что грохот распространяется не в небе, а стелется по земле, сотрясает обрыв и приближается к ним.
— Как фамилия лейтенанта? — крикнул батальонный комиссар, зачем-то поднимая вверх удостоверение Моргаленко.
— Григорий Моргаленко, — ответил Берестовский, радуясь тому, что знает фамилию командира последней роты защитников города.
Батальонный комиссар сунул Моргаленко удостоверение и махнул рукой, словно загоняя лейтенанта с бойцами на мост.
Сквозь заднее стекло машины Берестовский увидел, как Гриша Моргаленко и его бойцы вместе с бойцами батальонного комиссара бросились заставлять противотанковыми ежами узкий проход для машины на мосту. Потом все они вскочили в грузовик, стоявший наготове; батальонный комиссар вспрыгнул на подножку возле шофера и всунул голову в кабину. Грузовик рванул с места и, громко сигналя, обогнал «эмку»… Мост казался невероятно длинным, каждый новый пролет, каждая новая дуга его наплывали на глаза всей своей тяжелой серой массой. Когда «эмка» наконец затарахтела по булыжной мостовой Предмостной Слободки, сплошь забитой пушками, грузовиками и людьми, в воздухе загрохотал взрыв.
8
Ночью Гулоян и Шрайбман показали Варваре подбитый танк.
При луне нельзя было поднять голову над бруствером — немцы сразу начинали стрелять, однако Варваре удалось увидеть словно известью облитый корпус танка, сливавшийся с фантастически освещенным покатым полем. На поле то там, то здесь виднелись похожие на лунные кратеры большие и малые воронки с высокими выщербленными краями.
Просторное поле наползало пологим скатом на Варвару, край его вздымался взбухшим холмом на западе. Танк сполз с холма и стоял посреди поля, развернувшись наискось к окопу бронебойщиков.
Когда начали вспыхивать молнии и полил ливень, за прямыми струями воды, протянувшимися с неба до земли, проступала на миг приземистая масса танка, возникал задранный вверх длинный ствол пушки с дырчатым утолщением дульного тормоза на конце, вырисовывались тяжелые катки с натянутыми исшарканными траками. Все это зловеще блестело, словно облитое маслом, и, казалось, тяжело приближалось к окопу. Молния гасла, и все тонуло в мокрой тьме, которая беспокойно гремела, шелестела, вздыхала, словно на ощупь шевелилась вокруг окопа.
— Не спи, Сема, — сказал Гулоян. — В этой темноте ничего не разберешь. Захочет немец — голыми руками нас задушит.
— Куда ему в такой ливень! — Голос Шрайбмана прозвучал простуженно и хрипло. — Он и носа сейчас не высунет из окопа…
— А далеко до немцев?
Варвара давно хотела спросить об этом, но боялась, что бронебойщики дурно истолкуют ее вопрос; теперь вопрос возник сам собою, он звучал вполне по-деловому, и Гулоян по-деловому ответил:
— Метров пятьсот — шестьсот… А может, немного больше. Нет, шестисот не будет. Тут ему все видно с холма как на ладони.
— Жаль, что дождь, — вслух подумала Варвара. — Если дождь не перестанет, ничего не выйдет.
— А ты постарайся. — Гулоян тоже говорил устало и хрипло, как Шрайбман. — Надо, чтоб хороший снимок был, не зря же тебя за ним послали…
— Я постараюсь.
Варвара хотела объяснить Гулояну, что удачный снимок зависит от освещения, но не успела.
— Хватит вам, спать не даете, — пробормотал Сема.
Он все ниже и ниже оседал в окопе и теперь жался уже в самом углу узкой щели. Присутствие женщины в окопе волновало Шрайбмана, он вздыхал, беспокойно шевелился, осторожным покашливанием прочищал пересохшее горло, затихал на некоторое время, потом снова начинал вздыхать.
Варвара по этому вздыханию и покашливанию, по беспокойным движениям, по тому, что Шрайбман все отодвигался от нее и старался занимать как можно меньше места, понимала волнение солдата. Ей неудобно было сидеть поджав ноги и упираясь спиной в мокрую стену окопа. Под плащ-палаткой, которой они накрылись, было душно. Гулоян валился ей на левое плечо тяжелой головой, посвистывал носом и иногда что-то говорил по-армянски сквозь сон… Сема Шрайбман не спал.
Внезапная печаль и жалость к этому измученному солдату охватили Варвару. Удушливая сырая тьма сжимала ее, стеной вставала перед глазами, колыхалась и, казалось, падала наискось, куда-то за окоп, к реке позади… В своем крутом падении тьма подхватывала лес на левом берегу, все, что было в лесу и за лесом, и в кругообразном движении уносила в такую неимоверную даль, что Варваре начинало казаться: только их трое — она, Гулоян и Шрайбман — остались на этом озаряемом непрерывными молниями поле лицом к лицу с грозной силой, которая в виде мертвого танка неподвижно ползет на них с холма.
Варвара не чувствовала ни страха, ни одиночества — совсем иное чувство владело ею. Она ощущала в себе какую-то силу, защищающую и от страха и от одиночества. Эта сила делала ее спокойной и почти счастливой. Если б этой силы не было в ней, если б она исчерпалась, потерялась или исчезла, были бы и страх, и одиночество, и беспомощность, но их не могло быть, пока она чувствовала свою общность с Гулояном и Шрайбманом, с этими двумя усталыми и спокойными солдатами, что сидели рядом с ней, и с теми неизвестными и близкими ей солдатами, что сидели в окопах всюду — на этом поле и далеко за его пределами, на всей этой бедной и горячо любимой земле.
Слезы катились у Варвары из глаз. Пройдет короткая ночь — прекратится ливень, засветает над полем, ей придется вылезать из окопа и ползти по грязи, немцы будут стрелять из окопов, и, может быть, какая-нибудь пуля, осколок мины или снаряда попадет в нее и прервет ее существование, прервет, но не убьет, не сможет убить той печали и любви, что живут в ней.
Варвара поняла, что любовь, которая, казалось, давно уже умерла в ее сердце, на самом деле не умерла, что она живет и что сила этой живой любви безгранична. В это мгновение она обнимала сердцем весь мир: темную землю, лежащую вокруг, вспаханную железом и засеянную кровью, искалеченную растительность, которая так же не хотела умирать, как и люди ее земли, те люди, к которым и была обращена ее любовь… Она сама не знала, что это за чувство и почему оно так обжигает ее, чего в нем больше — женской безграничной и чистой доброты или материнской нежности и скорбной боли — или то и другое слилось в ее душе в один источник, которому нет ни имени, ни объяснения… Только знать бы, что этот источник не исчерпается в ней, будет питать ее и все существующее вокруг, и тогда поверишь, что мир будет жив этой ей присущей силой и этой силой победит.
На рассвете Варвара вылезла из окопа. Дождя давно уже не было. Теперь стальная масса танка не выглядела так грозно, как ночью при лунном свете и вспышках молний, и хотя блестели отполированные движением гусеничные траки, хотя вздымался, как хобот слона, длинный ствол пушки, хотя виден был даже крест, нарисованный на броне танка, это была уже только груда мертвого металла, неподвижного и беспомощного.
— Видишь, куда я попал? — сказал Гулоян, прижимая ладонью голову Варвары к земле. — Снимай, чтоб видно было дырку.
Они вылезли из окопа и лежали рядом: Варвара посредине, Гулоян и Шрайбман по бокам. Надо было ползти к танку. Варвара передвинула на спину аппарат, чтоб не волочился по земле.
— Ползти умеешь? — снова сказал Гулоян. — Голову не поднимай, прижимайся к земле и работай локтями…
— Мы вас будем прикрывать, если что, — хрипло сказал Шрайбман.
Варвара прижалась щекой к земле — земля была мокрая и теплая, — уперлась локтями и поползла… Бронебойщики прыгнули в окоп.
Пока Варвара сидела в окопе с Гулояном и Шрайбманом, пока они разговаривали меж собою, то обращаясь к ней, то делая вид, что ее тут нет, пока она отвечала или молча слушала их, Варвара жила одной жизнью, сосредоточенной вокруг того главного, о котором она обещала себе больше не забывать и в самом деле думала теперь все время.
Когда же она выползла на поло, когда Гулоян и Шрайбман вернулись в свой окоп и она осталась одна перед лицом главного, появились будто две Варвары. Одна двигалась, переставляла локти, сгибала колени, прижималась всем телом к земле, подтягивалась и ползла к танку, а другая в это время, точно совсем забыв и не заботясь о первой, всматривалась и вслушивалась во все, что ее окружало, видела и слышала, оценивала и делала выводы для той Варвары, которая ползла по полю и одновременно думала о вещах, далеких от того главного, что делала она теперь.
В этом удвоении Варвары было много удивительного, но это было именно удвоение, то есть обогащение ее жизни, а не раздвоение, которое равнозначно раздроблению, то есть обеднению существования. Хотя одной жизнью Варвары теперь было то, что она делала, а другой — то, что делалось в ней, эти два ее существования не мешали друг другу, наоборот, они сливались в одно, очень сложное, мучительное и радостное бытие, которого Варвара никогда раньше не знала.
Мокрая после ночного дождя земля медленно плыла под нею. Варвара головой раздвигала стебли выжженной, неживой травы, которую уже не могла спасти влага, снова упиралась локтями, подгибала колени и, распрямляясь как пружина, подтягивала тело вперед. Она не видела ничего, кроме земли и травы, но по виду земли и колючих ломких стеблей чувствовала, что вот-вот уже должен рассеяться утренний однообразный сумрак, из-за леса поднимется солнце и она сможет нацелиться объективом на танк и щелкнуть затвором.
Трава, если смотреть на нее лежа на земле, кажется лесом, каждый сухой стебель вырисовывается на фоне неба, как разветвленное безлистое дерево неизвестной породы.
Перед глазами встала зубчатая земляная стенка, словно нарочно сложенная из комьев неодинаковой величины, от нее несло горьким запахом орудийного пороха, — Варвара поняла, что это воронка от снаряда, и начала обползать ее стороной. Рядом оказалась еще одна воронка, приходилось обползать и ее. Варвара боялась, что так можно сбиться с дороги и уклониться в сторону от танка. Варвара подняла голову и увидела, что ползет правильно, но вместе с тем убедилась, что почти не продвинулась вперед — танк не приближался.
Хорошо, что немцы не стреляют, — наверно, не видят ее. Нужно только успеть доползти, а там это дело одной минуты — нацелиться и щелкнуть… Главное, чтобы немцы не заметили и не начали стрелять, пока она не сфотографирует.
Солнце уже поднялось над лесом, до танка остается, может, с сотню метров, он хорошо освещен, но на всякий случай надо сделать три снимка с разной выдержкой, тогда все будет в порядке.
Вот еще одна воронка, это, должно быть, старая, между комьями земли успела прорасти трава — светло-зеленые, свежие, похожие на ланцеты стебельки, их еще не успел опалить огонь, и они зеленеют, ни о чем не догадываясь, не зная, где выросли и что с ними будет.
Странная тишина стоит вокруг, ни малейшего намека на опасность, — зачем же она тогда ползет по мокрой земле, вся уже перепачканная, мокрая от обильного жаркого пота, заливающего глаза, от крупных капель воды, которые стряхивает трава, когда она раздвигает ее головой и плечами, продвигаясь вперед?
Варвара уперлась локтем во что-то твердое и острое и вытащила из-под себя продолговатый кусок железа, выщербленный, блестящий на щербинках, похожий на обломок желоба… Может быть, наш, а может, и немецкий… какой большой и тяжелый, таким сразу убьет, ничего и не почувствуешь. Впрочем, и маленького тоже хватит…
Вдруг танк оказался совсем рядом, резко освещенный солнцем с востока, повернутый к ней в три четверти, так, что хорошо был виден и перед с задранным вверх пушечным стволом, и бок с пробоиной, которую сделал Гулоян. Теперь ясно было видно, что танк горел — краска на нем облупилась, и, хоть прошел дождь, кругом смердело горелым бензином, машинным маслом и металлом.
Взять еще немножко вправо, и будет очень удобно.
Миновать еще одну воронку, громадную, с высоко поднятыми краями. Не видно, что там, внутри, только слышен отвратительный сладковатый запах.
Варвара быстро проползла мимо, стараясь не думать о том, что может быть за высокими краями этого почти вулканического кратера.
Она легла на живот в маленькой впадинке и, поворачивая кольцо, начала наводить объектив на резкость. Танк не помещался в кадре, все время что-то оставалось за кадром — то поднятый вверх ствол пушки, то пробоина, которую обязательно нужно было сфотографировать.
«Ладно, — подумала Варвара, — сначала я сниму так».
Она щелкнула затвором, опершись на локти, провернула пленку и щелкнула еще раз… Теперь снова вперед, пробоина — главное, возьмем ее крупным планом… Пи-ить, — пропело над головой, — пи-ить, пи-ить!
Она подползла почти к самому танку, хоть теперь было трудней; аппарат она не выпускала из рук, все время примериваясь к нему глазом.
Конечно, если б она не была такая большая, немцам трудно было бы в нее попасть, но и так не попадут, ничего у них не выйдет… Очень хорошую пробоину сделал Гулоян, это, наверное, бензобак, жаль, что она ничего в этом не понимает. Ладно, там разберутся. Ее дело — сфотографировать.
Фить-фить! Фить-фить! Хлещет, как прутиком, и совсем не страшно. Когда что-то делаешь, не может быть страшно. Правда, в той впадинке было куда лучше, безопасней, но из впадинки она не могла бы так хорошо сфотографировать пробоину, теперь уж можно возвращаться, надо только снять общим планом, чтобы виден был и ствол… Танк очень похож на мамонта с задранным хоботом — так он был нарисован в книжке, которую она читала в детстве… Там было про охоту на мамонта, его обступали люди с дротиками и камнями, он падал в большую, заранее вырытую яму и ревел, подняв длинную свою трубу. А этого остановили, когда он перевалил через холм, а если б не остановили, он раздавил бы окопы и людей в окопах, Шрайбмана и Гулояна, и пошел бы давить и уничтожать все, что они прикрывали, сидя в окопе со своим длинным бронебойным ружьем.
Варвара отползала от танка, держа наготове аппарат. Все время приходилось поднимать голову. Она не задумываясь опиралась на локти, словно над ней не летали пули, смотрела в аппарат и, убедившись, что танк все еще не помещается в кадре, снова прижималась к земле и снова отползала. Ползти, лежа на животе, ногами назад было гораздо тяжелей, чем продвигаться вперед, но Варвара не хотела терять ни минуты, — как только танк полностью войдет в кадр, она щелкнет затвором, и все будет готово. Наконец-то, вот уже танк весь в кадре… Если взять два-три шага в сторону, будет еще лучше. Они не очень за ней охотятся, эти немцы. Так себе, развлекаются. Сделают несколько выстрелов, словно для того, чтоб напомнить ей, что тут война, а не игрушки, п смолкают… Вот и хорошо.
Варвара всползла на небольшой бугорок, прижала к глазу аппарат. В квадратик кадра медленно вдвинулся танк, весь целиком, хорошо освещенный, видный во всех своих больших и тяжелых деталях… Солнце блестело на траках, на крашеной обгорелой броне. Черно-белый крест выделялся, словно только что нарисованный.
Варвара щелкнула затвором, провернула пленку, чтобы сделать еще один снимок, и в это время — кррак! — мина разорвалась у траков танка. Варвару забросало влажной землей. Кррак! Кррак! Все ближе и ближе. Короткими тяжелыми очередями заговорил пулемет.
Страх прижал Варвару к земле. Она закрыла голову руками. Аппарат лежал рядом с нею вверх объективом — она забыла о нем. Варвара не знала теперь, что ей нужно делать: лежать вот так, стараясь врасти в землю, слиться с нею, сделаться незаметной, или спешить из этого ада, который на все лады крякает, воет и взрывается вокруг нее. Ощущение времени исчезло. Возможно, время совсем остановилось, парализованное железным адом, который пытался поглотить Варвару, возможно, оно пролетало с невероятной быстротой. Варвара оторвала лицо от земли, открыла глаза — и неожиданно увидела Сашу.
— Не надо бояться, — сказал Саша. — Не надо. Видишь, я тоже тут.
— Я не боюсь, — преодолевая свое удивление и страх, сказала Варвара. — Я только не знаю, что делать…
Саша казался совсем спокойным, он склонился над ней еще ниже, словно припал своими глазами к ее глазам.
— А ты уже все сделала?
— Я хотела сделать еще один снимок, застраховаться, а тут и началось.
— Конечно, надо застраховаться. Сделай.
— Я боюсь поднять голову.
— А ты не бойся. Гляди на меня и не бойся.
Еще не веря Саше, что можно не бояться, Варвара нащупала рукой аппарат, подтянула его к себе и подняла голову. Саша спокойно шел к танку, она увидела его спину, широкую и уверенную, он тоже был в солдатском обмундировании, большими хорошими сапогами твердо шагал по сожженной земле. Танк был виден сквозь Сашу. Вот он остановился, повернулся лицом к ней… Варвара щелкнула затвором. Когда она опустила аппарат, Саши уже не было. Страх снова охватил ее.
Варвара не слышала ни шелеста и кряканья мин, ни завывания и разрывов снарядов, ни пулеметных очередей и посвистывания пуль, пока Саша был с нею. Когда Саши не стало, все звуки боя ожили и словно удвоились, ад снова бушевал и клокотал, но уже некому было его укротить.
Варвара покатилась с бугорка, ударилась спиной о мягкую земляную стену, почувствовала отвратительный смрад и поняла, что оказалась у той большой бомбовой воронки, которую ей пришлось обползать по дороге к «тигру». Можно переждать огонь в воронке. Ей удалось быстро перебраться через поросший зеленой травкой земляной вал. На дне воронки еще стояла вода после ночного дождя. В воде лежал убитый немецкий солдат. Пилотка валялась рядом с ним. Немец лежал скорчившись, зажимая живот обеими руками.
«Я его сейчас выброшу отсюда, этого фашиста, — сказала себе Варвара. — Не буду я с ним лежать в одной воронке».
Прикасаться к убитому немцу руками она не хотела. Она уперлась плечами в вал воронки и, глядя в неожиданно близкое и веселое небо, начала отыскивать ногами немца. Сапоги наконец нашли его спину, и Варвара начала толкать убитого вверх по внутреннему склону воронки, не решаясь взглянуть на него и боясь, чтоб он не покатился на нее.
Стрельба на поле все усиливалась. Теперь стреляли уже с обеих сторон — и немцы, которые хотели во что бы то ни стало уничтожить Варвару, и наши, которые своей стрельбой хотели подавить немецкий огонь и дать Варваре возможность доползти до окопов, спастись от немецкого огня и спасти пленку со снимками. С этого, собственно, началось, но постепенно и немцы и наши забыли, что именно заставило их открыть огонь и контрогонь, и стреляли уже потому, что все время чувствовали себя непримиримыми врагами, и поэтому должны были стрелять друг в друга до тех пор, пока в пулеметах и винтовках были патроны и пока у минометов и пушек не исчерпался запас мин и снарядов.
Варвара сделала последнее усилие, и убитый распухший немец медленно перекатился через вал воронки и так же медленно сполз с него на поле.
В воронке осталась серая окровавленная пилотка.
«Надо ее выбросить, — решила Варвара, но не в силах была шевельнуться, так утомила ее борьба с убитым фашистом. — Наверно, он из этого «тигра». Выскочил на поле, когда танк загорелся, тут его и ранило в живот… И он спрятался в эту воронку и зажимал рану пилоткой».
С веселого синего неба в воронку глядело жаркое солнце. Пот заливал Варваре лицо. Стрельба то затихала, то разгоралась с новой силой. Не слышно было уже ни одиночных выстрелов, ни пулеметных очередей. С обеих сторон били минометы, шуршание мин проносилось над головой, потом к нему присоединилось гудение снарядов: начала бить артиллерия, тоже с обеих сторон, как вчера, когда она сидела в землянке телефонистов на кукурузном поле.
Мысль о пилотке не оставляла Варвару.
«Надо выбросить наконец эту пилотку. Я не успокоюсь, пока не выброшу пилотку».
Варвара подцепила пилотку носком сапога и выбросила ее из воронки. Слышно было, как мокрая пилотка тяжело шлепнулась на землю. Этим неясным, глуховатым звуком исчерпались все иные звуки, словно все вокруг внезапно вымерло.
Над Варварой быстро пролетали маленькие белые облачка, с запада на восток, туда, где были наши окопы, река и лес за рекой. Колыхалась похожая на острые длинные ланцетики свежая травка на краю воронки, и все было окутано мертвой тишиной, даже собственного дыхания она не слышала, только стучала кровь в голове, словно хотела разорвать ее изнутри.
«Что ж это будет, — холодея от ужаса, думала Варвара, — что ж это будет, мамочка? Неужели я никогда ничего не услышу — ни голоса, ни шума, ни песни? Зачем же я тогда осталась в живых? А может, меня снова ранило, а я этого не чувствую? Ведь не чувствовала же я ничего, когда упала бомба. Нет, это не то, совсем не то… Тогда была тьма, а теперь я все вижу. Почему же я ничего не слышу? И почему у меня ничего не болит?»
Над ухом у нее что-то зазвенело, запело тоненько и нежно, разомлевший от жары комарик, который залетел сюда от реки, сел Варваре на щеку возле уха и воткнул свое жальце в кожу, чтоб напиться ее крови. Варвара услышала сначала голос комарика, потом почувствовала острый короткий укус и засмеялась над своим испугом, услышала свой смех и поняла, что с ней ничего не случилось, что тишина залегла над полем потому, что с обеих сторон перестали стрелять, — ей надо немедленно вылезать из воронки и ползти к своим!
Но только Варвара осторожно перенесла себя через поросший травою вал воронки, только она прижалась грудью к давно уже просохшей на солнце траве и поползла вниз по полю к нашим окопам, как все началось снова — и выстрелы из винтовок, и пулеметные очереди, похожие на рычание собак, и посвистывание пуль над головой, и жабье кряканье мин где-то впереди, там, куда она ползла, — и снова возник перед ее глазами Саша, такой, каким она видела его в последний раз: большими печальными глазами он глядел на нее и словно звал к себе… Но теперь за лицом Саши она видела еще одно лицо и со страхом и радостью боялась узнать его. Оно то отплывало вдаль и почти исчезало, то становилось рядом с милым, незабытым лицом Саши, то выплывало вперед и приближалось к ней, и тогда уже лицо Саши теряло резкость, словно выходило из фокуса, расплывалось и исчезало.
Оба лица смазались и расплылись, будто соединились с воздухом, окружавшим их, и перед глазами Варвары снова были только спутанные, изломанные, искалеченные стебли травы, сухая ботва, какие-то почерневшие плети, комья сыпучей земли, трещинки в почве, переплетенные истлевшей паутинкой корешков, маленькие ямки от осколков, воронки от бомб и снарядов… И как только Варвара увидела все это, так снова вспомнила о своем аппарате и о том, что в нем пленка. Пленку она должна обязательно вынести отсюда, пусть ее ранят, пусть будет что угодно — увечье, смерть, но пленка должна быть цела. Варвара подсунула под себя аппарат и ползла теперь, прикрывая его собой.
Грохот, свист и вой не утихали, не смолкали разрывы мин и снарядов, то впереди, на линии наших окопов, то где-то позади, за стальной обгорелой массой немецкого танка, который теперь уже был не нужен Варваре, потому что, зафиксированный в скрытом изображении на светочувствительной пленке, лежал в аппарате, прикрытом ее телом.
Варвара подняла голову и увидела замаскированные сухой травой брустверы наших окопов — до них было уже совсем близко. Над одним окопом шевелился длинный ствол бронебойного ружья с черной коробочкой на конце; он передвигался над бруствером, то поднимаясь, то медленно опускаясь. За окопом стояли голые кусты, безлистые, обгоревшие, как и все на этом поле, но Варваре они показались спасительными; добраться до окопа, до этих безлистых кустов — и все будет в порядке… Она повернулась поперек поля и, переворачиваясь с боку на бок, прижимая обеими руками к груди аппарат, покатилась по склону, прямо на окоп бронебойщиков.
— Жива! Молодец! — закричал над ней Гулоян.
Варвара увидела над собой черное, заросшее недельной щетиной лицо Гулояна, широко открытый, полный белых зубов рот и блестящие глаза. Гулоян изо всех сил тащил ее за бруствер окопа, на его тыловую сторону, кричал что-то радостное и непонятное — по-армянски.
— А где Шрайбман? — закрывая глаза от усталости, скорее у самой себя, чем у Гулояна, шепотом, еле шевеля губами, спросила Варвара.
Гулоян услышал ее вопрос.
— Немного нехорошо с Шрайбманом вышло… Сфотографировала? Ползи к комбату, он тут где-то, за кустами… Ползи, сейчас тут плохо будет.
Лицо Гулояна еще больше почернело, он уже не улыбался и не кричал, а говорил однообразно ровным голосом; хотя огонь не утихал, Варвара хорошо слышала каждое его слово.
— Мне же надо сфотографировать вас обоих, — сказала Варвара, нащупывая коробку аппарата, — обязательно надо.
— Потом когда-нибудь сфотографируешь… — не глядя на Варвару, сказал Гулоян, и она увидела, как он ухватился за свое длинное ружье и сосредоточенно припал к нему. — Ты ползи, тебе говорят…
Варвара не спеша навела аппарат и сфотографировала Гулояна в то время, когда он наводил свое ружье, поворачивая его на сошках, вслед за врагом, на которого Варваре некогда было смотреть. Она только услышала звук выстрела, увидела, как Гулоян вытягивает черный крючковатый палец из щели спусковой коробки и дует на него, увидела и подумала, что он, должно быть, прищемил палец, — и, снова перебросив аппарат за плечи, поползла сквозь кусты к реке.
В кустах, замаскированных ветвями и сетками, стояли противотанковые пушки; Варвара не могла видеть их ночью, когда шла сюда. У пушек хлопотали артиллеристы, ими командовал молодой безусый лейтенант, он прикрикнул на Варвару:
— Дырку на животе протрешь, корова! Чего ползаешь, как ящерица?
Варвара подняла голову, лейтенант удивленно поглядел на нее и сказал:
— Извините… Сфотографировали? Ну, ползите, ползите. Капитан Жук вон за теми кустами…
Варвара уже поднялась, шатаясь от усталости; она хотела идти дальше, но теперь лейтенант заставил ее лечь на землю.
— Мы люди привычные, — сказал лейтенант, — а вам, товарищ корреспондент, надо быть осторожней… Извините, мне некогда.
Лейтенант побежал к пушке, придерживая на боку большой тонкий планшет; Варвара, пригибаясь, побрела через кусты. Тут везде были люди, и все делали свое дело, не обращая на нее внимания. Над неглубоким узким окопом на животе лежал капитан с острыми усиками и круглыми колючими глазами. Из окопа торчала голова телефониста в большом ржавом шлеме. Капитан что-то кричал в трубку, беспокойно ерзая по земле и все время меняя положение ног в блестящих сапогах.
«Это, наверно, и есть капитан Жук», — подумала Варвара.
— Товарищ капитан… — сказала она.
— Какого черта? — крикнул, не глядя на нее, Жук. — Вижу собственными глазами… Шесть… Говорю, шесть…
— Товарищ капитан, — повторила Варвара, не понимая, к кому относится это «какого черта», — мне надо на левый берег.
Жук посмотрел на Варвару колючими черными глазами, усы его остро встопорщились над губой.
— Какого же черта вы тут стоите? Идите на переправу, там будет видно.
— Но, товарищ капитан…
— Какие могут быть «но», к чертовой матери? Что вы, не видите — танки идут! Убирайтесь отсюда, пока я вас…
Жук снова прижал к уху трубку, прикрыл ладонью мембрану и начал кричать раздраженным голосом:
— Шесть… Давай помогай огнем!
Он поднял голову, увидел, что Варвара во весь рост идет через кусты, медленно отклоняя безлистые ветки, и крикнул:
— Пригибайтесь, дамочка! Вам что, жизнь надоела? Какого черта?!..
Навстречу Варваре ударил громкий орудийный выстрел, над ее головой с тяжким гудением пролетел снаряд. Она побежала навстречу выстрелу, низко пригнув голову и не обращая внимания на кусты, которые больно хлестали ее ветками. Снаряды из-за реки летели все чаще и чаще, своим низким гудением словно создавая защитный потолок над головою Варвары. Она перестала бежать и, выпрямившись, спокойно пошла вперед.
Над рекою, там, где поросший кустарником край поля кончался песчаным обрывом, Варвара села на ящик из-под снарядов и поправила волосы. Пилотка была у нее за поясом, странно, что она не потерялась. Варвара встряхнула и надела пилотку. Гимнастерку и штаны отчистить как следует не удалось. Передвинув на бок фотоаппарат и придерживая его рукой, Варвара начала медленно сходить с обрыва на берег,
9
Под береговым обрывом, на узкой полосе серого, истоптанного сапогами песка, Варвара увидела много людей. Солдаты и офицеры разных званий, пехотинцы и артиллеристы сидели и лежали под обрывом, словно на отдыхе после пешего перехода; Варваре показалось, что они собираются купаться. Многие были без сапог, некоторые без гимнастерок, в нательных рубахах, а то и без рубах. Пожилой солдат с коротким туловищем, неловко выбросив вперед прямую как палка, неестественно длинную ногу, а другую поджав под себя, стягивал через голову разорванную, грязную гимнастерку, лица его не было видно, из-под гимнастерки слышался громкий стон; у другого грудь была замотана чем-то белым, и сквозь это белое, медленно расплываясь, проступало сырое темно-красное пятно, на сером лице с ввалившимися небритыми щеками остро торчал словно из воска вылепленный, мертвый нос; только приглядевшись к этому лицу, Варвара поняла, что перед ней тяжелораненый.
На узкой полосе берегового песка собирали раненых, чтоб переправлять за реку. Река и левый берег были под обстрелом, потому их тут и собралось так много. Раненые жались под правобережным обрывом, который защищал от прямых попаданий, но не спасал от осколков, когда снаряд разрывался в воде.
Оглядевшись, Варвара увидела под обрывом справа небольшую группу офицеров, обступивших перевернутую лодку. На лодке сидел, спиною к реке, невысокий генерал с темным, почти коричневым лицом. Варвара узнала Костецкого и направилась к лодке, обходя раненых, иногда переступая через ноги солдат, иногда останавливаясь, чтобы пристальней взглянуть на чье-то измученное болью лицо.
— Помоги, сестрица, — сказал раненный в плечо солдат с всклокоченной рыжей бородкой, но, видимо, совсем еще не старый, когда Варвара хотела обойти его, направляясь к лодке.
— Очень болит?
— Горит, сестрица, огнем палит…
Варвара склонилась над раненым, почувствовав себя виновной в том, что и этот солдат и все остальные, что лежат и сидят тут, ранены и терпят боль из-за нее. Если бы она лучше, более умело вела себя там, на поле, если б она не задерживалась у танка, а, сделав свое дело, незаметно добралась к своим, немцы не открыли бы огонь и не было бы ни раненых, ни… Варвара испугалась мысли, что должны быть, есть еще и убитые.
Мысль о том, что огонь мог возникнуть совсем по иной причине, что он мог быть запланирован задолго до того, как она получила приказ сфотографировать танк и появилась на поле, не могла ни утешить, ни успокоить Варвару. Она увидела перед собой лицо Гулояна и услышала его голос: «С Шрайбманом немного нехорошо… потом когда-нибудь сфотографируешь…»
Лицо Гулояна исчезло, и рыжебородый солдат спросил:
— Отрежут руку?
— Не отрежут, — ужасаясь этой новой своей вины, почти охнула Варвара, — как же можно без руки?
— В том-то и дело; как жить без руки, — пошевелил губами рыжебородый, — если б еще левая, а то без правой как?
Генерал Костецкий сразу увидел Варвару. Он сидел на опрокинутой лодке неестественно прямо, словно у него внутри были подпорки и только эти подпорки не позволяли ему согнуться и упасть. Костецкий говорил с кем-то по телефону. Варвара не поняла, о чем, лишь по отдельным словам, к которым она уже успела привыкнуть, — «коробки», «канделябры», «огурцы» — ей стало ясно, что разговор касается того, что происходит в эту минуту на поле, откуда она пришла. Офицеры молча прислушивались к телефонному разговору своего генерала и не обращали на нее внимания. Костецкий окончил разговор, коротким движением бросил трубку в руки телефонисту и повернул голову к Варваре так осторожно, словно у него болела шея.
— А вот и наш корреспондент, — оглядев ее пристальным взглядом с головы до ног, с усилием улыбнулся Костецкий. — Долгонько вам пришлось поползать!
— Да не меньше часа, — тоже через силу улыбаясь, отозвалась Варвара.
Костецкий засмеялся неожиданно звонко, откидываясь всем корпусом назад. Засмеялись и все, кто стоял вокруг лодки.
— А что? Больше? — недоверчиво и смущенно посмотрела Варвара на Костецкого и на офицеров, которые теперь уже все заметили и с интересом разглядывали ее.
Генерал вытащил из кармана большие серебряные часы на длинной толстой цепочке, потряс их зачем-то над ухом, поглядел на циферблат и сказал:
— Павел Буре. Уже пятнадцать часов двадцать две минуты… Вот оно как, товарищ корреспондент!
Варвара растерянно оглянулась, словно спрашивая у окружающих: неужели она так долго пробыла на поле? — и тут среди офицеров увидела Лажечникова.
Лажечников стоял у лодки на коленях, не глядя в ее сторону, и что-то отмечал красным карандашом на карте, которую придерживал обеими руками немолодой майор в очках на крючковатом носу. Не отрывая глаз от карты, Лажечников протянул в сторону левую руку — в ней сразу же оказалась телефонная трубка.
Мягкий голос Лажечникова звучал тут резко и грубо, в нем чувствовалось нетерпение и беспощадная требовательность, которая не допускала ни проволочек, ни возражений. И все-таки, слушая этот голос, Варвара не могла не вспомнить, как он звучал ночью в лесу, через который они шли, там, у гнилых пней, что изливали голубой свет и наполняли душу непонятной тревогой. Варвара поняла, что, хоть Лажечников и не обращает, не может теперь обращать на нее внимания, он давно уже знает, что она тут, и сейчас, не глядя на нее, чувствует ее присутствие и радуется тому, что она тут, что с ней ничего не случилось на поле, под немецким огнем.
Костецкий что-то сказал Лажечникову, полковник поднял к нему лицо — и немая связь между ним и Варварой порвалась.
Варвара отошла от лодки и села под обрывом, выбросив вперед ноги в тяжелых грязных сапогах, «Хорошо было бы заснуть», — подумала она и закрыла глаза. Кто-то осторожно коснулся пальцами ее плеча. Она увидела перед собой молодого солдата в аккуратной форме, с чистым подворотничком.
«Это, кажется, Ваня, — вспомнила солдата Варвара, — я видела его в блиндаже Костецкого».
Ваня держал в руке открытую банку консервов и кусок хлеба.
— Поешьте немножко, — сказал Ваня, — вы ведь, наверное, ничего не ели… Генерал о вас заботится.
Он несмело улыбнулся.
— Может, хотите подбодриться? Я вам налью немножко…
Фляжка, обшитая серым сукном, колыхнулась у Вани на поясе. Варвара кивнула. Ваня с готовностью схватился за фляжку, но в это время послышалось:
— Ваня! Где ты там?
Ваня вскочил и побежал на голос генерала. Варвара съела консервы, они показались ей очень вкусными, хоть это была корюшка в почти черном томате, маленькие костлявые рыбки — она их никогда не любила, — вытерла хлебом жестянку и пошла к реке. Став на колени, Варвара умылась, напилась и, глядя в воду, поправила волосы. Вот и кончилась ее охота за «тигром». Теперь нужно срочно переправляться на левый берег, ехать в корреспондентский хутор, проявлять пленку, печатать… Генерал Савичев ждет. Никогда не знаешь, как все сложится, — множество непредвиденных препятствий встает на пути, а ссылаться на них нельзя — война. Нужно дело делать, а не оправдываться.
Лажечников стоял, прислонясь спиной к обрыву, глядел в небо над заречным лесом. Она подошла к нему и поздоровалась.
Лажечников обнял Варвару взглядом больших серых глаз. Варвара боялась на него смотреть. Сделав над собой усилие, голосом сдавленным и чужим она сказала:
— Прикажите переправить меня на левый берег… Танк я сфотографировала. Много раз.
Лажечников, глядя в небо, ответил!
— До темноты это невозможно.
— Я давно уже должна была сдать снимки — меня ждут.
— Как только лодка появится на реке, немцы возобновят обстрел.
— Проскочу как-нибудь, — упрямо сказала Варвара, стараясь не смотреть на Лажечникова; он казался ей очень озабоченным и отчужденным.
— Очень возможно… — Лажечников говорил медленно, словно давая ей время понять то, чего она не понимала. — Вас нам, вероятно, удастся переправить… Но я вынужден думать не только о вас. Видите, сколько у меня тут раненых? И больной командир дивизии… Придется ждать до темноты.
Голос его звучал мягко, но эта мягкость не обманывала Варвару, она понимала, что спорить с ним, настаивать — бесполезно. Она и не могла уже настаивать: чувство собственной вины, возникшее, когда она увидела раненых на берегу, с новой силой охватило ее. Она подумала не только о них, но и о тех, что лежали еще на поле боя, ожидая санитаров. Если нельзя переправиться сейчас, она не будет отсиживаться до темноты под обрывом.
— Хорошо, — сказала Варвара. — Я оставлю вам аппарат, в нем пленка, а сама пойду…
— Куда? — снова всматриваясь в небо над лесом, коротко бросил Лажечников.
Варвара подняла голову к обрыву, и он понял ее.
— Вам туда нечего возвращаться. Вы свое дело сделали.
Хмурясь и уходя в себя, Варвара сказала:
— И все-таки я должна туда вернуться.
Над лесом, в том квадрате неба, куда смотрел Лажечников, возник еле слышный за грохотом боя на поле равномерный низкий гул моторов.
— Хорошо, идите, — сказал Лажечников и протянул руку за фотоаппаратом.
Варвара сняла ремешок, не расстегивая пряжки, через голову, и, отдавая аппарат Лажечникову, подумала, что ведь это Сашин аппарат и что она раньше никому его не доверяла, а теперь с такой легкостью отдает этому полковнику, которого совсем не знает и так по-детски боится.
Самолеты уже грозно трубили над обрывом.
— Они успеют отбомбиться, пока вы туда доберетесь, — сказал Лажечников и, кивнув Варваре, пошел к лодке, на которой все в той же напряженной позе сидел Костецкий, окруженный офицерами и телефонистами.
Проходя мимо лодки, Варвара услышала у себя за спиной:
— Вот так тетя! Ничего не боится,
— Должно быть, не понимает.
— Тут трудно не понимать!
Варвара не оглянулась.
Конечно же Варвара многого не понимала из того, что творилось вокруг нее. Не понимала она и того, каким образом генерал Костецкий, полковник Лажечников и все офицеры, которых она видела, очутились тут, под обрывом, в двух шагах от поля, куда двигались сейчас немецкие танки. Проще даже — она не думала об этом. Раз Костецкий и Лажечников тут, значит, им надо тут быть, понимала Варвара, и этого понимания ей вполне хватало.
10
Ночь становилась все тяжелее для генерала Костецкого. Острая боль, охватившая его во время одевания, новый приход военврача Ковальчука с медсестрой Ненашко и новое впрыскивание, а главное — то, что при этом были Повх и Курлов, вконец обессилили его. Костецкий лежал под своим тулупом почерневший как уголь, боясь пошевелиться, чтобы не вызвать новых спазмов, и в его мозгу медленно, как пульс умирающего, билась неотвязная мысль: «Пусть они уйдут, пусть они оставят меня в покое!» Непосильную задачу взял он на себя. Враг, с которым ему приходится бороться, сильнее его. Этого врага он не перехитрит, будь он хитрее во сто крат. Против его, Костецкого, хитрости у того врага есть своя смертельная хитрость, и хотя он, Костецкий, всегда наготове, всегда держит сухим свой порох, тот враг умеет нападать на него так неожиданно, так коварно, что вся готовность Костецкого идет прахом, ничего от нее не остается, кроме бессильного желания, чтобы все скорее кончилось — кончилось раз и навсегда. «Пусть они уйдут, пусть они оставят меня в покое!» Но Повх и Курлов не уходят из его блиндажа; военврач Ковальчук и Оля Ненашко сделали свое дело и сразу же ушли, а Повх и Курлов сидят у стола и молчат. Их молчание не обещает ничего хорошего; наверное, они знают что-то, чего Костецкий еще не знает, и потому не уходят, что должны сказать ему, с чем пришли в блиндаж, когда он упал на свои нары и не смог больше подняться. Ваня побежал за Ковальчуком, а они стояли над ним и видели, как он корчится от боли, слушали его стоны, наклонялись над ним, молча переглядывались, думая, что ему уже пришел конец… Нет, это еще не конец, но уже скоро, очень скоро. Может, нужно им сказать, что он знает, с чем они пришли? Или не сдаваться до последней минуты, притворяться, что он ничего не знает? Они не посмеют ему сказать, и он уйдет из этого блиндажа, из этого заболоченного леса, с этого последнего в его жизни рубежа командиром дивизии, а не уволенным за непригодностью к делу, умирающим генералом. Нет, нужно взять себя в руки, нужно собрать все силы и но сдаваться, как не сдается солдат, даже зная, что смерть неизбежна! «Пусть они уйдут!» Сколько раз он видел, как, вынужденные биться с врагом, во много раз более сильным, бойцы не только не терялись, не только не думали об отступлении, а становились еще злее и бились до последнего патрона, до последней гранаты, которую берегли для себя… Видел он и таких, что отступали — по приказу командования или по собственной воле, все равно, — потом они уже нигде не могли скрыться от суда собственной совести, если у них оставалась совесть, если ее не убивал страх. «Пусть они оставят меня в покое!» Костецкий делает отчаянное усилие, осторожно открывает глаза — веки такие тяжелые и так медленно раскрываются, словно они из железа, — он открывает глаза и встречается взглядом с глазами Повха и Курлова. Они смотрят на него озабоченные и суровые: он не ошибся, что-то случилось, но, кажется, совсем не то, что он думал. Повх толстыми пальцами берется за дужку своих очков, снимает их. Костецкий видит мелкие добрые морщинки у его глаз. Курлов тоже улыбается как может; оба откровенно рады тому, что он хоть на короткое время победил своего врага.
— Ну, как дела, Родион Павлович? — говорит, улыбаясь морщинками возле добрых глаз, начальник штаба Повх. — Прошло?
— Прошло, — пробует улыбнуться ему в ответ Костецкий. — Прошло, будь оно проклято!
— Ну вот и хорошо, — быстро бросает себе за уши дужки очков полковник Повх. — Не время ему поддаваться… Перебежчик с очень важными сведениями.
Легко, совсем не чувствуя боли, почти без усилий, генерал садится на нарах. Белый тулуп сползает на доски пола, Костецкий бросает взгляд на Ваню. Ваня сразу же подходит с кителем, генерал, не подымаясь, всовывает руки в рукава и застегивается на все пуговицы.
— Допрашивали?
— Отказывается отвечать, — пожимает плечами Курлов. — Заявляет, что скажет только генералу.
— Разрешите, товарищ генерал? — говорит Повх голосом, в котором слышится: «Вы сумеете?» — и добавляет: — Командир разведроты ожидает с ним тут.
— Давайте его сюда.
Ваня выходит. В блиндаж, на ходу сбрасывая плащ-палатку, спускается командир разведроты капитан Мурашко, за ним два автоматчика вводят промокшего до нитки немца в грязном мундире. Он без пилотки, волосы слиплись у него на сером лбу, глаза воспаленно блуждают. Увидев в блиндаже генерала, перебежчик словно спотыкается и, окаменев, останавливается у входа. Руки его прилипают к штанам, из рукавов течет вода и по серым, грязным пальцам перекатывается на штаны. Командир разведроты делает знак автоматчикам, они тоже выходят.
Костецкий долго смотрит на немца. Он их немало уже видел за два года войны, начиная с первого дня, даже раньше: первого он увидел еще до начала… Тот перебежчик так же навытяжку стоял перед ним с помертвевшим, серым лицом, и так же бегали у него глаза. Командир пограничного отряда позвонил Костецкому по телефону, и он выехал на заставу ночью, набросив на плечи кожаный реглан. Тот перебежчик стоял у стены в хате, и если бы не плакат с пограничниками и собаками у него за спиной, лица его нельзя было бы отличить от белой стены. Тот перебежчик был очень молодой, высокий парень, из рукавов короткого и узкого для него мундирчика выглядывали большие красные руки с черными полосками земли под кривыми ногтями. Что заставило его перебежать к нам? Ему угрожал расстрел, он был пьян и ударил офицера — разве этого мало? Военно-полевой суд действует быстро и неумолимо. К тому же он всегда сочувствовал русским, его отец был коммунистом — неужели это тоже не имеет значения? Больше всего тот перебежчик боялся, что русские его расстреляют; сначала он не думал об этом, теперь он был убежден, что его так или иначе расстреляют. С часу на час начнется война, врагов большевики не милуют. К тому, что говорил перебежчик, стоило прислушаться, командир пограничного отряда не напрасно вызвал Костецкого ночью.
Белесые волосы наползали тому перебежчику на глаза, сведенные судорогой губы дрожали, когда он сказал:
— Двадцать второго июня в четыре часа утра гитлеровские войска перейдут в наступление по всей советско-германской границе.
Костецкий смотрел на него таким неподвижным взглядом, что тот перебежчик, бледнея еще больше и с еще большим дрожанием большого трусливого рта, произнес, наверное, заранее обдуманные слова:
— Господин генерал может меня расстрелять двадцать второго июня в пять часов утра, если окажется, что я лгу.
Все было правдой. Костецкий с первой же минуты знал, что тот перебежчик говорил правду, его правда только подтверждала данные дивизионной разведки и наблюдения бойцов пограничного отряда, но командующий армией, которому он немедленно протелефонировал, не поверил или не захотел поверить той правде и презрительно бросил в трубку:
— Не поддавайтесь на провокации, полковник. Вы читали заявление ТАСС? У нас прекрасные отношения с кумом.
Командующий армией больше доверял куму, чем восставшему из небытия штрафному полковнику Костецкому, который случайно не сгнил за колючей проволокой и прибыл в его распоряжение с основательно потрепанными нервами. Командующий армией, сам того не зная, был больше озабочен тем, чтобы угадывать мысли своего ослепленного вымышленной непогрешимостью начальства, нежели тем, чтобы верить собственным глазам. Через несколько дней за это пришлось расплачиваться дорогой ценой и самому командующему, и полковнику Костецкому, и тем солдатам, которых не успели привести в боевую готовность, подтянуть к границе из учебных лагерей, и тем летчикам, самолеты которых горели на прифронтовых аэродромах, в то время как они по-воскресному спали в своих городских квартирах, и тем танкистам, боевые машины которых, превосходно покрашенные, но не заправленные горючим, стояли на колодках в ожидании инспекции.
Сегодняшний перебежчик был и похож и не похож на того, давнего. Этот перебежчик был такой же грязный и перепуганный, но, в отличие от того, этот не бил в пьяном виде своего офицера, не ссылался на то, что у него отец коммунист, — он видел собственными глазами, что готовится наступление, слышал собственными ушами, на какое время наступление назначено, и чувствовал собственной шкурой, чем должно окончиться это наступление для него самого и для гитлеровцев в целом, — вот почему этот перебежчик и стоял сейчас в блиндаже генерала Костецкого, и грязная вода перекатывалась по его пальцам на штаны; вот почему он дрожащими губами раскрывал ту тайну, которую так тщательно оберегало гитлеровское командование.
— Немедленно отправить в штаб фронта, — отчетливо выговаривая не только каждое слово, но и каждый звук каждого слова, ясным и чистым голосом, с которого словно слетела постоянная ржавчина, сказал Костецкий. — Капитан Мурашко отвечает собственной головой.
Командир разведроты подбросил руку к фуражке и застыл от радостного волнения: не каждый день приходилось ему выполнять такие ответственные задания.
— Выполняйте, — кивнул ему Костецкий.
Капитан Мурашко посмотрел на перебежчика, и тот, поняв его взгляд, медленно повернулся к выходу из блиндажа. Он втянул голову в плечи, как будто ожидая выстрела в затылок. Там, где он стоял, на полу осталась лужа грязной воды. В блиндаж вернулся Ваня и сразу же стал подтирать доски куском старой, рваной шинели.
Неуверенность, к этому времени уже парализовавшая действия немецкого командования, спускаясь сверху по ступенькам армейской субординации все ниже и ниже, от штаба к штабу, от высших генералов к полевым командирам и к солдатам, превращалась внизу в отсутствие веры в возможность победы для фашистского вермахта, — отсутствие веры и привело этого перебежчика в блиндаж Костецкого.
Костецкий знал, что перебежчик говорит правду. Знал он также и то, что теперь уже не могут, не смеют не поверить ему ни в штабе армии, ни в штабе фронта, — два года тяжкой науки войны научили учитывать и предвидеть все, уже нельзя было платить большой кровью за просчеты и ошибки, за раздутые самолюбия и боязнь правды.
Полковник Повх и полковой комиссар Курлов ушли выполнять приказания командира дивизии. Костецкий, чувствуя себя почти совсем здоровым и бодрым, вышел из блиндажа. Медленно светало. Он не сдался, не отступил перед своим внутренним врагом, не отступит и перед новым гитлеровским наступлением. Пусть начинают, его дивизия готова, готов и он сам. Фактора неожиданности, которым удобно оправдывать ошибки и просчеты, не было и нет. Есть фактор желания видеть правду, считаться только с ней и стоять до конца.
Дождь перестал. Костецкий, в накинутой на плечи шинели, сидел у своего блиндажа на чурбане, на котором Ваня обычно колол дрова. Генеральская фуражка лежала козырьком вверх у ног Костецкого на траве, в фуражке белел большой скомканный платок. Иногда, осторожно наклоняясь, Костецкий брал двумя пальцами платок и вытирал холодный пот, проступавший у него на лбу. Ваня стоял рядом с равнодушным видом, но весь напряженный, готовый броситься в огонь и в воду по первому слову своего генерала.
Офицер связи, разбрызгивая скатами «виллиса» лужи на поляне, подъехал к блиндажу. Он не успел доложить о цели своего прибытия — Костецкий, упираясь руками в колени, тяжело поднялся, выпрямился и резко сказал:
— Привезли? Машину можете оставить тут, если пойдете со мной. Ну как? Решайте.
Офицер связи положил в руки генералу завернутые в газету орденские знаки и удостоверения к ним и только потом, приложив руку к фуражке, отчеканил:
— Имею приказ срочно быть у вашего соседа, полковника Лаптева. Со мной корреспондент, просит разрешения присутствовать при вручении наград.
— Где ж он, ваш корреспондент?
Костецкий продолжал говорить резко, короткими, рублеными фразами.
— Я здесь, товарищ генерал.
Из «виллиса» начал вылезать капитан в жестяном плаще и кирзовых сапогах с очень широкими голенищами. Плащ зацепился за что-то в машине, капитан прыгал на одной ноге, стараясь отцепиться. Костецкий расхохотался. Наконец капитан отцепился от машины и стал с независимым видом прилаживать на голове основательно помятую новую фуражку.
— Вы до войны в цирке служили? — крикнул Костецкий, наливаясь гневом. — Смирно! Извольте представиться по форме!
Капитан загрохотал плащом, становясь смирно. Лицо его удивленно окаменело. Он раскрывал рот, как рыба на сухом берегу, и не мог выговорить ни слова. Офицер связи, тоже капитан, не отрывая правой руки от козырька, локтем левой толкнул его в бок. Корреспондент глянул на него, догадался и приложил руку к фуражке. Движение это было беспомощное и нерешительное, оно сразу выдало в капитане закоренелого штатского, гнев Костецкого как рукой сняло, и он миролюбиво проговорил:
— Что ж вы молчите? Кто вы такой?
— Военный корреспондент, капитан Уповайченков, прибыл… прибыл…
Лицо Костецкого окаменело: разбуженная смехом боль опять начала подниматься от поясницы вверх по спине.
— Вижу, что прибыли… — сквозь зубы проскрежетал он. — Уповать прибыли? Или чтоб я на вас уповал?
— Разрешите присутствовать при вручении орденов награжденным бронебойщикам, товарищ генерал, — наконец пробормотал Уповайченков.
— Вы впервые на фронте?
— Впервые, товарищ генерал.
— А что вы делали до сих нор?
— Исполнял свои обязанности.
— Это хорошо…
Костецкий усмехнулся, подумав, что ему везет на встречи с корреспондентами. Сначала та женщина, похожая па домашнюю хозяйку, теперь этот чудак в жестяном плаще… Светало, и Костецкий все яснее видел беспомощное лицо Уповайченкова. Ну что ж, два года исполнял свои обязанности, пускай теперь посмотрит, как исполняют свои обязанности другие.
— Пойдете со мной, — бросил он кратко, повернулся и пошел по тропинке в лес.
Ваня двинулся следом за ним. Офицер связи только теперь оторвал руку от фуражки и повернул лицо к Уповайченкову.
— Что ж вы стоите, капитан? — сочувственно и насмешливо улыбаясь, сказал офицер связи. — Отстанете и заблудитесь в лесу… Желаю успеха!
Он вскочил в «виллис», шофер нажал на газ, и машина, раздавливая скатами воду в лужах, исчезла за деревьями.
Уповайченков, ошеломленный всем, что случилось, постоял недолго на месте, потом мотнул упрямо головою и двинулся за генералом. Вскоре он догнал его на узкой тропинке под лесными деревьями. Ваня загородил спиною дорогу Уповайченкову. Капитан безнадежно поплелся сзади. Крупные капли воды, падая с деревьев, громко барабанили по плащу Уповайченкова, он не обращал на это внимания, впервые, возможно, задумавшись над сложностью фронтовой, еще не известной ему жизни.
Уповайченков очень высоко ценил себя, и не столько за свои достоинства, сколько за положение, которое в силу случайного стечения обстоятельств занимал последние годы. Он работал в аппарате центральной газеты и авторитет этой газеты распространял на себя, требуя и к себе того уважения, каким пользовалась его газета.
Уповайченков думал, что стоит только ему назвать свою газету, и каждый должен благоговейно затрепетать перед ним, ее полномочным корреспондентом. Так оно, собственно, и было в довоенные годы, когда Уповайченкову приходилось выезжать на места. Он называл свою газету, даже не называл, а молча показывал редакционное удостоверение, и перед ним открывались все двери, его водили, поддерживая за локоть, как знатного гостя, от которого много зависит, возили на машине, кормили в ответственных столовых, показывали разные сводки и предупредительно знакомили с разными людьми… Он чувствовал себя если не богом, то одним из первых его заместителей на земле и с сознанием своей высокой миссии прибыл на фронт. Он решил любой ценой поговорить начистоту с Костецким и все порывался опередить Ваню, но Ваня преграждал ему дорогу без всякой задней мысли, потому что считал своим долгом быть как можно ближе к генералу.
«Ничего, придем на место, я тебе все скажу! — успокаивал себя Уповайченков, из-за Ваниной спины приглядываясь к Костецкому и чувствуя в душе с каждым шагом все более острую обиду и все большую враждебность к нему. — Я на своем месте, может, больше генерал, чем ты, и никому не позволю…»
Костецкий совсем забыл об Уповайченкове, шел медленно и прямо, заложив руки под шинель и сжатыми кулаками упершись в поясницу.
Ваня ни на шаг не отставал от генерала. Он все видел и все понимал. Переполненный жалостью к своему необыкновенному генералу, суровому и даже злому по внешним впечатлениям посторонних людей, но в глубине души доброму и даже нежному, восхищаясь Костецким, любя и боясь его, как иной раз любят и боятся родного отца, Ваня не решался ни слова сказать Костецкому и только время от времени громко вздыхал.
«Пустил бы он меня вперед, — думал Ваня. — Так нет, идет впереди, а тут и деревья, и кусты, и корни перепутались, мало ли что может случиться… И когда уже начальство решит что-нибудь насчет него? Все ведь знают, какой он больной, а никто не берет на себя решения. Да был бы я командующим армией или фронтом, разве стал бы я ждать, пока он тут погибнет от боли? Я все взял бы на себя, он бы у меня и опомниться не успел, как очутился бы в Москве, в самом лучшем госпитале! Конечно, я понимаю, как ему должно быть тяжело оставлять дивизию. Но войне еще не конец, останется и для него работа. Эх, нет моей силы да воли в этом вопросе!»
Они как раз проходили мимо гнилых пней, и Костецкий на минуту остановился, чтоб посмотреть фосфорическое свечение сгнившей древесины, о котором он знал, как и все люди его дивизии. Но рассвет уже вступал в свои права, и пни стояли в будничной своей обычности, ничем не напоминая о той сказке, которая творилась тут каждую ночь. Генерал вздохнул и двинулся дальше.
«Я их всех перехитрил, — думал генерал Костецкий, ступая по тропинке и глядя не под ноги, а высоко вверх, почти в самое небо, уже проступавшее серо-синими пятнами между кронами деревьев. — И Савичева, старого друга, перехитрил, и командующего тоже… Еще немного — и будет мой верх. Теперь я уже знаю это. Пусть оно грызет меня, пускай и совсем загрызет — только бы знать, что у Гитлера затрещало по всем швам. Собрал против нас все, что смог наскрести в своей империи, и думает, что мы снова покажем ему спину… Нет, брат, теперь из этого ничего уже выйти не может. Выстоим, и не только выстоим, но и ударим так, что покатишься, как с горы пустая бочка!»
Они вышли из лесу. Ваня побежал вперед к речке, чтобы вызвать лодку. Костецкий остановился возле ольхи, словно отбежавшей от леса и остановившейся в одиночестве почти у самого берега. Уповайченков, запыхавшись от непривычки к долгой ходьбе, подошел к генералу.
«Вот чучело, прости господи! — посмотрел на него Костецкий и снова углубился в свои мысли. — Перехитрил! Их я перехитрил, а себя… Себя, конечно, не перехитришь, знаю, чем все это окончится… Все знаю».
Ваня вернулся и увидел, что его генерал стоит, прислонившись к дереву плечом.
В одной руке Костецкий держал фуражку, зажав в другой платок, он утирал со лба пот. Он смотрел вниз и гнулся почему-то не назад, как привык видеть Ваня, а вперед. Воротник его свежего генеральского кителя был расстегнут, на темной шее билась наполненная кровью, узловатая жилка.
Уповайченков растерянно топтался возле Костецкого, наклонялся, стараясь заглянуть ему в лицо снизу, и бормотал испуганным голосом:
— Да что это с вами, товарищ генерал? Да вы, кажется, очень больны? А, товарищ генерал?
— Лодка ждет, — тихо сказал Ваня, отстраняя рукой Уповайченкова.
— Убери от меня этого жестяного капитана, Ваня.
Костецкий тяжело отклонился от дерева, положил платок в фуражку и, неся ее перед собой, пошел за Ваней к берегу.
Уповайченков рысцой побежал за ними.
Данильченко переправил генерала через реку. Костецкий, широко расставив ноги для равновесия, стоял в лодке. Когда лодка толкнулась носом в песок, Костецкий пошатнулся. Ваня подхватил его под локоть и вывел на берег. Уповайченков остался на левом берегу.
11
Оставив Варвару в окопе бронебойщиков, Лажечников и Жук вернулись на берег. Тут у Жука был вырыт в отвесном обрыве не то чтобы блиндаж, а довольно просторная ниша, вход в которую прикрывался плащ-палаткой.
— Будете переправляться? — спросил Жук у Лажечникова, который молчал всю дорогу.
— Останусь у тебя до рассвета, — отозвался Лажечников, остановившись над водой и делая руками энергичные движения, чтоб размять утомленное целодневным напряжением тело.
— Тогда идемте в блиндаж, там у меня уютно… И поужинать найдется.
Жук тоже принялся размахивать руками и приседать, подражая командиру полка. В темноте не было видно, как это смешно у него выходит, как топорщатся его колючие усы и с непривычки останавливаются круглые пронзительные глаза,
— Не пойду я в блиндаж, Жук, — сказал Лажечников, — успею под землей належаться… Есть у тебя лишняя плащ-палатка? Подремлю немного на песке — ночь теплая.
Голос Лажечникова прозвучал неожиданно печально. Жук обратил на это внимание, отметил мысленно: «Что это так допекло нашего полковника?» — и исчез в блиндаже.
Жук вынес из своей норы плащ-палатку и аккуратно расстелил ее на песке под самым обрывом. Потом он снова исчез ненадолго и вернулся с надувной резиновой подушечкой в руках.
— Соедини меня со штабом полка, — сказал Лажечников.
— Рябцев, — крикнул Жук, — вызови штаб полка!
Над окопчиком поднялась голова телефониста, которого Лажечников раньше не заметил.
Пока Жук пыхтел, надувая подушечку через короткую каучуковую трубку, как футбольный мяч, Лажечников переговорил со своим штабом и отдал необходимые распоряжения.
— Что ты там сопишь? — спросил он Жука, устраиваясь на плащ-палатке.
— Да вот надуваю эту трофейную бестию… Все же не на кулаке будете спать.
— Выбрось ты ее к чертовой бабушке… Что это у вас за привычка хватать всякое немецкое дерьмо?
— Солдаты принесли. Я сам, вы знаете, как к этому отношусь…
В голосе Жука слышалась обида: он искренне хотел, чтобы командир полка удобно выспался, и никак не мог думать, что трофейная подушечка, которую ему действительно принесли солдаты еще под Острогожском, может так рассердить Лажечникова. Ужинать Лажечников отказался. Жук лег рядом с полковником на шинели и лежал молча, так же, как Лажечников, заложив руки под голову, Подушечку он не решился подложить, отбросил ее в сторону, теперь из нее с шипением выходил воздух… Над лесом поднялась луна; река, влажно дышавшая неподалеку от их ног, блеснула полосой непрозрачного стекла. Темные вершины лесных деревьев за рекой резко отделились от проясневшего, почти белого неба.
— А что я вам скажу, товарищ полковник, — заговорил Жук. — Дальше нам сидеть в обороне не годится… Ждем, чтоб немец первый ударил?
— Не от нас зависит, Жук, — глядя на луну, которая почему-то очень быстро, словно торопясь, поднималась в небо, ответил командир полка. — Должно быть, так надо.
— Выдохлись мы, что ли?
— За нами в резерве целый фронт стоит, ты это знаешь.
— Вот и ударить бы по Гитлеру так, чтобы щепки полетели!
— Ударим, когда будет приказ.
— Или он по нас ударит, пока мы будем канителиться,
Лажечников устало засмеялся.
— Все возможно, капитан Жук. Одно только могу тебе сказать: как только получу приказ наступать, сразу же поставлю боевое задание твоему батальону, ни минутки не задержу.
Лажечников покачал головой, которая, как в колыбели, лежала в подложенных под нее ладонях. Жук понял, что командир полка не склонен больше разговаривать, и тоже замолк.
Но капитана Жука беспокоило слишком много важных мыслей и неотложных вопросов, чтоб он мог спокойно спать. Часть этих мыслей и вопросов была его собственной, личной, а часть принадлежала не только ему, но и солдатам его батальона, и, ища на них ответа, он искал его не только для себя… Жук беспокойно зашевелился на своей шинели.
— Вы спите, товарищ командир полка?
— Заснешь с тобою, как же! — неохотно отозвался Лажечников. — Что тебе?
— Я вас вот о чем спросить хочу…
Жук замолчал, словно не решаясь задать полковнику тот вопрос, на который ему обязательно нужно было получить ответ, а потом все же преодолел свою нерешительность и начал издалека:
— Война, она ведь все же окончится когда-нибудь… не век будем воевать…
— А ты что, устал?
— Я не о том!
Командир батальона будто отмахнулся от неуместного вопроса, и Лажечников понял, что действительно Жук, если бы и устал, не завел бы об этом разговора.
— После войны обязательно мир будет, — не очень удачно формулируя свои мысли, горячо зашептал Жук, — вот я о чем… Сможем мы с немцами в мире жить?
Лажечников не ждал этого вопроса. Хоть в мыслях его всегда за войною как главная цель всех усилий армии и народа стоял мир, он никогда не наполнял понятие мира тем особым содержанием, которым наполнил его сейчас капитан Жук.
Лажечников слишком общо думал о вопросах войны и мира, он никогда не пытался представить себе послевоенные отношения с немцами во всей их конкретности. В том, что их непременно уже теперь надо представлять, убедил его вопрос Жука — неожиданный вопрос, который, можно было в этом не сомневаться, волновал не только командира батальона.
— Слишком много горя причинил нам немец, — снова зашептал, приближая к нему лицо, Жук, — слишком много горя, чтоб я с ним мирные чаи распивал!
Глаза капитана блестели в темноте, он то совсем близко наклонялся лицом к Лажечникову, то снова ложился на свою шинель и тяжело молчал, ожидая ответа.
Лажечников знал, что у Жука погибла вся семья во время отступления от границы в первые дни войны, знал, что Жук тяжко переживает свое горе, но никогда не ожидал, что это горе может с такой силой воплотиться в простой вопрос и требовать ответа. Разве мог Жук удовлетвориться словесным ответом на свой вопрос? Найди Лажечников самые убедительные слова, вряд ли мог бы он исчерпать ими то мучительное ожидание окончательной — навеки — расплаты, что жило в сердце капитана.
— Немцы разные есть, — сказал Лажечников, словно вслух думая над каждым своим словом, — не все они фашисты… С хорошими немцами почему бы и чаю не выпить.
— Нет хороших немцев! — крикнул капитан Жук, как пружиной подброшенный на шинели. — Вы Сталинград помните? Я в августе видел на переправе, как хорошие немцы из самолета обстреливали паром, которым переправляли детей через Волгу… Только панамки поплыли по воде… Белые такие, пикейные…
Жук промолчал о своих близнецах — девочке и мальчике, которые погибли под бомбами на шоссе Перемышль — Львов. Он не любил об этом говорить, его дети были живыми для него, молчанием он словно оберегал их от новой гибели — в своей памяти.
— У немцев не только Гитлер есть, — продолжал думать вслух Лажечников, — был у них и Либкнехт, и Роза Люксембург была…
— Когда все это было! — Жук снова оперся о локоть. — Вы думаете, я не знаю? И Кильское восстание было, и баррикады в Гамбурге… И Тельман! Только когда это было, говорю! Если есть хорошие немцы, как они допустили, чтоб Гитлер их превратил в фашистов?
— Сильных уничтожили, а кто послабей, поплыл по течению. Придется нам еще и руку им подавать, выводить на берег.
— А по-моему, полковник, пускай тонут. Разлили море крови, пускай и тонут в нем…
Жук лег на грудь, уткнулся лицом в сгиб руки и замолчал. Он тяжело дышал, словно выполнил тяжелую физическую работу и устал от нее, но постепенно его дыхание становилось спокойней и ровней — Жук заснул или притворился спящим, чтобы не слушать спокойных, рассудительных слов командира полка.
Война тоже спала в этот час. Луна уже высоко стояла в небе и рассеивала свой призрачный свет, словно подсиненной известкой заливала берег, молчаливую воду, высокий камыш и вершины деревьев за рекою.
Только Лажечников не мог заснуть. Разговор с Жуком взволновал его, он не знал теперь, кто из них прав. Оказалось, что все вопросы, решение которых откладывалось на будущее, надо было решать уже сейчас. Избежать их нельзя было никак, потому что они возникали не по прихоти равнодушно любопытствующего ума, а из обремененного горем и скорбью живого сердца. Жук, ставя перед ним свой вопрос, уже имел на него ответ, поэтому и не захотел слушать его проповеди — притворился, что спит…
С виду Лажечников был спокойным и уравновешенным, его выдержке в самых тяжелых обстоятельствах все завидовали, его умение принимать решения в сложнейшей обстановке командир дивизии ставил в пример другим командирам. Лажечников умел держать себя в руках, умел не распускаться, но сегодня… сегодня он сам не понимал, почему остался ночевать на плацдарме. Прямой необходимости в этом не было. Хотя Лажечников говорил капитану Жуку правду, что его тревожит поведение немцев, но в глубине души он знал, что это не вся правда: у него были и другие причины для тревоги.
В кармане Лажечникова лежало наконец-то прочитанное письмо Юры. Неровными большими буквами на темной бумаге из тетради в три косых Юра тупым химическим карандашом писал, что ему очень хорошо живется в детском доме, что теперь у них уже весна, снег растаял, но на улицу не пускают, потому что у него каждый день повышенная температура.
Письмо было, как от взрослого, без всяких жалоб, и Лажечников мысленно удивлялся недетской суровости своего Юры. Но когда же писалось это письмо, если в Камышлове только стаял снег? Правда, весна там должна начинаться позже.
Как он, должно быть, вырос, его мальчик! Можно подумать, что не он писал письмо, а кто-то водил по бумаге его рукой, подсказывал ему эти законченные фразы, эти почти взрослые мысли. Ни одной жалобы, ни одного детского слова, только в конце большими буквами: «Папа, разбей фашистов и возьми меня отсюда!» — и подпись: Юрий Юрьевич. Так его называли, когда он еще в колыбели лежал… Это у них в роду — старшего сына называть Юрием. Все они с деда-прадеда Юрии Юрьевичи Лажечниковы.
Юрий Юрьевич… Что он делает теперь, в эту ночь, в эту минуту, его мальчик? Спит, свернувшись калачиком под плохоньким одеялом, или только притворяется, что сон сморил его, а на самом деле лежит тихонько и думает, думает, думает свою недетскую думу — о матери, которую никогда не увидит, об отце, который должен разбить фашистов для того, чтоб забрать его из чужого, холодного Камышлова на берег теплой речки, где можно сидеть с самодельной удочкой, в одних трусиках, без рубашки, босиком и ловить плотвичек на червячка?
Ухнула вдалеке пушка, словно спросонья, и снова залегла тишина над берегом и над рекою. Лажечников прислушался, ожидая нового выстрела, но уже ничего не было слышно, только камыш прошуршал тихо-тихо, будто вздохнул и снова погрузился в сон.
Какая тихая ночь! Словно нет войны, словно не сидел Лажечников сегодня под огнем в траншее полкового КП, словно вовсе не было этих тяжких лет, жгучей боли, горьких утрат.
Что может потерять Лажечников после смерти Ольги?
Бледное лицо Юры снова возникло перед глазами Лажечникова. Мальчику тяжело будет вырастать в детском доме… Сегодня Юра появился в его мыслях отдельно от матери, он был близко, рядом, а она на таком страшном расстоянии, что Лажечников еле восстанавливал в памяти черты ее лица. Неужели он забывает ее?
Чувство тяжкой вины охватило Лажечникова, и вместе о тем он чувствовал, что за ним нет вины перед Ольгой.
Нот, он ни в чем не виноват перед ней. Ни помыслом, ни биением сердца… Она ушла, и у него остался только Юра. Думая о нем, он всегда думал об Ольге. Всегда? До сегодняшнего дня. Сегодня Ольга очень далеко.
Он лежал на песке, на жесткой плащ-палатке, почти не дыша. Вот в чем он боялся признаться себе. Тяжелая капля упала ему на лицо. Он не открывал глаз. Может, он задремал и поэтому вздрогнул, когда яростный удар, казалось, всколыхнул обрыв, берег и закачал камыши за рекой. Жук тряс его за плечо. Небо было сплошь черным, его рассекали молнии.
— Нечего тут лежать, — грубовато сказал Жук, — я тут хозяин и отвечаю за вас.
Лажечников послушно пошел за командиром батальона в блиндаж.
Над обрывом слышались выстрелы, пулеметные очереди, дробь автоматов. Капитан Жук наскоро ополоснул лицо у реки и пошел на свой КП в кустах на обрыве, откуда невооруженным глазом было видно каждое движение немцев.
Лажечников говорил у блиндажа со штабом полка по телефону, когда от левого берега отделилась лодка, в которой стоял, широко расставив ноги и держа в руках перевернутую фуражку, командир дивизии.
«Зачем это он сюда? — подумал Лажечников, поднимаясь и шагая к берегу. — Нечего ему тут делать!»
Ваня вывел Костецкого из лодки. По лицу генерала Лажечников увидел, что ему совсем плохо. Костецкий вытер платком вспотевший лоб и с трудом накрыл голову фуражкой. В ответ на приветствие Лажечникова он только кивнул.
— Хорошо, что вы тут, полковник, — сказал Костецкий, — я прибыл вручить награды бронебойщикам Гулояну и Шрайбману.
Лажечников смотрел открытым взглядом в совсем почерневшее лицо командира дивизии, и по его глазам Костецкий не мог понять, о чем думает сейчас подчиненный ему командир полка.
«Как ему сказать, — думал Лажечников, — что он не сможет вручить ордена бронебойщикам в таком состоянии? Я его никогда таким не видел. Надо не допустить этого вручения. Но как? Не сдержится, взорвется, как снаряд, и совсем расхворается…»
— Прикажете вызвать бронебойщиков сюда? — стараясь говорить как можно мягче и не подчеркивая неприятного для больного генерала смысла этих слов, проговорил Лажечников.
— Нет! — отрезал Костецкий, помолчал и добавил: — Я обещал генерал-лейтенанту Савичеву вручить ордена на передовой.
Лицо Лажечникова расплылось в улыбке, которой он хотел показать, что вполне понимает своего командира и одобряет его намерение, тогда как в действительности он хотел выиграть время и отговорить Костецкого от непосильного для него дела.
— Родион Павлович, — сказал Лажечников, чувствуя, что Костецкий сейчас взорвется, — я с вами… Вот немного затихнет — и пойдем…
Костецкий не взорвался. Он устало огляделся кругом, взглянул на край обрыва, откуда слышались все учащающиеся выстрелы и разрывы мин.
— Ладно, Лажечников… Где тут у тебя можно посидеть?
12
Пока Варвара поднялась на обрыв, пока она проползла между кустами незначительное расстояние от края обрыва до окопа бронебойщиков, штурмовики и артиллерия огнем из-за роки успели уже остановить атаку немецких танков, и теперь на открытом поле и в кустах падали только мины да время от времени разрывался снаряд. Но это еще не значило, что бой на плацдарме, который удерживал батальон капитана Жука и за которым напряженно следили Костецкий и Лажечников со своими офицерами, — что этот бой уже окончился.
Никто не знает, что будет делать враг после того, как отобьют его атаку на поле боя: возобновит свои попытки или отползет на исходные позиции зализывать раны. Не знали этого ни Костецкий, ни Лажечников, — для того чтобы узнать, им нужно было время. Не знала этого и Варвара. Но в то время как Костецкий и Лажечников старались использовать каждую минуту затишья после немецкой атаки, чтоб разгадать дальнейшие намерения врага, Варвара просто радовалась, что выстрелов почти не слышно и что она может уже не ползать, как ящерица, а идти, иногда во весь рост, иногда перебегая на открытом месте или пригибаясь за низкорослыми кустами.
Когда в воздухе снова послышался тяжелый рокот моторов и быстро и весело захлопали зенитки, она не сразу поняла, что это летят немецкие бомбардировщики, а стреляет по ним наша зенитная артиллерия, расположенная за рекой. Только когда, словно распарывая резаком длинную полосу жести, заскрежетали в воздухе первые бомбы, Варвара глянула на небо и увидела серебристо-белые, с черными крестами крылья. В продолговатых, как у саранчи, брюхах бомбардировщиков раскрылись люки, из них высыпались длинные черные куски металла, перевернулись в воздухе вверх стабилизаторами и, набирая скорость, полетели к земле — все в одну точку, туда, где стояла она, Варвара, держась обеими руками за безлистые ветки наполовину обуглившегося куста.
Гук-гук-гук! — застучали зенитки, и белые шарики разрывов возникли в синем небе вокруг самолетов. С грохотом разорвались на земле бомбы, пелена дыма, темная и смрадная, застлала глаза Варваре, на голову полетели комья земли, на плечо упал и повис, как длинный кнут, почерневший сухой стебель, а она все стояла оцепенев и глядела в небо, где медленно разворачивались бомбардировщики для нового удара, не слыша стона на земле у своих ног и не замечая, как кто-то дергает ее за гимнастерку и сердитым голосом кричит:
— Ложитесь! Чего вы стоите? Да ложитесь же, говорю я вам!
Варвара упала навзничь, больно ударившись затылком о что-то твердое, но не обратила на это внимания: она не могла оторвать глаз от белых пушистых шариков, столпившихся вокруг бомбардировщиков, не могла оторвать глаз и не могла не шептать громко, с мольбой и страстью:
— Ну еще немного… Ох ты боже мой, опять мимо!
Это относилось к зенитчикам, которые били по бомбардировщикам, не отставали, вели их под конвоем белых пушистых шариков, но все еще не могли в них попасть и с удвоенной силой и быстротой стучали, как в пустую бочку: гук-гук-гук!
— Да ударьте ж вы их как следует! — крикнула Варвара с отчаянием, видя, что один из бомбардировщиков, ложась на крыло и неистово завывая моторами, разворачивается, как ей показалось, над рекой, над тем местом под обрывом, где она оставила Костецкого на перевернутой лодке, офицеров вокруг него, раненых солдат на песке и Лажечникова с Сашиным фотоаппаратом.
Белые шарики, словно в ответ на мольбы Варвары, начали приближаться к самолету и плотно окружать его со всех сторон. Гук-гук-гук! Они вырывались вперед и возникали теперь прямо перед самолетом, который не мог уже изменить курс. Варвара увидела, как из люка, одна за другой, словно черные толстые свиньи, вывалились три бомбы и, выравнявшись в воздухе, с воем полетели на землю.
— Не дайте, не дайте ему уйти! — заскрежетала зубами Варвара и в это время увидела, как из левого крыла бомбардировщика выскользнул ручеек черного дыма и, раздуваясь длинной, на конце широкой и почти прозрачной полосой, поплыл за самолетом. — Слава богу, слава богу!..
Бомбы разорвались далеко, и, когда стих рокот самолетов, Варвара услышала все тот же сердитый, а теперь и насмешливый женский голос:
— Что вы молитесь, прости господи? Тут не церковь. Шли бы себе в монашки, а не стонали тут.
Варвара все время лежала на спине. Теперь только, опершись локтем о землю и поворачиваясь на бок, она увидела беловолосую круглолицую девушку в солдатских штанах и в гимнастерке. Девушка стояла на коленях спиной к Варваре, уверенно и быстро делая что-то руками и иногда посматривая на нее.
По движениям девушки Варвара поняла, что она перевязывает раненого. Он лежал поджав одну ногу, о другую Варвара ударилась затылком, падая.
— Дайте мне индивидуальный пакет, — сказала Варвара, вспомнив, что привело ее сюда, зачем она вернулась с берега реки на это поросшее кустарником поле.
— Вы ранены?
— Нет, но мне нужно.
— Где раненый?
— Там, впереди.
— А вы умеете перевязывать?
— Не очень.
Девушка говорила, не прекращая своей работы, руки ее быстро перехватывали длинную белую полосу бинта. Сквозь продранный рукав ее гимнастерки виднелся розовый круглый локоть. Раненый лежал неподвижно, девушка то одной, то другой рукой поддерживала его голову, уже всю обмотанную бинтом. Вслед за каждым витком бинта кровь сразу проступала красным мокрым пятном на белой марле, новым витком девушка гасила это огненное пятно, а оно новой вспышкой пробивалось сквозь марлю.
— А куда его ранило?
— Не знаю.
— Подождите, я пойду с вами.
— Управлюсь.
— Вы же не умеете!
— Ничего, сумею.
Девушка передернула плечами. Она бросала Варваре короткие, будто мелко изрубленные слова, и Варвара так же кратко отвечала, поддаваясь силе ее спокойного самообладания. Было в этой круглолицей красивой девушке что-то знакомое ей, сначала она не понимала, что именно, потом подумала, что это есть и у нее, это у них общее, и, наверное, не только у них, а у многих женщин, которые на этом поле или где-то на других таких полях ползают от раненого к раненому, перевязывают, обтирают кровь, тащат на себе в безопасное место, подальше от смерти… Варвара вспомнила, как по-детски всхлипнул Шрайбман в окопе, и нетерпеливо спросила:
— Дадите мне пакет или нет?
— Возьмите в сумке. Видите, мне некогда, — ответила девушка, наклоняясь над раненым, голова которого уже лежала на земле, а не в ее руках. — Возьмите больше, вы же не знаете, сколько нужно.
Варваре некуда было девать пакеты, она сунула их за пазуху и поползла между кустами вперед, туда, где уже снова слышались пулеметные очереди и одиночные разрывы мин. За собой она услышала неожиданно ласковый голос сандружинницы:
— Вставай и пойдем… Тут совсем недалеко. Не можешь? Будешь за меня держаться и сможешь… Ты не бойся, до вечера полежишь на берегу, а потом в медсанбат, а там и в госпиталь… До свадьбы заживет!
Раненый что-то простонал в ответ, Варвара уже не услышала его слов. Она выползла из-за кустов на небольшую прогалинку и увидела капитана Жука.
Капитан Жук, выбросив ноги вперед, сидел на земле у того самого окопчика, где его впервые увидела Варвара. Теперь на нем был железный шлем, автомат лежал на траве, опираясь на круглый диск с патронами. Капитан держал в одной руке кусок тонкой сухой колбасы, в другой ломоть хлеба и с азартом грыз их блестящими белыми зубами. Они почти одновременно увидели друг друга.
— Что вы тут слоняетесь, товарищ корреспондент? — закричал капитан Жук. — Немедленно убирайтесь отсюда! Мало вам впечатлений?
Он размахивал зажатой в грязной руке колбасой и выглядел очень смешно. Варвара невольно улыбнулась. Ее улыбка обезоружила капитана. Уже совсем миролюбивым голосом и тоже улыбаясь — улыбка у него была смущенная и даже нежная, и усы выглядели теперь совсем не страшно — Жук сказал:
— Колбасы хотите? У меня еще есть.
Варвара махнула ему рукой и поползла дальше. Она миновала позиции противотанковых пушек, изрытые минами и снарядами, и удивилась, что около пушек теперь совсем мало бойцов. Молоденький, безусый лейтенант, который сначала обозвал ее коровой, а потом извинялся, сидел без гимнастерки на ящике из-под снарядов и, держа конец бинта в зубах, бинтовал себе раненную выше локтя левую руку.
— Помочь вам? — сказала Варвара, становясь около него на колени.
— Маленький осколочек, — улыбнулся ей побледневшим и все еще испуганным лицом лейтенант, — длинный, как гвоздик… Прошел насквозь. Вы не беспокойтесь, я сам.
Лейтенант разорвал зубами конец бинта на две полоски и одной рукой ловко сделал узелок на повязке.
— Давайте я все-таки помогу вам, — сказала Варвара и осторожно просунула его руку в рукав гимнастерки.
— Опять фотографировать идете?
— Нет, там бронебойщика ранило… Видите, я ведь без фотоаппарата.
— Не ходите, иногда еще стреляют. Его и без нас подберут.
— Мы сидели в одном окопе. Когда еще там его найдут, а я знаю, где этот окоп.
— Ну, тогда давайте скорей. Кто его знает, что немец думает.
— А вы не пойдете в санбат?
— А зачем мне в санбат? Я даже боли не чувствую. Вытекло немного крови, и все.
Варвара все время стояла перед ним на коленях. Лейтенант не замечал этого. Несмотря на спокойные его слова и на решительное нежелание идти в санбат, он казался взволнованным и был ощутимо далеко и от Варвары, и от своих бойцов, и от пушки, возле которой сидел на ящике. Варвара поняла смятение молодого человека, мимо которого прошла смерть. Осторожным прикосновением пальцев она погладила раненую руку лейтенанта, кивнула ему и поползла дальше.
Подробности опасного пути подсознательно врезались в память Варвары, и она сразу отличила окоп Гулояна и Шрайбмана от других окопов. Он был хорошо замаскирован спереди, но с тыла легко просматривалась и узкая щель, и высокий бруствер, насыпанный перед нею, и зеленый, выпуклый, как болотная кочка, шлем одного из бронебойщиков, поднимавшийся над щелью.
Солнце уже клонилось к закату и слепило глаза Варваре, но она заметила с тыла, несколько в стороне от окопа, что-то продолговатое, неподвижное, словно низкую узкую насыпь; ее удивило, что эта насыпь зачем-то прикрыта плащ-палаткой.
Гулоян не обернулся к Варваре, когда она подползла к окопу и окликнула его. Ей показалось, что он спит, так устало клонилась голова бронебойщика под тяжелым зеленым шлемом.
— Арам! — сказала Варвара, заглядывая через его плечо в окоп и удивляясь, что Шрайбмана там нет. — Что с вами, Гулоян?
Гулоян тяжело, с хрипом вздохнул. Варвара положила руку ему на плечо и попала ладонью во что-то теплое и липкое. Гулоян застонал.
— Вы ранены, Гулоян?
Это был бессмысленный вопрос, он вырвался невольно: теперь Варвара уже видела порванную, окровавленную гимнастерку Гулояна и его бледную, заросшую черной щетиной щеку.
— Немножко ранен, — сказал Гулоян. — Крови я много потерял… Никто не идет…
— Сейчас я вам помогу, Арам. — Варвара начала вытаскивать из-за пазухи пакеты. — А где Шрайбман?
— Прыгай в окоп, заметят! — простонал Гулоян. — Меня тоже заметили уже после атаки… Вон, видишь, в котелке ножик лежит, сначала надо разрезать гимнастерку.
Варвара, неумело орудуя большим складным ножом, разрезала гимнастерку.
Но не только перевязывать, даже раскрыть индивидуальный пакет Варвара не умела. Она тщетно пыталась разорвать зубами обертку, сделанную из твердой вощеной бумаги. Гулоян сквозь зубы, пересиливая боль, проговорил:
— Так нельзя. Найди на нем нитку, он сам раскроется.
Это было очень просто. Варваре стало стыдно.
«Почему нас не учат этому, всех женщин без исключения? Воевать еще долго придется… А мы ничего не умеем. Нельзя этого не уметь, — думала Варвара, стараясь не причинять боли Гулояну и прислушиваясь к его тихому, застенчивому стону. — Галю я научу обязательно… Война еще и для нее будет, пускай знает».
Эта мысль испугала Варвару.
«Неужели и для Гали будет война? Неужели и Гале придется ползать, а не ходить по земле? Нет, лучше я за нее отползаю…»
— Я вам очень больно сделала, Арам? — сказала Варвара, окончив перевязку. — Теперь уже меньше болит?
— Меньше, — прошептал, закрывая глаза, Гулоян.
— А где Шрайбман?
Она невольно время от времени повторяла свой вопрос, сама этого не замечая.
— Там, — неопределенно качнул головой Гулоян и посмотрел на нее черными, влажными, полными страдания глазами.
— Где?
Варвара все еще не понимала.
— Я вынес его из окопа, чтоб мне удобной было, а тут они меня и заметили… Я еще успел накрыть его плащ-палаткой.
Под этой плащ-палаткой они сидели ночью. Боль и жалость сдавили горло Варваре.
— Перевязка никуда не годится, — сказала Варвара. — Надо в медсанбат, Арам. Давайте вылезать, я вам помогу.
— Ружье нельзя бросать.
— Возьмем и ружье.
— Тяжело, я не доползу.
— Надо, Арам, доползти.
— Помоги мне вылезть из окопа.
Она помогла ему вылезть. Обессилев, Гулоян лежал на земле. Варвара перетащила через окоп длинное тяжелое противотанковое ружье и легла рядом с Гулояном со стороны его правой, здоровой руки.
— Обними меня за плечи, поползем…
Эго было не так легко, как она думала. Маленький худощавый Гулоян ухватился правой, здоровой рукой за плечо Варвары и налег ей грудью на левую лопатку; его раненая, совсем мертвая рука волочилась по земле. Он был тяжелый, словно налитый свинцом. Варвара выбрасывала вперед противотанковое ружье во всю его длину, потом ползла, задыхаясь от тяжести, и снова выбрасывала вперед ружье, и снова ползла.
Сзади заговорил пулемет. Кусты впереди показались Варваре спасительным, недосягаемым убежищем. Она напрягала все силы, чтоб доползти до этих кустов раньше, чем немецкий пулеметчик перенесет огонь вперед и накроет их.
Она ехала из Миллерова в Сталинград в первых числах июля прошлого года, ровно год тому назад. «Мессершмитты» обстреляли поезд и ранили машиниста. Поезд остановился в степи, там была посадка из акации, вся запудренная пылью. Пассажиры — военные и гражданские, женщины, мужчины и дети — выскакивали из поезда и бежали под защиту этой посадки, хоть она была реденькая и просматривалась насквозь. «Мессершмитты» летали вдоль железнодорожного полотна, пересекали его в воздухе и все строчили из пулеметов. Рядом с Варварой лежала молодая красивая девушка в шелковом платье и туфлях на босу ногу. Они познакомились в поезде и вместе выскочили, когда начался обстрел. Теперь они уткнулись лицом в землю и лежали, прижавшись плечами друг к дружке, и она помнит — от девушки хорошо пахло дорогими духами… Вдруг девушка вскрикнула. «Тебя ранило?» — спросила Варвара. Девушка молчала, уткнув лицо в ладони. «Куда тебя ранило?»
«Мессершмитты» уже ушли. Подбежали люди, появилась медсестра с сумкой. Медсестра ощупала девушку быстрыми легкими движениями и сказала: «В попку…» Надо было задрать платье и сбросить трусики, — девушка горько расплакалась не столько от боли, сколько от стыда, что кругом стоят чужие люди, а трусы на ней мужские… «Это брата трусы, — всхлипывала она, — это брата».
«Ох, зачем я это вспомнила сейчас, — ужаснулась Варвара, — не надо, не надо об этом вспоминать… Надо тащить Гулояна, пока он не истек кровью, и ни о чем другом не думать».
Красивая девушка в братниных трусах не выходила у нее из головы, пока она, обливаясь потом, тащила Гулояна до спасительных кустов.
В кустах они отдохнули. Начало уже темнеть, стрельба понемногу стихала. Еще всплескивалась время от времени пулеметная очередь, еще отвечал одиночный выстрел далекому выстрелу из винтовки, но бой уже угасал вместе с угасанием длинного дня.
Потянуло прохладой от реки. Небо, в котором весь день таял дым выстрелов и взрывов и которое поэтому давно уже казалось Варваре грязным, вдруг прояснело, заблестело чистой синевой. Вместе с усталостью, которая наполняла все тело Варвары, каждую ее косточку и каждую жилку, а теперь медленно отступала, отступали и все мысли, и это тоже облегчало душу, словно не страшное напряжение дня обессилило ее, а именно эти невесомые, неустанные думы, что возникали одна за другой и не давали покоя. Оставалось только чувство жалости в сердце, но и это чувство было легким, может потому, что она все время жалела других: Шрайбмана, который давно уже лежал под плащ-палаткой у своего окопа, светловолосую девушку, сандружинницу, которая дала ей бинты, Гулояна и всех, кого она не видела и не знала, кто вел сегодняшний бой и завтра тоже будет лежать под огнем, — она всех жалела всеобъемлющей материнской жалостью, себя только ни разу не пожалела, забыла о себе…
13
Когда начало темнеть и огонь на плацдарме совсем прекратился, Костецкий приказал перевозить раненых. Генерал и теперь сидел на перевернутой лодке. Ваня набросил ему на плечи шинель и стоял рядом, ожидая приказаний. Курлов и Лажечников подошли к Костецкому с двух сторон одновременно, словно сговорились.
— Пора и нам, Родион Павлович, — сказал полковник Курлов. — Вручение орденов придется отложить.
Костецкий бросил на него взгляд и не ответил. Тогда Лажечников, словно нехотя, выдавил из себя:
— Трудно сказать, живы ли они, Гулоян и Шрайбман… К утру проверят личный состав, тогда видно будет.
Курлов и Лажечников не сговаривались. Их обоих беспокоило состояние генерала. Голос у Костецкого совсем пропал, словно провалился в грудную клетку.
Костецкий глядел, как сносят в лодку тяжелораненых, как толпятся у берега бойцы с легкими ранениями, нетерпеливо ожидая своей очереди на переправу, — глядел упорно, словно хотел среди них узнать Гулояна и Шрайбмана, которых он, конечно, в лицо не знал и не мог знать, потому что только два дня тому назад из боевой сводки узнал об их существовании.
— Среди раненых их нет, — угадывая его мысли, сказал Лажечников, — я посылал проверять.
Костецкий продолжал смотреть на бойцов и на лодку, устланную камышом, так, словно не верил ни Лажечникову, ни тем, кого полковник посылал искать награжденных бронебойщиков.
Боль, сковывавшая и державшая его в напряжении, утихла, но облегчения он не чувствовал. Теперь уже не боль, а чувство полной беспомощности удручало Костецкого. Он смотрел на окружающих его командиров, и ему казалось, что все они озабочены мыслью: как заставить его, Костецкого, уйти с плацдарма? Ясно, что он мешает здесь всем, не только сейчас мешает, но и весь день мешал своим присутствием.
Костецкий чувствовал, что не способен решить даже простейшую задачу — он останавливался перед ней, как новичок на экзамене. Это пугало его, но сказать: «Решайте сами» — Костецкий не мог, как не может осужденный подписаться под собственным приговором.
Костецкий уже почти не воспринимал того, что происходило вокруг. Бой на плацдарме то утихал, то разгорался с новой силой, грохот артиллерийской стрельбы сменялся тишиной, докладывали о вылазке танков, в небе появлялись самолеты, но все это не складывалось в мозгу Костецкого в связную картину, он не улавливал последовательности в действиях немцев и ответных действиях своей дивизии. Он уже не жил вовне, теперь все его внимание было сосредоточено только на том, что происходило у него внутри. Он знал, что ведет свою последнюю битву, и уже не надеялся ее выиграть.
Сознавая, что свою битву он проиграл, Костецкий в то же время видел, что, несмотря на его неспособность руководить боем, на плацдарме все идет своим чередом — отдаются приказы по телефону, приходят и уходят связные, артиллерия бьет из-за реки, бомбардировщики обрабатывают передний край противника, фашистские танки возвращаются на исходные позиции, а батальон капитана Жука прочно стоит на месте, как будто врос в землю.
«Вот ведь обходятся без меня, — с гордостью и грустью, глядя на своих офицеров, думал Костецкий. — Обходятся… Как хорошо это для них и как плохо для меня! Нет, для всех хорошо, — значит, и для меня… Лажечникова-то я научил воевать. Научил, теперь он и без меня может… И дивизией командовать сможет. Ему я уже тоже не нужен… Никому не нужен».
Но Костецкий ошибался. Он был необходим всем, кто стоял в этот день вокруг его перевернутой лодки, сидел с винтовкой в окопе, лежал у пулемета или возле орудия, вел бой на плацдарме. На прижатом к реке клочке земли не было ни одного солдата или офицера, который не знал бы, что смертельно больной командир дивизии находится рядом с ним, — и это облегчало каждому его нелегкую задачу, словно сила и мужество Костецкого, уходя от него, распределялись между всеми солдатами и офицерами, удесятеряли их силу и мужество и делали способным каждого не дрогнув стоять на своем месте до конца. В этом и был неосознанный выигрыш Костецкого в той беспримерной битве, которую он вел последние месяцы…
— Пускай сначала закончат перевозить раненых, — сказал Костецкий, не глядя ни на кого.
Лажечников и Курлов слишком хорошо знали своего генерала, чтоб не понять, что в эти минуты творится у него на душе.
«Молодец Родион Павлович! — думал Курлов. — Не хочет сдаваться до последнего патрона».
А Лажечников думал в это время: «Хочет отступить в боевом порядке».
Они оба были правы — на этом были сосредоточены теперь мысли генерала Костецкого, — но только Ваня понимал до конца, что происходит с командиром дивизии.
Ваня был молодой, не очень развитой парень; он не мог думать такими точными и красивыми образами, как Лажечников и Курлов, но у него, было одно преимущество перед Лажечниковым и Курловым — он любил своего генерала, как отца, и поэтому мог чувствовать и угадывать его состояние, как чувствуют и угадывают состояние самого близкого, самого дорогого человека. То, что чувствовал и угадывал Ваня своим молодым и совсем еще неопытным сердцем, укладывалось в два коротких и тяжелых слова, которые непрерывно возникали и бились в его мыслях: «Это конец… Это конец».
Не понимал, что происходит с генералом Костецким, только один человек из всех офицеров и солдат, находившихся в этот день возле перевернутой лодки под обрывом, и этим человеком был капитан Уповайченков.
Иустин Уповайченков вообще не понимал, что происходит и совершается вокруг него. Но его непонимание было совсем непохоже на непонимание, скажем, Варвары Княжич, которая и не старалась ничего понимать, вполне полагаясь на то, что тут, на небольшом плацдарме, стиснутом с трех сторон немцами и прижатом к реке, есть кому понимать за нее все до мельчайших подробностей, а ей остается только делать свое дело, думать о нем, отдаваться ему целиком. Что же касается Уповайченкова, то он не считал для себя возможным чего-нибудь не понимать и поэтому думал, что он понимает все, а остальные ничего не понимают и потому делают совсем не то, что надо делать и что делал бы он на их месте.
Оставшись у старой ольхи на левом берегу, Уповайченков некоторое время переживал фразу генерала Костецкого насчет чучела, но это длилось недолго. Упрямо мотнув головою, он отогнал от себя беспокоящие мысли о том неблагоприятном впечатлении, которое произвел на генерала; он не мог поверить, что способен произвести на кого-либо неблагоприятное впечатление. Кроме того, ему было совершенно безразлично, что думают о нем. Он, капитан Уповайченков, прибыл сюда не производить впечатление, а делать свое дело, и он знает, как делать его, знает лучше, чем кто-либо другой.
Уповайченков дождался, пока лодка Данильченко вернется на левый берег, и решительно направился в заросли камыша. Данильченко встретил его приветливо, но перевозить на правый берег отказался.
— Ушицы моей не попробуете, товарищ капитан? — доброжелательно поглядывая исподлобья на Уповайченкова, предложил он. — Ушица хорошая, хоть рыбка и дешевая…
Уповайченков не знал поговорки, которую вплел в свою речь Данильченко, и потому не оценил его остроумия. Он молча кивнул, так как давно уже проголодался, а в его большой полевой сумке было все, что нужно корреспонденту, кроме еды.
Они сидели в лодке в камышах. Данильченко поставил на скамью черный котелок, прикрытый чистой тряпкой.
— Ложка чистая, — сказал Данильченко, но для блезиру пополоскал ее, опустив за борт лодки, в теплой воде, где среди водорослей сверкали стрелками мальки и дрыгали тоненькими растопыренными лапками крохотные лягушата. — Вот вам и хлеб.
Он разломал в руках коричневый продолговатый кирпичик черствого хлеба так ловко, что тот распался на два неодинаковых куска, большой завернул в тряпку и положил в ящик на корме лодки, а меньший подал Уповайченкову, который уже вылавливал белые куски разваренной рыбы из холодной ухи.
— Холера его возьми, этого немца, — словно отвечая на мысли Уповайченкова, медленно шевелил губами Данильченко. — И откуда он видит нашу переправу? Только высунешься с лодкой из камыша, начинает бросаться железом, словно это ему забава! Хозяин и запретил сновать туда-сюда… Наш хозяин не любит задаром подставлять солдатскую голову под пулю.
Уповайченков поднял голову над котелком и, грозясь на Данильченко ложкой, прошипел:
— Я корреспондент из газеты, понимаешь? Мне надо на правый берег, и ты меня перевезешь, иначе…
Данильченко, словно не слыша этого «иначе», в котором звучала открытая угроза, по своей привычке доброжелательно поглядывая исподлобья, сказал:
— А что, разве у корреспондентов по две головы? Вы ешьте ушицу, ешьте…
Уповайченков завертел ложкой так, что куски разваренной рыбы закружились в котелке, словно в центрифуге.
— Как ты со мной разговариваешь? Ты что, не видишь, что я капитан и могу тебе приказать?
— Видали мы и капитанов, — ответил Данильченко и выпрыгнул из лодки в камыши.
Сапоги его зачмокали по илистому дну, лягушата испуганно брызнули во все стороны. Данильченко развел камыш руками и исчез за его шаткой пахучей стеной.
— Стой! — закричал Уповайченков. — Стрелять буду!
— Да ну тебя, — послышался в ответ голос Данильченко из камыша, — найди себе немца, да и стреляй в него!
Голос был такой насмешливо-равнодушный, что Уповайченков сразу же снял руку с кобуры, которую, волнуясь, тщетно пытался расстегнуть. Он сидел одеревенело над котелком с ухой и не знал, что делать: терпеливо ждать вечера, самому браться за весла или разыскивать Данильченко, чтоб убедить этого упрямо-равнодушного солдата, что ему, Уповайченкову, необходимо быть на правом берегу именно теперь, когда генерал вручает ордена бронебойщикам, а не ночью, когда ордена уже будут вручены и командир дивизии вернется в свой штаб.
Неизвестно, что решил бы Уповайченков. Стена камыша зашуршала, тяжело зачмокало илистое дно реки под сапогами, камыш распахнулся перед глазами Уповайченкова. Невысокий худощавый полковник решительно шагал к лодке. Из-за плеча полковника выглядывало неизменно добродушное лицо Данильченко.
Полковник уверенно вошел в лодку и сел на скамью напротив Уповайченкова. Данильченко занял свое место на корме, уткнул в дно узкую продолговатую лопасть некрашеного весла и ждал команды трогаться.
— Ваши документы! — свирепо сказал полковник, оглядывая Уповайченкова с ног до головы.
Уповайченков с независимым видом подал полковнику удостоверение.
Начальник политотдела дивизии был крайне встревожен тем, что Костецкий, никого не предупредив, отправился на плацдарм. Лажечников по телефону сообщил, что состояние генерала угрожающее.
Курлов был раздражен до предела, и, как всегда в таких случаях, на его худом продолговатом лице отражалась борьба, которую он вел с собой. Голос его звучал угрожающе-спокойно. Курлов втайне радовался, что ему попался под руку Уповайченков: можно будет сорвать на нем злость, тогда разговор с генералом пройдет спокойно, «на отработанном паре».
— Вы могли бы явиться в политотдел раньше, чем на переправу, — довольно спокойно начал Курлов, хоть и не обманывался насчет своего мнимого спокойствия. — Не пришлось бы тут угрожать перестрелкой.
Он снова оглядел Уповайченкова с головы до ног, странный вид капитана взорвал его, и, уже не сдерживаясь, Курлов с презрением прошипел, словно и вправду выпуская из себя пар:
— Что это у вас за экипировка? Вы же на чучело похожи!
Уповайченков не мог пропустить мимо ушей нового «чучела», он плеснул на Курлова беловатым студнем полных ненависти глаз и прокричал:
— Вы не смеете со мной так разговаривать! Я корреспондент!
Курлов спрятал удостоверение Уповайченкова в карман своего кителя.
— Кор-рес-пон-дент? — по слогам, словно в первый раз слыша и не понимая этого слова, прошипел Курлов и вдруг, будто поняв, что оно значит, соединил слоги и с нажимом выкрикнул: — Корреспондент!
Данильченко, прислушиваясь к словам полковника, уперся веслом в дно.
— Давай отчаливай!
Лодка выскользнула из камыша на открытый простор реки. Вода блеснула полосой синего стекла, по которому проплывали белые кучевые облака. Данильченко быстро вел лодку по синему стеклу, по белым облакам, разрезая их веслом.
— Корреспондент, значит! — снова начал выпускать из себя пар Курлов. — Это вы, значит, написали, что русский народ любит воевать?
Уповайченков ужаснулся, а Курлов продолжал, все больше возмущаясь и делая все большие усилия, чтобы сдерживаться:
— А вы сами любите воевать? Или вам правится расписываться за других? Я, например, не люблю. Раньше мне казалось, что люблю, а потом я понял, что любить здесь нечего.
Мутные глаза Уповайченкова остановились, он не мог пошевельнуться от удивления и ужаса. Что он говорит, этот отчаянный полковник? Как он смеет так говорить?
— А вы подумали, что значит любить воевать? Сказать за весь народ, что он любит, чтобы его убивали, разрушали его города, жгли села, вытаптывали поля? Народ любит, чтобы его женщины становились вдовами в молодости, дети оставались без отцов, матери теряли сыновей! Это любит народ? Народ любит воевать! Народ любит трудиться, а воюет из необходимости… И от монголов отбивался из необходимости, и от французов в восемьсот двенадцатом, и от интервентов в девятнадцатом.
Уповайченков не мог допустить, что полковник не знает, кому принадлежат слова о русском народе. Уповайченков повторял эти слова в своих статьях, печатавшихся в газете и за его подписью и без подписи, и, повторяя, верил в эти слова, не вдумываясь в их содержание. Он и теперь не переставал верить и не хотел вдумываться, он только ужасался и соображал мысленно, как должен реагировать на неслыханную откровенность полковника, да еще в присутствии рядового! Конечно, полковнику удобно притворяться, что он не знает автора этих слов, и приписывать их корреспондентам, — этой хитростью он ничего не добьется, не укроется от ответственности… Перед кем? Уповайченков знал уже, перед кем и как должен будет отвечать полковник. Пусть только он, Уповайченков, вернется в корреспондентский хутор…
— Походили бы вы в солдатской шкуре, — услышал снова Уповайченков голос отчаянного полковника, — а потом и писали бы, кто да что любит! Имейте в виду: я буду читать все, что вы напишете.
— Вы не имеете права!
— Ну? Вы так думаете?
Курлов буравил его таким сумасшедше-спокойным взглядом, что Уповайченков не выдержал и склонил голову.
— Вот то-то и оно! — удовлетворенно прошипел полковник.
Уповайченков видел у себя перед ногами на дне лодки лужу воды, в которой плескалось, то широко расплываясь, то вытягиваясь в длину, уже ненавистное ему лицо Курлова. Он с силой ступил ногой в лужу, прямо на лицо полковника.
— Осторожно, товарищ капитан, лодку перевернете! — крикнул Данильченко, и в эту минуту в воду спокойной реки со свистом и грохотом упал снаряд.
— Давай, давай, Данильченко, — не сводя глаз с Уповайченкова, сказал Курлов.
— Да я даю, — отозвался солдат.
Уповайченков сидел неподвижно. Ни одна черточка не изменилась в его лице. Он слишком был занят в эту минуту собой и своей стычкой с Курловым, чтоб обращать внимание на какие-то там снаряды, даже если они и рвутся рядом; кроме того, он знал, что на фронте должны стрелять, и видел корреспондентов, возвращавшихся с фронта невредимыми, поэтому и не мог допустить, что один из многих немецких выстрелов, орудийный, минометный или винтовочный, рассчитан именно на него. Само собой разумелось, что Уповайченков, в силу исключительного своего положения корреспондента центральной редакции, командированного для обеспечения своей газеты фронтовою информацией, должен был вернуться живым-здоровым в редакцию, выполнив свое задание без досадных осложнений в виде ранения или смерти. Такие осложнения его сознанием исключались, поэтому он и чувствовал себя совсем спокойно.
«А он, кажется, ничего, — удивленно подумал полковник Курлов, глядя на Уповайченкова, — хорошо держится».
Данильченко гнал лодку сильными взмахами весел. С каждым рывком лодки приближалась мертвая зона, которая создавалась для снарядов вершиной обрыва и горизонтом реки, и опасность уменьшалась. Лодка легла носом на песок. Курлов выскочил первым.
— Возьмите ваше удостоверение и можете заниматься своим делом, — примирительно сказал Курлов Уповайченкову, когда тот не спеша вышел из лодки следом за ним, — сказал и сразу же забыл об Уповайченкове, потому что увидел под обрывом Костецкого, который был для него важнее, чем приезжий корреспондент.
На капитана, прибывшего на плацдарм с начальником политотдела дивизии, никто не обращал внимания: это было обычное явление. Уповайченков слонялся по берегу, терпеливо ожидая минуты, когда Костецкий будет вручать ордена. Он пробовал завязывать разговоры с офицерами, но без особых успехов. Тогда Уповайченков, не снимая плаща, лег на песок под обрывом, накрыл лицо фуражкой и заснул под грохот снарядов и пулеметные очереди. На это тоже никто не обратил внимания. Проснулся он уже под вечер. Генерал Костецкий сидел в той же позе на перевернутой лодке, вокруг него стояли все те же офицеры. Уповайченков подошел решительными шагами к лодке и спросил у широкоплечего, тяжеловатого на вид полковника:
— Генерал еще не вручал орденов?
Лажечников посмотрел на него с жалостью и сочувствием и ничего не ответил.
Вершины деревьев за рекой еще освещало солнце, но берег уже утопал в густо-сиреневом сумеречном свете.
Варвара осторожно спускалась с обрыва, поддерживая Гулояна. Противотанковое ружье они оставили у артиллеристов. Гулоян шатался, как пьяный, голова его все время клонилась на грудь Варваре. Обессилев от потери крови, он шел словно во сне, еле передвигая ноги, и она должна была приспосабливать свои широкие шаги к его мелким, неуверенным шажкам.
Под обрывом Варвара остановилась. В лодку входили легкораненые, и слышался голос Данильченко, уже державшего весла наготове:
— Веселей, братки! Отвоевались? Ничего, зашьют, залатают — и снова к нам!
Варвара осторожно посадила Гулояна на песок под обрывом и пошла к лодке, чтобы позвать кого-нибудь на помощь.
— Позовите-ка сюда эту домашнюю хозяйку, — криво улыбнулся, ни к кому не обращаясь, Костецкий.
Ваня сразу понял его. Курлов и Лажечников не поняли глухих слов Костецкого и, только глянув вслед Ване, с неодинаковым чувством увидели, как он быстро подбежал к женщине- фотокорреспонденту, что-то сказал и уже идет с ней к Костецкому.
Для Курлова это означало новую проволочку с отправкой упрямого генерала в штаб дивизии. Он недовольно сморщил лоб и стал глядеть в другую сторону. Ответственность, конечно, лежит на нем, но не может же он силою заставить генерала больше не задерживаться на плацдарме.
Лажечников, увидев Варвару, понял, что, думая о ходе боя на плацдарме, отдавая нужные приказы, разговаривая по телефону и выслушивая подчиненных, он все время, не отдавая себе отчета в этом, думал о ней.
«Плохи твои дела, Лажечников!» — сказал он сам себе, не сводя глаз с Варвары, которая устало приближалась к Костецкому.
Вид у Варвары был растерзанный. Пилотку она потеряла, волосы рассыпались и прядками прилипли ко лбу. На гимнастерке и продранных на коленях штанах темнели пятна присохшей земли, машинного масла и сока раздавленной травы; Варвара давно уже махнула на себя рукой. Она молча остановилась перед Костецким.
«Зачем он позвал меня? — думала Варвара, обеспокоенная тем, что Костецкий может надолго ее задержать, а Гулоян будет тем временем ожидать на песке. — Я все равно пришла бы сюда через несколько минут, ведь тут мой аппарат…»
Она отыскала взглядом Лажечникова. Он смотрел на нее с такой нежностью, с таким сочувствием, что Варваре легким и радостным показался весь сегодняшний день, все его ужасы и трудности.
— А вы все еще тут? — неожиданно отчетливо проговорил Костецкий. — Почему вы еще тут? Сфотографировали?
— Сфотографировала, товарищ генерал, — ничуть не боясь Костецкого и удивляясь тому, что она его не боится, легко вздохнула Варвара. — Давно уже сфотографировала.
— Тогда чего же вы тут топчетесь? — недовольно сказал Костецкий. — Вы давно уже должны быть у Савичева.
— Так и вы ведь должны быть в штабе дивизии, — тихо и ласково ответила Варвара и, заметив смущение на лице Костецкого, еще тише и ласковей добавила: — Ведь правда?
— Правда, правда! — обрадовался этому неожиданному вмешательству в самую суть дела, которое так его беспокоило, полковник Курлов. — Нас генерал не слушает, мы люди военные, — может, он послушает вас?
— Так и я ведь полувоенная.
— Тогда пускай он прислушается к вашей невоенной половине!
Костецкий засмеялся, и все поняли, что эта шутка неожиданно и безболезненно сломила его сопротивление.
— Ничего не поделаешь, — сказал Костецкий, подымаясь. — Сдаюсь.
— Давно бы так, товарищ генерал, — на всякий случай подошел к нему поближе Лажечников. — Сейчас вернется Данильченко с левого берега.
Костецкий не расслышал не очень тактичного «давно бы так», и Лажечников этому обрадовался: одно слово могло все испортить. Костецкий тем временем думал о другом.
— Вы, кажется, привели раненого, — проговорил он, покачнувшись и недовольным движением отстраняя Ваню, который тут же подхватил его под локоть. — Где вы его взяли?
Костецкий не ставил вопрос прямо, хотя в глубине души надеялся услышать от Варвары такой ответ, который оправдал бы его затянувшееся пребывание на плацдарме.
— Там, — махнула рукой в направлении обрыва Варвара и сразу же поняла, что это ее неопределенное движение ничего не говорит генералу: где же еще могла она подобрать раненого? — В окопе бронебойщиков… Это Гулоян, он подбил танк, который я фотографировала.
Костецкий движением плеч сбросил на руки Ване шинель и напряженно-твердой походкой, прямо, как палки, переставляя ноги, не сказав никому ни слова, пошел к тому месту под обрывом, где лежал Гулоян. Все поспешили за ним: Ваня с шинелью в руках, Лажечников и Курлов, вполголоса перебрасываясь меж собою короткими фразами, и, наконец, Варвара, удивленная тем, что фамилия Гулояна так взволновала генерала.
Уповайченков, так ничего и не поняв из того, что весь день происходило на его глазах, шел вместе со всеми. Он все-таки дождался вручения орденов, на котором вызвался присутствовать, и был почти полностью удовлетворен. Он был бы вполне удовлетворен, если б не понял, что женщина, которая привела на берег раненого бронебойщика, это и есть та самая Варвара Княжич, которой не место тут, на фронте, среди защитников Родины.
Он хотел сразу же сказать об этом генералу, но не успел. Навстречу им с обрыва спускался капитан Жук. В темноте, успевшей уже сгуститься, Жук видел людей, но не узнавал их и, думая, что это бойцы его батальона, кричал на ходу:
— Перевезли Гулояна? Где Гулоян, славяне?
— Я тут, товарищ капитан, — отозвался слабым голосом Гулоян, поднимая голову на знакомый голос командира батальона. — Я ничего… не спешу…
Генерал Костецкий и капитан Жук одновременно подошли к раненому. Капитан узнал генерала и, вскинув руку к шлему, сразу же рванул ее вниз и окаменел, как на параде перед знаменем.
— Прошу прощения, товарищ генерал.
Не слушая его и глядя вниз, на раненого бронебойщика, Костецкий из последних сил проговорил очень медленно, но громко:
— Вы Гулоян?
— Сержант Гулоян, так точно, товарищ генерал, — послышалось снизу, где серое лицо бронебойщика сливалось с серым песком и неотчетливым пятном плыло и колебалось перед глазами у Костецкого.
— Арам Багдасарович?
— Так точно, — снова проговорил песок.
— За героизм и мужество, проявленные на фронте борьбы с немецкими захватчиками, вы награждаетесь орденом Славы первой степени. Поздравляю вас!
Костецкий выговаривал слова выпукло и выразительно, в голосе его звучала непривычная теплота и ласковость, и вместе с тем чувствовалась в нем гордость: все эти чувства были обращены к Гулояну, для него была теплота и ласка в голосе генерала, им он гордился, его жалел, — так это было в действительности, и так это понимали все присутствующие. Но сам Костецкий знал и понимал больше: это была последняя его теплота и последняя жалость к самому себе, гордился он и собою, потому что смог продержаться до последней минуты и выполнить свой долг.
— Служу Советскому Союзу… — поднялось над песком и приблизилось к глазам Костецкого лицо Гулояна; Ваня вовремя подхватил генерала, Костецкий выпрямился; лицо Гулояна слилось с песком.
Костецкий протянул руку ладонью вверх, Ваня положил на нее орден. Генерал хотел сам приколоть орден к гимнастерке бронебойщика, но почувствовал, что, наклонившись над раненым, встать уже не сможет.
Не имея мужества признаться в этом самому себе, не только своим подчиненным, Костецкий стоял неподвижно и молчал, в ладони у него тускло блестела большая звезда. Варвара сделала шаг вперед, взяла орден из руки генерала и склонилась над Гулояном. Костецкий не протестовал, вероятней всего потому, что орден взяла эта женщина, так неожиданно вошедшая в жизнь его дивизии, а не Лажечников и не Курлов, перед которыми ему было особенно стыдно.
Лажечников и Курлов, которые давно уже стояли по обе стороны Костецкого, тоже сделали вид, что так и нужно: ничего другого им не оставалось.
Уповайченков был до крайности возмущен тем, что происходило на его глазах. Теперь Уповайченков наконец понял, что генерал Костецкий с трудом держится на ногах, но он не мог понять, почему так нянчатся с Костецким его подчиненные. Будь он на их месте, Уповайченков насильно эвакуировал бы генерала на левый берег, а то и подальше, и положил бы конец этой комедии человечности, что становится еще более непристойной из-за вмешательства женщины, и духу которой тут не должно быть.
Конечно, теперь, в эти минуты, ничего уже нельзя сделать, Уповайченков понимал, что он не имеет права нарушать ход событий, как бы странно они, по его мнению, ни складывались. Позднее он вернется к Варваре Княжич и к факту ее появления и недопустимо наглого поведения на передовой. Это его обязанность, а он не привык уклоняться от выполнения своих обязанностей, какими бы тяжелыми они ни были.
— С вами был рядовой Шрайбман, он тоже награжден, — тем временем говорил Гулояну Костецкий, чтоб довести дело до конца. — Надеюсь, он не ранен?
Гулоян молчал. Все молчали, ожидая его ответа. Варвара не выдержала этого молчания и громко всхлипнула.
— Это что еще там? — проскрипел над ней голос Костецкого, и она, испуганно глотая комок слез, подкатившийся к горлу, выговорила:
— Рядовой Шрайбман убит, товарищ генерал.
Костецкий ответил не ей, а своим мыслям:
— Орден будет отослан на сохранение семье Шрайбмана.
Варвара приколола орден к гимнастерке Гулояна и теперь уже стояла рядом со всеми.
— Семья Шрайбмана на оккупированной территории, — сказала она, проглатывая новый комок слез, подступивший к горлу.
— …будет вручен семье награжденного после освобождения временно оккупированных территорий, — услышала Варвара усталый голос Костецкого и вслед за тем увидела, как он начал медленно поворачиваться, чтоб отойти, но вдруг выгнулся колесом назад, схватился за поясницу, сделал два непомерно больших шага к реке и упал лицом в песок.
Все это произошло так быстро, что никто не успел подхватить генерала — ни Ваня, который все время боялся, что это случится, и в последнее мгновение словно окаменел от неожиданности и испуга, ни Лажечников и Курлов, которые все время стояли по обе стороны от генерала, как почетный караул, ни капитан Жук, который первым бросился на помощь генералу, но был слишком далеко. Потом уже все сделалось само собой. Лодка Данильченко подошла к берегу. Генерала осторожно подняли и перенесли в лодку. Когда его опускали на застланный плащ-палаткой камыш, он проговорил:
— Гулояна не забудьте.
Гулояна положили рядом с ним. В лодку вошли Лажечников, Курлов и Варвара. Ваня оттолкнул лодку от берега и сел на корме.
— Ваня! — позвал Костецкий.
Ваня, осторожно балансируя в воздухе руками, перешел к генералу и сел на дно лодки, неудобно вытянув ноги вперед.
Костецкий заговорил, обращаясь только к Ване, словно боялся, что больше у него не будет времени с ним поговорить.
То, что его слушали все, кто был в лодке и перед кем он привык испытывать неловкость, как испытывает неловкость начальник перед своими подчиненными, пряча от них свой внутренний мир, то, что его слушали Лажечников и Курлов, Варвара и Данильченко, для него не имело теперь значения, как уже не имело для него значения ничто, кроме этого последнего разговора.
— Я тебя усыновить думал, Ваня, — говорил Костецкий, медленно шевеля губами и глядя снизу вверх на лицо ординарца, белевшее над ним в темноте. — Думал усыновить, да боялся, что родители твои будут обижаться… на тебя.
Ваня ловил каждое слово генерала.
— Мне тоже обидно было бы, если б сын от меня отказался. У тебя отец хороший?
— Хороший, — сказал Ваня, сдерживая слезы, — очень хороший…
— Если б и плохой был, все равно не отрекайся. Знаешь, у нас было время, когда дети от родителей отказывались… Это они, чтоб легче жить,
Костецкий замолчал. Ваня осторожно подложил ему руки под голову. Курлов разминал в пальцах папироску и не решался закурить, не столько потому, что нельзя было зажигать огня, сколько из-за слов Костецкого, глубоко взволновавших и его. Он сидел на скамье между Лажечниковым и Варварой и словно отгораживал их друг от друга. Данильченко осторожно вел лодку, чуть касаясь веслами воды.
— А что толку в легкой жизни? Главное в человеке — совесть. Не люби плохого отца, иди своей дорогой, но не отрекайся. Будет в беде плохой отец, все равно надо помочь. Он тебя произвел на свет, дал тебе радость быть человеком лучшим, чем он, — чем ты его отблагодаришь? Ты слушаешь меня, Ваня?
— Слушаю, — отозвался Ваня.
Генерал говорил простыми словами, которых Ваня от него никогда не слышал. Если б он услышал эти слова от родного отца, они бы не удивили и не поразили его так сильно, но в устах Костецкого эти слова звучали всей силой заложенного в них чувства и выстраданной убежденности. Молодой солдат, которого Костецкий спас от смерти и полюбил, как сына, знал, что ему нечего стыдиться родного отца и незачем отрекаться от него, многосемейного колхозника, но вместе с тем он чувствовал и знал, что любит сурового с виду, но безгранично доброго умирающего человека, голова которого, тяжелая как гиря, лежит у него в ладонях, любит больше, чем родного отца. И если б он спросил у себя, за что любит, и подумал бы над этим вопросом, и захотел бы на него ответить, он сказал бы, что любит Костецкого за то, что тот, не будучи родным отцом, показал ему такой пример жизни, которого и родной отец не смог бы показать.
— Вспоминай меня, Ваня, — сказал Костецкий и замолк.
Лодка тихо ткнулась в песок, и они все вместе осторожно и неумело начали выносить генерала на берег.
Уповайченков остался на плацдарме»
14
Впереди шел Курлов, освещая тропинку трофейным потайным фонариком. За ним санитары несли на носилках Костецкого. Ваня шел то рядом с носилками, отстраняя ветки, нависавшие над тропинкой, то забегал вперед, чтобы посмотреть дорогу. В лесу было холодно и сыро.
Иногда Ваня брался за носилки — не для того, чтоб помочь санитарам, в этом не было надобности, — а чтоб прикосновением своим почувствовать самому и дать почувствовать Костецкому, что связь меж ними не рвется.
«Я тут, — означало это прикосновение для Вани, — я не оставлю тебя».
«Он меня не оставит, — говорило это прикосновение Костецкому, который лежал на носилках, подложив кулаки под поясницу. — Он тут…»
Разбухшая после ливня тропинка чавкала и мягко прогибалась под ногами.
Варвара и Лажечников отстали.
Сразу же за деревьями, которые лишь угадывались по обе стороны тропинки, начиналась темнота и тишина, — в тишине не слышалось ничего, кроме вздохов сырой листвы да внезапного испуганного крика ночной птицы.
Варвара протягивала вперед руку, чтобы защититься от веток, невидимых в темноте, спотыкалась о корни, что пересекали тропинку, будто окаменевшие ужи. Лажечников шел за нею, она слышала его тяжелое дыхание, оно словно догоняло ее, и она старалась идти быстро, так быстро, как только позволяло уставшее за день сердце. Невольно приходило ей в голову, что это похоже на преследование и бегство, тем более безнадежное, что ее преследовало собственное сердце и она не могла убежать от него. «Пустите, я пойду впереди», — услыхала она за собой и сказала, не останавливаясь:
— Не надо.
Идти за ним было бы еще труднее: нелегкое дело — догонять то, от чего хочешь бежать. Варвара понимала, что ей некуда деться, что она не убежит от того, что ей суждено, что ее встреча с Лажечниковым была неизбежной, рано или поздно она должна была встретить его, но она ни на минуту не переставала бороться с собой, отрицать свое право на эту встречу, право на ту тревогу, что владела сейчас ее душой и должна была разрешиться новым счастьем или новой мукой — теперь ей было уже все равно.
Как плывут рядом две реки, два внешне спокойных, но полных внутреннего смятения потока, так текли их молчаливые мысли, то раздельно, словно не зная друг о друге, то сливаясь в одном водовороте, чтобы вскоре снова разойтись, разделиться на два русла, обогащенные друг другом, но по-прежнему непримиримо враждебные. В этой мучительной враждебности, в отстаивании собственной независимости, в стремлении сберечь горькую чистоту и суровость опаленной страданием души было тайное обетование нежности, которая не щадит себя и не знает своей силы.
Может быть, нужна ей, этой тайной нежности, что кроется под их молчанием, опасная преграда, высокая плотина, как водам медленной степной реки, чтобы показать свою силу, способную вызвать энергию зримой жизни из того покоя неподвижности, под которым будто и не кроется ничего. И чем грознее преграда, чем выше плотина, тем круче падение воды, преодолевающей ее, тем больше энергия нежности, сдерживающей себя, как исполин, что сам боится своей силы,
Лажечников и Варвара молчали.
«Все равно, теперь уже все равно, что будет со мной и чем обернется эта тревога, что живет во мне, все равно, буду я счастлива или несчастлива, — думала Варвара и улыбалась в темноте самой себе, своим мыслям, той буре, что не смолкая пела в ее сердце. — И как можно думать, что я буду несчастлива, если то, что творится во мне, это уже счастье, и нет и не может быть большего счастья… Словно я была мертва и лежала в земле и надо мною росла трава, а я ее не видела, — на глазах моих лежала черпая сыпучая земля, — но вдруг я ожила и увидела эту траву и разбросанные в ней маленькие синие цветы… Зачем же я хочу бежать от этих синих цветов, которые растут только в жизни?»
Варвара остановилась, так испугала ее мысль, что она сама, по собственной воле может отказаться от своего счастья.
— Вы устали?
Лажечников был рядом и напомнил о себе так осторожно и тихо, словно боялся разбудить ее. Он, казалось, понимал, что происходит с Варварой, и давал время вызреть той буре, что бушевала в ее сознании. А возможно, он прислушивался лишь к своей буре, приглядывался к ней, как пловец перед тем, как броситься в опасный поток.
Он словно со стороны смотрел на самого себя, и тот Лажечников, которого он видел, казался ему если не совсем смешным, то, во всяком случае, достойным жалости.
— Милый ты мой, — думал с грустной иронией Лажечников, — все это наделали гнилые пни, к которым мы приближаемся. Те самые гнилые пни, на которые немцы бросали бомбы: думали, что огонь. А тебе нельзя ошибиться. Почем ты знаешь, что в душе у тебя огонь, а не кусочек гнилого дерева? Пока темно, он светится, а взойдет солнце — погаснет, раскрошится в пальцах. И, кроме всего этого, куда тебе до военврача Ковальчука!
А. что такое Ковальчук? И почему ты думаешь, что ты лучше Ковальчука? Неужели тебе достаточно того, что Ковальчук не скрывает или не умеет скрыть своих чувств, своих отношений с Олей Ненашко, чтоб осудить его, чувствовать над ним превосходство, моральное преимущество? В чем твое преимущество, Лажечников, в чем превосходство?
Чувство, каким бы оно ни было — тайным или открытым, остается чувством… Это верно, но Ковальчук изменяет своей жене, оставшейся там, где теперь фашисты, и в этом виноваты те его чувства, которых он не может скрыть. А разве твое чувство, которое только что родилось и которого ты ни при каких обстоятельствах никому не покажешь, разве ты со своим чувством не изменяешь своей жене, которой уже нет? Неужели то, что она не знает и никогда не сможет узнать о твоей измене, освобождает тебя от долга любви и верности, который связывал вас?
Допустим, что освобождает, что ты свободен, Лажечников. Почему же ты не чувствуешь себя свободным, не чувствуешь в себе той свободы, которую чувствует Ковальчук, — если он чувствует ее? И в чем эта свобода? Неужели только в том, чтобы, встретив Олю Ненашко с ее ненасытной, первобытной жаждой жизни, с ее круглым, как у окуня, ротиком, который хватает живца, как только увидит, — чтобы, встретив Олю Ненашко, ты потерял свою свободу, лишился ее?
И вдруг Лажечников понял, что в его несвободе, так, как он ее понимает, больше свободы, чем в чувствах и поступках Ковальчука, — он свободен сдерживать, укрощать, ограничивать себя, свое сердце, свою душу, его несвобода дает ему силу быть человеком, а свобода Ковальчука оборачивается для военврача ярмом, которое он бессилен сбросить.
Они остановились и стояли рядом на узкой тропинке. Лажечников хотел спросить, тяжело ли было Варваре днем на плацдарме, но это могло стать началом разговора, конца которого нельзя было предвидеть, — и он не спросил. Варвара и хотела и боялась снова услышать голос Лажечникова. Кому-то надо было нарушить молчание, и, чтобы предупредить его, она сказала:
— Идемте, я не устала.
И снова тьма заколыхалась над тропинкой, и снова пересекали ее ветви и корни, снова протягивала Варвара руку вперед, и пригибалась, и спешила… Где-то очень далеко вздохнула пушка, прошелестел над лесом, тронув листву, ветер, блеснул фосфорический свет на поляне, струи его заколебались между черными стволами деревьев и поплыли вверх. Месяц уже взошел, его не было видно, но оттенок неба над поляной предупреждал: сейчас он их увидит.
Они не остановились на поляне.
«Как хорошо, что мы снова идем и что я не дала ему заговорить, — думала Варвара. — Бог знает, что могло бы быть, если б он сказал слово… А может, не надо было этого бояться? Может, надо было, чтоб он сказал? Но ведь я и так знаю, и он тоже знает… И все это теперь не имеет никакого значения, потому что эта ночь, и тропинка, и невидимый месяц за лесом, и даже вздох пушки где-то далеко-далеко — это счастье, которого могло бы и не быть.
Всего этого могло бы и не быть, если б я не встретила его, — вот в чем состояла теперь главная мысль Варвары. — Всем, что теперь происходит со мною и во мне, я обязана этой встрече. Если б ее не было, этой встречи, я сфотографировала бы подбитый танк, вернулась в корреспондентский хутор, проявила, отпечатала и отдала снимки генералу Савичеву и забыла бы об этой поездке, как о многих других поездках. Но я встретила его — и теперь уже ничего не смогу забыть. Все будет жить во мне: вчерашний ливень, и сидение в окопе бронебойщиков, и как я лежала в воронке и ногами выталкивала из нее мертвого немца, и Гулоян, и Шрайбман. Я никогда ничего не забуду. Это теперь мое богатство, и чувствовать это богатство дал мне он.
Почему именно он? Я совсем не знаю его, случайно встретила, могла бы встретить кого-нибудь другого. Значит, все, что со мной творится, идет от меня, а не от него? Значит, я еще способна и чувствовать, и помнить, и быть счастливой? Почему встречаешь человека, совсем чужого тебе, о существовании которого еще день тому назад ты ничего не знал, и он становится тебе близким и родным? Это — чудо. Со мной уже было это чудо когда-то давно… Потом жизнь моя без чуда была тяжкой и темной. А теперь чудо снова живет во мне и владеет мной, и я благодарна человеку, о котором еще вчера ничего не знала, благодарна за то, что он сотворил со мной это чудо. Чудо счастья. Чудо жизни».
За деревьями уже слышались голоса солдат. Лажечников и Варвара обходили пушки, грузовики, темные штабеля каких-то ящиков. Лажечников шел уже впереди, часовые узнавали его голос, ставший теперь начальственным, деловым голосом, темнота вдруг расступилась, открыв лунное небо, — и они вышли на поляну.
— Ужинать будем? — Лажечников остановился перед ступеньками, ведшими в блиндаж, и голос его снова прозвучал осторожно и тихо.
Она не успела ответить — подошел высокий офицер, на ходу окликая Лажечникова:
— Товарищ полковник? Начштадив на проводе… Что с генералом?
Луна заливала поляну, по которой от блиндажа к блиндажу ходили люди, тени двигались вслед за ними по высветленной луной, словно политой известью земле. Варвара увидела, как Лажечников резко шагнул в сторону от нее и пошел рядом с офицером, который спрашивал о Костецком. Она услыхала окончание фразы:
— …нового командира дивизии…
Еще несколько офицеров подошли к Лажечникову, но это было далеко от нее, и она уже не услышала, о чем они начали говорить.
Варвара постояла минутку у блиндажа, не зная, что ей делать и куда направиться теперь. О том, чтоб выбраться отсюда ночью, нечего и думать. Надо ждать до утра, — может, будет какая-нибудь машина… Она очень устала… Ну что ж, она и так опоздала с этими снимками. Савичев будет недоволен, но что она может поделать?
Варвара нащупала фотоаппарат на боку. «Все в порядке. Как хорошо, что ничего не было сказано. Передремлю остаток ночи где-нибудь в кустах, утром будет видно, что делать…» Ей вдруг сделалось грустно, словно она потеряла что-то.
Земля была холодная и сырая, кто-то приготовил себе место для сна, настелил под кустом тонких веток и присыпал их травой и листьями. Варвара натолкнулась на настил случайно, блуждая между деревьями. Лучшего и желать нельзя было. Все равно она не заснет, только бы отдохнуть, смежить глаза на минутку… Куст орешника нависал над ее жесткой и неудобной постелью, белые пятна лунного света блуждали по лицу. Варвара лежала на спине, прикрыв фотоаппарат обеими руками, ей казалось, что так она может вернуть себе утраченное спокойствие; теперь это было единственное, что связывало ее с прошлым, от которого она так легко отреклась. Она чувствовала себя дважды преступницей. Лесными своими мыслями она так далеко отошла от того, чего не имела права забывать. Еще днем, ползая под огнем у танка, и лежа в воронке, и таща на себе раненого Гулояна, она все помнила, потому что светило солнце и ей стыдно было бы при его неподкупном горячем свете забыть. Но стоило упасть темноте на землю, стоило ей очутиться на лесной узкой тропинке, как она все забыла.
«Преступление, преступление, — шептала Варвара, целуя потертый грязный футляр Сашиного фотоаппарата. — Ты не должен прощать… Преступление…»
Она чувствовала себя преступницей не только перед Сашей, которого представляла себе живым, невозвратно далеким, но живым, способным судить, прощать или не прощать, но и перед Лажечниковым. Не перед тем, большим, тихим и, казалось, добрым Лажечниковым, что обнял ее глазами на берегу, когда она привела раненого Гулояна, а потом шел вместе с нею шаг за шагом, тропинкой через темный лес, а перед полковником Лажечниковым, который скорчившись сидел у стереотрубы в узкой траншее на кукурузном поле, перед тем собранным, волевым командиром, который отдавал приказы на командном пункте капитана Жука, перед занятым и озабоченным командиром полка, который забыл о ней сразу же, как только ему сказали, что звонит начальник штаба дивизии. Она не имеет права на его спокойствие, на его мужество и доброту. Если и он чувствует то, что чувствует она, ошибочно думала Варвара, он неминуемо должен отрывать часть своего спокойствия, доброты и мужества у того дела, которое он делает, которое должен делать не для себя и не для нее, а для того, что больше, чем она и чем он, и что единственно имеет теперь право на человеческую душу.
«И я должна тоже отдавать всю себя, — сказала себе Варвара. — Как отдают себя Гулоян и Костецкий, как отдал себя Шрайбман — до конца… Это я оставляю себе, а все остальное — преступление, преступление, преступление…»
Мысли утомили ее, это была спасительная усталость — она успокаивала. Варвара больше не думала ни о чем и ни о ком, но заснуть не могла. Она лежала в каком-то странном оцепенении, не могла шевельнуться, на закрытые веки ее падал белый лунный свет, и все, что пережила она с той минуты, как впервые попала в этот лес и заблудилась в нем, снова и снова проходило перед нею, запечатленное в памяти навсегда.
Ей казалось, что она просматривает пачку старых забытых фотографий, которые сделала не она, а кто-то другой, — может быть, Саша из своей далекой дали. Все отразилось в них… Вот она едет с Васьковым в кабине грузовика, и Васьков все время поглядывает на небо, на страшное безоблачное небо… Вот она переодевается за кустом, а Кукуречный стоит и смотрит на нее дурацким взглядом, раздвинув ветки. Костецкий угощает ее чаем в своем аккуратном, залитом светом душном блиндаже… Майор Сербин сидит, прижав колени к подбородку, в блиндажике телефонистов… Потом дым, комья земли, обломки досок, какие-то куски взлетают в воздух, и голубь кружит, освещенный заходящим солнцем, и крылья у него словно опалены… Странно, что она ни разу не вспомнила майора Сербина, начисто забыла о нем сразу же, как только вышла из блиндажика. Теперь она уже никогда о нем не вспомнит, это была последняя встреча… А молоденького солдата с впадинкой на затылке и его усатого напарника она будет помнить всегда… Что это лежит, прикрытое рыжей плащ-палаткой, за окопом бронебойщиков? Ох, это Шрайбман, которого наградили орденом Славы… Костецкий падает лицом в песок… И вот они плывут в лодке через реку, и Данильченко осторожно подымает и опускает весла, и река широкая, и до левого берега еще далеко, а лодка так мягко рассекает воду, — кажется, она плывет в воздухе, высоко над водою, над берегом, над тем лесом, через который они идут вдвоем в темноте, и деревья обступают их, и она знает, что это ведь невозможно — одновременно сидеть в лодке и идти по лесу, — это все оттого, что она держит в руках старые фотографии… Все перепуталось, все уже так далеко, и так легко теперь на душе.
Варвара, не пошевельнувшись, открыла глаза, словно кто-то сказал ей: «Проснись!» Она скорее почувствовала, чем увидела, как над ней склоняется что-то большое и темное, и в ту же минуту ее осторожно укрыла с ног до подбородка тяжелая шинель, еще хранящая тепло человеческого тела. Она осторожно вдохнула запах шинели, из-под прижмуренных век глядя вверх. Лажечников стоял над нею, заложив руки за спину: она отчетливо видела его освещенное луной большое бледное лицо. Он казался очень высоким — голову его покрывали черные ветви орешины. Варвара плотно сжала веки, боясь, что выдаст себя, и услышала, как, осторожно ступая, чтобы не хрустнула ветка под ногой, Лажечников уходил — небольшие сухие веточки ломались под его сапогами: хрусь! хрусь! хрусь! И она погрузилась в глубокий сон без сновидений.
15
Птицы и солдаты еще спали чутким сном. Небо чуть просвечивалось сквозь густое сплетение веток над головою, оно было сначала таким же черным, как листва, потом они отделились друг от друга: небо начало синеть, а листва из черной стала превращаться в темно-зеленую, чтоб потом разбиться на множество оттенков.
Варвара проснулась.
Прямо над нею на ветке орешины прихорашивалась маленькая птичка, серенькая, с черным длинным хвостиком и белой полоской на голове. Тоненькая веточка под птичкой раскачивалась, но она не чувствовала от этого никакого неудобства и продолжала коротким клювом расправлять перышки, встряхивала крылышками, и, только когда Варвара поднялась на своем жестком ложе и села, по привычке охватив руками колени, птичка перелетела выше — на другую ветку — и стала с любопытством поглядывать вниз маленьким глазом, похожим на коричневую бусинку.
Лес оживал, хоть солнце еще не разогнало сумрака под деревьями. Слышались голоса, фырканье автомобильных моторов, доносился запах дыма и варева от расположенной где-то поблизости полевой кухни.
Варвара сидела, покачиваясь, вся еще во власти своего короткого сна. Рукам и коленям под шинелью было тепло, плечи и спину охватывала утренняя прохлада. Варваре хотелось снова лечь, натянуть на голову шинель, угреться и лежать тихо, ничего не думая, пока не выйдет из тела сон и не появится привычная необходимость что-то делать, куда-то ехать, спешить, встречать людей, говорить, узнавать новое, прощаться, чувствовать радость и печаль — жить… Но Варвара не могла не думать. Сон уже миновал, и жизнь началась. Две вещи властно напоминали о ней: фотоаппарат, с которого и во сне не снимала рук Варвара, и чужая шинель, что лежала у нее воротником на коленях, укрывая ноги и край зеленой жесткой постели. Надо было отдать шинель Лажечникову и ехать, спешить в корреспондентский хутор, проявлять пленку, печатать снимки для генерала Савичева. Это все было нетрудно. Нести шинель Лажечникову было трудно: это значило признаться, что она не спала ночью, в ту минуту, когда он приходил, потому и знает, кому принадлежит чужая шинель, признать, что она охотно приняла ее тепло, что это было желанное для нее тепло, с которым ей жаль теперь расставаться.
Варвара покачивалась в лад своим мыслям; по большому ее лицу блуждала улыбка, делая его красивым. И хоть улыбка эта была скорее печальной, чем веселой, Варвара с ужасом признавалась себе, что с радостью думает о неизбежной встрече с Лажечниковым и о том признании, которым станет возвращение шинели. То, что улыбка Варвары была печальной, ничего не значило, главное было в том, что она улыбалась самой себе, своим мыслям, своему страху перед неизбежной встречей — и этим словно отрицала свой страх и уже не боялась его, а воспринимала как радость и как счастье.
Солдат с деревянным, до краев полным ведром появился из-за кустов неожиданно, вспугнув мысли Варвары. Он и сам был крайне удивлен печально-счастливым видом этой женщины. Варваре в первое мгновение показалось, что это тот самый солдат, который позвал ее к Лажечникову в день ее приезда в полк, когда она вот так же отдыхала в кустах. Но это был другой солдат, тоже немолодой и в такой же гимнастерке с короткими рукавами. Он нес воду из ручья в деревянном ведре, которое бог весть откуда появилось тут, во фронтовом лесу.
— Умываться будете? — Солдат остановился возле Варвары.
— Неплохо было бы, — улыбнулась ему Варвара, вспомнив, что ее вещевой мешок с полотенцем, мылом и зубной щеткой в блиндаже у Лажечникова: она оставила его там, направляясь с полковником на плацдарм.
— Тут ручей бежит в двадцати шагах отсюда, — сказал солдат и поставил ведро на землю, — а хотите, я вам солью… Вы, должно быть, врач? Вместо майора Ковальчука к нам?
— Нет, я не врач. Разве я похожа на врача?
Варвара охотно разговаривала с солдатом, который тем временем стал свертывать самокрутку.
— То-то я и вижу, что вы на врача не похожи, — сказал солдат, концом языка после каждого слова смачивая клочок газеты, в который он завернул основательную щепоть махорки.
— А разве врача можно узнать по виду?
— Да как вам сказать? Врачи — народ острый, как глянет — словно бритвой резанет, а вы с виду подобрее будете.
Варвара засмеялась над этим объяснением. Засмеялся и солдат, показав ряд желтых от табака зубов. Варвара встала, за воротник подняв с собой шинель Лажечникова.
— Так где тут, говорите, ручей?
— А пойдете вот прямо, а у старой березы чуть влево…
— …и прямо в лапы Куку речному?
Солдат, видно, знал все, что нужно было знать про Кукуречного, — он махнул рукой и взялся за дужку своего ведра.
— Лучше уж я провожу вас к ручью.
Ручей и вправду был очень близко. Варвара сама могла бы его найти, но солдату приятно было разговаривать с ней, он проводил ее до старой березы и лишь там не очень охотно оставил одну. Варвара вымыла руки и мокрыми пальцами протерла глаза. Вода была холодная и, как всегда в лесу, непрозрачная, — текла она словно по черному корыту и напоминала темное, старое зеркало. Варвара увидела в этом зеркале себя и удивилась, что можно так свежо и даже молодо выглядеть после такого дня.
До блиндажа Лажечникова было дальше, чем она думала. А может, она шла не той тропинкой, поэтому сначала набрела на какие-то грузовики, у которых хлопотали сонные шоферы, а потом — на очередь бойцов перед чернявым ефрейтором, который лихо орудовал широкой бритвой, держа за кончик носа бойца, сидевшего перед ним на низком березовом пне.
— Как пройти к командиру полка? — спросила Варвара.
Ефрейтор, артистически взмахнув бритвой в воздухе, ткнул в неясный просвет меж кустами:
— А вот так, прямо!
Варвара сделала несколько шагов к кустам и остановилась, услышав голос, который теперь могла бы узнать среди тысячи других голосов. Голос шел из-за кустов прямо на нее, глуховатый, холодный, почти лишенный интонаций, словно оп принадлежал не живому человеку, а какому-то механизму.
«Не может быть! — с ужасом подумала Варвара. — Ведь он остался там, в окопе телефонистов, и я сама видела, как снаряд попал в тот окоп…»
Но холодный, лишенный интонаций голос упрямо опровергал то, что видела Варвара на кукурузном поле. Она еще не понимала, что он говорит, лишь чувствовала холод, таящийся в нем, этим холодом ее обливало всю, с головы до ног, Варвара остановилась, чтоб не упасть.
Из-за куста видна была небольшая поляна. Варвара увидела морщинистую, похожую на кору сухого дерева, коричневую шею солдата, который стоял без ремня, безнадежно опустив руки и шевеля пальцами, перед маленьким столом, покрытым куском красной материи… Два солдата с автоматами стояли справа и слева от него, тоже спиною к Варваре; из-за этих трех фигур и виднелся покрытый красным столик, присутствие которого так поражало в этом утреннем лесу. Два офицера сидели за столиком, глядя на красную материю; между ними стоил майор Сербин и, темнея лицом, на котором резко шевелились мускулы судорогой сведенного рта, говорил своим глухим, ледяным голосом:
— …на основании статьи… Федяк Прохор Саввич… признал себя виновным… измена Родине, проявившаяся в дезертирстве с поля боя…
«Это же тот Федяк, что испугался танка, — чуть не крикнула вслух Варвара. — Он же не дезертир, он просто растерялся! Гулоян так и объяснял в окопе, что Федяк хороший солдат, что с ним никогда ничего такого не случалось…»
Варвара хотела выйти из-за куста на поляну и сказать это тем, кто сидел за красным столиком, но в это время увидела, как черной водой налились глубокие впадины вокруг глаз майора Сербина, и услышала его голос:
— …к расстрелу…
Стриженая голова Федяка медленно наклонилась вперед, костлявые плечи резко поднялись, пальцы рук его зашевелились еще быстрей. На ветке над головой Варвары весело и звонко заговорила какая-то птичка, ей ответила другая, и вдруг вся поляна наполнилась птичьим разговором, словно птицы, скрывавшиеся в ветвях, тоже прислушивались к тому, что тут делалось, и теперь на все лады обсуждали судьбу Федяка.
— …но, принимая во внимание… — снова услышала Варвара голос майора Сербина и заставила себя понимать, что он говорит.
Она поняла, что говорит Сербин, не столько по словам, которых почти не слышала, сколько по тем переменам, которые на ее глазах происходили в его лице и голосе. Майор Сербин вдруг вышел из-за стола и, жмурясь и моргая, словно внезапный свет ударил ему в глаза, подошел к Федяку. Он взял его обеими руками за плечи и встряхнул так, что стриженая голова солдата замоталась. Автоматчики отступили от Федяка. Майор Сербин повернул его за плечи спиною к себе и слегка подтолкнул вперед: иди, мол…
Теперь Варвара видела уже лица обоих, и в это же время они оба, и майор Сербин и бронебойщик Федяк, увидели Варвару. Майор Сербин смотрел на Варвару из-за головы Федяка, глаза их встретились, и то, что прочитал Сербин во взгляде Варвары, заставило его крепко сжать пальцами плечи Федяка, словно он цеплялся за него, как за последнюю свою надежду.
«А ты все судишь, — сказала Варвара Сербину своим взглядом, — и караешь ты, и милуешь ты… Не имеешь ты права ни карать, ни миловать».
Варвара смотрела на Сербина таким суровым и непрощающим взглядом, что он не выдержал, пальцы его разжались, он отпустил плечи Федяка, отвернулся и спотыкаясь побрел через поляну к красному столику.
16
Лажечников у своего блиндажа разговаривал с командирами батальонов. Варвара издалека узнала его, и он, должно быть, тоже почувствовал ее приближение, так как сразу обернулся и встретил ее долгим взглядом.
Варвара, поздоровавшись, остановилась в сторонке, чтоб не мешать командирскому разговору. Но разговор уже кончился, Лажечников отпустил комбатов, сам подошел к ней и, протягивая руку, заговорил дружелюбно, как со старой знакомой:
— Как спалось? Не холодно в нашем лесу?
Варвара сбросила с плеч шинель и отдала Лажечникову. Она задержала ее на минутку, словно обняв на прощание, и Лажечников это заметил.
— Спасибо. Было очень тепло. А мешок мой не пропал?
— Он у меня в блиндаже. Позавтракаете со мной?
— Надо торопиться.
— Как раз хорошо подкрепиться перед дорогой. Меня вызывают в штаб дивизии. Пойдем вместе.
Встреча, которой боялась Варвара, была такой простой и непринужденной и вместе с тем полной такого глубокого значения, что Варвара сразу успокоилась. В блиндаж все время входили офицеры. Варвара не слушала, о чем они докладывали Лажечникову и что он им приказывал. Вещевой мешок уже лежал у нее на коленях. То, что он хранился у Лажечникова и что Лажечников сам отдал его ей, делало этот мешок соучастником таинственных отношений, которые возникли меж ними. В том, что между нею и Лажечниковым возникла тонкая нить опасной и тревожной своей неожиданностью связи, Варвара уже не сомневалась, но теперь ей все казалось не таким страшным, как раньше. Она понимала и чувствовала, что охотно и навсегда осталась бы с этим едва знакомым полковником тут, в блиндаже, делала бы что-нибудь в полку, перевязывала раненых или другое занятие нашла бы для себя, только бы не расставаться, только бы не порвалась тонкая нить, связывавшая их.
Лажечников знал дорогу прямиком к шлагбауму. И хоть шли они той же тропинкой, сквозь те же кусты, в которых Варвара заблудилась, сегодня лес уже не казался ей глухим и пустынным, как в тот день, когда она прибыла в дивизию. Наверное, так было не только потому, что за каждым кустом, за каждым поворотом тропинки в нем чувствовалось присутствие людей, но еще и потому, что было утро и солнце уже плыло над вершинами деревьев и освещало сквозь густые кроны лесную, усыпанную полусгнившим валежником и перепрелой прошлогодней листвой землю, а больше всего потому, что шла она с Лажечниковым, не очень разговорчивым, но надежным спутником, с которым и ночью в самой глухой чаще не страшно.
Они почти всю дорогу молчали. Лажечников шел впереди, иногда он останавливался и ждал Варвару: она шла медленно, вчерашняя усталость, казалось исчерпанная сном, снова охватила ее. Варвара чувствовала себя совсем разбитой и едва поспевала за Лажечниковым.
— Вам надо, должно быть, спешить. Я и сама найду дорогу к шлагбауму.
— Заблудитесь.
— Кукуречный меня уже знает, а немцы — на том берегу. Вас часто вызывают в дивизию?
— Не очень.
— Как вы думаете, Костецкий выживет?
— Боюсь, что нет.
— А кого назначат вместо него?
— Не знаю. Может, уже и назначили.
— А вы смогли бы быть командиром дивизии?
— Наверное, смог бы. Не знаю, хорошим ли, но смог бы. До войны я был лектором, моя специальность — исторический материализм.
Они и не заметили, что давно уже стоят на тропинке и разговаривают так, словно ни ему, ни ей не нужно торопиться.
— Куда вы теперь?
— В другую какую-нибудь часть.
— Материал везде есть?
— Везде есть люди.
Это они говорили, снова шагая рядом или пропуская друг друга вперед, когда тропинка становилась уже. Фразы, которыми они обменивались, звучали весело, немного даже иронически, они нарочно говорили так, хотя знали, что не шутят.
— Если б я умела что-нибудь, кроме фотографирования…
— Вы спасли Гулояна.
— Я только перевязала его, и то скверно.
— Вашему брату женщине трудно воевать.
— Женщине все легко.
— Это я подумал вчера, когда вы привели Гулояна.
— Я шла за Шрайбманом.
— Ничего нельзя знать заранее, когда ты на войне.
Березовый шлагбаум возник неожиданно за деревьями, тропинка влилась в дорогу, вымощенную уложенными поперек тонкими бревнами. Солдат у шлагбаума взял под козырек перед полковником. Он весело улыбался, из-под пушистых его усов блестели большие и ровные белые зубы.
— Машина еще не проходила из штаба дивизии? — спросил Лажечников, тоже приветливо улыбаясь.
— Машины будут, товарищ полковник, — ответил солдат. — А вам в армию или в штаб фронта?
— Мне, Зубченко, одиннадцатым номером назад. — Лажечников говорил с солдатом по-приятельски: видно, знал его давно и хорошо к нему относился. — Посадишь корреспондента, надо срочно.
Зубченко будто теперь только заметил Варвару.
— А, здравствуйте, товарищ корреспондент! — Он повернул к ней лицо и, не задерживая взгляда, сразу же снова обратился к Лажечникову: — Васьков сейчас должен проезжать, с Васьковым поедут… Он их и привез сюда.
То, что Зубченко не остановил взгляда на Варваре и словно совсем не проявлял любопытства к ней, не обманывало ни Варвару, ни Лажечникова; они понимали, что приход к шлагбауму командира полка вместе с женщиной, будь она хоть трижды корреспондент, не мог не заинтересовать солдата и он не мог из этого прихода не сделать своих выводов.
— Ну что ж, — сказал Лажечников неожиданно сухим, официальным голосом, совсем не похожим, на тот веселый, приветливый голос, которым он только что разговаривал с Зубченко, — счастливого пути.
Смущаясь, что тоже не скрылось от взгляда проницательного Зубченко, Лажечников протянул Варваре руку.
— Хотите, — неожиданно для самой себя сказала Варвара, — я вас сфотографирую? И пришлю карточку. Пошлете домой.
Она хотела сфотографировать его для себя, а не для того, чтоб он кому-то посылал карточку.
— Сфотографируйте, — согласился Лажечников. — Как это я сам не догадался вас попросить… Пошлю сыну.
— А где ваш сын? — Варвара уже отступала от Лажечникова, поднимая к глазам аппарат. — Повернитесь слегка, чтоб на вас падало больше света… Вот так.
Лажечников поправил фуражку, одернул китель, надетый по случаю того, что его вызвали в штаб, и сделал каменное лицо.
— Ой, не надо так сурово смотреть! — воскликнула Варвара так искренне, что Лажечников невольно улыбнулся; в эту минуту она и щелкнула затвором аппарата. — Вот и чудесно! Представьте себе, как приятно было бы вашему сыну смотреть на каменное лицо отца! Где он у вас?
— В Камышлове, — неохотно ответил Лажечников, помолчал и, осуждая себя за ненужную откровенность и в то же время чувствуя, что не может не поделиться своей бедой с Варварой, прибавил: — В детдоме… Вот письмо получил. Трудно мальчику без матери…
— Простите, — сказала Варвара тихо, — я не хотела… у моей девочки тоже нет отца…
— Значит, мы с вами равны горем, — отозвался Лажечников.
Варвара молчала, глядя куда-то в сторону. Он был благодарен ей за то, что она не стала расспрашивать, как сделала бы на ее месте другая женщина. Нечаянно прикоснулась к его ране, почувствовала, что причинила боль, и — отдернула руку. Хорошо, не будем говорить об этом, ни к чему.
Из-за деревьев вышел Зубченко, неся в руке котелок, прикрытый большим лопухом, похожим на медвежье ухо.
— Медку моего не попробуете? — Он поднял котелок и зачем-то потряс им в воздухе. — Первостатейный медок!
Мед был вкусный, они ели его с солдатским хлебом, сидя на низкой лавочке, которую Зубченко вкопал под деревьями у шлагбаума. Зубченко принес ключевой воды, от которой ломило зубы, и отошел в сторону, чтобы не мешать своим присутствием полковнику, видать неспроста провожающему эту женщину. Солдату нравился Лажечников, сразу понравилась ему и Варвара. Зубченко добрыми, умными глазами иногда посматривал на них, давно поняв, что между ними происходит.
Котелок стоял на лавке между Варварой и Лажечниковым. Мед тянулся за хлебом золотою прозрачною ниткой и был теплый, как солнечный луч, падающий на поляну сквозь густую темную листву.
— Вам не кажется, что мед горчит? — сказал Лажечников, напившись и утирая губы чистым платком.
— Все время кажется, — ответила Варвара, глядя ему в лицо и не видя ничего, кроме его серых глаз. — Горчит…
— Так это же природный мед, — отозвался издалека Зубченко, — он должен горчить. Дикий мед всегда горчит.
Он подошел ближе.
— Лесная пчела берет свой взяток и с горького цветка.
— А много тут пчел, Зубченко? — спросил Лажечников, поднимаясь. — Спасибо за угощение.
Варвара тоже поднялась, с сожалением поглядывая на котелок, на дне которого янтарным озерком расплывался остаток меда.
— На здоровье, товарищ полковник… Тут поблизости одно только дупло в старой вербе.
— Пчел пришлось выкурить?
Зубченко вдруг нахмурился, резко выдались его скулы под загорелой кожей и встопорщились пышные усы.
— Да что пчелы, — сказал он и махнул рукою. — Людей жалко.
И все-таки Зубченко заметил, что Варвара с сожалением поглядела на остатки меда в котелке.
— Возьмите, — сказал он, подавая ей котелок. — С котелком возьмите, это трофейный.
— Возьмите, — подхватил Лажечников, видя, что Варвара колеблется, и за нее сказал солдату: — Спасибо.
Послышался грохот грузовика на деревянной дороге. Шофер сигналил, приближаясь к шлагбауму.
— А вот и Васьков! — не спеша пошел к шлагбауму Зубченко. — Я его сигнал знаю, это обязательно он.
Грузовик выкатился из-за деревьев и уперся в шлагбаум. Васьков, как всегда небритый, до азарта веселый, высунулся из кабины и кричал:
— Зубченко! Открывай ворота, разиня! Не видишь — Васьков на газу!
Увидев Лажечникова и Варвару, Васьков ничуть не смутился и закричал, словно переключая на ходу скорость:
— Извиняйте, товарищ полковник, мы с ним по-приятельски… Вам куда? Садитесь, доставлю быстрее, чем на «У-2»!
— Да заткнись ты, Васьков, — недовольно пробормотал Зубченко, открывая шлагбаум. — Полковник никуда не едет.
— Жалко, — сказал Васьков и поскреб большой лапой щетину на подбородке. — Значит, это мы с вами опять, товарищ корреспондент? Карточка моей личности готова?
Лажечников распахнул дверцу кабины, и Варвара села рядом с Васьковым. Мотор заревел как бешеный, машина рванулась с места полным ходом. Варвара ничего не успела сказать Лажечникову. Выглянув на повороте из кабины, она увидела, что Лажечников стоит на дороге и смотрит вслед грузовику.
А ОНА ЛЕЖИТ В ПАЛАТКЕ НА БЕРЕГУ ГОРНОГО РУЧЬЯ, во рту пересохло, сожженное лихорадкой тело не ей принадлежит, совсем не ей; в голове гудит от акрихина, кровь бухает в виски, словно где-то далеко бьют пушки. Ну что ты, этого быть не может, это тебе снится сон.
Полотнище палатки провисло над головою и кажется тяжелой однообразной тучей. Туча спускается все ниже и ниже, темнеет и плывет над нею, вот-вот распадется на прямые полосы дождя, холодного, дикого, безжалостного. Кто тебе сказал, что бывают безжалостные дожди? Разные бывают дожди: весенние и осенние, утренние и вечерние; она помнит один ночной ливень — маленькая тучка возникла в ясном небе и заслонила месяц. В ту ночь их было трое в окопе, они накрылись плащ-палаткой, учитель заснул, а сапожник никак не мог заснуть, она обняла его, и он всхлипнул, как ребенок. Под плащ-палаткой, в сырой темноте, было душно, тьма шевелилась вокруг, — когда вспыхивала молния, видно было поле с разбросанными по нему окопами. Танк с угрожающе поднятым хоботом пушки вырисовывался в конце поля, лоснящийся, словно облитый маслом; он был совсем неподвижный, мертвый, а казалось, надвигался на них всей своей массой. Потом она ползла к этому танку и выталкивала убитого немца из бомбовой воронки. Нет, ты ошибаешься, не бывает безжалостных дождей. Тот дождь обмывал землю, утолял ее жажду… Пить. Как хочется пить!
Кто же тебе не дает напиться? И ты тоже как та сожженная земля, она напилась дождей, весенних и осенних, напилась и ожила, и ты оживешь. Открой глаза — возле тебя ведро с водой, в нем плавает берестяной ковшик, — протяни руку, можешь не пить, только прикоснись пересохшими губами к воде, и жар спадет, и ты снова оживешь, как земля. Это ничего, что орудия бьют и бьют непрерывно, они не убили ни землю, ни тебя, не убили и не смогут убить. Ну разве что останутся раны, но и раны впоследствии зарастут травою, никто ничего не будет знать, будут думать, что так было всегда, что ты никогда не выталкивала ногами убитого фашиста из воронки, что Саша не стоял возле танка, чтобы тебе не было страшно, что ты никого не фотографировала у дивизионного шлагбаума.
Ручей выходит из берегов, вода подплывает под полы палатки, прижатой колышками в каменистой почве. Не надо было открывать глаза и тянуться к березовому ковшику в ведре; пахучая постель из елового лапника плывет, как лодка, та большая лодка, в которой лежал генерал Костецкий на камыше. Вот уже и река позади — лодка поплыла над лесом, небо высокое и темное, а внизу мерцает фосфорический огонь… Как его звали, того полковника с большими веснушками на шее? Он вел тебя лесом ночью на переправу, мимо сказочной поляны, там пылал и подымался вверх холодный свет, и немцы сбрасывали на него бомбы; его имя записано в одной бумажке, но у тебя никогда не было силы прочесть ту бумажку.
Геологи со своими рюкзаками и длинными молотками пошли вверх по ручью, они что-то ищут с утра до вечера, ищут и не находят, но возвращаются в лагерь веселые, хоть и усталые, так как знают, что найдут: им обязательно нужно найти то, что они ищут. В лагере безлюдно и тихо, только злится ручей, перегрызая камни, да где-то поблизости, за полотнищем палатки, тюкает топором у походной кухни небритый повар, колет дрова и громко поет что-то мало похожее на песню, слышны лишь отдельные слова — «калина», «ягода малина», а мотива совсем нельзя уловить. Он лучше пел на шоссе за Гусачевкой, пел и нажимал на акселератор, скаты гудели на волнистом асфальте, а он старался заглянуть в небо, в безоблачное небо над кабиной грузовика… Не бывает безжалостных дождей… Ты снова за свое?
Нет, нужно лежать с закрытыми глазами, затаиться, словно тебя и нет, — тогда пройдет страшное бессилие, что не дает тебе пошевельнуть и пальцем.
Начальник изыскательской партии, нескладный мужик в брезентовых сапогах, сказал, вернувшись в лагерь:
— Сегодня не нашли — завтра найдем, — и усмехнулся во всклокоченную бороду. — Надо только перехитрить Глахранзала, и все будет в порядке.
Все они почему-то не бреются — геологи, радисты на дрейфующих льдинах, повара, начальники. Никогда не знаешь, сколько им лет. И говорят они странными словами, стыдно, но она не понимает, кто это — Глахранзал? Нужно притворяться, что понимаешь, потом выяснится, не может не выясниться, — немного терпения, и она поймет все.
— А что он делает, этот ваш…
— Стережет свои кладовые.
— Но вы их найдете?
— Найдем.
— Потому что знаете, где их искать.
— Зная, тоже нелегко найти.
— А не зная, совсем не найдешь.
— Разве что случайно.
— В том-то и дело… Потому, наверное, я и не нашла.
Начальник изыскательской партии сказал, чтоб она об этом не думала, выбросила все из головы, спокойно лежала и ждала вертолета, он вот-вот уже должен прилететь. Но даже вертолету здесь негде приземлиться: кругом камни, скалы, поросшие черно-зелеными елями, — придется лезть по трапу, что ли? Ну пускай по трапу, лишь бы не закружилась голова и выдержали руки, а так ничего, она сумеет и по трапу, летала же она и на «кукурузниках» и на «дугласах», а один раз ее положили в бомбардировщике туда, где лежат бомбы… Она все время боялась, что летчик случайно нажмет кнопку, бомбовой люк раскроется, — что ж тогда будет!
Дождь не прекращается, все время сеется, мелкий, однообразный, холодный, ели на скалах пьют его, и каменистая почва пьет, вот только свирепый ручей опился, больше ему не надо, он давно уже вышел из берегов.
Хорошо говорить начальнику изыскательской партии! Она ведь не может не думать, она должна обо всем думать: о Глахранзале — она все-таки не знает, кто он такой, — о Люде и Аниське, о Федяке и Костецком, о своей фронтовой записной книжечке. Как положила ее пятнадцать лет назад, так и лежит та книжечка в Сашином письменном столе в Сивцевом Вражке. Что там у нее еще в Сивцевом Вражке? Там у нее мама и Галя, вот оно что… Ничто не может быть лучше — вертолет отнесет ее на продавленную тахту, покрытую старым, вытертым ковриком, будет приходить усталая врачиха из районной поликлиники, мама будет готовить чай… Все-таки она молодец, ее старая мама! Так напугала ее на льдине Галина телеграмма, а теперь мама опять уже ходит, и не только по дому, но и за хлебом в булочную, и в диетический магазин, на Арбат. А если ей приходится задерживаться в фотолаборатории, мама ждет до полночи и все подогревает чайник. И она будет вот так ожидать Галю в пустой квартире, будет прислушиваться к шагам на лестнице, не спать, хвататься за сердце, — кремлевские капли стоят на полочке в ванной, надо надевать стоптанные туфли, ничего, пройдет и так.
Ручей злится, перегрызая камни, снова под палатку подплывает вода, снова наваливается темнота на глаза, жар обжигает ее, и в голове гудит от акрихина.
Собственно говоря, зачем она поехала сюда, в хозяйство Глахранзала, если можно было сидеть дома? После дрейфующей льдины нужно было отдохнуть, она уже чувствовала тогда необходимость отдохнуть, но услышала об экспедиции и снова поехала, а тут и случилось, что лихорадка бросила ее на холодный еловый лапник… Очень строг, просто неумолим здешний Глахранзал! У него волосатое лицо, — наверное, геологи не бреются, чтоб быть похожими на него. Иногда он заглядывает в ее палатку; голубые угольки его глаз тускло блестят.
— Приехала, калина — ягода малина? Ну и лежи!
Вот она и лежит притаившись, мелкие капли дождя тихо барабанят о брезент палатки, их стук мог бы усыпить ее своим однообразием, если б гром над горами не стрелял иногда из дальнобойных орудий. Ударит выстрел, эхо раскатит его по ущельям, отзовется он множество раз, словно то и вправду канонада, но не нужно бояться — это всего-навсего один выстрел, во всем виновато горное эхо. Глахранзал это хорошо придумал: и страшно и дешево, не надо тратить много пороху. А там, на том маленьком плацдарме, где она фотографировала «тигра», на каждый выстрел нужен был свой заряд — орудийный, минометный или винтовочный. На Шрайбмана свой заряд и на Гулояна, не говоря уж о множестве других. А бывает, что сразу не попадут, тогда бросают и бросают железо, все гремит и кипит вокруг, и нет метра земли, чтобы не простреливался. Тогда лучше всего спрятаться в воронку от снаряда или от бомбы, потому что очень редко случается, чтоб два снаряда попали в одну точку. Подумать только: сколько снарядов тогда потратили, чтоб достать ее в воронке, и хоть бы что! Порвала только гимнастерку да измазалась, ползая, потому что было это после дождя, а приказ выполнила. Хоть ты и вольнонаемная, а приказ есть приказ, его надо выполнять, особенно когда приказываешь сам себе. Та пленка и сейчас у нее, один только кадрик она отрезала и положила отдельно; никто никогда его не видал, да и себе она не часто разрешает посмотреть на него: зачем смотреть, зачем кому-то показывать? Тут и сама не знаешь, что это было, как же это мог бы понять кто-то другой — Галя, например, или мама?
Темная большая рука поднимает полу палатки, капли мелкого дождя сгущаются в тяжелую фигуру, возникает волосатое лицо, и Глахранзал появляется на пороге, — ну, это только так говорится, в палатке нет порога, Глахранзал садится на корточки там, где кончается лапник и начинается каменистый берег ручья.
— А моя карточка так и осталась за вами, — говорит Глахранзал. Она вдруг узнает в нем шофера Васькова и одновременно лагерного повара, который по целым дням тюкает топором и поет про калину — ягоду малину. — Обещали мне карточку моей личности, а как же случилось, что не выполнили обещания?
— Слушайте, Васьков, — шепчет она пересохшими губами, — зачем вам карточки, вы ведь теперь Глахранзал?
— Я и тогда был Глахранзал, это я прикидывался Васьковым, — говорит лагерный повар и разжигает голубые угли глаз. — Какой смысл всегда быть Васьковым и крутить баранку под бомбами на Гусачевском шоссе?
— Вы же не умеете быть поваром.
— Васьков все умеет — не только варить, а и есть.
— Я вам пришлю карточки из Москвы, у меня сохранился негатив. Только бы разыскать!
— Не нужны они мне теперь.
— Почему, Васьков?
— А кому я их пошлю?
— Вы ведь хотели послать жене.
— А зачем они ей? Возвращается Васьков с войны, а жена его в колхозе стала председателем: то она в поле, то на заседании, то ее вызывают в район. Дети повырастали, кончают школу, один хочет быть инженером, другой — врачом. Все это как раз неплохо, а только Васьков за войну совсем другим Васьковым стал. Жена ему и говорит: «Сколько ж ты, Васьков, будешь отдыхать после победы? Вот тебе машина, вот баранка, помогай восстанавливать государство…» Ну и погоняла же она Васькова! Сама надрывается на работе, думает, что и каждый так должен.
— Так ведь надо же работать, Васьков.
— А я разве говорю, что не надо? Только у собственной жены грузовым ишаком быть Васькову не с руки! Ездил Васьков на самосвале, когда строили Волго-Дон, работал трактористом на Херсонщине, комбайнером в Кулунде, а теперь нанялся Главным хранителем залежей, это вроде как начальник АХО; нужно только все иметь и ничего не давать, работа не тяжелая, а зарплата хорошая.
— Зачем вы все это выдумываете, Васьков?
— Это так с Васьковым выдумала жизнь.
Глахранзал вынимает из-за пазухи кисет и трубку, табак у него нарезан, как кружочки конфетти; вот уже дым окутал его бородатое лицо, заклубился, завился голубыми полосами, заслонил его от нее, словно отодвинул куда-то вдаль. И хорошо — ведь она все-таки виновата перед ним за те карточки, мало ли что он говорит, такие вещи не забываются. Надо будет обязательно послать ему карточки из Москвы.
А когда она снова попадет в Москву? И что ей там делать? Смотреть на Галиного неприкаянного скульптора в рыжем свитере?
— Слушай, Галя, — сказала она однажды вечером, когда скульптор ушел, оставив на подоконнике кусок сырой глины, завернутой в тряпку, — если ты так долго искала себе пару, неужели не могла найти получше?
Галя промолчала, зря она затеяла этот разговор. Галя думает, что он талантливый, ее скульптор, а она видела его работы. Тайком сходила на выставку молодых; там и не пахло реализмом — все какие-то символы, абстракции, преувеличенные формы, полное отсутствие гармонии. Все это, должно быть, от нежелания или неумения видеть простую жизнь.
Галя промолчала. Подвернулась эта экспедиция, она и поехала, чтоб не видеть, как темнеют Галины глаза, когда приходит этот, в рыжем прожженном свитере…
— А вы помните, как я привез вас в хозяйство Костецкого? — говорит Глахранзал, снова выплывая из полос голубого дыма. — Там была такая дорога в заболоченном лесу, вымощенная поперек тонкими бревнами.
— Как же, Васьков, помню.
— И в Гусачевку вы со мною ездили, не забыли?
— Не надо об этом. Все помню. Только не надо об этом.
— Почему?
— Там все и кончилось.
— Правда, потом я уж вас не видел.
— Меня отозвали в Москву.
— Я так и думал.
— А я считала, что никто ничего не знает…,
Пахучий голубой дымок наполняет палатку. Она вспомнила: это филичовый табак. Его выдумал инженер Филичов на табачной фабрике в У смани, выдумал, чтоб нарезать кружочками, как конфетти. Трудно сказать, какой в этом смысл. Всем тогда выдавали такой табак, и ей тоже выдавали, хоть она была вольнонаемная и не курила. А теперь ей приятно вдыхать этот пахучий дым и вспоминать то, что никогда не забывалось, — те две недели, которые так многое решили в ее жизни. Что именно? А то, что она лежит в этой палатке и никого нет около нее, только гром гремит, как канонада, да гудят черно-зеленые ели на скалах под дождем.
Глахранзал склоняется над нею, осторожно берет ее руку и долго держит в своей холодной руке.
— Пятьдесят шесть в минуту… слабого наполнения… Тона очень глухие… Все это так, а вот как мы возьмем ее в вертолет?
— Да уж как-нибудь, доктор, — отзывается из-за палатки голос начальника изыскательской партии.
Вертолет неподвижно висит над ущельем.
Она ничего не видит и не слышит.
Не бывает безжалостных дождей.
Часть III
1
Из записок Павла Берестовского.
Письмо Ани лежало у меня в кармане гимнастерки, я перечитывал. его и успокаивался.
Я не хотел плохо думать про Аню.
Две тяжелые зимы ей уже пришлось прожить без меня. Я хорошо представлял себе репетиции в нетопленном театре; мою Аню в худенькой шубке, закутанную платком; раздраженные замечания режиссера, у которого от голода урчит в животе: «Что же это вы, голубушка, так скисли? Больше огня, больше счастья во взоре: он вас любит!»; вечера на холодной сцене; поздние возвращения в жалкий беженский угол за шкафом у чужих людей; стояние в очереди за пайком; стирку белья. Когда тут напишешь письмо и что в нем скажешь? А ведь она еще работает и в шефской бригаде и отдается этому делу со свойственной ей жадностью… Нет, ничего страшного. Я значительно старше Ани, я должен лучше, чем она, понимать сложность нашей жизни и не делать преждевременных выводов. Миллионы сердец разлучены войной, миллионы сердец мучаются от одиночества, верят и не верят, ждут и разрываются от тоски. Что же мы, лучше других, что среди этого лихолетья я хочу ничем не омраченного счастья?
Все-таки Аня изредка пишет мне, я не должен придавать особого значения тому, что она не посылает мне свою фотографию, — где она может ее взять?
«Карточку и на этот раз не посылаю — некогда сняться по-человечески, без грима. Есть у меня снимки в ролях, но это совсем не я. Зачем тебе чужое, намазанное лицо в парике, с приклеенными ресницами? Я не Луиза, а ты не Фердинанд, мой милый».
Меня радовало, что Аня по-новому полюбила свое искусство — не только то в нем, что дает удовлетворение ей, а главным образом то, что несет оно людям. И людей она научилась видеть, понимать и любить независимо от того, что приносят они ей, — нести себя людям — вот чего она хочет теперь.
«Больше всего я люблю теперь не театр, не вечернюю сцену, где стоишь отделенная от людей, освещенная рамной, словно за прозрачным стеклом, и в конце концов одинокая, а концертные выступления нашей шефской бригады — особенно в госпиталях, перед ранеными. Без грима, в будничном платье, в какой-нибудь тесной комнате, битком набитой выздоравливающими в пропахших лекарствами халатах, или же просто между койками в палате, где тебя слушают, сдерживая стон. Вот когда чувствуешь себя наиболее счастливой, счастливой тем, что это ты помогла преодолеть страдания, победить их, забыть хоть на время…
А какие тут люди, мой милый! Я никогда не думала, что вокруг меня столько чистых, верных, способных на подвиг и самопожертвование людей!»
Все будет хорошо, уже совсем близко до нашего дома, до нашего окна с аквариумом над холмистой зеленью Ботанического сада… Аня вернется. Главное, чтобы хорошо решилась судьба всех, тогда так же хорошо решится и моя судьба.
Немалую роль в моем успокоении играло и то, что отношения мои с Дмитрием Пасековым понемногу налаживались. Правда, еще далеко было до давней откровенности и искренности, он ни о чем не расспрашивал меня и о себе ничего не рассказывал. Господи ты боже мой, да есть ли тут о чем говорить! Ну был ранен, ну отлежался в госпитале в какой-то тыловой дыре, зашили, подкормили и снова пустили в оборот. Разве ты не знаешь, как оно бывает? Во всяком случае, непонятная отчужденность первой встречи прошла, понемногу он снова становился для меня давнишним Пасековым, и я уже не очень огорчался его дружбой с Викентием Мирных и Василием Дубковским. Даже особую благосклонность Пасекова к лейтенанту Мине, с которым он был уже накоротке, я тоже готов был оправдать: Миня все-таки славный малый, тут ничего не скажешь!
Утром я отправился на голоса во двор к Александровне.
Резкий запах мяты клубился вокруг Пасекова. Он тер щеткой щербатый рот, плевал белой пеной зубной пасты на зеленую, еще покрытую росой траву, сверкал выпуклыми глазами и хохотал во все горло.
— Гитлер капут! — кричал сквозь смех Пасеков. — Наступать ему нечем: выдохся!
Дубковский скептически фыркал в ладони, осторожно размазывая по лицу холодную воду. Мирных протирал очки перед тем, как на весь день нацепить их на нос.
— А чего ж мы не долбанем его так, чтоб он рассыпался? «Ну это, знаете, не нашего ума дело, начальству виднее…» Не то что дезинформирует, а просто не хочет с тобой говорить! Все, знаете, шуточки. «Воспользуйтесь, говорит, затишьем да отремонтируйте себе рот, у нас чудесный зубной врач при штабе. Дать вам записку?» Я на всякий случай записку взял. Говорят, зубной врач тут не такой уж специалист, зато красавица. Но, правда, к ней надо идти с целыми зубами. Заколдованный круг, ей-богу!
— Это все потому, что вы не умеете разговаривать с начальством.
Мирных наконец устроил очки на переносице и теперь сверкал золотом и протертым стеклом. Губы его тонко прорезывались на сером лице.
Пасеков, не глядя в его сторону, вертел головой и полоскал в кружке свою зубную щетку.
— Я стреляный воробей, — сказал Дубковский сквозь полотенце, которым старательно утирался. — Чем больше врут в оперативном отделе, тем ближе события.
— Пусть их врут сколько угодно, — сказал серьезно Пасеков. — Я чувствую события всей шкурой, как собака приближение землетрясения. Не будем терять драгоценное время, пошли завтракать!
В миске дымилась не очень хорошо помытая картошка в мундире.
— Нальем, друзья, по чарочке! — пропел Пасеков, перебрасывая длинные ноги через лавку и садясь за стол.
— Если бы, — деланно вздохнул непьющий Мирных.
Дубковский молча выхватил длинными темными пальцами горячую картофелину из миски и начал облупливать ее.
— У меня есть немножко, — признался я.
— Ну? — крикнул, показывая выщербленные зубы, Пасеков. — И ты, Пашенька, прячешь свое сокровище от старого друга, который погибает от жажды, как верблюд в Каракумах?
Пасеков положил руки на край стола ладонями вниз и с артистически разыгранным укором посмотрел на меня. Я отправился за своей фляжкой, хотя, признаться, почувствовал себя неловко: Пасеков раньше никогда не называл меня Пашенькой.
Странное чувство владело мной: словно я шел навстречу самому себе, видел впереди рядом с собой старшего политрука Дмитрия Пасекова, и чем ближе подходил к нему, тем все более непохожим казался он мне на сегодняшнего подполковника, который то паясничал, играл непонятную мне роль рубахи-парня, то смолкал и замыкался в себе, словно неожиданно до его сознания доходило все неприличие его странного паясничанья.
Когда Берестовский и Пасеков в камуфлированной «эмке» последними проскочили мост через Днепр, когда за спиною у них прогрохотал взрыв и вслед за тем вокруг воцарилась исполненная трагического напряжения тишина, они не знали, как не знали этого и все другие рядовые защитники Киева, что ужо несколько дней тому назад немецкие танковые дивизии, наступая с севера, от Гомеля и Стародуба, и с юга — из района Кременчуга, передовыми своими отрядами перехватили узкую горловину между Лохвицей и Лубнами и отрезали киевскую группировку от основных сил Красной Армии.
Произошла катастрофа — это было все, что они знали. Но ни размеров катастрофы, ни причин, ее вызвавших, ни значения ее они не представляли себе и не могли представить. А между тем на левом берегу Днепра клещами немецкого окружения были охвачены и много раз отрезаны одна от другой четыре советские армии с госпиталями, базами снабжения, приданными частями и подразделениями.
Армии не имели связи ни между собой, ни наверх — со штабом Юго-Западного фронта, который также попал в окружение, ни вниз — с дивизиями и корпусами, которые таким образом остались без оперативного руководства и вынуждены были действовать, если были способны к боевым действиям, на свой страх и риск.
Катастрофы могло бы и не быть, если бы войска заблаговременно были выведены из Киева, безнадежность положения которого с определенного времени была ясна для командования Юго-Западного направления.
11 сентября Военный совет Юго-Западного направления передал Верховному главнокомандующему доклад, в котором указывал на опасность окружения и на то, что промедление с отходом Юго-Западного фронта может повлечь за собой потерю войск и огромного количества материальных средств. В тот же день Сталин в разговоре с командующим Юго-Западным фронтом категорически возразил против отхода и приказал любой ценой удерживать Киев, хотя выход немецких войск с севера к Лохвице, а с юга к Хоролу — Лубнам создавал к тому времени неотвратимую угрозу уже не только для Киева, но и для всего Юго-Западного фронта.
Киевская катастрофа была одной из граничивших с преступлением ошибок Сталина, за которую пришлось расплачиваться не только армии, но и сотням тысяч и миллионам людей из гражданского населения, попавших в безжалостный механизм гитлеровской машины уничтожения.
14 сентября начальник штаба Юго-Западного фронта еще раз предупреждал Генеральный штаб о неизбежности катастрофы. Начальник Генерального штаба охарактеризовал его доклад как панический и снова потребовал «выполнять указания Сталина от 11 сентября» — то есть любой ценой удерживать Киев, хотя обстановка к этому времени резко изменилась к худшему.
На другой день — 15 сентября — немецкие танковые части соединились в районе Лохвицы.
16 сентября, когда окружение уже стало фактом, Военный совет Юго-Западного направления, вопреки указаниям Сталина, принял решение об общем отходе. Но командующий Юго-Западным фронтом не решился немедленно выполнить приказ, поскольку он противоречил указаниям Сталина. После долгих колебаний он снова связался со Ставкой и запросил, должен ли он выполнять приказ командования направления.
Только через сутки — в 11 часов 40 минут вечера 17 сентября — Ставка ответила, что Главное командование разрешает оставить Киев. Было уже поздно. Время, нужное для организованного отхода и перегруппировки войск, было истрачено на переговоры. Поздно ночью на 18 сентября командующий Юго-Западным фронтом отдал приказ армиям с боем выходить из окружения. Этот приказ дошел до всех армий, кроме 37-й, которая к этому времени уже не имела связи со штабом фронта.
37-я армия еще целые сутки, не зная обстановки в целом, продолжала упорную и безнадежную борьбу за украинскую столицу и только 19 сентября оставила город и начала пробиваться из окружения.
Уже 20 сентября соединения 37-й и 26-й армий были разрезаны на левом берегу на три части — закипели «котлы» окружения на северо-западе и на юго-востоке от Киева и к северу от Золотоноши. В таком же положении оказались 5-я и 21-я армии. Выход из окружения из-за отсутствия связи штаба фронта и штабов армий с войсками проходил неорганизованно, с трагическими потерями как в рядовом, так и в командном составе.
Берестовский сидел в машине с посеревшим лицом, погасшая трубка ненужно торчала у него во рту. Как случилось, что, проскочив последними через мост Евгении Бош, они очутились не в конце, а в середине непрерывного потока отступления, он не заметил. Возможно, шофер Бурачок, умело маневрируя, смог прорваться вперед, возможно, машины и люди, неизвестно откуда появляясь, догоняли их колонну, — оглядываясь назад, Берестовский уже не видел ее конца.
Сразу же за Дарницей Берестовский вытащил из полевой сумки и положил себе на колени толстую тетрадь в вонючей дерматиновой обложке. На второй день войны по дороге на фронт он купил эту тетрадь вместе с неуклюжей трубкой в новоград-волынской лавке и старательно вывел на ее серо-голубом форзаце: «23 июня 1941 года, Звягель».
Почему он написал старое название города, трудно сказать. Лежа в тени грузовика на своей новой шинели, Берестовский в Звягеле начал писать то, что должно было быть дневником, а в действительности было только собранием отрывочных записей, горьких, как дым его новой, необкуренной трубки. Он понимал, что, кроме него, никому его записи не нужны, но отказаться от них не мог.
Расстроенные колонны бойцов, простоволосые босые женщины с узлами, мужчины с чемоданами, дети с котомками за плечами, грузовики и автобусы, орудия и походные кухни медленно двигались по дороге сплошным потоком. Когда машина останавливалась, зажатая со всех сторон, Берестовский начинал писать в своей тетради большими неровными буквами, не обращая внимания на крик, ругань, гудки автомашин, крики «воздух!» и вой немецких самолетов над головой. Он чувствовал необходимость записать все, что проходило перед его глазами, спешил; карандаш крошился, чинить его было нечем… Берестовский удивленно замечал, что записывает совсем не то, что хочет записывать, словно какая-то неизвестная сила водит его рукой, диктует ему слова, далекие от всего, что он только что пережил и что продолжает разворачиваться вокруг него.
«Я ничего не сказал Ане, уходя в политуправление. Она сидела за круглым столиком, руки ее лежали на темно-вишневой скатерти, маленькие, очень белые. На улице я остановился. Аня, наклонившись через подоконник, смотрела мне вслед из нашего окна на третьем этаже. Наверное, она все-таки догадывалась. Это продолжалось дольше, чем я предполагал. Поздно ночью, с винтовкой, в шинели и пилотке, я застучал тяжелыми сапогами по лестнице. Аня стояла на площадке. Она взяла меня в темноте за рукав и повела за собой, как слепого, непривычно тихая и сосредоточенная. Я натыкался на стулья, винтовка мешала мне, подошвы новых сапог скользили по полу. Грузовик непрерывно сигналил на углу. «Что же будет с Аней?» — только теперь подумал я.
— Не беспокойся, — сказала Аня, словно угадывая мои мысли, — не беспокойся и не волнуйся… Ты поступил так, как надо. — Она дала мне в руки маленький чемоданчик. — Тут белье, зубная паста, мыло.
Она вела меня по темной лестнице вниз, а грузовик не переставал сигналить. Майор, начальник нашей группы, выругал меня: мол, какие могут быть нежности в такое время. Хоть нежностей-то как раз и не было. Мы даже не успели обняться на прощание. Грузовик рванул с места, мы все попадали друг на друга. Когда я поднялся, Ани уже не было видно за деревьями».
Между первым днем Берестовского на войне, между грузовиком, мчавшим его по новому шоссе на запад, и между сегодняшней «эмкой», что медленно в столпотворении людей и машин ползла за Днепром на восток, произошло столько событий, что Берестовский напрасно старался неожиданным воспоминанием, которое помимо его воли вписывалось в дерматиновую тетрадь, установить связь между прошлым, в реальность которого он переставал верить — таким далеким и невероятным оно казалось, — и сегодняшней действительностью, не вмещавшейся в его сознании. Нестройная стрельба из винтовок и пистолетов загремела вокруг. Пасеков, крикнув: «Воздух!» — выскочил из машины. Берестовский оторвался от тетради: ему показалось, что громкое вибрирование воздуха прижимает и вдавливает его в сиденье «эмки». Пряча свою тетрадь в полевую сумку, он высунул голову в окошко машины.
«Юнкерсы» разворачивались над дорогой. Шофер Бурачок давно уже лежал под машиной. Пасеков упал в пыль и прижался головой к горячему, пропахшему бензином и асфальтом скату. Пронзительно ввинчивался в уши детский голос. Берестовский выскочил из машины, переступил через Пасекова и побежал куда-то вперед. Вой моторов, стук тяжелых пулеметов и свист пуль сливались в жутком, громком звучании, но детский голос не тонул в нем: тонкий и отчаянно звонкий крик перекрывал все звуки, был сильнее их — для того, кто его слышал.
«Юнкерсы» обстреляли колонну и улетели. Обливаясь потом, Пасеков поднялся и, садясь в машину, увидел, что Берестовский возвращается, ведя за руку толстоногую девочку, лет семи-восьми, в коротком ситцевом платьице, из-под которого виднеются грязные трусики. Круглое лицо девочки наливалось кровью от напряжения, из круглых глаз катились обильные слезы, тугая короткая косичка, перевязанная тряпочкой, крючком торчала на затылке.
— Где твоя мама? — наклоняясь к девочке, спрашивал Берестовский.
— Не знаю! — захлебываясь слезами, кричала не своим голосом девочка. — Ой, не знаю.
— Как тебя зовут? — Губы Берестовского дергались, казалось, он и сам сейчас закричит. — Не бойся! Как тебя зовут?
— Не знаю! — кричала девочка. — Меня зовут Мотя!
— Вот что, Мотя, — вздохнул Берестовский, подсаживая девочку в машину, — ты посиди тут, а я пойду поищу твою маму.
— Моей мамы тут нет, моя мама на окопах, — совершенно спокойно сказала Мотя и удобно устроилась на сиденье.
— Как же ты очутилась тут одна, Мотя?
— Я пошла искать маму.
Пробка впереди рассосалась, шофер сел за руль, и машина двинулась.
— Что вы собираетесь делать с девочкой? — повернулся Пасеков с переднего сиденья к Берестовскому.
Услышав отчаянный крик Моти в толпе, Берестовский бросился ее спасать. Чем он мог помочь девочке? Он понимал свое бессилие, понимал, что не только он, но и никто среди этой огромной толпы не способен ничего сделать, чтобы защитить девочку от бомб, падающих с неба, от пулеметного обстрела с самолетов, от гибели под колесами грузовиков, от усталости и голода, от тысячи опасностей, страшных не только для ребенка. Но, понимая все это, Берестовский не мог не выпрыгнуть из машины и не выхватить девочку из толпы. Трезвый разум говорил ему: «Зачем ты это делаешь? Все твои усилия напрасны. Ты не можешь ее спасти!» Но снова неизвестная сила руководила его поступками и велела вопреки всему спасать ребенка, и Берестовский был благодарен этой силе. Только теперь, когда поступок его уже был совершен, когда и девочка успокоилась и в нем самом погасло напряжение, Берестовский снова почувствовал всю напрасность того, что сделал: заботиться о девочке он не мог.
Пасеков развлекал Мотю детскими побасенками.
Берестовский удивленно прислушивался к болтовне Пасекова. Неужели Пасеков ничего не видит? Неужели не понимает, что случилось и что ждет их впереди?
Пасеков разговаривал с девочкой так спокойно, голос его звучал так весело, он так заразительно смеялся, слушая ответы Моти на свои вопросы, что нельзя было не поверить в его искренность.
— А где ты жила в Киеве, Мотя?
Зачем Пасекову адрес девочки теперь, когда в Киеве уже немцы? Он с ума сошел!
Берестовский ошибался. Пасеков спокойно спрашивал у Моти адрес потому, что трезво оценивал положение и искал из него выхода.
Девочка подняла к Пасекову круглые глаза и уверенно ответила:
— Возле Бессарабки… Кругло-Университетская наша улица, дом номер три, квартира семь.
— А фамилию свою ты знаешь?
Семилетняя Мотя знала не только свою фамилию, она знала много такого, что ей можно было бы и не знать.
— Гниденко наша фамилия, — сказала Мотя с гордостью, — только я Рыбачук.
— Как же это ты Рыбачук, когда ваша фамилия Гниденко? — искренне удивился Пасеков.
Мотя потянулась к нему лицом и тихонько открыла страшную тайну:
— Потому что мама и папа у нас не расписаны, вот почему!
— Ну, это ничего, Мотя, это бывает. А папа твой, наверно, на войне?
— Папа мой — дезентир.
— Не может быть, ты что-то путаешь, Мотя.
— Нет, я правду говорю, дезентир. Как упали бомбы, он и говорит маме: «Ты как себе хочешь, а эта война не для меня!» Мама плюнула ему в глаза и сказала тогда, что он дезентир, а он утерся и пошел прятаться на Куреневку.
— Нужно с ней что-то сделать, — чувствуя приступ смертельной тоски, сказал Берестовский.
— Не беспокойтесь, все будет в порядке, — отозвался Пасеков, обжигая Берестовского своими выпуклыми глазами. — Все будет в порядке, но запомните, — он угрожающе поднял палец, — если вы будете совершать благородные поступки, а мне придется за них расплачиваться, нас надолго не хватит.
В это время поток машин опять остановился.
Впереди полыхали ангары бориспольского аэродрома.
Красные, желтые, дымные языки пламени колыхались над обгоревшими дугообразными фермами. Машины, стада и люди медленно обтекали Борисполь, расплываясь с дороги вправо и влево. Мощеное шоссе, которое кончалось за Борисполем, все улицы и переулки маленького городка были забиты транспортом, как огромной пробкой. Впереди слышался грохот канонады.
— Идем, Мотя!
Берестовский не успел опомниться, как Пасеков и Мотя уже исчезли в толпе.
Мотя, как оказалось, была абсолютно бесстрашным ребенком. Она крепко держалась за руку Пасекова и доверчиво шла за ним. Они вошли в недавно еще опрятный двор, посреди которого стоял чистенький домик с синими ставнями. Поблизости прозвучал отчаянный крик: «Воздух!»
Пасеков глянул вверх: девять бомбардировщиков выстраивались в боевую карусель в нестерпимо ярком безоблачном небе. Мотя тоже смотрела вверх, ее туго заплетенная косичка крючком торчала над затылком.
Бомбы высыпались из брюха бомбардировщика, как черная икра. Пасеков прыгнул к дому, положил Мотю у стены и прикрыл грудью. Дом затрясся, из окон посыпалось стекло, стукнули ставни, потом взрывы забухали дальше.
— Фу ты черт… — сказала Мотя и тяжко, не по-детски вздохнула.
Из домика вышла женщина. Синий фартук надвое перерезал ее невысокую, будто из мячей сложенную фигуру, в волосах белела глина, женщина уперлась круглыми кулаками в мягкие бока и закричала, подняв лицо к небу:
— Анафемы фашистские, на живых людей бомбами бросаются, чтоб у ваших матерей животы усохли!
Мотя как завороженная глядела на нее.
— Вы кто? Из Киева? — вопрос за вопросом сыпался из красных свежих губ женщины в фартуке, — Дороги нет… Все пропадете… Это ваша дочка?
Пасеков одернул гимнастерку.
— В том-то и дело, что не моя…
Снова загудел воздух. Пасеков не успел — теперь женщина прикрыла Мотю; похожая на крючок коса девочки торчала из-под плеча толстой хозяйки чистенького домика. Бомбы молотили землю, слышались крики раненых и перепуганных людей, каждый взрыв отдавался толчком снизу в грудь. Наконец все стихло, они снова поднялись.
— Куда же вы теперь?
— Не знаю… Куда все — вперед, к своим.
— А ребенок?
— В том-то и дело, что ребенок.
— А чья она?
— Киевская… Мать на окопах, как она попала сюда… — Пасеков развел руками.
— Кругло-Университетская наша улица, — сказала Мотя и вдруг вцепилась обеими руками в большую мягкую руку женщины. — Тетечка, я у вас останусь!
Женщина прижала Мотину голову к своему животу и накрыла ладонями.
— Идите, я за ней присмотрю, — шевельнула она побледневшими вдруг губами.
Пасеков стоял, теребя в руках фуражку, потом неожиданно для самого себя наклонился и поцеловал женщину. Плечи женщины, все ее мячи задрожали, заколыхались, она закрыла маленькие добрые глаза, из-под ресниц выкатились две слезинки, блеснули и скатились по щекам.
— Не дрейфь, Мотя! — сказал Пасеков.
Мотя, прижимаясь всем телом к женщине, равнодушно посмотрела ему вслед.
Пасеков издалека увидел свою «эмку». Добраться до нее было нелегко. Он прыгал через узлы, разбросанные ящики, обходил перевернутые грузовики. По обе стороны дороги чернели свежие воронки, в поле горел зеленый фургон радиостанции, языки пламени облизывали вскинувшуюся вверх тонкую антенну. В кюветах перевязывали раненых, возле убитых стояли кучки людей, молчаливых и хмурых.
Берестовский сидел в машине. Лицо его за грязным стеклом расплывалось серым пятном. Пасеков побежал быстрее. Дверцы машины были раскрыты на обе стороны, передок перекосился, в капоте зияла большая пробоина, сквозь нее виднелись порванные провода и желтела раздробленная пластмасса трамблера. Пасеков посмотрел под крыло — скат был пропорот, барабан разбит вдребезги — и тогда только сунул голову в кабину,
— Вам повезло, — сказал Пасеков, убедившись, что Берестовский не ранен,
— Где Мотя? — спросил Берестовский. — Куда вы девали Мотю?
— Пристроил я вашу Мотю… Что вы на меня так смотрите? Удивляетесь, что я не теряю головы? Советую и вам держать себя в руках.
— Что вы предлагаете?
— Плюнуть на эту разбитую лайбу, сориентироваться в обстановке, а там… Где наш шофер?
Степа Бурачок после налета бомбардировщиков поднялся из канавы, увидел, что мотор разбит, взял свой вещмешок и сказал: «Ну, теперь я вам уже не нужен?»
— Только я его и видел, — добавил Берестовский.
Они выбросили из вещмешков все лишнее, взяли по нескольку банок консервов, по буханке хлеба и, не оглянувшись на разбитую машину, начали пробираться вперед.
Под вечер на окраине села, названия которого Берестовский так никогда и не узнал, они увидели батальонного комиссара, который пропустил их «эмку» через мост в Киеве. Это было первое знакомое лицо среди сотен чужих, мрачных, озабоченных, перепуганных или отупело-безразличных лиц, на которые им пришлось насмотреться в тот день.
Широко расставив ноги, батальонный комиссар стоял в воротах набитого бойцами и командирами двора. Он держал обе руки на форменной бляхе поясного ремня, грудь его тяжело подымалась с каждым вздохом, большое лицо было сосредоточенно, казалось, он решает какую-то важную задачу и озабочен только ею.
— Я вас знаю, — сказал батальонный комиссар, поверх голов корреспондентов глядя на дорогу и в поле, где брели вооруженные и безоружные люди, останавливались и снова шли, вливаясь со всех сторон в улицы села.
— Мы вас тоже сразу узнали, — сказал Пасеков.
— Нет, я вас не так знаю, — качнул головой батальонный комиссар. — Читал… Приходилось.
Берестовский увидел на его лице кривую усмешку, которая могла значить только одно: полушки не стоит то, что я читал, ничего общего не имеет оно с повестью, какую пишет сама жизнь, — что сделаешь, если эту повесть тяжело читать? Жизнь не считается с тем, что кому кажется легким, а что тяжелым, у нее нет ни редакторов, которым нужно потрафлять, ни цензоров, на которых, хочешь не хочешь, оглядывайся. Она пишет свою повесть по собственным законам и по собственному вкусу. Никогда не знаешь, какая неожиданность подстерегает тебя в следующей главе… Страшно тебе, тяжело тебе? Не хочешь — не читай.
Большое открытое лицо батальонного комиссара потемнело, словно налилось черной кровью, он дышал коротко и часто; казалось, этим тяжелым, неровным дыханием он помогает себе побеждать гнев, клокочущий в нем. Берестовскому показалось, что глаза его смотрят удивленно, словно он не хочет верить в то, что видит перед собой, заставляет себя верить и сразу же отказывается — таким невероятным кажется ему то зрелище, что в сумеречном свете возникает перед его глазами.
Батальонный комиссар Лажечников не раз уже за три месяца войны видел то, к чему не мог и не хотел привыкнуть. Удивление его относилось не к тому, что происходило у него перед глазами, а к чему-то более значительному, чем это село, в улицы которого вливались бойцы с винтовками и без винтовок, вползали грузовики и походные кухни, на окраине которого располагались незнакомые артиллеристы со своими орудиями и минометчики с полковыми и ротными минометами. Все это перемешивалось и создавало неорганизованную толпу окруженцев, которая могла так же неожиданно, как сейчас сбилась в кучу, расползтись и рассосаться по окружающим селам, лесам и оврагам.
Удивление батальонного комиссара Лажечникова относилось к прошлому, которое успокаивало его чем только могло, убаюкивало его разум, уверяло, что ничего похожего на то, что случилось сейчас, не может случиться. Это было особого рода горькое и отрезвляющее удивление, излечивавшее от иллюзий, от слепой веры и заставлявшее полагаться только на собственный разум, на собственную волю и верность.
— По вас вижу, что вам это в первый раз, — заговорил батальонный комиссар, потушив кривую улыбку на своем большом лице. — А мы от самой границы так… Три месяца как один день. Немцы объявят в своих сводках, что дивизии Костецкого уже не существует, одним словом, похоронят заживо, а мы и не думали умирать! Всегда есть слабое место, где можно прорваться. Мы шесть раз вырывались из окружения, хотя шесть раз слыхали по берлинскому радио, что частично уничтожены, а частично взяты в плен… Черта с два! Наша дивизия, как магнит, обладает способностью притягивать к себе железо. Мы потеряли не меньше двух комплектов личного состава, а вышли к Днепру, имея людей сверх комплекта. И теперь выйдем и выведем за собой всех, кто присоединится к нам. Разбить нас фашисты не могут, а что бесстыдное легкомыслие из головы выбили, на это жаловаться не приходится. Нужно было умнее быть… Не только нам, а еще кое-кому.
Батальонный комиссар замолчал. Нет, он не ждал, чтобы они ему отвечали. Ему безразлично было в эту минуту все, что они могли сказать, он просто думал вслух обо всем, что видел перед собой и за собой, в том числе и о них, об этих двух газетчиках, стоявших перед ним, грязных и растерзанных, с полупустыми вещмешками за спиной, сквозь тонкую ткань которых выпирали хлеб в буханках и банки консервов.
Будет им о чем писать после войны… Когда-нибудь потом, когда все уляжется, выветрится горечь; во время войны этого не напишешь, да и после войны не скоро. Снова будет кому обижаться, требовать, чтобы все было как в кино или в театре — чистенькое, подгримированное, хорошо освещенное, похожее на действительность и далекое от нее, как далек от рваной раны аккуратный беловато-розовый шрам.
— Вы знаете, что произошло? — помолчав, сказал батальонный комиссар и снова не стал ждать ответа. — Потом узнаете… Сейчас полковник Костецкий принимает решение. Советую вам от нас не отставать. Мы вас выведем, а без нас…
Лажечников неожиданно свистнул по-мальчишески так весело, что Берестовский и Пасеков сразу же поняли, что будет с ними, если они отстанут от него.
Тяжелый сумрак ложился на землю, окутывал хаты, плетни, деревья. Лажечников медленно повернулся и пошел во двор. Берестовский и Пасеков отправились за ним.
Невысокий полковник стоял, как в раме, в дверях хаты, взявшись обеими руками за косяки, и резким голосом обращался к офицерам, обступившим его широким неровным полукругом:
— Дивизия наша не разбита. Мы очутились в тяжелом положении. Не будем искать виноватых. Не время. Главное — не теряться, не допустить деморализации… Война не скоро кончится, пусть фашисты не надеются на это. Мы нужны Родино как армия, а не как стадо перепуганных баранов.
Берестовский услышал в словах полковника мысль Гриши Моргаленко, высказанную в Голосеевском лесу: «Наши головы еще нужны будут Родине», — и не удивился, когда полковник, как будто снова повторяя слова командира ополченской роты, крикнул:
— Каждого, кто сорвет знаки различия, лично расстреляю как дезертира и изменника!
Лицо полковника смутно вырисовывалось в темноте. Его резкий, словно заржавленный голос глубоко поразил Берестовского. Он вслушивался в тот голос и чувствовал за ним незаурядную силу воли, которая не ослабевает ни при каких обстоятельствах, подчиняет себе всех и ломает все преграды. Вместе с тем он слышал в голосе полковника неприкрытую боль, ненависть и презрение, — если боль можно понять и объяснить, то соединение ненависти и презрения требовало расшифровки, как сложный и запутанный код: ненависть нужно было отнести к фашистам, а презрение этого коренастого полковника с заржавленным голосом — к тем же немцам, к самому себе или, может, к кому-нибудь третьему. И кто был тот третий?
— Командиры полков и батальонов, ко мне! — закончил полковник, стоя в раме дверей.
Он повернулся и исчез в хате. Командиры начали нырять за ним в сени.
— Кто это? — спросил шепотом Берестовский у Лажечникова, рядом с которым стоял.
— Полковник Костецкий, — сделав шаг по направлению к хате, оглянулся на него Лажечников. — Мог бы командовать фронтом… С ним не пропадешь!
Лажечников раздвинул плечом стену офицерских спин и нырнул в сени. Берестовский и Пасеков остались во дворе.
Из записок Павла Берестовского
Когда я, взяв свою фляжку со спиртом, выходил из избы, у двора остановился грузовик. Варвара Княжич легко выпрыгнула из кабины. Держась за дверцу, она что-то сказала шоферу, помахала рукой и направилась в наш двор.
Я пошел ей навстречу.
У нее был усталый, но откровенно счастливый вид. Она улыбалась мне издалека. Мне показалось, что из ее глаз льются волны яркого света. Глядя в эти глаза, я не замечал ни ее короткой юбки, ни больших, тяжелых сапог с низкими голенищами, ни вконец растерзанной гимнастерки, которая делала большую фигуру моей новой знакомой такою неуклюжею.
Что с ней случилось, я не знал и не понимал, но и в походке Варвары, и в том, как она держала руку на футляре фотоаппарата, висевшем у нее через плечо, чувствовалась какая-то поразительная перемена, одна из тех решающих внутренних перемен, которые отражаются и на внешнем виде человека.
— Поздравляю, — сказал я. — По вас видно, что вы хорошо съездили.
— Прекрасно! — протянула мне широкую ладонь Варвара. — Мне сказали, что приехал фотокорреспондент из вашей газеты… Он уже, наверно, наладил лабораторию, мне надо срочно сделать отпечатки.
Я познакомил ее с Миней. Он вышел из избы, все еще в тапочках и нижней сорочке, доброжелательный и веселый. Они сразу же договорились.
— Мы это дело быстро сварганим… У вас много? — Миня оглядывал Варвару с головы до ног черными беспокойными глазами.
— Одна пленка. — Варвару смущали его быстрые, слишком бесцеремонные взгляды. — Извините, если я…
— Что вы, что вы, — уверял Миня, — рад помочь, дело общенародное!
Он взял Варвару за локоть.
— Идемте, у меня лаборатория на большой.
Из сеней вышла Люда и, бросив на Варвару подозрительный взгляд, с независимым видом, высоко неся свою красивую голову в короне светлых волос, прошла в сарайчик.
— Ох, какая красивая у вас хозяйка! — искренне вздохнула Варвара, глядя ей вслед, а Миня хмыкнул с таким видом, словно сказал: «А как вы думали? Некрасивых не держим!»
Варвара засмеялась и, пригнув голову, вошла в сени.
Когда мы за завтраком выжали из моей фляжки последние капли, Дубковский, заглянув в большую жестяную кружку, на дне которой неглубоким озерком расплылась синеватого цвета жидкость, сказал:
— А вы знаете, что завтра мой день рождения?
— Будь я проклят, если мы не обмоем новорожденного! — крикнул Пасеков. — Беру это дело на себя.
Дубковский недоверчиво на него покосился.
— Дело верное, — перехватил его взгляд Мирных. — Вы еще не знаете Пасекова…
— Но вы его узнаете! — Пасеков вылил спирт в свой широкий рот, крякнул, вытер губы ладонью и вышел из избы.
Мы тоже разошлись, каждый по своим делам.
2
Всю уже знакомую дорогу из дивизии Костецкого до корреспондентского хутора, дорогу, в сущности не такую уж и дальнюю — Васьков прогазовал ее, по его выражению, очень быстро, — Варвара не могла опомниться от той перемены, что произошла с нею и в ней, в той глубине ее сознания, которая, казалось, уже навсегда утратила способность изменяться.
Варвара сидела рядом с Васьковым в тряской кабине грузовика, и ей казалось, что она не отдаляется от леса, где произошла с ней та перемена, которой она не могла ожидать, а все еще летит навстречу неожиданному счастью, что запело в ее душе на сказочной поляне, освещенной тревожным пыланием фосфорических пней.
Дорога гудела под скатами, перелески, холмы и поля, отброшенные движением, летели назад, куда-то за плечи Варваре, за кабину грузовика. Впереди было синее небо, желтые хлеба и почти белая полоса дороги, тупой передок машины подминал ее под себя и словно глотал километр за километром.
Васьков пригибался к баранке и выворачивал шею — старался из кабины следить за воздухом. Когда машина выскочила на шоссе, в этот час пустынное и тихое, он дал полный газ и глянул внимательно на Варвару.
— Вид у вас такой, товарищ корреспондент, — сказал Васьков, — такой у вас вид, будто вы нашли тысячу рублей…
— А может, и больше, — с деланным равнодушием ответила Варвара, — почем вы знаете, Васьков?
Варвару испугало, что посторонний, совершенно чужой человек мог прочесть у нее на лице то, что, казалось, знает и должна знать только она.
В ней проснулось непонятное многим людям стремление скрыть от постороннего глаза свое счастье. Может быть, это стремление жило в ней всегда, может быть, Варвара боялась в своем возрасте, преувеличивая его значение, открыто радоваться своему сокровищу, а может быть, жизнь, которая так безжалостно разрушила ее прежнее счастье, научила ее осторожности, и она просто не хотела, чтобы кто-то — все равно кто — заметил ее новое богатство и опять ограбил ее.
Вместе с желанием скрыть свое счастье, схоронить его в себе, в той тайной глубине, где оно было бы недосягаемым для чужого недоброго взгляда, Варвара чувствовала и другое, совершенно противоположное желание — раскрыться свободно и откровенно, в полную силу души жить своим счастьем, так, чтобы каждый видел и не сомневался: она еще может быть счастливой и она счастлива, вопреки всему, что убивало в ней способность к счастью.
Эти два желания противоборствовали в ней с такой силой и это противоборство так откровенно отражалось на ее лице, что она махнула рукой на себя: «Я ничего не могу поделать с собой и со своим счастьем, пускай все видят — я ни в чем не виновата».
Варвара распрощалась с Васьковым, сказав, что под вечер он может заехать за своей карточкой.
Васьков, довольный новым знакомством, долго смотрел вслед Варваре и по тому, как легко несла она свое большое тело, как уверенно и смело, высоко поднимая голову, шла в неуклюжих своих сапогах, пришел к выводу, что конечно же не тысячу рублей нашла Варвара в хозяйстве Костецкого, а что-то значительно более важное и дорогое, чем эта никому не нужная тысяча. И хоть не с таким простодушием, как его знакомый Зубченко, Васьков так же безошибочно связал счастливый вид Варвары с присутствием у дивизионного шлагбаума полковника Лажечникова.
«Везет же людям!» — думал Васьков, разворачивая свой грузовик на узкой хуторской улице.
Васьков подумал, что его жена никогда не ходила такой откровенно влюбленной походкой, никогда не несла так высоко голову, никогда не просвечивались сквозь ее бесцветные глаза те лучи, которые он увидел в глазах Варвары.
Видно, жена никогда не любила его, потому и звала всегда Васьковым, как все зовут. Если женщина любит, не будет она кричать на тебя: «Опять, Васьков, просадил получку?» — словно она над тобой завгар или старший механик.
Васькову стало жалко себя, так жалко, что он даже головой помотал с отчаянья, хоть на самом деле жалел он себя совершенно безосновательно: жена его любила, родила ему двоих детей, и было время, когда она так же гордо ходила по земле и таким же светом согревали его не очень деликатную душу ее глаза.
А что называла она его не по имени, а Васьковым, так эту привычку переняла она от него же, ведь и он себя никогда не называл иначе: «Васьков может… Васьков сделает… полагайтесь на Васькова, как на каменную гору!»
Скорее всего это саможаление нужно было Васькову, чтобы оправдать одно грубоватое чувство, которое зашевелилось в нем, — словно кто-то подсказывал Васькову: если тебя не любят, если тобой интересуются только в связи с твоей получкой и смотрят на тебя холодными тусклыми глазами, так ты можешь и пожалеть себя, и позволить себе то, чего не позволяют себе те, кого любят, Васьков!
— Как же, нужен ты ей очень! — мотал головою Васьков, выворачивая баранку руля. — Напечатает карточку — и будь здоров!
Грузовик Васькова проскочил длинную хуторскую улицу и исчез на картофельном поле.
В погребе — лейтенант Миня, поселившись у Люды, сразу же приспособил его под лабораторию — держалась сухая прохлада. Все необходимое Миня привез с собой, только аккумулятор пришлось добывать в автобате, но и это было нетрудно: искусство фотографа открывало Мине дорогу к любому сердцу. Красный лабораторный фонарь освещал раствор проявителя и гипосульфита в черных карболитовых ванночках. Увеличитель Миня устроил на бочке из-под огурцов, прикрытой доскою, на которой Люда обычно раскатывала тесто. Миня ласково мурлыкал у Варвары за плечом.
Люда стояла в сенях, босыми крепкими ногами попирая деревянную крышку лаза, подняв которую спускались по лесенке в погреб. Как приказал Миня, она застлала крышку плотным рядном, чтоб ни один лучик света не пробился в темноту лаборатории.
Люда сплела пальцы рук и, прижавшись к ним губами, прислушалась. Из погреба слышалось мурлыканье Мини, мурлыканье, от которого у Люды начинало биться сердце и холодели ноги. О чем он мурлычет там, в темноте, и чего ей ждать от этого мурлыканья? Люда не выдержала, в сердцах стукнула круглой босой пяткой в крышку погреба и побежала через двор к своей соседке Аниське, которая одна только и могла понять ее горе.
Варвара вежливо сказала Мине:
— Товарищ лейтенант, вам не кажется, что вы мне мешаете?
Варваре надо было остаться одной: она не хотела, чтобы Миня увидел на ее пленке еще что-то, кроме нового немецкого танка.
— Я хотел вам помочь, — обиженно промурлыкал Миня. — Но если я вам мешаю… Прикройте бумагу, засветится.
В то время как Миня вылезал по лестнице из погреба, Люда сидела у Аниськи в сенях и, заламывая пальцы, громко шептала:
— Полез с нею в погреб, в потемках, горюшко мое, что я делать буду?!
Аниська, обнимая подругу за плечи, так же громко шептала:
— В погреб что? В погреб ничего… Пускай бы мой Федя с кем угодно в погреб лазил, лишь бы всегда при мне был… Скоро, говорит, мы с тобой попрощаемся, Аниська! Скоро, говорит, фронт двинется, не можем мы долго в обороне стоять… А как же я тогда? Ты думаешь, он хоть оглянется, как фронт двинется? Не оглянется, ирод!
Аниська вдруг заголосила, прижимая к себе Люду, заголосила так горько и горячо, что у Люды сердце сжалось.
— Ох, чует мое сердце, что он от Волги до моего двора детей как маку насеял… Чтоб его первая пуля не миновала, где они только берутся на нашу голову!
Аниська сильно размахнулась, но не больно ударила себя кулаком по животу, и лишь теперь Люда заметила, что живот у Аниськи выпячивается под юбкой, выдавая тайну ее слез и горького горевания. Люда бросила ладони к лицу и сама залилась; плача ее не было слышно, только плечи дрожали непрерывной мелкой дрожью, уложенные кренделем косы рассыпались, конец косы с черной шпилькой свесился и колол ей белую полную шею.
Чего бы ей плакать, Люде? В конце концов, не очень уж обидело ее, что Миня полез в погреб с той вольнонаемной, которая остановилась у Аниськи. Люда хорошо понимала природу человеческих отношений и, хоть не очень верила своему Мине, все же не могла предположить, что он на глазах у нее переметнется к другой, да еще после того, как она так открыто и решительно признала свою связь с ним перед святым Демьяном, а значит, перед всем хутором. Нет, пока что ничего, кроме карточек, меж ними нет.
Что ж она тогда так горько плачет?
Подсознательно рассчитанное движение Аниськи, то, как она не больно ударила себя по животу, бесстыдно раскрывая тайну своих жалоб на шкодливого Федю, — вот что наполнило трепетом и ужасом душу Люды. Хорошо ей, Аниське: она безмужняя вдова, еще до войны схоронила мужа, в хуторе у нее ни родителей, ни родни, — люди поговорят, да и замолчат, у каждого свои заботы, свои хлопоты, ненадолго хватает людской молвы! А что скажет она, Люда, своему Сергею, когда вернется он с войны? Какими глазами уже и сейчас смотрит на нее малолеток Кузя?
Люда вспомнила холодок страха, пронявший ее с головы до пят, когда Кузьма выскочил из ее каморки с рамкой от карточки Сергея в руках, вспомнила, как она невольно сжалась в ожидании удара, и слезы из глаз ее полились еще обильней, а плечи задрожали еще мельче и чаще.
Но, даже плача в предчувствии беды и позора, которые теперь казались ей неминуемыми, Люда не могла не помнить, что этому предчувствию предшествовала полнота самозабвения, всепоглощающей радости и безгранично далекого от всяких расчетов женского счастья. Она не могла не помнить тех ранее никогда не слышанных ею слов, которыми заколдовал ее Миня, не могла отогнать от себя наваждения его ярких глаз, которые ни с чем нельзя было сравнить, не могла забыть его способности по-юношески краснеть, его тонких черных усиков над почти детскими припухшими губами. И, со страхом понимая, что все это принадлежит ей только временно, что за временное обладание этим сокровищем она должна будет расплатиться дорогой ценой, Люда думала с отчаянной решимостью и почти с вызовом: «Ну и что ж? И расплачусь, и пускай что будет со мной, то и будет. Зато я буду знать, что это у меня было, и что бы ни случилось, это всегда останется со мной. А цена — никакой цены за это не жалко!»
И хоть Люда продолжала плакать, склонившись головою на грудь Аниськи, хоть плечи ее продолжали дрожать, а слезы не переставали литься из глаз, это были уже не горькие слезы раскаяния, горя и страха, это были сладкие, манящие слезы отчаянного счастья, которое она теряла теперь навсегда.
А виновник ее слез и счастья, ничего об этом не зная, сидел в ее хате, вытянув под столом сильные ноги в голубых носках и тапочках: белая сорочка открывала его загорелую грудь, он блаженно улыбался своим мыслям, хоть ни о чем, собственно, не думал, и с наслаждением мурлыкал над кружкой холодного молока, потому что ему было совершенно безразлично, над чем мурлыкать: над холодным молоком, над самоотверженной и влюбленной красотой Люды или над приветливой отчужденностью далекой от него Варвары.
А Варвара печатала снимки для генерала Савичева. В погребе пахло бочкой из-под соленых огурцов, проросшей картошкой, свеклой и капустой — той смесью запахов, что всегда стоит в таких погребах.
Красновато поблескивал раствор проявителя в ванночке, куда Варвара клала снятую с доски увеличителя экспонированную бумагу. И хоть она давно уже привыкла к известным ей манипуляциям, почему-то сегодня они по-новому волновали ее. Почти все снимки вышли хорошо. Варвара уже зафиксировала их, теперь оставалось только промыть и просушить. Все, что было связано с фотографированием танка, так же прочно зафиксировалось в памяти Варвары навсегда. Этого уже никакими водами не смыть, никакими кислотами не вытравить!
Окаменевшее лицо Васькова смотрело на Варвару из кабины грузовика. Хоть освещение было совсем скверное, снимок получился тоже хороший — она напечатает его потом, сейчас ей некогда, напечатает и отдаст, — Васьков будет доволен. А где искать Гулояна, чтоб отдать ему снимок? И жив ли теперь Гулоян? Может, уже и Гулоян лежит, накрытый плащ-палаткой…
Остался только один неотпечатанный снимок, последний на пленке. Варвара осторожно подвела последний кадр под луч увеличителя. Медленно проплыли отсчитанные шепотом секунды, свет снова погас. Варвара в красноватой полутьме взяла кончиками пальцев бумагу за ребро, не касаясь глянцевой поверхности, и на цыпочках перенесла ее в ванночку. Бумага утонула в растворе проявителя, края ее поднялись, сворачиваясь трубочкой. Варвара осторожно прижала их ко дну и стала покачивать ванночку, чтобы раствор поскорей подействовал на светочувствительную бумагу.
Медленно, будто преодолевая сильное сопротивление, на бумаге, покрытой раствором, начали проступать едва заметные потемнения, они сгущались, наливались чернотой, соединялись и наконец вырисовались человеческим лицом, лицом человека, который по непонятным и неизвестным причинам стал таким близким Варваре. Варвара продолжала покачивать ванночку короткими осторожными движениями. Уже выступили четко все световые пятна на лице, оно широко улыбалось Варваре: казалось, Лажечников что-то хочет сказать ей, но блестящая волна раствора заливала его, и он не успевал сказать то, что Варвара хотела услышать.
Варвара вздохнула глубоко и счастливо, вынула снимок из проявителя, но, вместо того чтобы сполоснуть его и положить в фиксаж, медленно разорвала мокрую бумагу на длинные узкие полоски, аккуратно сложила их и снова разорвала на маленькие квадратики. Она вытерла руки о тряпочку, лежавшую на доске, и, почти не прикасаясь, осторожно высвободила пленку из увеличителя. Так будет лучше. Маленькие ножницы отрезали конец пленки, один только кадр. Варвара завернула его в чистую бумажку и положила в свою записную книжку. Когда-нибудь она напечатает его на хорошей бумаге — Варвара улыбнулась — и, может быть, оправит в рамку и поставит у себя на столе, а пока она не хочет ни с кем делиться этим лицом, этой улыбкой, взглядом этих внимательных, добрых глаз.
Варвара ступила на лесенку, подняла над собой крышку и стояла, высунувшись из погреба по пояс, облитая солнцем, которое уже переместилось на небе и теперь щедрым снопом света входило в сени. В проеме дверей виден был зеленый двор, колодец, стена сарайчика. Люда стояла на меже с Аниськой, лица у обеих были просветленные печалью, они говорили о чем-то шепотом, обе красивые, каждая по-своему. Варвара увидела их и вдруг поняла, о чем они говорят, поняла их печаль, словно способна была читать человеческие мысли на расстоянии. И она подумала, что и у нее, и у Люды, и у Аниськи — у всех женщин на земле одна печаль и что в этой печали скрыта великая сила, которая дает возможность жить и порождать жизнь.
И хоть Варвара совсем недавно нашла то, что могла называть своим счастьем, в это мгновение, глядя на Люду и Аниську, она какой-то одной, может самой глубокой, частью своей души ощутила, что чужая печаль напоминает о возможности утраты, которая скрыта в каждой встрече и каждой надежде. «Нет! — крикнула в душе Варвара. — Я не хочу больше терять!» — но крик этот, в котором отозвалась вся ее давняя боль, замер, словно растворился, угас, залитый чужими слезами, и она уже почти примирилась со всем, что могло ее ждать.
3
Впервые за много месяцев генерал Костецкий лежал не на земляных нарах под тулупом, а на настоящей кровати, застланной простыней, под настоящим одеялом. Правда, кровать была железная, низкая, покрашенная грязно-зеленой краской, бязевая простыня пожелтела от многократной стирки, а свекольного цвета одеяло, лучшее из тех, какие были в медсанбате, напоминало конскую попону, — но все это не имело для него значения. Кровать для генерала поставили в узкой и длинной учительской комнате гусачевской школы, где помещался медсанбат. Костецкий лежал головой к окну, затененному кустом бузины. Военврач Ковальчук не пускал Ваню к генералу, в дивизию ординарец не возвращался — его место было здесь, с этим приходилось соглашаться. Окно было открыто, под кустом сидел Ваня. Утреннее солнце перемещалось в небе, тень от веток бузины передвигалась по синеватой стене учительской: раскрывая глаза. Костецкий видел се каждый раз на новом месте.
Алексей Петрович Савичев сидел на табуретке в ногах у Костецкого. Он держал на коленях свою генеральскую фуражку, не зная, куда ее положить. Для Катерины Ксаверьевны принесли гнутый венский стул, она поставила его рядом с кроватью Костецкого так, чтоб он мог видеть ее лицо. Давно они не сходились втроем — все не было случая, всегда что-то мешало, да и отношения были слишком сложные, чтоб часто встречаться.
— Отлежишься немного, Родя, — сказал Савичев, глядя на коричневое, как обожженная глина, лицо Костецкого, — отлежишься немного, и мы тебя отправим самолетом в Москву, там тебя быстро поставят на ноги.
Главный хирург и главный терапевт фронта осмотрели Костецкого и доложили Савичеву, что положение генерала безнадежное: конца надо ждать с часу на час.
— Санитарный самолет стоит наготове, — продолжал Савичев, глядя уже не на лицо Костецкого, а на околыш своей фуражки, на котором справа, у самой пуговицы, проступило какое-то рыжеватое пятнышко. — Тебя будет сопровождать врач, и Катя с тобою полетит… Через месяц вернешься в свою дивизию как ни в чем не бывало.
Катерина Ксаверьевна посмотрела на мужа удивленно и сурово: о санитарном самолете и о полете с Родионом в Москву она впервые слышит, — зачем Алеша все это говорит? Стоит Костецкому раскрыть глаза, как по лицу Савичева он поймет, что все это неправда. Алеша никогда не умел лгать. Вот и сейчас, хоть Костецкий его не видит, он уперся глазами в пятнышко на своей фуражке и не может оторвать от него глаз, словно разглядывает свою совесть. Почему с больными всегда говорят, как с детьми? Он же сильный человек, их Родион Павлович, ему не нужна эта трусливая ложь, да его и не обманешь. По тому, как он лежит с закрытыми глазами, сложив под одеялом руки на груди, видно, что он все знает и ко всему давно уже готов.
Странно, она представляла себе Родиона гораздо старше, а у него совсем молодое лицо, — или, может, это болезнь вернула его чертам ту упрямую напряженность, которую она знала когда-то? Ему всегда надо было бороться; собственно, эта постоянная борьба и вырезала черты упорства на его лице. То он боролся со своей неграмотностью, от которой страдал, — все ему не хватало знаний, надо было знать больше, читать, записывать слова, смотреть в словари, чтоб не страдало самолюбие, когда при тебе разговаривают будто на иностранном языке; то надо было укрощать свою ревность, чтоб не потерять вместе с любимой еще и друга — такой двойной утраты он не смог бы пережить; то он спешил на помощь другу, который сделал его одиноким на всю жизнь, — спешил с риском, границ которого нельзя было предвидеть. Вот отчего у Родиона такое упрямое, сухое лицо и такой неприятный, резкий голос, словно он все от кого-то отбивается, словно ему всегда надо быть наготове. Мало кто знает, что за этим окаменевшим, почти жестоким лицом, за этим неприятным, резким голосом скрывается мягкая, вконец израненная душа, — да знала ли это и сама она до последней минуты?
Тишина стоит в узкой, длинной комнате с синеватыми стенами. Каждый из них думает о своем, не зная, что то свое, которое представляется каждому из них глубоко личным, безраздельно собственным, в действительности у них общее — так соединила их жизнь, соединила навсегда, хоть и хотела — тоже навсегда — разъединить.
Она была счастлива со своим Алешей и редко вспоминала Родиона Костецкого. Счастье всегда слепо и видит лишь себя, ему дела нет до того, кого оно делает несчастным. У нее был любимый муж, был сын… Почему она думает о них в прошлом времени?
Сын уже принадлежит не ей, другая мать, власть которой сильнее и больше ее материнской власти, заявила свои права на Володю, и он послушно ушел от нее, ушел — и не оглянулся… А муж, Алексей Петрович, хоть он и здесь, рядом, стал таким далеким и непонятно чужим, словно не с ним прошла вся ее жизнь!
Катерине Ксаверьевне делается страшно от мысли, которая вдруг пронизывает ее: что было бы, как сложилась бы ее жизнь, если б не Алексей Савичев, а Родион Костецкий стал ее мужем? Как решил бы Родион судьбу ее Володи, если б она была в его руках? Неужели и он мог бы умыть руки, как Алексей Петрович, и так же, как он, сделался бы для нее неожиданно чужим?
Голова Костецкого качнулась на подушке, он застонал. Катерина Ксаверьевна, не поднимаясь со стула, наклонилась к больному. Костецкий узнал ее дыхание и раскрыл глаза.
— Ничего, Катя, — проскрипел Костецкий, — все будет хорошо…
Она поняла это как ответ на свои мысли, осторожными движениями поправила на больном одеяло и задержала руку у него на плече.
— Спасибо, — вздохнул Костецкий, и она снова поняла, что благодарит он ее не за то, что она поправила одеяло, а за что-то другое, может быть за ту муку, на которую она обрекла его, отдав свою любовь его другу.
— Тебе лучше молчать, — сказал Алексей Петрович, — а то нас погонят отсюда… Доктора, знаешь, народ суровый!
Голос у Савичева был деланно веселый, он боялся, что Костецкий поймет, что все, что он говорит, ложь. Ему тяжело произносить эту ложь, но не говорить ее он не может, — что же еще ему остается теперь, Алексею Петровичу? Не только он — никто уже не в силах помочь Родиону Костецкому… Савичев знает это, и, хоть это знание наполняет его сердце чувством безнадежности, он завидует Костецкому и хотел бы поменяться с ним местами.
«Тебе ничего, — думает Савичев, — отмучаешься, и конец… Всю жизнь ты был один, и, когда тебе приходилось что-нибудь решать, только тебя касались твои решения и те муки и сомнения, которые ты переживал. И теперь то, что ты переживаешь, касается лишь тебя, — у тебя нет ни жены, ни сына, ты никого тут не оставляешь, разве что нескольких друзей, а это совсем не то, что своя кровь. Тебе всегда было легче, чем мне. Говорят, что ты несчастлив, а я счастлив. Счастье тоже налагает свои обязанности на человека. Тебе, несчастливому, никогда не приходилось решать таких вопросов, как мне, счастливому. Вот хоть бы и с Володей. И это еще не конец — настанет минута, когда ему придется потерять меня, а может… Ты меня понимаешь, Родион? Лучше ничего не иметь, чем терять, вот почему ты счастливей меня».
Тихо открылась дверь. В учительскую, осторожно ступая большими сапогами, вошел военврач Ковальчук, за ним тихо простучала высокими каблуками Оля Ненашко — шприц в блестящей металлической коробочке она держала, как всегда, в вытянутой вперед руке, только вид у нее теперь был не такой независимый.
— Пора колоться, товарищ генерал, — тихо сказал Ковальчук и, не останавливаясь, прошел к окну.
Костецкий молчал. Оля Ненашко подошла к кровати и отвернула одеяло. Рубаха на Костецком задралась, Катерина Ксаверьевна увидела его темный запавший живот и поднялась, Савичев тоже загремел табуреткой.
— Не уходите, они быстро, — сказал Костецкий, пытаясь поднять к Оле локоть высохшей, как плеть, руки; Оля начала протирать место для укола ваткой, смоченной в спирте,
— Как вы себя чувствуете, Родион Павлович? — послышался от окна голос Ковальчука.
— Прекрасно! — резко, с вызовом ответил Костецкий. — Готов хоть сегодня на танцы до утра. Бывают у вас тут танцы, Ковальчук?
«Помнит! — мысленно ужаснулся Савичев. — Он все помнит…»
— А мы в свое время потанцевали, Ковальчук, — скрежетал, задыхаясь, Костецкий. — Я неплохим танцором был, а генерал Савичев просто чудесный тапер…
— Помолчите! — всхлипнула неожиданно Оля Ненашко, поднимая шприц иглой кверху и выдавливая из него каплю прозрачной жидкости. — Вам нельзя.
Она сжала двумя пальцами руку Костецкого выше локтя и коротким толчком ввела иглу. Костецкий тяжело дышал. Оля склонилась лицом почти к руке генерала, плечи ее дрожали.
— Дождик пошел? — удивленным, как для ребенка, голосом сказал Костецкий. — А ведь потолок тут будто не протекает…
Шприц выпал из рук Оли, ударился о железную ножку койки и разбился вдребезги.
— Что ж это вы! — зашипел от окна Ковальчук. — Нельзя же так, Ненашко!
Стоя на коленях, Оля складывала осколки шприца в коробочку.
— Не надо сердиться, — сказал Костецкий. — И зачем вы ее по фамилии? Мы ведь знаем, кто она вам…
Олю словно что-то подбросило с колен, она выскочила из учительской, Ковальчук тяжело зашаркал за нею.
— Я тебя вот о чем буду просить, Алексей Петрович, — заговорил Костецкий, — защити Ковальчука, когда я уже не смогу. Он хороший врач и человек неплохой. И Оля тоже. Ни в чем они не виноваты, все это натворила война. Обещаешь?
Костецкий поглядел на Савичева долгим взглядом, словно изучая в последний раз знакомое лицо.
— Обещаю, — сказал Савичев и испугался того, что обещанием своим соглашается с мыслями Костецкого о конце и больше не обманывает его разговорами о санитарном самолете, московской клинике и возвращении в дивизию. — Будь спокоен, Родя.
— Ты ведь знаешь, я всегда спокоен, Алеша.
Углы его рта дернулись, словно он пересиливал боль, — на самом же деле он хотел улыбнуться Савичеву, но не смог и понял, что не может… Вот какие твои дела, Родион! Алеша подумает, что ты плачешь, и пожалеет тебя. Этого еще не хватало! Ни улыбнуться ты уже не можешь, ни пошевельнуться. Скоро, скоро уже… Хорошо, что был у тебя в жизни Алексей Савичев, хорошо, что была Катя, — не твоя, правда, а была. Если бы не они, было бы совсем трудно покидать — ну не надо слишком громких слов, — скажем, все, что тут, вокруг: эту комнату, куст бузины за окном, дивизию, Ваню, которого хотел усыновить… Вот в том-то и дело, что усыновить. Самого главного у тебя не было — сына! Алексей Савичев счастливей тебя: когда ему надо будет покидать куст бузины за окном, Володя останется и Катя останется, а после тебя? Голова уходит в подушку так, словно она из свинца, и подбородок почему-то выпячивается вверх, его упрямый, словно из камня вырезанный подбородок. Когда-то они жили вдвоем с Алексеем Савичевым в такой же длинной комнате с одним окном — кровати их стояли вдоль стены: целый месяц он молчал после того вечера в клубе. Лучше и теперь молчать. Или сказать им все, что он думает сейчас? Надо сказать, они никогда не говорили открыто меж собою, это ведь последние минуты, он уйдет, а они останутся, им нужно знать. Скажу. Соберу все силы и скажу. Надо, чтоб им не было тяжело вспоминать обо мне.
Костецкий лежит с закрытыми глазами. Тяжелое, прерывистое дыхание неровно подымает его грудь, укрытую свекольного цвета грубым одеялом. Только исхудавшие, острые плечи и высохшая шея видны из-под одеяла, какие-то странные тени, глубокие и темные, проступают на его лице.
Знают они или не знают? Наверно, молча условились не говорить об этом… И врачи никогда не называли его болезни, а врачи-то знали. Все болезни, самые страшные, называют своими именами, а этой боятся. Потому что бессильны перед ней и думают: если не называть ее по имени, может, она и отступится, обернется каким-нибудь неопасным недугом.
И он всегда притворялся, что не знает. Облегчал их человеколюбивую ложь. А знал он больше, чем могли знать врачи… Им видны только симптомы, причины скрыты от них. Только умирая, можешь знать отчего… И уже никому не скажешь.
— Ты-то, Алеша, здесь ни при чем, и ты, Катя, тоже — я не о вас говорю. Я всегда любил вас, не знаю, кого больше, обоих любил. И не жалуюсь на то, что ваша любовь была для вас счастьем, а для меня — бедой. Вы никогда не платили мне за мою любовь недоверием, подозрением… Вы — нет. Потому-то я и мог так долго держаться. Ведь правда, я всегда хорошо держался при таком несчастье? И ничто не могло убить моей любви. Потому что я действительно любил и был верен… И теперь люблю… Это ничего, что мне тяжело говорить. Мне всегда было тяжело, но говорить все-таки легче, чем молчать.
Алексей Савичев и Катя склоняются над Родионом Костецким. Он шевелит губами, но слов не слышно. Голова уходит в подушки, подбородок подымается все выше и выше… Что он хочет сказать? Глаза закрыты, выпуклые веки резко очерчены, как на бронзовой маске.
Костецкий открыл глаза, увидел над собою лицо Катерины Ксаверьевны, — сдерживая рыдания, Катя сжатыми губами приложилась к губам Родиона, — он еще почувствовал ее поцелуй, облегченно вздохнул, голова его завалилась набок и подбородком уперлась в острое, исхудавшее плечо.
4
Фотографии высохли. Варвара обрезала их и завернула в свежий номер фронтовой газеты.
Капитан Петриченко долго не мог понять, зачем фотокорреспонденту Варваре Княжич генерал Савичев.
Адъютант осунулся, как после длительной болезни. Варвара не узнавала в нем того розового капитана, который вежливо принял ее, когда она прибыла, а потом и совсем радостно встретил на пороге этой избы, когда она пришла по вызову генерала. Живые глаза Петриченко уже не играли, они стали совсем тусклыми, словно выцвели или выгорели на солнце, черный шнурочек его бровей, казалось, был наклеен на лицо неумелым гримером.
«Что с ним случилось? — подумала Варвара, ища слово, в которое вместился бы теперешний Петриченко, и сразу же удивленно нашла его, оно очень точно отражало ту перемену, что произошла с адъютантом: — Серый… Он же совсем серый!»
Превращение, случившееся с адъютантом генерала Савичева за тот короткий срок, что прошел между их второй и этой третьей встречей, тем более поражало Варвару, что она не знала причин, превративших розового Петриченко в серого.
Равнодушие было во всем, что говорил и делал Петриченко. Он не мог и не хотел его скрывать. И вправду, он был ко всему равнодушен. Еще недавно он любил свои обязанности, считал их по-настоящему нужными и исполненными важного значения. Ему казалось, что телефонные звонки, вызовы подчиненных к генералу, записывание распоряжений, напоминание о разных делах, подготовка различных бумаг и другие поручения генерала заполняют его жизнь и делают ее интересной и содержательной. Но после того, как Петриченко стал невольным свидетелем разговора Савичева с женой на завалинке под окном приемной, после того, как Володя уехал по назначению в свою часть, все, что ранее казалось Петриченко интересным и важным в его адъютантских обязанностях, вдруг сделалось для него неинтересным и лишенным всякого разумного содержания. Петриченко продолжал звонить по телефону, вызывать людей, нужных Савичеву, докладывать и записывать, но все, что раньше он делал с увлечением и любовью, выполнялось теперь с равнодушием и отвращением, настолько откровенным, что это не могло не броситься в глаза Варваре Княжич. Варвара даже пожалела Петриченко, правда особой жалостью, в которой был оттенок превосходства. Она не могла, вернувшись с плацдарма капитана Жука, не чувствовать своего превосходства перед Петриченко. Сидя в тихой генеральской приемной, он не мог знать того, что знала она, и поэтому был, с ее точки зрения, достоин жалости,
— Я выполнила задание генерала, — сказала Варвара.
— А, вы насчет этого танка, — равнодушным голосом сказал серый Петриченко, наконец поняв, о чем говорит Варвара, и, по-видимому, только теперь по-настоящему узнав ее. — Сфотографировали? Долгонько же вам пришлось!
Варвару задело, что капитан Петриченко забыл о том, что ей было поручено сфотографировать танк.
— Там обстановка была неблагоприятная, — пробормотала она, все еще не выпуская из рук завернутых в газету фотографий.
— Ну ясно! — Петриченко половинкой бритвенного лезвия, вставленного в специальный зажим, раскрывавшийся, как перочинный ножик, тщательно оттачивал в это время красный карандаш. — А когда она бывает благоприятной? Вы оставьте снимки, я передам генералу.
Конечно, она не рассчитывала, что ее встретят с полковым оркестром и генерал Савичев объявит ей благодарность — за что ж тут благодарить, раз она так недопустимо опоздала, но все-таки капитан мог бы не иронизировать: что он знает про обстановку на передовой, сидя тут и оттачивая карандаши для генерала?
— Ну что ж, — вздохнула Варвара. — Возьмите, вот они…
Петриченко кончил чинить карандаш, взял из рук Варвары сверток со снимками и положил его перед собой на столе.
— Плохо делают у нас карандаши, — сказал он неожиданно. — Уже до половины стесал его, а он все крошится… Танки умеем, самолеты умеем, а карандаши не умеем!
Петриченко посмотрел на Варвару и, видно, прочел на ее лице все, что она думала сейчас о нем, потому что вдруг покраснел и начал торопливо развертывать газету.
— Посмотрим, что вы там нафотографировали, посмотрим!
Петриченко старался говорить нарочито бодрым голосом и выказывать интерес к снимкам, но Варвара понимала, что и интерес и бодрый голос у него деланные, что ему не нужны ни она, ни ее снимки. Он все время поглядывал на дверь комнаты генерала и, когда заметил, что Варвара обратила на это внимание, сказал:
— Генералам тоже нужен отдых, как по-вашему?
Петриченко небрежно разложил перед собою снимки. Деланное любопытство сменилось на его лице таким же деланным разочарованием. Снимки как снимки. Каждый, кто хоть немного умеет фотографировать, привез бы такие, пускай она не притворяется, что это так тяжело и сложно. Но постепенно деланное любопытство исчезало с лица Петриченко, оно становилось простым и искренним, таким, каким Варвара видела его перед поездкой на плацдарм. Он взял один снимок за уголок и начал внимательно разглядывать, отклонив от света, чтобы не блестела глянцевая поверхность бумаги. Варвара следила за Петриченко и не могла понять, что так заинтересовало капитана. Что он там увидел? По правде говоря, не очень удачный снимок, глубины нет, все смазано, только танк удалось поймать в фокус, но ведь ей и нужен был танк, ни о чем другом она не думала.
— Слушайте! — вдруг закричал Петриченко, не отрываясь от снимка. — И все это вы… вы сами?
— Да уж сама, — улыбнулась Варвара. — А что?
— И этот снимок тоже? — продолжал волноваться Петриченко.
— А что вы там увидели?
Варвара протянула руку, теперь они держали снимок вдвоем. Глаза Петриченко блестели, он тыкал мизинцем свободной руки в снимок и, уже не сдерживая голоса, забывая о том, что за дверью в комнате отдыхает его генерал, повторял:
— И это? И это тоже вы?
— Да уберите вы свой палец! — раздраженно выдернула у него снимок Варвара. — Я же ничего не вижу.
— А тогда вы видели?
В глубине снимка, справа от «тигра», за сплетением неотчетливых, будто размытых линий, которые в натуре были, наверное, стеблями какой-то кустистой травы, Варвара увидела то, на что не обратила внимания, печатая снимок, и не видела во время фотографирования. Размазанный, едва заметный на снимке немецкий солдат подползал к танку, вытянув вперед руку с автоматом. Варвара охнула от страшной догадки. Неудивительно, что она не заметила немца. Ей было не до того, ее интересовал только танк. Она сразу поняла: если объектив увидел автоматчика, значит, и автоматчик видел ее… Почему же он не стрелял? Хотел взять живьем? Не успел?
«Мы вас будем прикрывать в случае чего», — услышала Варвара хрипловатый голос Шрайбмана и закрыла глаза, чтоб не видеть размазанного немца на снимке. Шрайбман не дал ему доползти до нее, Шрайбман вылез из своего окопа, чтобы предупредить его выстрел своим выстрелом, — теперь над Шрайбманом уже холмик земли…
— Испугались? — услышала она удивленный голос Петриченко. — Тогда не боялись, а теперь испугались?
Варвара открыла глаза и горько улыбнулась. Петриченко осторожно взял снимок у нее из рук. Выражение искреннего восторга сменилось на его лице озабоченностью, он выглядел совсем растерянным и даже перепуганным. Что могло его испугать? Чего ему было пугаться? Ведь все уже сделано, фотокорреспондент Варвара Княжич стоит перед ним в приемной генерала Савичева, а не ползает на плацдарме, охотясь на «тигра», немецкий автоматчик не убил ее, все в порядке… Нет, видно, не все было в порядке, если Петриченко так испугался простодушного героизма, опасности и риска, которые стояли за снимками Варвары Княжич.
Дверь из комнаты Савичева резко распахнулась.
— Что случилось? Что вы так раскричались, Петриченко?
Савичев вышел расстегнутый, смятая чистая сорочка белела под кителем, лицо его казалось усталым и грустным.
— А, это вы! — Савичев увидел Варвару и быстрыми движениями длинных, тонких пальцев начал застегивать китель. — Извините, вид у меня…
Он заметил снимок в руках Варвары, бросил взгляд на стол, и в глазах его появилось то же выражение растерянности и смущения, которое Варвара заметила раньше у Петриченко.
— Идемте ко мне, — сказал генерал и пропустил Варвару в дверь.
Петриченко быстро собрал снимки в одну стопку, выровнял ее, постучав о стол, как колодою карт, и подал Савичеву.
— Что ж теперь будет, товарищ генерал? — прошептал Петриченко, со страхом скашивая глаза на дверь, за которой исчезла Варвара.
Савичев не ответил, взял снимки и прошел в свою комнату. Петриченко перегнал генерала поспешно, но со всей почтительностью, на какую только способен хорошо натренированный адъютант, и Варвариной газетой прикрыл что-то на его столе.
— Хорошо, Петриченко, — поморщился Савичев. — Можете быть свободны.
Петриченко на цыпочках вышел, неслышно прикрыв за собой дверь.
В комнате у Савичева, как всегда, было полутемно. Варвара остановилась перед уже знакомым ей столом. Стул стоял рядом, она не решилась сесть: генерал не приглашал ее. Он подошел к окну и откинул ряднинку, зацепив ее краем за вбитый в стенку гвоздик. Стало светлей. Варвара заметила теперь в комнате ширму и за ширмой большую деревянную кровать. На ширме висел, спускаясь концами в комнату, газовый шарфик светло-синего цвета, из-под ширмы виднелись женские туфли.
У Варвары стало совсем скверно на душе от мысли, что там, за ширмой, кто-то есть, какая-то женщина, может полевая жена генерала, и что эта женщина будет слушать, как генерал отчитывает ее за опоздание, а она ничего не сможет сказать в свое оправдание. Варвара не смогла преодолеть враждебное чувство, которое шевельнулось в ней и к неизвестной женщине за ширмой, и к самому Савичеву.
«Ему все можно, — подумала она, — на то он генерал в золотых погонах… И держать меня на ногах тоже можно! Я ведь не в туфлях и не в синем шарфике…»
Савичев уже сидел за столом и, сдвинув брови, внимательно разглядывал ее снимки.
Плохие снимки. Она страшно волнуется, пожалуй больше, чем там, на поле… Но что же она может сделать, если они плохие? Пускай бы кто попробовал сделать лучше, когда такое творится кругом. Фотографируешь в нормальных условиях — и то волнуешься. Неизвестно почему, но всегда волнуешься, словно впервые это делаешь. Может, потому, что фиксируешь состояние, которое длится только одно мгновение и никогда больше не повторится, а может, это просто профессиональное волнение, не в этом дело. Она старалась владеть собою, вернее, забыть обо всем, кроме «тигра», там, на поле, — и вот какие результаты! Савичев недоволен, ему, наверно, совсем не такие снимки нужны. А она еще положила туда фотографию Гулояна с его противотанковым ружьем, этот снимок вышел неплохо, даже художественно, но к чему все это, когда Савичеву нужен только танк? Ну и послал бы кого другого, кто умеет это делать лучше. Мало тут фотокорреспондентов! В здешней газете тоже должен быть свой, его и послал бы.
Варвара чувствовала, что от волнения у нее вздулась жилка на лбу. Вежливый Савичев не пригласил ее сесть. Он разглядывал снимки, подкладывая их один под другой, — наверно, он успел уже все пересмотреть, а теперь начал сначала, это может продолжаться без конца.
Варвара переступила с ноги на ногу и вздохнула.
«Что ж это я вздыхаю, как лошадь!.. Сколько он еще будет разглядывать снимки? Должно быть, у него много свободного времени, ну что ж, пускай смотрит. Будем думать о своем. Завтра день рождения у этого молчаливого журналиста… Дубковский, кажется, его фамилия. Подумаешь, день рождения! Ходим все время рядом со смертью, а день рождения празднуем… Сброшу эту гимнастерку и сапоги, надену платье и туфли и на один вечер забуду, что я вольнонаемная, и об этих снимках забуду… Разве я виновата, что они ему не нравятся?»
— Прекрасные снимки, — словно сквозь сон услышала Варвара. — Очень хорошие снимки…
Савичев смотрел на нее усталыми, печальными глазами, суровых морщин над переносицей у него уже не было. Это опять был тот же, очень занятой и озабоченный, но мягкий генерал Савичев, которого она видела перед отъездом на плацдарм. Генерал положил на стол руки и побарабанил пальцами. Снимки лежали между его руками на газете, которой Петриченко что-то прикрыл, генерал осторожно притрагивался к ним кончиками пальцев.
— Вы садитесь, — сказал Савичев, мягко улыбаясь, и добавил: — Простите мою невежливость… Вы очень устали. Ничего удивительного. Я глубоко благодарен вам, вы сделали большое дело. Снимки чудесные, я бы сказал, художественные. Я обошелся бы и более простыми.
Варвара задохнулась от радости. Она сразу же простила генералу женщину за ширмой, синий шарфик и туфли. Некрасивая жилка на виске дернулась дважды, потом кровь отлила от лица, и Варвара, овладев собой, сказала:
— Я боялась, что опоздала со своими снимками.
— Нет, что вы, — поспешно склонился над снимками Савичев, — как раз вовремя.
Савичев взял снимки в обе руки и поднялся.
— Катя, — позвал он, — хочешь посмотреть? Это фотокорреспондент, помнишь, я тебе рассказывал?
Теперь Варвара видела из-за ширмы часть кровати. Там лежала женщина, укрытая серым пыльником, Варвара ее не видела, только ноги в тонких чулках, сквозь которые просвечивали маленькие красивые пальцы, беспомощно выглядывали из-под пыльника.
— Покажи, Алеша, — послышался усталый голос.
Савичев прошел за ширму, зашуршали снимки, женщина за ширмой вздохнула и сказала:
— Возьми…
Савичев вернулся к столу, положил снимки и прикрыл их узкой ладонью.
— Война не шутит, — сказал он тихо, глядя на ширму, словно хотел или мог видеть за ней жену, — никого не милует… Мы потеряли сегодня старого друга, а это даже на войне страшно.
Он говорил так просто, что Варвара сразу почувствовала, как исчезает расстояние между ними, то расстояние, что всегда разделяет людей, связанных лишь служебными отношениями. Только что перед нею сидел генерал, которому она должна была сдать снимки и попросить разрешения «быть свободной». Теперь она видела перед собой немолодого человека, потрясенного потерей друга. Это делало Савичева близким и понятным Варваре, будто эта потеря объединяла их общим горем, хоть Варвара и не знала, что Савичев говорит о Костецком.
— Трудно примириться с небытием, — продолжал думать вслух Савичев, забывая, что его слушают. — С чужим еще труднее, чем с собственным. А говорить о друге, которого знал живым, добрым, деятельным, несчастливым, в прошедшем времени: был у меня друг, — нет ничего тяжелее на свете…
— Алеша! — взмолился голос за ширмой.
Савичев замолк на полуслове.
То, что Варвара неожиданно открыла в Савичеве способность к страданию, то, что он, говоря с нею, словно прислушивался к тому, что делается у него в душе, и одновременно не мог не думать о том, что делается в душе женщины, лежащей под пыльником за ширмою, сделало для Варвары генерала Савичева человеком, и она почувствовала потребность рассказать ему все как человек человеку. Боже мой, сколько бы она могла рассказать Савичеву! И как сидела в окопе между Шрайбманом и Гулояном, и как ползала по полю… Про воронку с убитым немцем, про смерть Шрайбмана и о том, как вручали орден Гулояну и везли Костецкого в лодке через реку… Может быть, только о свечении фосфорических пней она промолчала бы, не хватило бы смелости, хоть в этом тоже не было ничего страшного, он мог бы ее понять.
Савичев отодвинул снимки, давая этим понять, что разговор окончен, и сразу же расстояние между ним и Варварой начало увеличиваться, и чем больше отдалялся Савичев от Варвары, тем отчетливее она видела не только добрые, печальные его глаза, но и золотые генеральские погоны на его кителе и белые руки с длинными пальцами, которыми он осторожно касался ее снимков. И себя Варвара увидела тоже — неуклюжую в солдатских сапогах и гимнастерке, придавленную усталостью, одинокую… И больше всего ей захотелось в эту минуту, чтоб Савичев не догадался о том смятении, которое царило в ее душе.
«Расчувствовалась, корова!» — жестко оборвала свои мысли Варвара и поднялась.
Савичев тоже поднялся и вышел из-за стола.
— Вас не собираются отзывать от нас? — спросил он Варвару у дверей.
— Я ведь только прибыла, — ответила Варвара и подумала, что было бы очень плохо, если б ее вдруг отозвали: оборвалась бы тонкая нить, связавшая ее судьбу с судьбою всех, кого она успела узнать и полюбить за эти дни… Точнее она не хотела высказаться даже мысленно.
— Значит, мы еще увидимся. Большое вам спасибо.
Савичев закрыл дверь за Варварой и вернулся к столу.
Вошел серый Петриченко с бумагами на подпись.
— Приготовьте реляцию на фотокорреспондента Княжич, — сказал Савичев. — Дадим ей «звездочку», как вы думаете?
Ровным, служебным голосом, которым он привык говорить с генералом, Петриченко ответил:
— А не много ли будет — «звездочка»? Медаль «За отвагу» как раз в меру заслуги.
— Ну что ж, давайте «За отвагу», — согласился Савичев, — медаль скорее пройдет в наградном отделе… Только вы не откладывайте в долгий ящик.
Петриченко вышел с подписанными бумагами.
Савичев убрал газету, которую Петриченко положил на стол, когда пришла Варвара, и склонился над свежим оттиском листовки. В листовку было вверстано клише с фотографии «тигра» — с фотографии, которую сделала не Варвара, а совсем другой фотокорреспондент. Редактор газеты, обиженный тем, что охотиться на «тигра» послали не его сотрудника, а вольнонаемную гастролершу (так он называл Варвару Княжич), одолжил клише в редакции соседа справа, где тоже подбили новый немецкий танк, и не только подбили, но и сумели эвакуировать с передовой в ближний тыл. Редактор сделал это, чтоб доказать генералу Савичеву, что не боги горшки обжигают. В другое время Савичев не оставил бы без внимания намек редактора, но теперь ему было не до таких мелочей: свой или чужой, ему был непременно необходим подбитый «тигр». Чужой был даже лучше, потому что рядом с ним на снимке стояли два подбивших его бронебойщика и остановившимися глазами смотрели в объектив, убедительно свидетельствуя об уязвимости непобедимого немецкого оружия.
Савичев вызвал Петриченко и приказал соединить себя по телефону с редактором. Когда в трубке послышался почтительный голос редактора, Савичев помолчал немного, колеблясь, на каком снимке «тигра» остановиться, потом сказал:
— Можно печатать листовку… Снимок хороший. Спасибо. Редактор начал что-то говорить. Савичев не стал слушать, — перед глазами его возникло большое усталое лицо фотокорреспондента Варвары Княжич.
Савичев вздохнул и положил трубку.
5
Из записок Павла Берестовского
К вечеру на другой день мы собрались у Дубковского.
Александровна, очень высокая, прямая как жердь, семидесятилетняя хозяйка избы, для такого случая подмазала глиной пол и посыпала его свежей травой, как на троицу.
Александровна обычно не только не разговаривала со своими «начальниками» (так она называла офицеров, что стояли в ее избе), но даже и не смотрела на них, — эту внезапную благосклонность можно было объяснить только долгими переговорами, которые вел с ней Пасеков в углу двора у маленького хлевушка, где она кормила поросенка.
Таинственные переговоры велись шепотом. Александровна сначала делала вид, что ей неинтересно слушать лупоглазого «начальника», отворачивалась с видом равнодушным и независимым — черное лицо, на котором сухо пылали смоляные глаза, ни малейшим движением не выказывало ее мыслей; потом в разговоре послышались с особенным ударением и нежностью произнесенные слова: «А сподники-то новые?», «бутыль», «все начальники это любят», — Александровна выпрямилась над корытцем, из которого хлебал болтушку поросенок, подтянула кончики застиранного платка, всегда повязанного по-монашески, и сказала:
— Пусть будет по-твоему, начальник, только чтоб без обмана…
Пасеков получил по нашим продаттестатам сухой паек на три дня. Александровна на некоторое время исчезла со двора, что с ней случалось очень редко. Когда Дубковский или Мирных делали попытки прорваться в избу к своим полевым сумкам, картам, карандашам и блокнотам, на пороге вырастал Пасеков, размахивал длинными руками, словно отгоняя от лица мух, и шипел:
— Оссади наззад!
Он был неумолим.
— Приказано начать артподготовку в двадцать один ноль-ноль… Вы что, хотите сорвать наступление?
Задолго до назначенного часа мы уже стояли возле избы Александровны; все в начищенных сапогах, со свежими подворотничками, побритые, от Викентия Мирных даже пахло одеколоном.
Варвара шла к нам через двор в красивом цветастом платье с открытой шеей и короткими рукавами, она натянула тонкие чулки, обулась в черные туфли на высоких каблуках и даже приколола у левого плеча две ромашки, обернутые маленьким листком подорожника.
— Боже мой, — смеялась она, подавая нам по очереди руку, по-мужски твердую и сильную, — да тут все звезды газетного небосвода! Никогда не думала, что встречусь с вами не на газетной полосе.
Все, что она говорила, казалось нам умным, может потому, что все мы знали ее снимки в газетах и были уверены, что такие хорошие снимки может сделать только умная и талантливая женщина.
Не говоря уже о лейтенанте Мине, который отчаянно замурлыкал, как только Варвара появилась на горизонте, даже ядовито жалящий Мирных и непоколебимый, как ледяная гора, Дубковский оттаяли и заулыбались. Варвара снисходительно принимала наши не всегда удачные остроты и шутки, и сама тоже шутила, хоть мне казалось, что мыслями она очень далеко от нас и не для нас нарядилась в красивое платье, тонкие чулки и туфли на высоких каблуках.
Пасеков с заговорщицким видом что-то зашептал Варваре на ухо, она, смеясь, закивала головою, и он, поддерживая осторожно за локоть, повел ее в избу.
— Вот это так тетя! — восхищенно вздохнул Миня и поднял вверх кулак с оттопыренным большим пальцем.
— Симпатичная, — согласился Дубковский, но сразу же добавил: — Велика малость.
Мирных медленно снял очки и, протирая стекла, процедил сквозь тонкие губы:
— Пошляки вы, братцы.
— Нет, почему же мы пошляки? — не обидевшись, засверкал глазами Миня. — Тетя что надо! Прекрасный фотограф, даю вам слово, я в этом кое-что понимаю.
— А что же я говорю? (Дубковский и шутил с неподвижным, окаменевшим лицом.) Для фронтового фотокорреспондента немного великовата, а так ничего не скажешь.
— Вот поэтому я и утверждаю, что вы пошляки, — отрезал Мирных и надел очки. — А вы как думаете?
Вопрос его относился ко мне и, хоть я все время думал о Варваре, застал меня врасплох. Что я мог сказать? Я почесывал кончик носа, обдумывая ответ. Меня выручил Пасеков: он вышел из избы и, став в позу регулировщика, вытаращил на нас глаза.
— Не задерживайте движения! Освобождайте перекресток!
Мы друг за другом нырнули в избу и остановились как завороженные.
Стол стоял посреди избы, накрытый полинявшей чистой скатертью. В большой миске дымилась мятая картошка. Нарезанная большими кусками черная и сухая, как кремень, колбаса лежала для каждого на чистой бумажке. Большая бутыль с мутноватой, маслянистой, похожей на керосин жидкостью стояла в центре стола, перевязанная по горлышку оранжевой ленточкой. Разного калибра кружки и одна граненая, толстого стекла чарка на низкой ножке, собственность Александровны, украшали стол.
— Сабантуй! — крикнул Миня, поднял руки вверх и смешался под уничтожающим взглядом Мирных. — Извиняюсь за пошлость…
Но главное был не стол и не то, что ждало нас на столе; главное в этой избе, ставшей случайным пристанищем для нескольких фронтовых корреспондентов, была Варвара.
Варвара что-то переставляла на столе, и под ее руками он словно оживал и наполнялся той домашностью, которая может возникать из ничего, буквально из пустоты, когда к этой пустоте прикасаются добрые руки женщины. Те селедки, которые мы получали в сухом пайке и ели на подножке машины, разрывая им брюшко указательным пальцем, те селедки, которые мы ненавидели всей душой и от которых нигде не могли спастись, показались всем нам лучшей в мире едой, потому что лежали на дешевой, треснувшей тарелке с каймой в синих цветочках и обложены были кольцами сочного розово-белого лука. А ненавистная картошка, без которой не мог жить разве что Пасеков, та сладкая, старая картошка, что перележала осень и зиму в погребе и давно уже начала прорастать, — только руки Варвары могли заставить нас глядеть на нее восхищенными глазами, потому что она была посыпана укропом и петрушкой, и эта нежная зелень будто примиряла нас с неизбежной будничностью, вносила в нее крупинку домашнего тепла, которого нам так не хватало.
Мы уже сидели за столом. Пасеков поднялся, чтобы провозгласить тост за новорожденного. Дубковский остановил его и сказал с косноязычной простотой, смущаясь, как мальчик:
— За то, к чему мы стремимся… что каждому из нас нужно в жизни… Может, я не так говорю… За ваше счастье, Варвара Андреевна!
— Ох, что вы! Что вы! — вспыхнула Варвара, и из глаз ее хлынул такой поток света, что я понял, как ошибался все время: она же красивая, олух ты несусветный, и не только красивая, она красавица, как ты этого не понимал?!
Действительно, она была красавицей, и не только в эти минуты, когда наш восторг всей своей силой помогал ее красоте, — нет, она была красавицей каждое мгновение своего существования, сама об этом не зная, как не знает о своей красоте плодородная земля, плодоносящее дерево, дождевая туча… Я смотрел на лицо Варвары, на белый высокий ее лоб, на серые сияющие глаза, на блестящие, просто причесанные волосы, на полные достоинства руки, выплывавшие из коротких рукавов ее платья, слушал ее голос и уже твердо знал, что она счастлива, и открыто завидовал тому, кто дал ей то большое счастье, которое делало ее красавицей в наших глазах.
— Ох, что вы! — повторила Варвара, чокаясь с Дубковским. — Это же не мой, а ваш день рождения!
Мне показалось, что она не очень верит своим словам и в глубине души знает, что празднует сегодня в кругу полузнакомых людей второе свое рождение.
То, что Варвара знала это и понимала, что об этом могут догадываться и другие, волновало ее и заставляло смущаться. И чтоб скрыть свое смущение и волнение, Варвара вдруг с чрезмерной предупредительностью обратилась к хозяйке избы, которая издалека приглядывалась и прислушивалась ко всему, что делалось и говорилось за столом:
— Александровна! Что ж вы не сядете с нами? Садитесь, садитесь… Вот есть место возле новорожденного…
— Э, нет! — крикнул Пасеков, — Александровна — моя дама!
Дубковский, который было поднялся, чтобы дать место рядом с собой Александровне, улыбнулся уголком рта и покачал головой:
— Имейте в виду, Пасеков, я могу вас вызвать на дуэль!
— К вашим услугам, Дубковский, на бронебойных ружьях.
Никогда не знаешь наперед, как сложится разговор, возникающий за столом после первой рюмки. Слово связывается с другим, ранее сказанным, рождается из случайных, иногда очень отдаленных ассоциаций, представляется на первый взгляд совсем неожиданным, а потом оказывается, что все собрались только для того, чтоб какая-то мысль была высказана, что она буквально висела в воздухе и все ждали ее.
— Счастья, как и горя, в решете не спрячешь, — сказала Александровна, поджимая тонкие черные губы.
Она не лишена была наблюдательности.
Пасеков накренил бутыль над жестяной кружкой, которую держала в костлявой руке Александровна. Похожая на керосин жидкость громко булькала, толчками выливаясь из бутылки.
— Чудесная музыка, — сказал непьющий Мирных.
— Хватит, начальник! Это для старухи много! — не отнимая кружки, сказала Александровна, дождалась, пока кружка наполнится до краев, и вылила самогонку одним духом в свой черный рот.
Поставив пустую посуду на стол, она утерла щепотью старческие, сборками стянутые губы и сказала, клещами из двух черных пальцев нацеливаясь на селедку:
— А сподники твои уже стираные-перестиранные, начальник, обманул ты старуху…
— Что вы, Александровна! — ужаснулся Пасеков громким шепотом. — Абсолютно новые!
— Ценю вашу жертву, Пасеков! — потянулся к нему кружкой Дубковский, и все захохотали так, что свет в небольшой лампе, висевшей над столом, заколебался.
Пасеков заставил всех налить снова и все-таки провозгласил гост за Дубковского.
— Пью за горные вершины, покрытые вечными снегами, — сказал он, намекая на высокий рост Дубковского и на его холодный нрав. — Пью за торжественное молчание, в котором проплывают ледяные горы по безбрежным просторам севера… Интересно было бы узнать, о чем думает такой вот айсберг?
Дубковский совершенно серьезно ответил!
— Спасибо, Пасеков, я костромич.
— Господи боже мой! — крикнул восторженно Пасеков. — Так мы же почти земляки! У нас в Ярославской области…
— …экзальтированные тюлени водятся в притоках Волги, которыми являются Котор, Ить, Юхоть и Туношна! — закончил Мирных.
Пасеков застыл с раскрытым ртом и только через некоторое время смог выдавить из себя под общий хохот:
— Вы это, собственно, к чему, Вика?
Лейтенант Миня захмелел сразу же и, как всякий захмелевший, был глубоко обеспокоен тем, что за столом есть люди, которые не пьют и не собираются пить.
— Викентий Петрович, — потянулся он с кружкой через стол к Мирных, — трахнем по второй, а?
Мирных смерил его уничтожающим взглядом поверх очков и медленно, отчетливо проговорил:
— Знаете что, товарищ фотолейтенант, не будьте вы хамом…
Мы все окаменели: можно было ожидать скандала.
— Не будьте хамом, — закончил Мирных, — пригласите к нам вашу Люду.
Против всяких ожиданий, Миня не обиделся ни на «хама», ни на «фотолейтенанта».
— Идея! — крикнул он, нетвердо вставая на ноги. — Как это я раньше не додумался!
— И мою Аниську, — сказала Варвара, чтоб нарушить гнетущее молчание, которое воцарилось за столом.
— Вообще говоря, неизвестно, кто из нас хам, — угрюмо сказал Мирных, когда Миня вышел.
— По-моему, вопрос ясен, и нечего разводить мерехлюндию, — отозвался Пасеков, и глаза его остановились на Мирных: он откровенно радовался, что ему так быстро удалось отомстить за «экзальтированных тюленей».
Неизвестно, чем бы это все кончилось. Вдруг Александровна подперла черным кулаком щеку и тонким голосом, в котором сливалась молодая пронзительность со старческим, стеклянным дребезжанием, завела песню, которую можно было бы счесть колыбельною, если б она не звучала пророчеством о судьбе девочки, что лежит в зыбке.
Я поглядел на Варвару. Пасеков и Мирных, словно ничего не случилось, подтягивали Александровне. Петь они оба не умели, к тому же не знали ни слов, ни мелодии, поэтому просто кричали не своим голосом, чтоб перекричать неловкость и ту ничем не обоснованную враждебность, которая неожиданно вспыхнула меж ними. Только Дубковский знал песню Александровны и тихо, уверенно вторил ей. Александровна сразу это услышала, — она не сводила глаз с Дубковского, словно только к нему обращалась своей песней, словно только ему рассказывала повесть своей жизни, которая в этот миг вспомнилась ей и которую она не могла рассказать иначе, как словами до нее и о ней сложенной песни.
Варвара смотрела в тарелку, и плечи ее тихонько вздрагивали. Она была бледна и сосредоточенна, словно испугалась того, что чужое счастье в устах равнодушных и неосторожных людей может обернуться бедой и позором, стать темой насмешливых пересудов за чаркой, мимоходом брошенных слов, которые ранят тем глубже, чем меньше значения им придают.
Открылись двери, на пороге остановилась Аниська, побледневшее и грустное лицо Мини виднелось у нее над плечом.
Варвара поднялась, чтоб посадить Аниську рядом с собой.
— А что, Люда не захотела прийти?
— Да нет, ее дома нету, — упавшим голосом ответил Миня, садясь на свое место.
Аниська молча взяла кружку, которую налил и подал ей Пасеков.
— Не пей много, — прошептала Аниське на ухо Варвара.
Аниська, уже держа кружку у рта, посмотрела на Варвару уголком глаза, — откуда ты, мол, знаешь, что мне теперь нельзя пить? — но все-таки отняла кружку от губ и поставила на стол.
— Э, так нельзя, Аниська, — поджимая губы, бросила ей через стол Александровна, — именинник обидится…
— А кто тут именинник? Я ведь и не знаю его…
Аниська сложила руки и сидела вся настороженная, словно приготовилась к неожиданностям, от которых надо будет защищаться.
— Это я! — Дубковский протянул к ней кружку и серьезно попросил: — Пожелайте мне чего-нибудь, Аниська…
Аниська так же серьезно посмотрела Дубковскому в глаза, подняла свою кружку и, медленно, как молитву, выговаривая слова, сказала:
— Коль будете пить — пейте до дна, а будете любить — так уж до конца.
Варвара не успела остановить ее — Аниська не поморщившись выпила свою кружку, стукнула ею тихонько, держа за ручку, о край стола и поставила на место. Все засмеялись: так красиво это у нее получилось. Она и сама засмеялась, показывая ровные белые зубы, и лицо ее, минуту тому назад напряженное, заулыбалось и сделалось удивительно милым.
Настежь раскрылась дверь, и в избу влетела Люда. Ее нельзя было узнать. Крендель на голове ее расплелся, желтый платок, небрежно наброшенный, съехал на плечи. Люда прижала руки к горлу и крикнула, сразу же, с порога поймав взглядом Миню и словно вытаскивая его из-за стола:
— Ты тут? А Кузя? Куда ты девал Кузю? Весь хутор обегала, нигде нету… Это ты, это все ты! Из-за тебя это он в бойцы сбежал! Говорили люди, что видели его на грузовике…
— Что ты, Люда! — еще больше бледнея, поднялся Миня. — Чем же я виноват?
— Виноват, виноват! Где ты взялся на мою голову! — сквозь слезы крикнула Люда. — Ох, боже мой, что ж я наделала!.. Что ж я Сергею-то скажу?!
В глазах ее, которые еще недавно с таким обожанием глядели на Миню, я прочел и страх, и раскаяние, и отвращение, — все, что может вместить беспокойная женская душа, разрывало теперь сердце Люды. Она выскочила из избы, зачем-то натягивая платок на свой распавшийся крендель.
Миня побежал за нею.
Нам уже не пилось и не пелось,
— В невеселую минуту, должно быть, я родился, — криво улыбнулся Дубковский.
Мы молча смотрели в свои кружки.
6
Только в день рождения Дубковского Васьков заехал к Варваре за карточкой. Он влетел на своем грузовике в хуторскую улицу и засигналил возле Аниськиной избы. Варвара вышла н нему в московском сарафане, босиком. Васьков прямо окаменел в кабине и долго не мог сказать ни слова, только глуповатая улыбка блуждала по его небритому лицу.
— Не обижайтесь, Васьков, — сказала Варвара, стоя у машины, — карточка ваша не готова, не было времени, я обязательно напечатаю, вышло довольно прилично… Хотите, я вам покажу негатив?
Васьков не хотел смотреть негатив, он ей верил на слово, но Варвара все-таки повела его в избу и показала пленку. Васьков посмотрел свой кадрик на свет, ничего не увидел и подумал: «Не вышло у тебя, так бы и сказала… Что ж тут такого? Снайпер и тот не каждый раз попадает!»
Садясь за руль, Васьков не заметил, что в кузове у него лежит пассажир — бритый наголо паренек с лицом испуганным, печальным и решительным. Васьков не имел привычки заглядывать в кузов своего грузовика без надобности, к тому же паренек хорошо замаскировался разным тряпьем, которое у Васькова никогда не переводилось, еще и голову накрыл сумкой, сшитой из пятнистой плащ-палатки.
Варвара на прощание помахала Васькову рукой с порога и вернулась в избу,
Васьков вылетел на полном газу из корреспондентского хутора, миновал картофельное поле, большой серый амбар и собирался уже повернуть на Гусачевку. У шлагбаума на въезде в штабное село его остановила, подняв красный флажок, веселая регулировщица с большой темной мышкой на щеке. Саня знала Васькова, Васьков ее тоже знал. Рядом с Саней стоял, заложив руки за спину, угрюмого вида капитан в новом плаще, с распухшей полевой сумкой через плечо.
— Здравствуй, Васьков, — сказала Саня, свертывая за ненадобностью флажок. — Что это ты не по маршруту мотаешься? Ты у меня смотри!
— Что ты, Саня? — Васьков наклонился со своего места и открыл дверцу кабины. — Тут у меня одно дело было…
— Чтоб никаких таких дел я больше не замечала, — сурово сверкнула на него глазами Саня. — Это тебе не на гражданке!
Капитан нетерпеливо переступал с ноги на ногу.
— Все? — сказал Васьков недовольно. — Разрешите быть свободным?
— Подвезешь в свое хозяйство капитана. — Саня повернулась к Уповайченкову: — Садитесь, товарищ капитан, в один момент будете на месте.
Уповайченков молча полез в кабину.
— Эх, товарищ капитан, — деланно вздохнул Васьков, — нашей бы Сане не у шлагбаума стоять, ей бы артдивизионом командовать.
Шуток Уповайченков не понимал. Он с угрюмым удивлением посмотрел на Васькова. Васьков засмеялся:
— Видите, как она глазами стреляет? Самую толстую броню пробьет!
Саня тоже засмеялась, темная мышка у нее на щеке весело запрыгала. Когда мышка успокоилась, Саня сказала:
— Нечего дурака валять, Васьков. Капитан торопится.
Васьков кивнул ей и включил скорость.
Ни Уповайченков, садясь в кабину, ни Саня не заметили Кузю, который дрожал, боясь, что его увидят, все время, пока грузовик Васькова стоял у шлагбаума. Когда грузовик тронулся, у паренька отлегло от сердца; он перекрестился с облегчением, хоть давно уже знал, что бога нет, — просто надо было кого-то поблагодарить за то, что ему так повезло.
Уповайченков, оставшись в батальоне капитана Жука после того, как генерала Костецкого перевезли в лодке через реку, не стал тратить времени зря. Ночь была спокойная. Жук смертельно хотел спать, но, когда узнал, что Уповайченков корреспондент, пересилил усталость и принял его со всем гостеприимством, на какое был способен. За жестянкой рыбных консервов и средней меры граненой стопкой они разговорились.
Капитан Уповайченков понравился капитану Жуку.
Жука раздирали сомнения, Уповайченков не знал их никогда. У Уповайченкова были готовы ответы на все вопросы, волновавшие Жука. Они поговорили о перспективах летней кампании, послевоенном устройстве Европы, о Большом театре и о президенте Рузвельте, и хоть все, что услышал Жук от Уповайченкова, можно было прочесть в газете, Жук был очень доволен.
Беспокойный капитан Жук узнал, например, от спокойного капитана Уповайченкова, что Гитлер окончательно выдохся и никогда не решится наступать, что Большой театр — лучший в мире и что американским капиталистам ни при каких обстоятельствах верить нельзя. И на самый главный вопрос, терзавший Жука, — какими будут наши отношения с немцами после победы — Уповайченков ответил совершенно недвусмысленно в том смысле, что мы с ними церемониться не будем — рассчитаемся копеечка в копеечку. Это успокоило капитана Жука; он охотно отвечал на все вопросы Уповайченкова о своем боевом пути, о подвигах бойцов своего батальона — о Гулояне и Шрайбмане, а также о новом немецком танке «тигре», который им так дорого обошелся… Беседовали они обо всем в добром согласии; взгляды их разошлись, только когда разговор зашел о Варваре Княжич.
— Кто ее пустил сюда к вам? — недовольно буркнул Уповайченков в ответ на восхищенные слова капитана Жука об удивительном самообладании и храбрости женщины-корреспондента.
— У нее задание от командования, — сказал Жук, чувствуя в голосе Уповайченкова непонятную ему враждебность к Варваре Княжич.
— Командование должно было бы знать, что у нее муж — враг народа, — резко сказал Уповайченков.
— Но сама-то она не враг!
— Вы за это можете поручиться?
— Мы тут отвыкли брать всех и каждого под подозрение.
— На войне надо быть бдительным.
Жуку вдруг стало нестерпимо скучно и захотелось спать. Он предложил Уповайченкову свою нору в обрыве, а сам разостлал плащ-палатку на песке, положил под голову надувную подушечку, лег и, думая сквозь тяжелое чувство усталости: «Такой умный человек, а такой дурак», — провалился в тяжелый, каменный сон.
Уповайченков немного поворочался на нарах и тоже заснул. Все, что он увидел и узнал за последние сутки, вполне его устраивало.
Во-первых, он понял, что на войне не так уж страшно, раз капитан Жук после целого дня отчаянной стрельбы на плацдарме мог живым и невредимым вернуться в свой блиндаж под обрывом. То, что был убит Шрайбман, что было убито еще несколько неизвестных ему бойцов, что был тяжело ранен Гулоян и что он собственными глазами видел много других раненых на берегу, Уповайченков не принимал во внимание. Это все были рядовые бойцы, а он, Уповайченков, как и новый его знакомый Жук, — капитан, значит, все те опасности, которые миновали капитана Жука, его тоже не касаются.
Во-вторых, первый же выезд на передовую дал Уповайченкову столько материала, что он мог быть абсолютно спокойным за себя и за свою редакцию. Корреспонденция уже сложилась у него в голове. Если б не ночь и усталость, он тут же начал бы ее записывать. То, что она, по существу, была тоже не чем иным, как героическим эпизодом, Уповайченкова не волновало. Он не способен был требовать от себя того же, чего требовал от других корреспондентов. Да и дураком бы он был, если б не использовал такой благодарный материал, как уничтожение знаменитого немецкого танка и награждение генералом Костецким раненого бронебойщика Гулояна.
Проснувшись на рассвете, капитан Жук застал Уповайченкова за работой.
— Что ж вы так рано, капитан? — Жук подошел к перевернутой лодке, у которой примостился со своей полевой сумкой Уповайченков.
— Должен сегодня передать корреспонденцию…
Уповайченков не поднял головы от блокнота: он не любил, когда ему мешали.
— Тогда вам надо немедленно переправиться на тот берег.
— Что вы говорите? — забеспокоился Уповайченков, припомнив гостеприимного, но непоколебимого Данильченко. — Как же мне быть?
Посадив Уповайченкова в лодку, капитан Жук не очень верил в то, что тот сдаст корреспонденцию на узел связи и сразу же вернется.
«Заливает! — думал он. — Рад, что кости целыми унес».
Впрочем, он был доволен тем, что корреспондент уехал с его плацдарма. Как-никак человек известный, из централь ной газеты, напорется на случайную пулю или расколет ему черепок осколком мины, а ты отвечай, почему, мол, не уберег.
Капитан Жук ошибался. Уповайченков твердо решил немедленно вернуться на плацдарм, а что Уповайченков решал, то он осуществлял любой ценой. Шагая по лесу в штаб дивизии, Уповайченков обдумал, как и что он должен делать. Корреспонденцию он закончит в штабе дивизии и оттуда же перешлет в редакцию. Так будет быстрее всего. Вечером он снова будет на плацдарме.
В политотделе его приняли вежливо, но сдержанно, всем почему-то было не до него; Уповайченков не обратил на это внимания. Он устроился в кустах и начал писать. Работа приносила ему большое удовлетворение. Аккуратными буквами он выводил слова, не замечая, что в этих словах все виденное им обрисовывается не совсем полно и выглядит не совсем так, как выглядело в действительности. Он опускал одни, как ему казалось, ненужные детали и подчеркивал другие, отчего вся картина хоть и приобретала определенную стройность, зато теряла нечто большее, чем достоверность, — ту неприкрашенную правдивость, в которой пульсирует живая кровь события. Все, что выходило из-под его пера, хоть и было близко к правде, все же не было правдой, но Уповайченков не замечал этого; более того, он был убежден, что, подправляя правду, он делает ее еще правдивей.
Уповайченков написал, что бронебойщик Гулоян остановил фашистский танк, но он не счел нужным написать, что бронебойщик Федяк этого же танка испугался, выскочил из своего окопа и превратился из храброго бойца в труса и дезертира. Насчет этого у Уповайченкова не было сомнений: дезертиру не место в его корреспонденции. Еще хуже обстояло дело с Шрайбманом. Жук подчеркивал, что танк подбили Гулоян и Шрайбман, что оба бронебойщика проявили самообладание и мужество и что именно то, что они видели, как побежал из окопа Федяк, заставило их презреть страх смерти и думать не о себе, а только о необходимости остановить «тигра». Шрайбман мешал Уповайченкову, и он упомянул о нем только мимоходом как о напарнике Гулояна, не называя фамилии. «Все равно Шрайбман уже мертвый, и слава ему не нужна», — подумал при этом Уповайченков,
Уповайченков сильными чертами обрисовал бой на плацдарме и вручение ордена Гулояну, но в его изложении была сознательная неточность, благодаря этой неточности создавалось впечатление, что бой, в котором Гулоян о помощью безыменного своего напарника подбил «тигра», и бой, в котором его тяжело ранили, — это был один и тот же бой и что этим боем непосредственно руководил командир дивизии генерал Костецкий, могучий и веселый чудо-богатырь, который тут же, на поле боя, приколол орден Славы на грудь раненому Гулояну. О том, что Костецкий был смертельно болен, что он просидел весь день на перевернутой лодке, борясь с болью, которая в конце концов одолела его, а боем руководил полковник Лажечников, а также о том, что Костецкий не мог наклониться к Гулояну и орден к гимнастерке бронебойщика приколола случайно присутствовавшая при этом фотокорреспондент Варвара Княжич, Уповайченков постарался забыть сразу же, как только взялся за карандаш,
Уповайченков дважды внимательно перечитал свою корреспонденцию, она ему понравилась.
Уповайченков разыскал блиндаж телеграфистов. Телеграфисты направили его за разрешением передать корреспонденцию к начальнику штаба. Когда Уповайченков нашел начальника штаба, выяснилось, что полковник Повх уже не начальник штаба, а командир дивизии.
Полковник Повх повертел в руках корреспонденцию Уповайченкова и, хоть у него было очень мало времени, надел очки и прочел ее с начала до конца. Андрей Игнатьевич Повх был умный, сдержанный человек, он не подал виду, что корреспонденция ему не понравилась.
— Нашей морзянке на целый день хватит, — сказал полковник Повх. — Лучше вам через армейский узел связи… А через фронтовой было бы еще скорее.
Уповайченков весь передернулся.
— Корреспонденция сегодня же должна быть в Москве, — сказал он с тем каменным упорством, которое пробивает стены.
Повх поглядел на него сверху вниз.
— Будет.
Он дал Уповайченкову свой «виллис», и хоть все происходило довольно быстро, только под вечер Уповайченков прибыл на фронтовой узел связи. Всю дорогу он молчал. Шофер «виллиса», возмущенный отчужденным молчанием капитана, высадив Уповайченкова у громадного лесного блиндажа, где разместились десятки телеграфных аппаратов, сразу же развернулся и, не попрощавшись, уехал. Дежурный по связи принял у Уповайченкова корреспонденцию, перелистал страницы, на глаз прикидывая количество слов, и сказал:
— Передадим в порядке очереди. У нас много корреспондентского материала. К тому же мы обслуживаем не только корреспондентов.
Дежурный повернулся и спустился по ступенькам в блиндаж. Уповайченков сел на пенек и задумался. Было уже темно. Уповайченков был голоден. Он решил не уходить, пока не убедится, что корреспонденция уже в Москве. Узел связи помещался в глубоком овраге. Тяжелая сырость охватывала Уповайченкова, сколько ему придется так сидеть, он не знал. В полночь дежурный по связи вышел из блиндажа.
— Что же вы тут сидите? — удивился он. — Шли бы спать, можете не волноваться, передадим ваш материал… Часом раньше, часом позже, какое это имеет значение? Это ж не оперсводка.
Уповайченков пробормотал что-то о роли прессы, и дежурный понял, что перед ним сидит человек недюжинного упорства.
— А вы ужинали? — спросил дежурный.
Он отвел Уповайченкова в свою землянку, накормил ужином и сказал:
— Располагайтесь до утра… Видно, вы любите свою работу, да и трудно не любить: интересная профессия. Сколько людей повидаешь, сколько всего узнаешь!.. А я тут гнию под землей. Ладно, сделаю для вас исключение — отправлю ваш материал вне очереди.
Передать корреспонденцию дежурному удалось только утром. Он заставил Уповайченкова позавтракать с ним, рассказал, как лучше добраться в хозяйство полковника Повха — так называлось теперь хозяйство Костецкого, — и через полчаса Уповайченков уже стоял у шлагбаума на выезде из штабного села. Но и тут ему пришлось долго ждать, пока регулировщица Саня не остановила грузовик Васькова.
Сидя рядом с Васьковым в кабине, Уповайченков угрюмо думал о том, что теперь только вечером сможет переправиться на плацдарм. Ясно, что думает там про него Жук! Ничего, он докажет ему, что не стоит всех корреспондентов мерить одной меркой. Хоть и с опозданием на сутки, но Уповайченков вернется, — тогда капитан Жук увидит, какие бывают настоящие корреспонденты… А разве Жук не видел? Разве он не рассказывал ему с восторгом о Варваре Княжич? Ясно, зачем ей лезть в ад, ясно, чего она так старается. Напрасно: этого пятна ей ничем не смыть!
Варвару Княжич Уповайченков не знал, он только случайно слышал ее историю в редакционных коридорах. Уповайченков не старался разобраться, что в этой истории соответствует действительности и в какой мере виновата действительность, а в какой Варвара… И хотя его чувство враждебности к Варваре было лишено каких-либо личных оснований, оно не позволяло Уповайченкову хорошо думать о ней.
Васьков не умел долго молчать.
— С назначением к нам, товарищ капитан? — поинтересовался он.
— Я корреспондент, — свирепо ответил Уповайченков, словно предположение Васькова глубоко его оскорбляло.
Васьков даже подпрыгнул на сиденье.
— Везет мне на корреспондентов, товарищ капитан! Недавно познакомился я с одним, а если правду говорить, так не с одним, а с одной… Вот это корреспондент, я вам скажу!
Уповайченков искоса поглядел на него:
— А что же в ней такого особенного?
— Ну как же! — искренне удивился Васьков. — Вся дивизия про нее говорит. Под самым носом у фрицев сфотографировала «тигра», с генералом орден вручала на плацдарме этому бронебойщику… Гулояну, кажется… Она и меня сфотографировала на карточку! Это, я вам скажу, настоящий корреспондент!
Не понимая, почему угрюмый капитан молча отодвинулся от него, Васьков нажал на акселератор. Гусачевка с ее глубоким оврагом и церковью на горе давно уже осталась позади. Шоссе загудело под скатами. Как всегда, Васьков газовал на шоссе и от волнения громко пел. Вдруг он пригнул голову и втянул свою длинную шею в плечи. Опытный слух не обманул Васькова. «Мессершмитт» шел над шоссе, летчик снижался, беря на прицел машину… Васьков резко затормозил, машину занесло (тормоза были плохо отрегулированы), Уповайченков от неожиданности чуть не влип лбом в стекло. Маневр Васькова обманул летчика. «Мессершмитт» проскочил над машиной, далеко впереди пулеметная очередь выбивала из покрытия шоссе черные брызги асфальта.
— Вы что, — крикнул Васьков Уповайченкову, — смерти не боитесь?! Сейчас он пойдет вторым заходом!
Они лежали в кювете, припав лицом к выжженной, присыпанной горячей пылью траве. «Мессершмитт» вернулся и опять обстрелял машину. Рев и свист мотора слился со стуком пулеметной очереди. Самолет набрал высоту и исчез в небе.
— Вставайте, товарищ капитан, — сказал Васьков. — Теперь уж он не вернется.
Уповайченков поднялся, бледный и растерянный. Он медленно отряхивал свою фуражку, словно не решался снова садиться в машину. Вдруг он увидел, как Васьков вскочил на заднее колесо машины, перенес ногу через борт и очутился в кузове. Из кузова слышался тихий, сдержанный стон. Уповайченков старательно пристроил вычищенную фуражку на голову и влез на подножку.
— Ты кто? Ты как сюда попал? — наклонился Васьков над стриженым, смуглым, похожим на цыганенка подростком. — Ты живой?
— Живой, — раскрылись и вытолкнули короткий стон бледные губы подростка.
— Ну, это — самое главное! — крикнул Васьков, обрадовавшись. — А покажи, куда тебя…
Он осторожно и умело начал ощупывать мальчика.
— Тут, — прошептал Кузя.
Васьков увидел в Кузиной рубахе маленькую дырочку, вокруг которой проступала, медленно впитываясь в ткань, темная кровь.
— Лежи, не шевелись! — приказал он сурово. — Ты куда собирался?
— В бойцы хотел… — прошептал Кузя.
— Патриотизма тебя заела? Без тебя бойцов мало? Вот и скажи спасибо, что фашист только прострочил тебя, а не пришил к ямке!
Васьков выпрыгнул из кузова.
— Придется возвращаться в Гусачевку, там наш санбат стоит… Садитесь в кузов, товарищ капитан, присмотрите за парнишкой.
Уповайченков послушно полез в кузов. Васьков развернулся и, против обыкновения, медленно поехал по шоссе к повороту на Гусачевку.
Паренек лежал, закрыв глаза. Уповайченков увидел сумку и начал неумело подсовывать ее под затылок Кузе.
Уповайченков не узнал Кузю, хоть видел его в избе у Люды. Он не имел привычки обращать внимание на несовершеннолетние явления природы, которые его не интересовали, и не любил загромождать ими память. Кузя открыл глаза, узнал Уповайченкова и ужаснулся от мысли, что чудаковатый капитан прикажет отвезти его домой. Кузя притаился и лежал ни живой ни мертвый. Тревога его была напрасной — Уповайченков уже не смотрел на него. Как всякий, кто впервые побывал под обстрелом с самолета, Уповайченков не спускал глаз с неба… Он поздно попал на фронт и еще не привык к тому, к чему все тут давно привыкли или делали вид, что привыкли. Опомнился он только тогда, когда Васьков остановил машину у гусачевской школы, в которой помещался санбат.
На крыльцо вышла Оля Ненашко. Ее смелые глаза не смеялись, маленький круглый ротик не рассыпал язвительных слов. Она держала кулачки в карманах белого халатика и казалась совсем маленькой.
— Кого ты привез, Васьков? — спросила Оля, спускаясь с крыльца.
— Какой-то цыганенок в бойцы бежал, да и попал под пулю в моей машине, — небрежно пояснил Васьков, стараясь осмыслить перемену, которая произошла с хорошо знакомой ему Олей Ненашко. Вдруг брови у него полезли на лоб, глаза выкатились, и он сочувственно и восхищенно прошептал: — Осиротела, Олечка? Дали твоему капитану по шапке?
— Ни черта ты не понимаешь, Васьков, — грустно сказала Оля, не глядя на Васькова.
Кузю сняли с грузовика молчаливые и тоже чем-то угнетенные санитары.
— Как же тебя звать? — склонился над пареньком Васьков, до глубины души обиженный презрительными словами Оли. — Откуда ты?
— Я издалека… Я из-под самого Курска, — мужественно соврал, не раскрывая глаз, Кузя, который боялся только одного: что его узнают и отвезут домой. — А зовут меня Ваня…
— Ну что ж, Ваня, — вздохнул от души Васьков, — зашьют тебя, залатают дырочку, крепче будешь!
Санитары понесли Кузю, Васьков вскочил в кабину — Уповайченков уже сидел на своем месте, — и они опять тронулись в путь.
«Стой, Васьков! — сказал шофер сам себе, когда машина тяжело вползла на гусачевскую гору и проходила мимо церковной ограды. — Это кого же хоронят?»
Васьков затормозил, выключил скорость и выскочил из машины. Мотор продолжал работать, равномерно содрогаясь под капотом.
За кирпичной церковной оградой виднелись затылки выстроенной роты автоматчиков. Знамя дивизии алело на фоне белой церковной стены. Над пилотками автоматчиков по грудь были видны фигуры офицеров и генералов. Они стояли на бугорке лицом к Васькову, и он сразу узнал среди них нового комдива Повха, начальника политотдела Курлова, военврача Ковальчука, полковника Лажечникова и командиров других полков. Между ними стоял незнакомый Васькову генерал-лейтенант. Рядом с ним черноволосая женщина с бледным лицом, высоко подняв голову, смотрела поверх голов автоматчиков на широкий простор, открывавшийся с гусачевской горы. Синий газовый шарфик виднелся из-под ее серого пыльника, время от времени она притрагивалась к нему рукой, словно хотела поправить, — рука сразу же опускалась, женщина снова стояла неподвижно, с застывшим лицом. Под самой церковью с картузами в руках жалось несколько немолодых гусачевских колхозников да вытирали уголками платков глаза старухи — постоянные участницы всех похорон.
Все это видел не только Васьков, но и Уповайченков с высокого сиденья шоферской кабины. Но, должно быть, по-разному устроены человеческие глаза: Уповайченков, увидев картину похорон, остался спокойным, словно ему не было дела до всего, что он видел, а Васьков заволновался и потемнел лицом.
Уповайченков был слишком занят самим собой, чтобы близко принимать к сердцу то, что его непосредственно не касалось, а Васьков давно уже отвык думать только о себе — его отучили от этого два года фронтовой жизни.
Васьков подбежал к машине и выключил мотор.
— Что случилось? — прикрикнул на него Уповайченков. — Давай поехали, уже и так задержались!
— Да что вы за человек такой, товарищ капитан? — огрызнулся в сердцах Васьков, забывая, что перед ним офицер. — Неужели вы не видите, это ж нашего генерала хоронят! Эх, товарищ капитан!
Васьков махнул рукой и прошел в ограду.
Наконец до сознания Уповайченкова дошло то, что он видел так же, как и Васьков, но видел только глазами.
Уповайченков вышел из машины, пораженный собственной отчужденностью от всего, что происходит вокруг, поглядел на церковь, на солдат и офицеров, стоявших над могилою, и внезапная печаль, чувство незнакомое и чуждое ему, охватила его.
Уповайченков тоже прошел в ограду.
Всеми силами противясь печали, стараясь освободиться от нее, как от чего-то не только страшного, но и позорного, он прислонился плечом к белой стене церкви, — ему стало жаль генерала Костецкого, который недавно так тяжело обидел его, жаль белого света, жаль самого себя так, словно это его должны были сейчас опустить в могилу на Гусачевском кладбище.
Уповайченков не заметил, когда начались речи над могилой, и опомнился, только услыхав в тишине голос генерала Савичева. Савичев произносил обычные слова, которые принято говорить в таких случаях, но лицо его и голос свидетельствовали, что он вкладывает в эти обычные слова одному ему известный смысл, поэтому они хватали за душу всех, кто стоял над могилой генерала Костецкого… Уповайченков, как и все, кто стоял в церковной ограде, не знал, что генерал Савичев хоронит не только командира дивизии генерала Костецкого, — он не знал и не мог знать, что Савичев стоит над могилой друга, с которым была связана вся его жизнь. Но по лицу Савичева, по силе чувства, которое звучало в каждом его слове, даже Уповайченков понял, что Савичев имеет право закончить свою речь почти шепотом:
— Прощай, друг…
Невольно Уповайченков посмотрел на женщину, которая стояла рядом с Савичевым. По лицу женщины катились слезы; она смотрела теперь не в пространство поверх голов автоматчиков, а, казалось, себе под ноги и беззвучно шевелила губами, будто повторяла те слова, что отзвучали сейчас над могилой. Уповайченков проследил за ее взглядом и увидел две продолговатые ямы и два гроба, венки из еловых ветвей и лесных цветов, переплетенные красными лентами. В стороне немолодой солдат, сидя на корточках, докрашивал кровавой мумией жестяную звезду на сбитой из досок солдатской пирамидке.
— Это Гулоян рядом с ним… — всхлипнул над ухом Уповайченкова голос Васькова.
Уповайченков оглянулся. Лицо Васькова было мокрым от слез, он их не стыдился и, казалось, совсем не замечал, — эти слезы от него не зависели, ими Васьков оплакивал Костецкого и Гулояна, как завтра другие, может быть, оплачут его самого.
Прозвучал прощальный салют. Оркестр, которого Уповайченков сначала не увидел за плечами бойцов, поднял медные жерла труб и прорыдал первые такты траурного марша. Сухим треском вплелись в печальную мелодию короткие очереди автоматов, музыка погасила их глубоким вздохом и поплыла над землею, над Гусачевским кладбищем. Вдруг мелодия траурного марша оборвалась, будто на полуслове, и возникла уже обновленная, торжественная, как безоблачное небо, которое неподвижно летело над горою, над церковью, над полями и дорогами, видневшимися с горы, ничего не зная ни о войне, ни о смерти, ни о страданиях и надеждах людей. Тяжелым темным крылом взлетело склоненное знамя. Послышался резкий окрик команды. Бойцы стукнули сапогами, ступили в такт музыке и вышли из ограды.
— Идемте, идемте, товарищ капитан, — снова услышал Уповайченков голос Васькова у себя над ухом. — Увидит меня тут Кукуречный — беда будет…
Уже в сумерках Уповайченков прибыл в штаб дивизии полковника Повха, а когда совсем стемнело, переправился на плацдарм.
7
Провожая жену на аэродром после похорон и еще ранее — произнося речь на Гусачевском кладбище, генерал Савичев уже знал о приказе Главного командования всем командирам соединений, частей и подразделений выйти на передовые наблюдательные пункты и быть в боевой готовности.
Знал об этом приказе и новый комдив Повх, и командиры его полков тоже знали, но генерал Савичев знал больше их.
Фашистского наступления следовало ждать с часу на час.
Для комдива Повха и для командиров его полков в приказе быть в боевой готовности не было ничего неожиданного — они долго готовили своих бойцов к обороне, хоть и думали иногда, что это делается только на всякий случай, и в душе не теряли надежды на наступление: после победы на Волге трудно было мириться с мыслью об обороне.
Савичев знал больше Повха и его командиров настолько, насколько дальше может видеть человек, стоящий на горе вблизи от вершины, по сравнению с теми, кто стоит у ее подножия. В его поле зрения были не только готовые к наступлению вражеские войска, но и готовые их встретить наши дивизии, армии и фронты. Генерал Савичев знал по номерам и по фамилиям командиров те дивизии и корпуса, которые должны были с часу на час принять на себя новый фашистский удар. Знал он также, кто будет ждать в резерве, чтобы в нужную минуту стать на место тех, кто пошатнется или падет. Он знал не только, сколько снарядов и мин разного калибра, бомб разного веса, винтовочных патронов и пулеметных лент лежит на складах в лесах и оврагах неподалеку от линии фронта, сколько их сосредоточено на более отдаленных базах снабжения и сколько должно быть доставлено различными видами транспорта в ходе самой битвы, — Савичев знал также, на сколько коек развернуты госпитали в прифронтовой полосе и сколько санитарных поездов будет эвакуировать тяжелораненых в глубокий тыл. На основании почти безошибочных статистических выкладок знал он и сколько будет этих раненых; больше того, ему почти точно было известно, сколько следует ожидать убитых как среди солдат, так и среди командного состава. Это знание облегчало его задачу как военачальника, который должен все знать и все предвидеть, чтобы хорошо делать свое дело на своем месте, но это знание также и обременяло его как человека, которому легче бывает иной раз выслушать готовый приговор судьбы, чем видеть, как он медленно, но неотвратимо складывается.
Зная много, генерал Савичев многого не знал.
Не знал он, произнося речь над могилами Костецкого и Гулояна, кого именно из тех офицеров и солдат, что стоят рядом с ним, он уже не увидит после битвы, и то, что Савичев не знал, увидит он их снова или они падут на поле боя, наполняло его слова особым смыслом и особой скорбью, будто он старыми, всем известными словами отдавал последние почести не только своему другу Родиону Костецкому и бронебойщику Араму Гулояну, но и всем известным и неизвестным друзьям и боевым товарищам, которых не он один мог потерять в той битве, что должна была вот-вот начаться.
Не знал Савичев и того, что принесет ему самому эта битва. Савичев мог не думать о себе, но не думать о Володе он не мог.
Два фашистских воздушных флота — около двух тысяч самолетов — стояли на прифронтовых аэродромах, более двухсот бомбардировщиков базировалось на аэродромах в гитлеровском тылу. Бои в воздухе даже во время затишья не прекращались ни на один день.
Савичев знал, какой крови стоит каждая победа, знал, что эта кровь прольется и на земле и в воздухе, не мог он знать только одного — будет ли среди той крови, что должна пролиться в новой битве, кровь его Володи.
Длинный, приземистый «оппель-адмирал» снова летел по полевым дорогам. Откормленный затылок Калмыкова темнел над белой чертой подворотничка, над его сержантскими погонами.
Катерина Ксаверьевна сидела рядом с Савичевым, он чувствовал своим плечом тепло ее плеча, понимал, что делается в ее сердце, и не мог поделиться с нею своими тяжелыми мыслями.
Савичев не мог сказать жене о том, что с часу на час должно начаться новое фашистское наступление, не только потому, что это была военная тайна, но потому главным образом, что наступление в ее мыслях неминуемо связалось бы с судьбой Володи.
«Лучше ей всего этого не знать», — думал Алексей Петрович.
Синий шарфик Катерины Ксаверьевны, наполненный встречным ветром, трепетал, как живой. Катерина Ксаверьевна казалась совсем спокойной. Лицо ее было растроганным и печальным. Может быть, воспоминания о прожитой жизни, переполнявшие Катерину Ксаверьевну, сделали возможной перемену, которая в ней произошла, может быть, смерть Костецкого, страдание и силу которого она видела, убедили ее в том, что надо и самой быть сильной для того, чтобы жить и надеяться. В душе ее совершалась глубокая и трудная работа, медленно готовившая ее к тому новому, чем она должна была теперь жить, и Катерина Ксаверьевна все время прислушивалась к той внутренней работе, что совершалась в ней независимо от ее желания и воли.
Савичеву казалось, что его Катя вернулась к нему из страшной дали, это снова была его самоотверженная Катя, она снова понимала его — не только каждое слово, но и молчание, как в прежние годы… Ничто уже не разделяло их.
Мотор «оппель-адмирала» работал почти неслышно. Скаты тихо шуршали по мягкой грунтовой дороге. Тяжелые колосья нескошенной пшеницы по обе стороны дороги низко склонялись к земле… Некому ее жать. Еще день-два, и зерно начнет высыпаться — переспелое зерно, которое должно бы лечь в закрома и амбары, в бетонные башни элеваторов, а ляжет в землю. Древний образ битвы вспомнился ему: черная земля под копытами костями засеяна, а кровию полита — горем взошли они по русской земле… Снопы стелют головами, молотят цепами булатными, на току жизни кладут, веют душу от тела… Как давно это сказано, как изменилось за века все на земле, только этот древний образ не состарился: веют душу от тела, стелют снопы головами!
В небо послышался форсированный воющий звук моторов. Савичев оторвал глаза от пшеницы, посмотрел вверх и увидел карусель воздушного боя: шесть немецких бомбардировщиков кружили в небе, на них налетали наши истребители, стараясь разорвать сомкнутый круг, слышались пулеметные очереди, выстрелы скорострельных пушек… «Может быть, наш Володя там», — подумал Савичев и снова стал смотреть на пшеницу, чтобы не привлекать внимания Кати к воздушному бою. Но Катя не подняла головы, они словно поменялись местами после смерти Костецкого: теперь Савичев все время вспоминал про Володю и не мог отрешиться от мыслей о нем, а Катя, казалось, совсем забыла о сыне, ни словом не вспоминала, будто примирилась с тем, против чего так горячо восставала.
Вой моторов в воздухе нарастал. Савичев не мог не посмотреть в небо. Боевая карусель истребителей и бомбардировщиков развертывалась у него на глазах; он увидел, как истребители перестраиваются, готовясь к преследованию, и тут произошло то, что наполнило его душу тяжким предчувствием, — послышалась пулеметная очередь, один из истребителей словно споткнулся в небе и, перевертываясь с крыла на крыло, волоча за собой длинный хвост густого, черного дыма, начал падать прямо на деревья уже близкого леса, за которым скрывался аэродром… Савичев со страхом оглянулся на Катерину Ксаверьевну: она тоже смотрела в небо, но в ее мыслях гибель истребителя, наверно, не связывалась с возможной судьбой Володи, она будто и не видела того, что произошло.
Савичев облегченно вздохнул.
— Помнишь, Алеша, — вдруг сказала Катерина Ксаверьевна, — ты помнишь, как Володя болел корью… Он был совсем маленький, лежал в затемненной комнате и все время плакал. Что мы ни давали ему, а он все плакал и плакал, не хотел брать никаких игрушек и сказок слушать тоже не хотел…
— Помню, Катя.
— Ты ходил в академию, а я сидела возле него и не могла унять его плач… А вечером ты принес ему игрушку, он увидел ее и перестал плакать. Глаза у него засветились, словно он сразу выздоровел… Ты помнишь, что принес ему тогда?
— Помню, Катя. Они впервые тогда появились в продаже.
— Механическая игрушка, маленький зеленый танк… Танк ползал по табуретке, которую мы поставили у Володиной кроватки, и высекал огонь, искры летели из жестяной пушечки… Очень хорошо это было сделано!
— Там был вставлен кремень от зажигалки.
— Мы тоже склонялись над этим танком и тоже радовались с тобой, Алеша… Неужели мы ничего не понимали?
Нет, это ему только показалось, что она забыла о Володе. Катя все время думает о нем своими материнскими мыслями, не похожими на его мысли.
— В той моей радости у жестяного танка была жестокость, сегодня я расплачиваюсь за нее, — сказала Катя.
Она прижалась к плечу мужа, словно ища у него защиты от своих мыслей. Савичев хотел ответить ей, она это поняла и опередила его ответ:
— Не надо. Не говори ничего. Мы оба были жестоки тогда…
Так вот о чем думает его Катя! Жестокость… Она не понимает, что есть добрая жестокость и жестокая доброта. Кроме жестокости отца, который помнит обо всех прочих отцах, есть жестокость матери, которая забывает обо всех других матерях. Да, ее правда: нельзя забавлять ребенка даже игрушечным оружием, пускай плачет, — но и его правда: если б не было доброго оружия, то много ли осталось бы на свете счастливых детей?
— Не надо, не надо! — сказала Катя, не слушая его слов. — Сколько уже говорилось о последней войне!
— Я не могу тебе обещать, что и это последняя война.
Они говорили тихо. Бой в воздухе давно кончился, небо очистилось. Тихо работал мотор «оппель-адмирала». Аэродром выплыл неожиданно из-за леса, большое летное поле выглядело как опустевший, вытоптанный скотом выгон, — все самолеты были в воздухе, только в конце поля одиноко стоял серебристый пассажирский «Дуглас», дугообразная дверь самолета была открыта, из нее, пригнувшись и придерживая рукой фуражку, выглядывал офицер.
Навстречу машине бежал дежурный по аэродрому. Калмыков притормозил, дежурный, не спросив разрешения, прыгнул на переднее сиденье.
— Извините, товарищ генерал… Хотели уже отправлять… Срочный приказ.
Дежурный махнул рукой шоферу — Калмыков повел машину напрямик через поле и остановился под крылом самолета.
Взревел один, потом второй мотор, пропеллеры рванули воздух, синий шарфик Катерины Ксаверьевны вырвался из-под воротника и струился над ее плечом, она придерживала волосы и улыбалась Савичеву прежней, совсем молодой улыбкой, только глаза ее неестественно сухо горели и, казалось, ничего не видели. Дежурный что-то кричал офицеру, стоявшему в двери самолета, тот кивал головой, слов за ревом моторов не было слышно.
Савичев обнял Катю и почувствовал, как дрожат ее тонкие плечи. Он поцеловал Катю в висок, в шелковую прядку, уже подернутую сединой, — сказать он ничего не мог: надо было кричать, чтоб она услышала… Катя подняла на него глаза, руки ее лежали на звездах его золотых погон, наклонила к себе его голову и поцеловала в лоб.
Лесенки не было, аэродромный солдат придвинул к самолету несколько пустых ящиков, по ним Катерина Ксаверьевна поднялась в кабину, солдат отодвинул ящики, хлопнула дверь, и самолет сразу же, подпрыгивая, покатился по полю. Савичев успел заметить, как задергалась желтая занавесочка на одном из окошек кабины, увидел за толстым стеклом руку и лицо, — была ли то Катя, он не знал.
Самолет оторвался от земли в противоположном конце поля. Савичев долго стоял у пустых ящиков, подняв фуражку над головой, и следил за самолетом, который медленно набирал высоту и разворачивался над аэродромом. Савичеву казалось, что Катя видит его, ему хотелось, чтоб она искала его глазами на земле… Было бы тяжело думать, что Катя сразу же села на свое место в кабине и закрыла глаза, чтоб не бояться высоты. Самолет был уже высоко и казался совсем маленьким, когда Савичев увидел, что с обеих сторон к нему пристроились юркие, как осы, истребители.
— Вы не беспокойтесь, товарищ генерал, — услышал он голос рядом с собой и удивился, что слышит его после рева моторов, — до самой Москвы будут провожать.
Голос принадлежал аэродромному солдату в замасленной гимнастерке. У солдата было доброе морщинистое лицо, он с сочувствием смотрел на Савичева, словно понимал, что творится у него на душе.
— Она не любит летать, — сказал солдату Савичев.
— А я тоже не люблю, — отозвался солдат и, не обращая больше внимания на генерала, начал возиться со своими пустыми ящиками.
Савичев оглянулся — он был один посреди поля. — Калмыков ждал его в машине у леса. Надев фуражку, Савичев медленно пошел к машине.
Капитан Петриченко казался теперь уже не серым, а землисто-зеленым, словно лицо его протравили какими-то кислотами. Петриченко стоял посреди двора и по привычке расчесывал пластмассовой расчесочкой тонкие волосы. Он исхудал за эти дни, и хоть габардиновые бриджи и гимнастерка на нем были почти совсем новые, они казались поношенными, несвежими. Весь вид капитана Петриченко говорил: «Мне теперь все безразлично, и лицо мое, и одежда, сидеть в приемной у генерала и оттачивать для него карандаши можно и с таким зеленым лицом и в такой жеваной гимнастерке…»
Когда «оппель-адмирал» генерала Савичева въехал во двор, лицо Петриченко совсем потемнело, выражение безнадежного страдания появилось в его глазах.
— Что случилось, Петриченко? — оглядел его с головы до ног Савичев. — Вы больны?
Петриченко стоял навытяжку перед генералом, глядя куда-то в сторону, чего он не позволил бы себе никогда раньше: подчиненный должен смотреть в глаза начальнику.
— Вас ждет командующий авиацией, — сказал Петриченко. — Давно уже ждет… Как только вы уехали с Катериной Ксаверьевной.
Савичев быстро прошел в избу. Петриченко посмотрел ему вслед, пригладил обеими руками волосы и пошел за ним медленно, будто ступая по тонкому льду над полыньей.
Грузный генерал с мягкими, покатыми, как у женщины, плечами сидел у Савичева в комнате, вытянув под столом короткие ноги в блестящих сапогах. Усталость блуждала по его бледному большому лицу, он тяжело дышал и, склонив набок коротко остриженную седую голову, глядел на чистый стол перед собою. Савичев сел напротив него на стул для посетителей. Командующий поднял от стола лицо, красноватые болезненные мешочки под его маленькими добрыми глазами набухли, он побарабанил короткими толстыми пальцами по столешнице.
— Уютно у тебя, Алексей Петрович, хорошо…
Командующий всем говорил «ты» — солдатам и генералам, знакомым и незнакомым. Живот у него начинался прямо от шеи; трудно было поверить, что этот усталый, немолодой человек был когда-то прославленным лётчиком, об отчаянной смелости, неутомимости и изобретательности которого ходили легенды.
В избе слышался низкий вибрирующий звук, словно где-то работал маленький моторчик. Звук то усиливался, то совсем затихал, будто моторчик выбивался из сил — вот-вот уже должен был остановиться, но снова набирал обороты и начинал так же неумолчно гудеть.
Савичев смотрел на командующего с печальным сочувствием:
«Отлетался ты, старый сокол… Гипертония, астма… И по земле тебе трудно ходить».
«Старый сокол» молча покачивал головой, словно соглашаясь с мыслями Савичева.
— Полетела, — наконец проговорил он, имея в виду Катерину Ксаверьевну. — Это хорошо…
Савичев еще во дворе знал, что не с добром пришел к нему старый летчик. Общих дел у них не было, а если и появлялись, они легко решали их по телефону. Но Савичев не мог и не хотел верить в то, с чем пришел к нему командующий. Он вспомнил боевую карусель самолетов в небе над дорогой к аэродрому, черный хвост дыма за истребителем, который, переворачиваясь с крыла на крыло, падал на лес… Лицо Володи проплыло перед ним, родное мальчишеское лицо. Володя печально улыбался, словно заштрихованный тонкими полосами дыма, влажно блестели его глаза, он говорил:
— Ну что ты, отец, я ведь уже не мальчик!..
Снова из-за смуглого лица Володи возникло большое, бледное лицо командующего, и Савичев услыхал его усталый голос, с сопением и одышкой после каждой фразы. Савичеву уже не нужно было слышать того, что говорил командующий, но он вслушивался в слова старого генерала, который считал, что должен рассказать Савичеву все, что знает о гибели Володи из донесений своих подчиненных, — вслушивался, как во что-то плохо выдуманное, лишенное какого-либо правдоподобия…
— Ты не удивляйся, Алексей Петрович, что так случилось, — у Кутейщикова большие потери в дивизии, он вынужден был сразу же послать в бой молодых летчиков. Должен же молодой летчик когда-нибудь сделать свой первый боевой вылет, раньше или позже, а должен. Младшего лейтенанта Савичева Кутейщикову тоже пришлось послать. Уже израсходовав значительную часть боекомплекта, Володя преследовал двух «юнкерсов», двигавшихся по правому пеленгу, и открыл прицельный огонь по левому мотору ведомого…
Зачем ему знать эти подробности? Командующий повторяет донесение, будто выучил его наизусть. Он хорошо знает, что такое боекомплект, правый пеленг, прицельный огонь, и выговаривает эти слова с видимым удовольствием, хоть и трудно ему их выговаривать и надо делать передышку после каждого слова. Мотор загорелся, «юнкерс» резко развернулся влево и врезался в хвост машины своего ведущего, оба бомбардировщика рухнули на землю.
Савичев уже не слышит голоса командующего, который тяжело, с одышкой повторяет сухие слова боевого донесения: «фокке-вульф» появился в небе, когда младший лейтенант Савичев, сделав круг над горящими «юнкерсами», уже должен был присоединиться к своему звену истребителей — он не успел набрать высоту…
У командующего что-то заклокотало в груди. Савичеву показалось, что старый летчик всхлипнул, — он поднял голову и увидел, что командующий уже вышел из-за стола и стоит рядом с ним. Почти прикрывая большим, чисто выбритым подбородком первую пуговицу своего кителя, командующий смотрел на сидящего Савичева сверху вниз.
— Ты прости меня, Алексей Петрович… У меня самого — один под Ленинградом, другой под Вязьмой… Не прячут своих сыновей от войны советские генералы, не прячут!
Командующий пошел к двери, твердо ступая короткими ногами в блестящих шевровых сапогах. Савичев проводил его глазами, так и не поднявшись со стула для посетителей. Дверь закрылась. В приемной зазуммерил телефон, послышался голос Петриченко, и опять настала тишина, в которой вибрировал и словно ввинчивался в мозг низкий тревожный звук. Савичев подошел к окну, отогнул ряднинку. Обманутый прозрачностью стекла, за ряднинкой бился большой, мохнатый, разрисованный золотом по черному шмель. Савичев открыл окно, шмель форсированно загудел своим моторчиком и вылетел, сразу набрав высоту. Блеснули на солнце его крылышки, и он слился с ярким, солнечным воздухом.
Савичев отошел от окна, — у стола стоял землисто-зеленый Петриченко, в руках у него белел лист бумаги. Савичев сел на свое место за столом и протянул руку к карандашу, еще с утра хорошо отточенному Петриченко.
— Что у вас там, Петриченко?
Адъютант молча подал через стол свой лист. Лист лег перед Савичевым так, что он сразу смог прочитать вверху большие буквы: «Рапорт».
— Не держите меня возле себя, Алексей Петрович, — сказал капитан Петриченко, глядя на карандаш в руке Савичева. — Теперь я уже точно знаю, что вы не должны меня держать…
Савичев хотел сказать Петриченко, что ему не надо уходить от него, что каждый должен делать свое дело на своем месте, но землисто-зеленое лицо Петриченко говорило ему больше, чем могли бы значить любые слова, и Савичев, не читая рапорта, написал в углу листа наискось: «Не возражаю. Савичев».
— Спасибо, Алексей Петрович, — протянул руку за рапортом Петриченко.
Савичев придержал рапорт рукой.
— Вам придется потерпеть, пока мне дадут другого адъютанта… Это, наверное, не в один день устроится?
— Мне бы только перспективу иметь, товарищ генерал, я согласен потерпеть.
— Хорошо, Петриченко. Спасибо за службу. Идите.
Петриченко вышел. Савичев положил перед собою руки вверх ладонями на стол и долго сидел неподвижно, словно разглядывая их, эти чужие, совсем ненужные ему руки… Он закрыл лицо ладонями.
— Катя! — сквозь руки проговорил Савичев. — Ты слышишь меня, Катя? Как же я скажу тебе? А этой девочке… Тоне? Ей тоже надо будет сказать! Но как? Научи меня, Катя!
8
Из записок Павла Берестовского
Кажется, только Дубковский остался в избе.
Я вышел первым и, не зная, куда себя деть, лег на моей куче сена за сарайчиком.
Не поднимая усталой, тяжелой головы, я вскоре увидел, как через наш двор прошла Варвара Княжич с Аниськой. Варвара обнимала маленькую Аниську за плечи большой рукой и что-то тихо говорила. Аниська так же тихо отвечала ей… Голоса были спокойные, будто ничего не случилось.
Спустя немного времени с улицы появился Миня. Он вошел во двор, оглядываясь, словно боялся, что кто-то за ним гонится, походил беспокойно между избой и колодцем, сел на завалинке и закурил папиросу. Спичка осветила его красивое лицо, как в фонаре загоревшись в сложенных лодочкой ладонях.
Дмитрий Пасеков вышел во двор в исподней рубахе, белым пятном проплыл к колодцу, загремел ведром, подымая воду, и долго пил, обливая себе шею и грудь. Миня тихо окликнул его. Они недолго посидели на завалинке вдвоем, потом Пасеков сбегал к Александровне и сразу же вернулся, прижимая к белой рубахе что-то большое и темное. Миня поднялся ему навстречу, брякнула щеколда — они молча нырнули в темные сени Людиной избы.
То, что мой друг Дмитрий Пасеков в ту ночь искал общества фотолейтенанта Мини, меня ничуть не удивило. С некоторого времени я заметил, что между ними, несмотря на всю разницу, есть много общего. В чем оно заключалось, это общее, я понял не сразу. Может быть, только теперь, когда я знаю уже все, мне легко объяснить это себе, а тогда было только неотчетливое чувство, зыбкое и неуловимое, от которого я напрасно старался избавиться.
Миня существовал своим вегетативным существованием, не зная разницы между добром и злом, не ведая ни стыда, ни мук и укоров совести; каждую минуту своего существования он чувствовал себя добрым малым, которому очень везет в жизни: все плывет ему в руки, товарищей у него множество, женщины его любят, более того, летят к нему, как бабочки на огонь, и прощают ему то, чего не простили бы никому другому.
Дмитрий Пасеков не был ни таким молодым, ни таким красивым и счастливым, как Миня, но и в его существовании я заметил Минину вегетативность, с одним, правда, различием: Пасеков хорошо знал короткое расстояние между добром и злом, знал муки и укоры совести и почти постоянно чувствовал стыд, жгучий стыд, который и тщился замаскировать наигранной веселостью, отчаянным со всеми панибратством, притворной искренностью, за которой угадывался холодный эгоизм, — словом, всем тем, что так поразило меня в нем после продолжительной разлуки.
Нет, Пасеков не был счастливым, быть счастливым мешала ему совесть, а может быть, и то, что он боялся, как бы кто-нибудь не заметил ее в нем и не сказал: «Брось притворяться, дружище, ты мог бы быть и счастливее и лучше, если бы умел себя держать в руках и не только знал границу между добром и злом, но и мог не переходить ее».
Хотя меня и не удивляло, что Пасеков искал дружбы с Миней, все же я не мог в ту ночь, в ту бесконечно тяжелую для меня ночь после неудачного дня рождения Дубковского, не обижаться на него. Пасеков должен был уделить мне немного времени, я даже выпил бы с ним, если он не мог без этого обойтись, — но нет, я был ему не нужен, он просто избегал меня… Почему?
Я искал ответа в нашем общем прошлом, в тех днях и неделях, тяжелее которых не было в моей жизни и которые казались мне теперь легкими и счастливыми, потому что наполнены были солдатской дружбой, чувством суровым и более глубоким, чем это может показаться с первого взгляда. Не было в ней ни громких слов, ни показных поступков, все было буднично, просто и человечно… Прост и человечен был и Дмитрий Пасеков. Что же так изменило его?
В ту же ночь это мне открылось.
Два дня на глазах у немцев окруженцы строили переправу через болото.
Генерал, который, сидя на пне, принял это решение, не предвидел последствий, неминуемо возникавших из его смелого, но безрассудного плана.
Перед болотом, в лесу и на открытых местах, сбились тысячи вооруженных и безоружных людей. Тут были солдаты, отбившиеся от частой, окруженных на левом берегу, командиры без подразделений и бойцы без начальников, пехотинцы, артиллеристы и матросы днепровской флотилии, которые родились и прожили жизнь вдалеке от этих мест, и киевские служащие, железнодорожники, трамвайщики, водители автобусов, зенитчики, последними оставившие свои позиции на переправах, пограничники в зеленых фуражках, команды рабочих бронепоездов, взорванных перед отступлением, милиционеры с пустыми кобурами, остатки частей киевского ополчения, медперсонал больниц и госпиталей, сотрудники банков, сберкасс, почты и телеграфа, женщины с детьми, мужчины в военной и полувоенной форме и одетые по-граждански, с вещмешками за спиной, с чемоданчиками и баульчиками в руках, с одеялами через плечо, с чайниками и котелками на поясе.
По всему пространству леса, под деревьями и на полянах, кое-как замаскированные свежими ветвями и совсем не замаскированные, стояли грузовики и автобусы, зеленые спецмашины раций, окрашенные в огненно-красный цвет пожарные агрегаты с раздвижными лестницами и брезентовыми, намотанными на барабан шлангами, зенитные пушки и легковые автомобили разных марок… Шоферы копали глубокие щели в топкой почве, минометчики устанавливали минометы на опушке. Командиры и политработники комплектовали роты из людей, вчера еще не знавших друг друга, и занимали круговую оборону.
Немцы прижали всех этих людей и всю эту технику к длинной и широкой полосе болот, окружили громадным полукольцом, выставили артиллерию и минометы, но не стреляли.
Генерал сидел на пне. Карта лежала у него на коленях. Вокруг стояли офицеры, тут были седые полковники и безусые лейтенанты, никто из них не обмолвился и словом, когда генерал сказал:
— Технику уничтожить, чтоб не досталась фашистам. Гатить болото всеми возможными средствами. Группой прикрытия приказано командовать полковнику Костецкому. Мы перейдем с минимальными потерями: у фашистов не может быть достаточных сил, чтоб преследовать нас.
— Вы не думаете, товарищ генерал, что мы встретимся с ними по ту сторону болота?
Полковник Костецкий смотрел на генерала железными глазами. И он и батальонный комиссар Лажечников, стоявший рядом с ним, держа раненую руку на перевязи, уже знали, что остаткам их дивизии удалось прорваться в этот лес только потому, что немцы, осуществляя заранее продуманный план, пропустили их, расступились, словно открыли ворота в ловушку, а потом снова захлопнули, чтобы тем вернее уничтожить прижатых к болоту, обескровленных и бессильных, среди массы дезорганизованных отходом людей.
Безнадежность положения Костецкому была ясна. От его дивизии почти ничего не осталось, большинство офицеров штаба, командиры и комиссары полков погибли, идя вместе с бойцами в атаку. Батальонный комиссар Лажечников был при Костецком неотступно. Раненный в руку, он выполнял приказания полковника с точностью, которой трудно было ожидать от вчерашнего лектора, знавшего только свои книжки, конспекты и цитаты. Они понимали друг друга с полуслова. Поняли они и теперь, что на них возложена самая простая и самая тяжелая задача — ценой собственной жизни осуществить отчаянный план неизвестного генерала.
Сумрак сгущался над широкой полосой поросшего кустами болота, над притихшим лесом.
Костецкий оглянулся вокруг. Никто не поддержал его полувысказанного сопротивления генералу, — яснее и не нужно было говорить, все понимали, о чем идет речь, но никому не хотелось лишать себя надежды.
— Вы не думаете, товарищ генерал, — еще спокойней сказал полковник Костецкий, — что ваш план граничит с безумием?
Генерал, глядя на поясную бляху полковника, медленно выговорил:
— Я прикажу вас расстрелять, если вы будете тратить время на пререкания со мной.
Костецкий резко обернулся к Лажечникову:
— Пойдем, батальонный…
Они ушли в лес с небольшой группой офицеров своей дивизии.
Пасеков и Берестовский стояли среди офицеров и слышали приказ генерала. Непонятно, каким образом этот приказ через несколько минут стал уже известен всем. Лес ожил. В темноте люди закапывали замки орудий, портили моторы машин, рубили деревья и кусты, катили бочки с горючим к болоту, сталкивали их в топь, забрасывали срубленными ветками, настилали бревна. Узкая гать врезывалась в болото, на нее выкатывали машины, десятки людей наваливались — машины сползали в болото, топь засасывала их, поверх них снова бросали толстые ветви и бревна, сорванные борта грузовиков, столы, шкафы и сейфы, неизвестно зачем вывезенные ретивыми завхозами последних киевских учреждений; гать ползла через болото медленно, хоть тысячи людей работали, выбиваясь из сил и падая от усталости. Поздно ночью немецкие самолеты навешали фонарей над болотом, но бомб не сбросили.
Генерал сидел, как и вечером, на своем пне; он посмотрел в залитое мертвым магниевым светом небо, подумал и хрипло сказал:
— Не прекращать работу.
Фонари погасли, самолеты улетели, смолкло вдали тяжкое урчание моторов, люди снова покатили на гать машины, потащили ветки и бревна. Временами на фашистской подкове вспыхивали осветительные ракеты; рассыпаясь искрами, они гасли в черном небе.
На рассвете Берестовский и Пасеков, обессиленные, измазанные вонючей болотной тиной, с кровавыми пузырями на руках, отошли в глубь леса и упали под кустом на рыжую, покрытую росой листву. Вокруг валялись изорванные бумаги, затоптанные шинели, пустые канистры, консервные банки.
Пасеков вспорол ножом жестянку консервов. Берестовский не хотел есть. Вытянув руки вдоль тела, он лежал навзничь с закрытыми глазами.
— Вот что я вам посоветую, Берестовский, — сказал Пасеков, — выбросьте из головы все мысли, кроме одной: расплата впереди, и мы должны дожить до расплаты, а для того, чтоб дожить, надо есть, пить и не падать духом…
Берестовский молчал.
— И еще одно деловое предложение, — продолжал Пасеков. — Нужно нам найти батальонного комиссара и присоединиться к группе прикрытия… Лучше погибнуть в бою, чем утонуть в этом вонючем болоте.
Берестовский пошевелил серыми от усталости губами.
— Вы уверены, что немец даст нам перейти через болото?
— Дурак он был бы, если б не хотел нас взять живьем или перебить всех до одного. Ешьте. Это самые лучшие бычки в томате, которых я когда-либо вылавливал в консервной банке.
Берестовский сел и взял из рук у Пасекова большой кусок черствого солдатского хлеба с щедрой порцией бычков.
— Вы понимаете, что произошло?
— Не до конца.
— А генерал, он понимает?
— Если мы останемся в живых, у нас будет много времени, и мы все поймем: и генерал, и вы, и я…
— Кажется, я кое-что уже понял.
— Ну и держите свое понимание при себе. Ничто не погибнет, даже если мы с вами пропадем. Это все, что я знаю, и этого мне довольно.
Берестовский долго смотрел на взбухшие темные листья, лежавшие на земле у его ног, и наконец сказал убежденно, с усилием выговаривая каждое слово:
— Если мы не научимся говорить правду себе и всем другим…
Пасеков не дал ему договорить.
— Я должен поспать минут девяносто, — сказал он с притворным равнодушием, хоть понял все, что имел в виду Берестовский. — Поспите и вы… И запомните: все еще впереди.
Пасеков аккуратно завязал вещмешок, подложил под голову и сразу же заснул. Берестовский с завистью смотрел на него. Спать он не мог. Им владела та величайшая усталость, которая уже не оставляет места для сна, та усталость, когда вследствие крайнего возбуждения не действуют уже силы торможения, возникающие в коре большого мозга, когда каждое чувство, обостряясь, кажется, приобретает способность проникать далеко за пределы, положенные человеку.
Все в этом сентябрьском лесу рисовалось Берестовскому в преувеличенно ярком, обостренном виде, — все, начиная от земли, на которую уже упали первые листья, чтобы вскоре увлажниться дождями и превратиться из красных и золотых в однообразно коричневые, зеленовато-бурые, а потом и вовсе черные; все — и небо, просвечивавшее между вершинами деревьев, темно-синее и высокое, на фоне которого беспокойно шевелилась, словно плыла, полная предсмертного трепета осенняя листва; и стволы осин и берез в своем молчаливом порыве в высоту, владевшем ими вопреки силе корней, привязывавших их к почве, и потому исполненном гордого трагизма; и голоса людей, которые валили где-то поблизости эти деревья, обрубали сучья и на руках тащили бревна к болоту; и грохот артиллерийской пальбы, который возникал в разных направлениях, но отовсюду слышался словно из-под земли; и голоса птиц, продолжавших свою осеннюю, только им известную и нужную работу в этом искалеченном, изуродованном, оскверненном лесу, — вся эта бесконечно яркая и бесконечно печальная в красоте своей жизнь наполняла душу Павла Берестовского горечью и тревогой, и эта тревога не давала ему заснуть.
Все, чем жил Берестовский раньше, все, что раньше так трогало его, — литературные успехи и неприятности, восторги и зависть товарищей, волнения, связанные с печатанием очередной книжки и отзывами не всегда благосклонной критики, ночные просмотры заграничных фильмов, на которых можно было встретить всех прославленных звезд и непризнанных гениев, мечты о том, чтоб и самому написать сценарий, по которому поставят эпохальный шедевр, — все радости и огорчения прошлой жизни казались Берестовскому такими далекими и такими мелкими, что он отказывался верить, что так недавно еще жил этой прошлой жизнью, и не только жил, а считал ее единственно возможной… Берестовский уже знал, что этой прошлой жизни больше не будет, что, как бы ни сложилась его судьба в будущем, он никогда не сможет вернуться к своей прошлой жизни, — отныне ему открывается в жизни иной, более глубокий смысл, иная, более высокая цель, о существовании которой он раньше не знал. И чем глубже охватывала его радость от того, что он начинал познавать цену настоящей жизни, тем с большей силой чувствовал он отвращение к той жизни, которой жил раньше и которую отвергал теперь.
Берестовский не чувствовал страха смерти, опасность попасть в плен к немцам тоже не волновала его — от этого гарантировали спокойно принятое решение и надежда на ту последнюю пулю, которая разрушает все расчеты врага; он боялся только одного — заснуть и вдруг утратить способность видеть и ощущать ту красоту, которая раскрылась перед ним в эти пронизанные болью минуты… И все-таки усталость была сильнее этого чувства, незаметно для самого себя Берестовский заснул и сразу же проснулся, словно что-то толкнуло его изнутри в грудь.
Пасеков сидел рядом с ним и спокойно перематывал портянку. Над Пасековым стоял лейтенант Моргаленко, лицо у него было возбужденное, словно опаленное огнем изнутри, под покрасневшими глазами лежали синие тени усталости.
Берестовский не узнавал Моргаленко. Лейтенант был раздавлен всем, что произошло. Ворот его гимнастерки был расстегнут, грязный подворотничок свернулся потным жгутом, пистолет болтался на плохо затянутом ремне, грязные галифе на коленях были разорваны.
Впрочем, если бы Берестовский мог взглянуть на себя со стороны, вряд ли бы ему показалось, что он выглядит лучше.
— Дело верное, я вам говорю, — монотонно повторял Моргаленко. — Из этой переправы ничего не выйдет. А у нас полуторка, бензину не надо — на дровах, как самовар, газогенератор называется… И есть два спаренных пулемета…
Пасеков, прикусив нижнюю губу, молча натянул сапог.
— У немцев что? У немцев тоненькая цепочка, не может того быть, чтоб они вокруг нас бетонную стенку поставили. Мы их возьмем на испуг, наделаем такого шухера, что они и не опомнятся, как мы проскочим, обойдем это болото — и на восток!
Моргаленко скосил неспокойные глаза на Берестовского, — тот спал, когда начался разговор, неизвестно, можно ли продолжать, раз он проснулся… Помня Берестовского еще со школы, Моргаленко чувствовал себя в эту минуту школьником, неожиданно встретившим своего недавнего учителя; кто его знает, как он может отнестись к самостоятельному решению своего вчерашнего ученика!
Пасеков уже снял второй сапог, старательно протер портянкой между пальцами и начал обматывать ногу.
— Что ж вы молчите, товарищ старший политрук? Нас семнадцать человек… Да вы, да товарищ Берестовский…
Пасеков повернул голову к Берестовскому, кивнул в сторону лейтенанта и спросил:
— Вы как?
— Нет, — ответил коротко Берестовский, чувствуя стыд за Моргаленко, который так понравился ему в Голосеевском лесу.
— Не прорвемся? — Лейтенант обращался к Пасекову, ему удобней было не слышать недвусмысленного «нет» из гневно сжатых губ Берестовского, который видел его совсем другим, а теперь словно отмежевывался от него своим свирепым, полным презрения «нет».
— Может, и прорвемся… А о других ты не думаешь, лейтенант?
— Что ж другие? Никто никем не командует… Всем, значит, пропадать? Все и пропадом с таким генералом! Как только пойдем через болото, так нас немец и накроет.
— Возможно, так оно и будет.
Пасеков порывисто встал, дернул голенище за ушки, вдвигая ногу в сапог, и проговорил непримиримо:
— Ты солдат? Твое дело — побеждать и гибнуть вместе со всеми.
Из-за куста, отклоняя ветви рукою, вышла Маруся, взяла лейтенанта за рукав и тихо сказала:
— Я же тебе говорила, Гриша… Где все, там и мы. Что со всеми, то и с нами.
Лейтенант Моргаленко обернулся к Марусе, встретился взглядом с ее глазами, лицо его сразу сделалось растерянным и виноватым, он не смог ничего ей сказать, не нашел слов, — верно, все уже было сказано между ними…
Моргаленко махнул безнадежно рукою, повернулся, как незрячий, сделал несколько неуверенных шагов и исчез за деревьями.
— Гриша!.. Товарищ лейтенант! — крикнула в слезах Маруся и побежала за ним.
Два дня и две ночи тысячи людей, сменяя друг друга, строили переправу. Под вечер третьего дня, когда узкая гать уткнулась в твердый берег, немцы, словно угадав, что сейчас начнется движение, начали стягивать свою подкову и прижимать окруженных к болоту.
Пасеков и Берестовский лежали рядом на опушке в наспех вырытых окопчиках. Небольшая насыпь перед окопчиком не столько укрывала от пуль, сколько мешала видеть врага. Пятьсот — шестьсот метров отделяло окопчики от пологих холмов, за которыми стояли немцы. Днем из-за холмов изредка летели мины. Когда совсем стемнело, на холмах вдруг заревели моторы, вспыхнули фары грузовиков, тягачей и тракторов, в небо взлетели сотни ракет, и все пространство внутри подковы заколыхалось, замерцало в непрерывной смене света и тьмы. Все, кто были в лесу, бросились на переправу.
Возле узкой полоски переправы с пистолетом «ТТ» в руке стоял все тот же неизвестный генерал, который взял на себя командование и связанную с этим ответственность за судьбу поверивших ему людей. Необходимость диктовала генералу пустить вперед боеспособных, вооруженных людей, которые могли бы принять бой в том случае, если за болотом окажется враг (теперь уже и генерал считался с такой возможностью). Но женщины с детьми, легкораненые, санитары с тяжелоранеными на носилках, охваченные паникой мужчины в полувоенной одежде толпились у переправы, врывались в ряды бойцов, дети отчаянно кричали, хватаясь за матерей, раздавались стоны и рыдания, мольбы и проклятия.
Протяжный гул моторов послышался в почерневшем небе. Над переправой вспыхнули осветительные ракеты.
— Назад! — кричал генерал, поднимая вверх пистолет, но никто не слушался ни его, ни его офицеров, которые пытались навести порядок и пропустить вперед бойцов с винтовками, гранатами и пулеметами.
Завыла в воздухе первая бомба, она упала в освещенное сверху, черное, словно асфальтовым лаком залитое болото и разорвалась со страшным подводным грохотом, выбросив на поверхность громадный фонтан грязи, начиненной осколками железа, которые врезались в тела людей или снова тяжело шлепались в воду.
Неизвестный генерал, который организовал переправу и теперь пытался одновременно и наводить на ней порядок и командовать арьергардом, прикрывавшим переправу от немцев, никогда не командовал войсками, он был тыловым генералом и взял на себя командование потому, что был тут старшим по званию и считал это своей обязанностью. Он думал, что уже само присутствие на переправе человека с генеральскими звездами на петлицах должно успокаивающе подействовать на людей. «Генерал здесь, — должны были думать, по его предположениям, люди, — генерал все устроит, генерал не даст нам погибнуть». Но люди, которые подходили к переправе, напирали друг на друга, толпились на узкой гати в свете повисших в воздухе ракет и кидались вслепую в болото под минами и бомбами, думали совсем не так, как предполагал генерал. «Дело плохо, раз уж сам генерал командует переправой», — думали люди, глядя на охрипшего генерала, который ничего не мог добиться и лишь бессильно размахивал пистолетом.
Немцы двинулись с холмов на арьергард, лежавший в окопчиках на опушке.
За спинами у немцев ревели моторами грузовики и тягачи, грохотали тракторы; двигались они или стояли на месте с погашенными фарами, нельзя было понять, но грохот, которым они наполняли ночную тьму, производил впечатление непрерывного движения. Мины рвались на опушке. В темноте слышались команды, крики раненых, треск автоматных очередей, тяжелая скороговорка пулеметов, свист пуль и шипение осколков.
Пасеков переполз к Берестовскому, прижался плечом к его плечу и хрипло выдохнул из пересохшего горла:
— Ну как, задержим?
— У них там, кажется, танки…
— На испуг берут. Танки, если и есть, сюда не пойдут… Лес, болото…
Они стреляли в темноту, перезаряжали винтовки и снова стреляли.
Их охватил мальчишеский азарт, они кричали и хохотали так, словно принимали участие в увлекательной игре, в которой не было ничего опасного, — просто сошлись люди, легли в ослепляющей темноте на землю и развлекаются как могут, с грохотом, горячими вспышками огня, со смехом, похожим на стон, и стонами, что кажутся смехом.
— Не зевайте, Берестовский! — крикнул Пасеков. — Они уже совсем близко…
— Ни черта не видно, — прохрипел Берестовский.
Сзади подполз боец в распахнутой гимнастерке, его дыхание было слышно еще издалека, воздух свистел и клокотал у него в груди.
— Эй, вы кто? — крикнул он, дергая за ногу Пасекова.
— А ты кто?
— Берите гранаты, гранатами их, ежели что… Умеете гранатами?
Боец оставил около них несколько гранат и пополз куда-то в сторону.
— Я никогда не держал в руках гранаты, — сказал Берестовский.
Пасеков расхохотался:
— Что вы говорите? А я всю жизнь бросаю гранаты, честное слово!
По вспышкам впереди видно было, что немецкие автоматчики уже совсем близко, что их не останавливают ни выстрелы из винтовок, ни пулеметные очереди. Моторы за холмами ревели без умолку. Впереди с непонятными воплями поднялись черные фигуры и побежали на окопы. Пасеков схватил гранату и поднялся на локте.
— Пригнитесь, Берестовский! — крикнул Пасеков и далеко вперед выбросил правую руку.
Берестовский уткнулся лицом в землю. Черные фигуры впереди упали, слились с землей, словно их и не было.
— А, гады! — закричал Пасеков и нагнулся над Берестовским. — Вас не ранило?
— Нет, — отозвался Берестовский. — Здорово вы их!
Новый боец подполз сзади и лег рядом с ними. От бойца резко пахло потом и болотной тиной, глаза его влажно блестели в темноте.
— Отходи по одному на переправу… Генерала убило!
— Я тебе отойду, паразит! — прохрипел Пасеков, хватаясь за пистолет. — Ты кто? Паникуешь?
— Меня батальонный комиссар Лажечников послал, вот кто я, — спокойно сплюнул в темноту боец, повернулся и закричал во все горло: — Эй, Митьченко, тащи сюда! Мы станкача тут поставим, а вы отходите.
— Моряк? — радостно захлебнулся Берестовский, разглядев в темноте полосы тельняшки на груди бойца.
— С разбитого корабля, — хрипло засмеялся боец. — Уматывайте, говорю, на переправу…
Подползли еще два бойца, один тащил пулемет, другой — две цинки с лентами.
— А-а-а, рус Иван! — закричала темнота впереди, и снова поднялись черные фигуры и застрочили огнем из автоматов.
Боец в тельняшке припал к пулемету. Пулемет заплевался огнем, освещая его лицо, молодое, окаменевшее от напряжения.
— Гутен морген, гутен таг! — кричал боец, поворачивая пулемет вправо и влево, чтоб пули ложились веером. — Митьченко, готовь ленту!
Оборачиваясь и отстреливаясь, Пасеков и Берестовский отползли в лес.
Мина разорвалась в пяти шагах от генерала. Генерал упал ничком на утоптанную тысячами сапог влажную землю. Полковник Костецкий, стоявший рядом с ним, тоже упал, но вверх лицом, взмахнув руками… Через гать шли остатки какого-то медсанбата, несли на носилках тяжелораненых, ковыляли, опираясь друг на друга, легко раненные бойцы. Из рядов выбежала женщина-военврач с санитарной сумкой на боку. Военврач наклонилась над генералом, осторожно перевернула его на спину и сразу же поняла, что ее помощь здесь уже не нужна. Она подползла на коленях к полковнику, по пробитому и окровавленному кителю увидела, что он ранен в грудь. Костецкий потерял сознание, но, когда военврач начала перевязывать рану, открыл глаза и тихо сказал:
— Нет надобности… Знаю. — И добавил голосом, в котором не чувствовалось ни боли, ни жалобы: — Отправляйтесь к своим раненым.
Военврач осталась возле полковника. Батальонный комиссар Лажечников стоял над полковником Костецким с сумрачным лицом и пропускал мимо себя все новые и новые ряды бойцов, которые непрерывно выходили из лесу, возникали из тьмы, как тени, на миг останавливались и ступали на гать, расшатанную непрерывными шагами людей и в нескольких местах уже развороченную бомбами и тяжелыми минами.
Пасеков и Берестовский появились на переправе, когда Костецкого клали на носилки.
— Не задерживаться! Вперед! Вперед! — слышался голос Лажечникова в темноте.
Выстрелы раздавались уже в лесу. Бойцы выходили на гать, другие, не дожидаясь очереди, поднимали над головой винтовки и ступали прямо в трясину, раздвигая болотные кусты и острый камыш.
Берестовский с Пасековым вышли на гать. Впереди колыхались носилки с Костецким, четыре бойца несли их, сбоку шли женщина-военврач и батальонный комиссар.
Гать впереди была разбита. Движение остановилось. Бойцы, стоя по шею в воде, на руках передали носилки с Костецким на другую сторону. Пасеков и Берестовский были среди бойцов. Носилки с полковником проплыли у них над головой, по их плечам перешла военврач. Пасеков вылез из воды и вытащил за собой Берестовского. Мины ложились по всему пространству болота, убитые исчезали под водой, никто не обращал на них внимания.
Самолет затрубил в черном небе прямо над головой, развешал фонари, осветил болото, людей, которые шли через гать, брели по болоту от куста до куста, от кочки до кочки, проваливались, захлебывались, молча гибли или пробивались еще на шаг вперед.
Пасеков сорвал с плеча винтовку и в бессильной ярости выстрелил вверх. Небо бешено завыло и раскололось. Пасеков прыгнул в воду, таща за собой Берестовского. Вода накрыла их с головой. Им удалось снова выкарабкаться на гать. Носилки с полковником стояли над новой пропастью. Полковник лежал спокойно, словно спал, правая рука его свисала с носилок и упиралась скрюченными пальцами в лужицу грязи. Военврач сидела рядом, охватив руками голову. Батальонный комиссар Лажечников притронулся к ее плечу, она покачнулась и упала набок, из сумки выкатились индивидуальные пакеты и беззвучно свалились в воду.
Бойцы подняли носилки, переступили через тело женщины, их поток потащил за собой Лажечникова, Пасекова и Берестовского.
Когда наконец гать кончилась и они ступили на твердую почву, оказалось, что это только большой остров среди болота, а за болотом ждут немцы.
9
Продолжение записок Берестовского
Где выменяла Александровна свое пойло? Из чего оно было приготовлено? Голова моя гудела, как котел, в груди пылал костер. Адское питье из четвертной бутыли, перевязанной по горлышку оранжевой ленточкой, парализовало мое тело, сделало его отвратительно бессильным, отделило от сознания, продолжавшего напряженно работать, перебрасывая зыбкие мостики от прошлого к сегодняшней действительности. Что здесь было сном, что воспоминаниями, не знаю. Мозг работал с безотказной четкостью, хотя, может быть, моим мыслям и не хватало последовательности. То я думал про Аню, представлял себе, как в худеньком пальтеце бежит она по заваленной обледеневшим снегом семипалатинской улице из своего холодного угла в холодный театр на репетицию, то вспоминался мне августовский Сталинград: газетный киоск на углу, возле Дома Красной Армии, и разворот большого сквера, наполненный дымом, оборванными проводами и комьями поднятой взрывами в воздух земли… Женщина перебегала через дорогу, прижимая к груди девочку; она накрыла ребенку голову обеими руками и не видела, не чувствовала, что между пальцами у нее течет темно-вишневая кровь. Небо раскалывалось на тысячи осколков, а она все бежала, задыхаясь от усталости и ужаса; слишком большие туфли на каждом шагу хлопали, открывая босые розовые пятки. Женщина упала на зеленую скамью под седыми от пыли кустами сквера и отклонила от себя ребенка, — я увидел ее безумные глаза…,
Я не заметил, как на сене возле меня очутился Мирных.
— Вы не спите?
Мирных оперся на локоть, выдернул из сена длинный темный стебелек и зажал его тонкими губами.
— Дубковский послал меня к чертовой матери. Он прав. Я испортил ему день рождения.
— Нелепо было затевать этот праздник, — сказал я, неохотно отрываясь от своих воспоминаний. — Это все причуды Пасекова.
— А при чем тут Пасеков? Нужно и самому иметь голову на плечах. Что мне до этого фотолейтенанта и его Люды? История как тысячи подобных. Война все спишет — так, кажется, у нас говорят?
— А может, не спишет, а так глубоко врежет в душу, что потом и не вытравишь ничем? Все легко, все позволено — раз живем. Я насмотрелся на таких гедонистов под пулями. Пасеков тоже скатывается к этой нехитрой философии, вы не считаете?
Мирных пожевал свой стебелек, помолчал и сказал с ощутимым упреком в голосе:
— Вы, кажется, не любите Пасекова? А он прожужжал мне голову вами и вашими стихами… «Есть у меня друг, вам бы с ним познакомиться!» Что-то я но вижу между вами большой дружбы.
— Это как смотреть на дружбу, — начал я неуверенно и остановился на полуслове: Мирных ведь должен знать, что сдружило меня с Пасековым, его упрек справедлив — обычная неблагодарность, обычная подсознательная враждебность спасенного к своему спасителю. Кто куда скатывается? Просто ты, Берестовский, все время чувствуешь себя обязанным Пасекову за то, что он не бросил тебя под плетнем Параскиной хаты, потому и раздражаешься и отыскиваешь в нем разные несуществующие недостатки, чтобы приуменьшить благородство его поступка… Плохи твои дела, Берестовский, если уже и до этого дошло. Ни одно доброе дело не остается безнаказанным, — кто это сказал? Кто бы ни сказал, о тебе сказано.
Не знаю, что больше жгло меня — стыд или жажда. Я поднялся, с трудом преодолевая сопротивление собственного тела, которое хотело только одного — лежать неподвижно, врасти в землю, слиться с ней.
— Счастье ваше, Мирных, что вы непьющий, — сказал я небрежно. — У меня все горит в середке. Схожу хлебну водички.
Пить из ведра у колодца- мне не хотелось, может быть потому, что так пил Пасеков, — я вспомнил, как он обливал себе грудь, и невольно вздрогнул, словно это мне за рубаху лилась холодная колодезная вода. У Люды за дверью в сенях стояла небольшая кадочка с водой, там была и кружка… С какой стати я буду пить, как конь, из ведра?
Дверь была открыта, из избы в сени пробивалась тоненькая как паутинка полосочка света. Я переступил порог тихо: не хотел, чтобы Пасеков и Миня услышали и пригласили меня в свою компанию. Нет, я не боялся той большой темной бутыли, которую, прижимая к груди, нес через двор Пасеков от Александровны, я мог бы и адской смолы выпить не поморщившись.
В избе Пасеков что-то весело рассказывал Мине, Минин голос восторженно хмыкал и мурлыкал, в паузах слышалось характерное бульканье, слова процеживались, смешанные с жирным смехом.
— Ну, твое…
— Поехали!
Я зачерпнул кружкой воды и держал ее в руке, встревоженный голосами за дверью, хмыканьем и похохатыванием, в котором мне слышалось что-то враждебное.
— И вот представь себе, Миня, — хохотнул голос Пасекова, — представь себе, Миня… Я уже выздоравливаю, хожу по госпиталю, иногда даже на прогулки… А какие там прогулки? Снег, мороз, ветер — сразу же бежишь в палату! И вот представь себе, Миня… Посмотри, правда, хорошенькая? Ну, вот видишь…
Послышалось мурлыканье Мини, какие-то полуслова, полумеждометия сквозь забитые едой челюсти; я представил себе, как горят похожие на маслины глаза Мини, представил его восторженно-удивленное лицо.
— Ремесленная работа. Что, не было у нее лучшей карточки?
Голос Мини прозвучал отчетливым пренебрежением, мне даже показалось, что я вижу, как он небрежно бросает снимок на стол, — уж кто-кто, а он прекрасно разбирается в таком тонком деле, как фотопортрет.
Пасеков продолжал, словно оправдываясь перед Миней:
— Скука, понимаешь, скука! Вокруг только и слышно: где кто ранен, кто как выходил из окружения, кого наградили, кого обошли… Газеты приходят на десятый день. Из книжек — только «Батый» и «Чингис-хан»! И вдруг собирают нас, выздоравливающих, на концерт. Ты можешь себе представить, Миня? Госпиталь помещался в школе, там была и небольшая сцена — в актовом зале.
Я не мог уже ни выпить воду, ни поставить кружку. Голос Пасекова наполнял меня предчувствием непоправимой беды, космической катастрофы, в которой у меня не было надежды на спасение.
Я никогда никому этого не рассказывал: в минуты наибольшего душевного напряжения память начинает подсказывать мне любимые стихи, их ритм вводит меня в равновесие, дисциплинирует сознание, — стихи спасают меня от необдуманных поступков. Не знаю, бывает ли так еще с кем-нибудь, — может быть, только на меня так действует магическая сила стихов, жалко, если только на меня. Это было. Было в Одессе. Нужно уйти, не слушать этой пьяной болтовни, этого кичливого, самодовольного похохатывания. Все это меня не касается, зачем мне волноваться, словно там, за дверью, решается моя судьба? А если и не моя, могу ли я спокойно слушать отвратительный хохот двух пьяных болванов, рассматривающих фотографию пускай даже неизвестной мне женщины, пускай чужой, но все равно ведь беззащитной под их взглядами? Я не могу, я не должен слушать. Пусть кто хочет слушает, а я войду сейчас в избу и скажу, что о них думаю. Напрасно. Я стоял в сенях и слушал. Приду в четыре, — сказала Мария. Восемь. Девять. Десять. Стихи на этот раз не успокаивали меня, что-то более сильное, более реальное, чем они, становилось рядом со мной, еще не до конца известное, но грозное и неотвратимое, как сама смерть. Не нужно к этому прислушиваться, нужно выпить свою кружку и уйти за сарайчик, на кучу сена, лечь рядом с Викентием Мирных и читать стихи, вслух еще лучше: это, как молитва, разгоняет наваждение. А я одно видел: вы — Джиоконда, которую нужно украсть. И украли. Голоса за дверью не смолкают, из бутыли булькает в жестяные кружки свирепое пойло, которое может свалить с ног быка, слышны вздохи и кряканье, словно там рубят дрова усталые дровосеки, слышен обмен короткими словами, которые могли бы ничего не значить, но полны смысла, как условный код обремененных опытом барышников, торгующих кобылу на ярмарке.
— Ну как?
— На большой!
— Чть ну как? Чть на большой? Кружка дрожит у меня в руке, вода расплескивается, сквозь дверь из избы в сени пробивается узенькая полоска света, я не могу оторвать от нее глаз, мне кажется, что они услышат стук моего сердца, выйдут и увидят, как я стою здесь в темноте, онемелый от горькой тоски, и беззвучно шевелю губами, произнося свою молитву. Мария! Имя твое я боюсь забыть, как поэт боится забыть какое-то в муках ночей рожденное слово, величием равное богу. Для одних — высшая радость и высшая мука жизни, для других — удовлетворение примитивного влечения, низшая функция организма, о которой говорят с цинической откровенностью или же с нескрываемым отвращением. Почему память всегда подсказывает мне самые трагические стихи? Я не выбираю их среди множества других, они сами приходят, словно ответ на мои мысли, ответ не всегда удовлетворительный, я ведь знаю, что в мире существует не только трагедия отвергнутой любви, но и… Что «но»? Идиллия? Филемон и Бавкида? Над вымыслом слезами обольюсь. Нет, не отсюда происходят безмятежные стихи безмятежных поэтов, которых я знаю не только из книг и не выношу в жизни так же, как и в их фальшивых книгах! Поэт рождается, чтобы быть откровенным, чтобы, если болит, кричать от боли, если радость, счастливым смехом радовать землю. Если же вечная блаженная улыбка на розовом лице — не верю. Буду беречь и любить, как солдат, обрубленный войной, ненужный, ничей, бережет свою единственную ногу. И все-таки можно было вспоминать что-нибудь другое. Нас водила молодость в сабельный поход. Нас бросала молодость на кронштадтский лед. А дальше, хоть убей, не помню, не могу вспомнить, не знаю даже, кто это написал… Чепуха, я хорошо помню. Я был у него когда-то в Камергерском переулке, на шестом этаже, в комнате, заставленной аквариумами с моторчиками для подачи воздуха разнообразным рыбкам, прижимавшимся круглыми ртами к зеленоватому стеклу. Странно, что Аня тоже любила рыбок, золотых рыбок, красивых, холодных, немых, и ко мне пришла с аквариумом, больше ничего у нее не было, только маленький чемоданчик и аквариум… Конечно же я был у него в Камергерском переулке. Он сидел на продавленной тахте, по-турецки поджав под себя ноги, курил папиросы из астматола и сам читал мне эти строчки, с одышкой, хриплым, конокрадским голосом, в котором клокотала такой невероятной силы и красоты человеческая любовь и убежденность в неизбежности счастья, что я никогда не смогу этого забыть, как бы ни притворялся. Седой чуб падал ему на глаза, большое, словно опухшее лицо было некрасиво на обычный взгляд… И еще я помню: мы ехали в санях на покрытом сеткой рысаке по старой Тверской, и сыпался с неба, и кружился блестящими искрами московский снежок, и он держал меня, двадцатилетнего, за плечи и хрипло выкрикивал строчки своих южных стихов, уже тогда седой, тяжелый, в потертой кожаной куртке и башлыке… И в номере харьковской гостиницы я тоже помню его, больного, в постели, под неопрятного вида серым одеялом. Бездарный стихоплет сидел перед ним на кончике стула и читал длинные унылые стихи, а он расхваливал его так, словно слушал самого Байрона. «Поносите гениев и не трогайте бездарь», — сказал он мне, когда, опрокидывая стулья, осчастливленный стихоплет вылетел за двери. «Гений способен прощать, бездарь — никогда» — эти его слова я тоже запомнил с того дня, но почему они вспомнились мне сегодня, в эту минуту? Все это не имеет отношения к моему стоянию в темных сенях с кружкой в руке, к голосам за дверью… А может быть, имеет? Может быть, я ошибаюсь? Может быть, именно это помогает мне жить, не падать лицом в грязь, держать себя в руках, как в таких случаях говорят?
— И тут на сцену выпорхнула она, — с неожиданной печалью в голосе сказал в избе Пасеков, и печаль его показалась мне искренней, я услышал в ней давнишнего Пасекова, свободного от наигранной, дешевой самоуверенности, простого и даже сурового, этим, собственно, и милого мне. — Вылетела она… Ну, думаю, конец… Это то, что мне надо! Разве я мог знать? Слушай, Миня, разве я мог знать? За тысячи километров! Где имение, а где вода!
Я на ощупь поставил кружку на узкую дощечку, лежавшую на кадке, и открыл дверь в избу. За столом в одних исподних рубахах сидели Пасеков и Миня. Бутыль, перевязанная оранжевой ленточкой по горлышку, стояла между ними. Сухая черная колбаса, нарезанная большими кусками, лежала на газете. Они посмотрели на меня одичавшими глазами, потом лица у обоих начали расплываться в идиотской улыбке: у Мини — радостной, у Пасекова — виноватой и печальной. Вдруг Пасеков, опомнившись от удивления и печали, начал поспешно запихивать что-то в бумажник, пытавшийся выпрыгнуть из его непослушных больших рук. Белый квадратик полетел на глиняный пол. Пасеков уже наклонялся над ним, краснея лицом, но я подошел раньше. Пасеков положил бумажник на стол и зачем-то накрыл его рукой. Он тяжело дышал, не отрывая глаз от меня. Миня продолжал улыбаться. Я положил фотографию на угол стола и вышел, унося с собой окаменевшие глаза Пасекова и радостную улыбку Мини.
Пошатываясь, я дошел до кучи сена за сарайчиком. Мирных лежал, опершись на локоть, и жевал свой стебелек, — откуда я знаю, сколько это продолжалось, две-три минуты или целую вечность?
— Хлебнули? — сонным голосом сказал Мирных мне навстречу.
— Хлебнул, — пробормотал я и лег рядом с ним на сено.
— Пройдет, — сказал Мирных и повернулся на спину.
— Конечно, пройдет, — откликнулся я. — Вы не обращайте внимания.
— А мне-то что? — Мирных тихо, необидно засмеялся. — Я непьющий.
10
Дождь не прекращался, всхлипывал за маленьким окошком, шуршал в камышовой кровле, ветер вздыхал в темноте, неизвестно было, когда кончится ночь. Берестовский, одетый, в ватнике и шапке, лежал на лавке, головою к углу, где висели иконы в тяжелых, черных ризах. Лавка была короткая, в ногах на полу стояло помойное ведро, от него воняло прокисшими помоями, эта вонь преследовала Берестовского еще тогда, когда он отлеживался на чердаке Параскиной хаты. Параска терла помойное ведро песком, обдавала кипятком — ничто не помогало. Если б не вонь, не так тяжело было бы лежать в этой хатенке под черными осинами на краю далекого от проезжих путей села и, вырываясь из удушливых объятий сна, вспоминать темное болото и длинный, узкий остров, на котором они очутились в ту ночь, когда его ранило.
Тогда-то и начался этот холодный осенний дождь. Болото сразу переполнилось водой, они не могли долго оставаться на острове, надо было прорываться вперед; впереди, как установила разведка, тоже были немцы с артиллерией и танками, а у них не было ничего, кроме винтовок и гранат.
— Слушайте меня, Берестовский, — сказал Пасеков, прижимаясь щекою к его плечу. — Я знаю, что мы не погибнем… Смейтесь надо мной, если хотите, но лучше верьте мне, чем этому болоту, из которого один только выход — вперед.
Оба они насквозь промокли, в сапогах чавкала холодная тина, голод уже начинал грызть их, — неизвестно, где и когда они потеряли свои вещмешки, там еще были консервы и хлеб. Люди на острове лежали вплотную друг к другу. Плакали иззябшие, голодные дети, слышались стоны раненых; в темноте кто-то переползал от куста к кусту и передавал приказы, кто-то взял уже на себя ответственность за их жизнь, сводил людей в ударные группы, подсчитывал количество гранат и патронов, назначал командиров и приказывал ждать сигнала к атаке. Остров гудел, как пчелиный улей, голоса сливались с плеском дождя, впереди, над близкой, но недосягаемой твердой землей, полукругом вспыхивали ракеты.
— Солдаты? Офицеры? — Голос показался Берестовскому очень знакомым, чьи-то сильные пальцы впились ему в плечо. — Чего молчишь?
— Офицеры, — ответил Берестовский, еще не до конца узнавая лейтенанта. — Это ты, Моргаленко?
— Я, товарищ Берестовский… Старший политрук с вами? Знаете приказ? Пойдем вместе. Гранаты у вас есть?
— Только «ТТ».
— Обойдемся… Командует батальонный комиссар Лажечников. Прорвемся.
Моргаленко говорил бодро и уверенно, он снова был тем Гришей Моргаленко, которого видел Берестовский в Голосеевском лесу.
— А где Маруся? — спросил Пасеков.
Я тут, — приблизился к ним голос девушки. — Как хорошо, что мы вместе…
Берестовский почувствовал, что щеки его коснулась мокрая прядка волос: Маруся втиснулась между ним и Пасековым.
— У меня сумка с бинтами, — прошептала она. — Не пропадем.
Не пропадем… Берестовский устыдился собственной слабости, словно звук этого девического голоса, в котором не чувствовалось ни растерянности, ни страха, пробудил его, — он стиснул зубы и приказал себе не раскисать. Оцепенение слетело с него, он уже верил, что вместе со всеми пробьется через болото.
— Будете слушать мою команду, — сказал Гриша Моргаленко и отполз куда-то в сторону.
— Вы на него не сердитесь, — прошептала Маруся, прислушиваясь к голосу своего лейтенанта, раздававшемуся поблизости. — Видите, какой он… С ним не пропадешь.
Тьма сгущалась, дождь не прекращался, он падал с неба тяжелыми, свинцовыми бичами, песчаный остров давно уже не впитывал воду. Погасли и больше не вспыхивали ракеты. За плеском, шелестом и вздохами ливня не слышалось ничего — люди притихли в ожидании минуты, которая не каждому обещала жизнь. Гриша Моргаленко подполз к ним, — неизвестно, как он нашел их, — дыхание с хрипом вырывалось из его груди, он устал и рад был бы полежать хоть минутку, но в это время вокруг, заслоняя свинцовый блеск полос дождя, начали подниматься тени, послышалось, как из конца в конец острова захрустел мокрый песок под ногами, заплескалась вода, затрещали кусты, тени двинулись вперед сплошной зыбкой стеною.
— Вперед, вперед! — вскочил на ноги Моргаленко. — Оружие держите над головой!
Маруся оперлась рукой на плечо Берестовского, легко встала и нырнула в темноту. Берестовский почувствовал, как Пасеков хватает его за поясной ремень, они вместе отделились от мокрого песка и пошли вперед за движущейся стеною теней; болотная тина зачавкала, переливаясь через голенища сапог. Они все глубже и глубже входили в болото, все тяжелее становилось вытаскивать ноги из ила, они брели уже по грудь в черной вонючей воде, кто-то рядом проваливался в бездну, вода смыкалась над головою, вдруг снова вспыхнуло множество ракет и осветило бескрайнее болото, по которому в полном молчании брели люди, подняв над головами винтовки, гранаты и пистолеты. Навстречу с суши ударил огонь, полетели мины, воздух наполнился взрывами и свистом, и над всем этим адом, перекрывая и побеждая его, зазвучало хриплое «ура»… Берестовский погружался с головою в воду, он утонул бы, если б Пасеков не держал его за ремень и не подталкивал кулаком в спину. Болото всхлипывало, выло и стонало на все голоса. Берестовский чувствовал, что теряет силы, он шел вслепую, пробивая лицом шаткую стену острого камыша, кровь и пот бежали по его лицу, он чувствовал только, что вода отходит все ниже и ниже, что с каждым шагом становится легче передвигать ноги, и вдруг упал лицом вперед, будто споткнувшись… Пасеков тяжело дышал рядом с ним.
— Конец, — простонал, задыхаясь, Берестовский. — Мне, кажется, перебило ногу… Вдвоем мы не выйдем.
— Бросьте валять дурака! — огрызнулся Пасеков и закричал во всю глотку: — Маруся, где ты там, холера тебя возьми?!
Пасеков разрезал ножом штанину выше голенища, разорвал ее по шву и закатал вверх. Маруся нащупала холодными пальцами рану, бинт сразу же намок под дождем, его трудно было разматывать. Берестовский стонал сквозь стиснутые зубы.
— Готово, — сказала Маруся. — Помогите мне…
Они вдвоем подняли Берестовского. Ступить на ногу он не мог. Они стали по обе стороны — Пасеков справа, Маруся слева, Берестовский обнял их за плечи, и они повели его вперед, туда, где непрерывно стреляли и кричали «ура».
Мокрый мрак вспыхивал огнем, и с каждой вспышкой вокруг становилось все светлее и светлее, будто разрывы мин и снарядов вместе с комьями мокрой земли подбрасывали вверх перенасыщенную дождем темноту, полосовали ее, и она, разорванная на свинцовые полосы туч, поднималась все выше и выше, обнажая покатое свекловичное поле с затоптанной ботвой и разбросанными вокруг мертвыми телами. Тучи летели на восток, их движение было медленным, словно они где-то там, вверху, наталкивались на сопротивление неслышных на земле ветров, которые прижимали их почти к свекловичной ботве, к разбросанным, втоптанным в набухший чернозем мертвым телам, к полосе низкорослых кустов, наискось пересекавшей поле… За этими кустами исчезали те, кто шел впереди, оттуда летел огонь и слышался протяжный непрерывный крик, из которого выделялся лишь один звук «а-а-а», — он то нарастал и поднимался вверх, то начинал снижаться и хриплым шепотом стлался по земле.
Они упали в глубокую канаву, прокопанную за полосой кустов. В канаве лежало много бойцов с винтовками и гранатами. Мины перелетали через них и разрывались за кустами на свекловичном иоле. Гриша Моргаленко снова очутился рядом с ними, гимнастерка его была разорвана, граната плясала в руке, он нагнулся, увидел раненого и сказал:
— Тащите его по канаве к балке, мы их сейчас пугнем…
Моргаленко выпрямился, высоко над головою поднял гранату, покрутил ею в воздухе и тонким голосом запел с отчаянной веселостью:
— За мною, а-а-а!
Бойцы выскочили за ним на поле, и снова раздался тот отчаянный крик, которого так боялись немцы. Пасеков прислушался к этому крику, больно сжал плечо Берестовского и встал.
— Встретимся в балке!
Берестовский увидел над краем канавы облепленные тиной сапоги Пасекова, отличил его голос среди множества других голосов, которые, удаляясь, звучали впереди, оперся на здоровую ногу, хотел тоже встать — и упал лицом в мокрый бурьян.
Он очнулся под вечер на дне глубокой, темной балки. Голова его лежала на коленях у Маруси, рядом сидели Пасеков и Моргаленко, дождь поливал их словно из шланга, вокруг слышались приглушенные плеском воды и шорохом кустов хриплые голоса.
Разведка пошла в село неподалеку от балки и не возвращалась, неизвестно, что там делалось, в селе, ничего нельзя было знать… Хорошо, что дождь не прекращался, чернозем раскис и немцы не могли пустить на них танки, они все погибли бы, что тут говорить! Теперь придется догонять тех, кто пробился сквозь фашистский заслон, но без разводки нельзя, это каждый понимает, что в их положении разведка — первый закон.
— Нет, — словно сквозь сон услышал Павел Берестовский голос Дмитрия Пасекова, — я его не брошу…
— И сами пропадете, — сказал Моргаленко.
— Дмитрий! — позвал Берестовский и, когда Пасеков наклонился к нему, произнес: — Вам нет расчета погибать из-за меня.
— Откуда вам знать, какой у меня расчет? — крикнул Пасеков насмешливо и грубо, но и насмешка эта и грубость обдали Берестовского неожиданным теплом.
Это тепло было сильнее, чем холодный дождь, что заливал лицо Берестовского, крепче, чем жгучая боль, что поднималась по ноге к паху, мощнее, чем тьма, что наваливалась на поросшую по склонам кустами балку, где они скрывались.
— Веди людей, Гриша, — сказал Пасеков, — а я отвечаю за него до конца.
— Так кругом же немцы! — всхлипнула Маруся, держа в мокрых ладонях лицо Берестовского. — Что же с вами будет?
— Кругом наши. Не пропадем.
Вернулась разведка. Немцев в селе над балкой не было. Павла Берестовского понесли на руках и, когда выбрались из балки, положили в бурьян под плетнем у хаты, стоявшей на краю села.
— Прощайте, — сказал Гриша Моргаленко.
Бойцы стояли темным полукругом. Они тяжело дышали, переступая с ноги на ногу, и молчали: бросать своих в неизвестном селе, на волю случая было нелегко. Нелегко было и двигаться вперед, в темноту ночи, которая не обещала ничего хорошего.
— А может, понесем его?
Берестовский лежал в бурьяне, молчаливый и отчужденный от всего, словно не его судьба решалась в эту минуту.
— Не выживет, — вздохнул чей-то нерешительный голос. — Напрасные твои заботы, старший политрук…
— Нет! — упрямо произнес голос Дмитрия Пасекова над Берестовским. — А вы идите.
Захлюпали сапоги, один за другим бойцы исчезали в темноте, последними отошли от тына Моргаленко и Маруся, шлепанье сапог по лужам становилось все тише и тише, потом ветер донес несмелый лай собак — и все стихло.
Берестовский понял, что он остался один, что не только бойцы, Моргаленко и Маруся исчезли, будто растворились в чернильной тьме, но и Пасеков, который так упрямо говорил свое «нет», тоже исчез, бросил его в бурьяне под плетнем, бессильного, обреченного на смерть от гангрены или от немецкой автоматной очереди в лицо… Берестовский попытался подняться, он упирался локтями, а потом ладонями в мокрую землю и падал от боли, пронизывавшей его. Каждое такое падение было как полет в черную пропасть, на дне которой пылал желтый костер. Он летел на этот костер, огонь будил его, и, когда он раскрывал глаза, кругом вздыхала мокрая холодная тьма. В последнем полете он не упал на костер, что-то подхватило его и осторожно понесло, он словно поплыл над пропастью, чувствуя только прикосновение рук, крепко державших его за плечи и ноги, и слыша испуганный, перехваченный одышкою шепот:
— Сюда… сюда…
И опять неимоверно быстрый полет в черную пропасть с желтым костром на недосягаемом дне и медленное выплывание вверх, словно из-под тяжелой толщи воды, которую приходится пробивать головою, чтоб там, на поверхности, захватить глоток воздуха, такого необходимого для замкнутой в теле, почти мертвой от удушья крови… Он выплывал на поверхность толчками, будто преодолевая ступеньку за ступенькой, вся тяжесть была в ногах, особенно в левой, которая все время, казалось, вытягивалась, достигала дна, но не могла оттолкнуться от него.
На рассвете Берестовский очнулся. Шершавые холодные руки ощупывали его раненую ногу. Он лежал на соломе, над ним наискось уходили вверх почерневшие стропила и серые коленчатые трубочки связанного в снопы камыша. Пасеков держал его за руки, на ногах сидела повязанная платком женщина и шептала испуганно:
— Ох, Порфирий Парфентьевич, он не закричит?
Берестовский не закричал, когда шершавая, как наждак, рука сжала ему ногу выше раны. Он увидел небритую щеку, острый конец длинного уса, один глаз и косматую бровь над ним. Боль пронизала его, будто ему рассекли мозг, а не ногу.
— Не помрет, так будет жить, — сказала небритая щека, и Берестовский снова провалился в бездну.
На двенадцатый день Пасеков положил около Берестовского «ТТ» и, сидя на печном борове, тянувшемся через чердак, сказал:
— Немцы прошли далеко вперед, тыловые команды еще не скоро забредут сюда… Вы успеете отлежаться. А не успеете…
Берестовский погладил слабой рукой холодную сталь пистолета: он все понял.
По ночам приходил Порфирий Парфентьевич, промывал ему рану трижды перегнанным первачом и обкладывал ее какими-то травами. Параска влезала на чердак редко, она всегда была наискось повязана своим платком, он так и не увидел толком ее лица, только низкий воркующий голос навсегда врезался ему в память, да еще та неслышная легкость, с какой она взбиралась на чердак и втаскивала за собой тонкую лесенку. Когда Берестовский просыпался ночью, Пасекова не было на чердаке. Иногда Берестовскому казалось, что он слышит сквозь потолок воркующий голос Параски, иногда днем в глазах Пасекова он видел глухую пустоту, но обо всем этом не было разговоров между ними. Его учили ходить на чердаке. Параска и Пасеков поддерживали его с двух сторон, он опирался на их плечи, и, низко склонив головы, они шагали взад и вперед, пока он не научился ходить без их помощи.
Порфирий Парфентьевич должен был прийти в полночь. Все было уже готово в дорогу. Параска раздобыла им ватники и шапки, а для Берестовского еще и штаны. Пасеков вырвал первый листок из партийного билета, свернул трубочкой и засунул в щель для резинки в своих трусах. Берестовский сделал то же со своим командирским удостоверением — он был беспартийный. Дерматиновую тетрадь нельзя было брать с собой, в ней были тревожные дни и бессонные ночи первых месяцев войны, все, что Берестовский перевидал, и все, что он передумал. Уничтожить тетрадь он не мог — это значило бы отказаться от себя… Отдать на сохранение Параске? Закопать?
Берестовский завернул тетрадь в портянку и засунул ее между стропилами в углу чердака. Он вернется, если не попадется в лапы к немцам по дороге на восток. Он отыщет ее, если уцелеет хата Параски.
С вечера не зажигали коптилку. Берестовский лежал на лавке, под головой у него был солдатский «сидор» с хлебом, луком, солью и парой портянок. Иногда он брался рукою за угол стола, отгораживавшего лавку от большой деревянной кровати, на которой еще засветло свернулась калачиком Параска. Окна были завешены. Пасеков ходил по хате, огонек папиросы проплывал в темноте, равномерно отдаляясь и приближаясь, — это было как качание маятника, и, хоть это качание выдавало волнение Пасекова, оно непонятным образом успокаивало и убаюкивало Берестовского.
Его разбудил тихий, воркующий голос:
— Куда ты дойдешь с ним? Оставайся, Митя…
Берестовский похолодел.
— Село наше глухое, люди у нас добрые… Если и забредут немцы, скажем, что ты наш. А с ним пропадешь… Кто же знает, где теперь фронт! Говорят, что уже и Москва у немцев… Я ли тебя не любила? Я ли за тобой не ходила?
Сила убеждения была не в словах Параски — такими словами она не могла бы убедить Пасекова, Берестовский это знал, — сила была в ее голосе, что словно связывал по рукам и ногам, налагал на душу оковы, тяжелей и легче которых нет на земле. Голос Параски ворковал и ворковал свое… Берестовский поднялся на локте и в короткой вспышке папиросы Пасекова увидел через стол лицо Параски. Пасеков лежал навзничь на краю широкой кровати, она наклонялась над ним, касаясь грудью своей его груди, прядка волос заслоняла ее щеку, она говорила прямо в закрытые глаза Пасекова:
— Ты все для него сделал, и я все сделала… Пускай идет, а ты оставайся, вдвоем будем крестьянствовать. Не век же быть войне!
Потускневший огонек папиросы прочертил полукруг от губ Пасекова к полу, и Берестовский услышал:
— Нет.
Второй раз он слышал это «нет», и второй раз его потрясла сила, скрытая в этом коротком тихом слове. Пасеков умел выговаривать его так, будто оно относилось только к нему одному, а между тем оно охватывало и вмещало все, что было вокруг: войну, любовь, солдатскую верность, воздух и солнце, жизнь и смерть… Второй раз Пасеков говорил свое «нет» ради товарища. Первый раз, когда его звали идти, и второй — когда его умоляли остаться.
— Нет, — сказал Пасеков.
Тихо задребезжало стекло. Параска мигом оказалась у оконца, нырнула под ряднинку, которой оно было занавешено. К стеклу прижималось снаружи маленькое усатое лицо фельдшера Порфирия Парфентьевича. Параска откидывала крюки, отодвигала засовы в сенях. Дождь хлюпал в лужах, шелестел в ветвях черных, безлистых осин у плетня. Темень во дворе была не такая черная, как в хате. Берестовский увидел, как Пасеков обнял Параску, она прильнула к нему и сразу будто оттолкнула его от себя. Берестовский остановился возле Параски, она взяла его обеими руками за плечи и прошептала в шею:
— Пропадете, оба пропадете…
Порфирий Парфентьевич вывел их напрямик к мертвым ветрякам за селом. Он вытащил из шапки кусок школьной карты и сунул ее Пасекову за пазуху ватника.
— Не знаю, хватит ли вам ее… Тут только до Харькова.
— Спасибо, — сказал Пасеков, обнимая фельдшера. — Карты, может, и не хватит. Не за нее спасибо — за все.
Порфирий Парфентьевич мокрыми руками обнимал мокрый ватник Берестовского.
— У меня у самого сыновья там…
Он постоял молча перед ними с минуту и, не сказав больше ни слова, медленно и тяжело шагнул в темноту. Еще некоторое время виднелась его черная фигура, потом стало слышно только чавканье сапог в грязи, потом они очутились наедине с темнотой и дорогой.
Через полтора месяца Берестовский и Пасеков перешли линию фронта под Валуйками.
11
Из записок Павла Берестовского
Земля содрогалась и гудела под нами.
Мирных сидел на сене, вытянув ноги вперед, и протирал очки. Белый платок как птица бился в его руках.
Рассветный серый сумрак начинал омывать землю. Звезды еще мерцали кое-где, словно мелкие искры в холодном пепле, земля тоже походила на пепел, седые капли росы на траве казались мелкими звездами, что просыпались на землю.
Возникая на востоке и распарывая небо гудением, волна за волною над хутором проходили бомбардировщики, штурмовики и истребители. Они шли на разной высоте, и нижние звенья этой огромной воздушной армады казались станицами больших голубовато-серых птиц, а на крылья истребителей, что летели на большой высоте и казались совсем маленькими, солнце, которого еще не видно было с земли, уже клало теплые розовые и желтые отсветы.
Из моей избы вышли Пасеков и Миня, Миня был как свежий огурчик, Пасеков почернел лицом, угли его выпуклых глаз были словно присыпаны пеплом, волосы перышками торчали на монгольском черепе. Мне стало жалко его. В соседнем дворе появился Дубковский. Варвара шла к нам с Аниськиного двора, перебрасывая через голову ремень своего фотоаппарата. Аниська бежала за ней, обливаясь слезами. Александровна тоже вышла из своей избы, как всегда вся в черном, повязанная своим неизменным платком, но не подошла к нам, а, остановившись на меже, из-под руки стала смотреть в небо.
— Началось, — сказал Мирных.
Земля непрерывно содрогалась. Окна Людиной избы, у которой мы все стояли, часто дребезжали.
— Вот даем, вот даем! — восхищенно выкрикнул Миня. — Ничего подобного я не слышал даже под Сталинградом…
Аниська утерла глаза уголком платка и, глядя Мине прямо в глаза, спросила:
— Куда ты девал Люду?
— Съел я твою Люду! — огрызнулся Миня. — Я людоед… Ам-ам!
Миня, злобно фыркая, нырнул в сени.
— А в самом деле, где ж это Люда? — забеспокоился и Мирных, который чувствовал себя виновным во всем, что произошло вечером.
Никто ничего не знал о Люде.
Солнце уже взошло, длинные тени протянулись по земле. Стало относительно тихо, только в небе гудели бомбардировщики, возвращаясь на свои аэродромы.
— Ну что ж, казаки, по коням? — сказал Пасеков, словно стряхнув с себя тяжелое оцепенение.
Камуфлированная «эмка» стояла за избой под деревьями, на переднем сиденье лежала шинель, а шофера и близко но было.
— Десять суток — и не плачь! — процитировал Миня, который вышел из избы, обвешанный аппаратами, и присоединился к нам.
— Мало, — сказал Пасеков. — Я его отчислю в пехоту!
Заспанный шофер появился во дворе, словно с неба упал, мы даже и не видели откуда. Он с независимым видом прошел за избу, и мы услышали, как забрякала заводная ручка, входя в храповик. Через минуту «эмка» медленно выползла из-за избы и остановилась посреди двора.
Пасеков сел рядом с шофером, Мирных, Дубковский и Миня втиснулись на заднее сиденье. Лица их сразу же расплылись за непромытым стеклом.
Машина выползла со двора, фыркнула за воротами и исчезла в облачке дыма и пыли.
Я поглядел на Варвару.
— Пошли? — ответила она на мой взгляд.
Мы молча зашагали к штабному шлагбауму.
Святой Демьян сидел верхом на стене недостроенной избы в конце улицы, он подтесывал стропило и не глядел в нашу сторону, — топор быстро и весело поблескивал в его руках и словно приговаривал: «А так-так-так! А так! А так!»
КАК ЭТО МИЛО С ВАШЕЙ СТОРОНЫ, ЧТО ВЫ ПРИШЛИ меня проведать, да еще и цветы принесли, и вино, и шоколад! А я думала, что вы давно уже меня забыли. Нет-нет, я вовсе не больна, просто отдыхаю. Галя это называет профилактический отдых. Можно так выразиться? В этом есть определенный смысл: отдохнуть раньше, нежели совсем выбьешься из сил. Это Галина теория. Вот она придет из своей мастерской, вы познакомитесь, и она вам расскажет, что к чему. Сколько ж это мы не виделись? С того мая, когда нам казалось, что настал «на земле мир и во человецех благоволение», прошло уже… Не будем говорить, сколько лет! Давайте уговоримся, что был май, а теперь октябрь — всего четыре месяца, не так уж и много! Никто не постарел, не изменился, никто ничего не забыл. Только неудобно как-то называть друг друга по фамилиям. Майор Дубковский, майор Мирных… Не буду же я вас называть: подполковник запаса Дубковский, майор запаса Мирных! Давайте заново знакомиться: Варвара Андреевна.
— Викентий Петрович.
— Василий Иванович.
— Ну, вот и все хорошо! Василий Иванович, вы можете молчать сколько вам угодно, в этом вы совсем, кажется, не изменились, придется вам заглянуть на кухню, возьмите у мамы штопор и откупорьте бутылку. Рюмочки в буфете, Викентий Петрович, правда, красивые? Галя очень любит стекло, это все она насобирала по комиссионкам… Василию Ивановичу поставьте павловский бокал, белый, с гравировкой, себе — мозеровский красный, а для меня — вот эту маленькую рюмочку со щербинкой, мне всегда наливают в нее капельку, я ведь никогда не умела пить, а теперь и вовсе забыла вкус вина. Ну, выпьем за встречу и за всех, кто мог бы быть сегодня с нами. Представьте себе, я всех помню — не только газетчиков, а буквально всех: командиров и солдат, шоферов, артиллеристов и бронебойщиков, землянки и избы, в которых приходилось ночевать, санитарок и колхозниц, — они все время со мною, и все, что было, тоже со мною. Может, это потому, что у меня полная кладовушка фронтовых негативов. Никак не могу их ликвидировать, а отдать куда-нибудь в архив тоже не хочется. Вот они и выходят оттуда поодиночке или гурьбой — даже тесно становится в нашей квартире — и рассказывают о себе, что с кем сталось, кто кем стал, когда все кончилось, и что могло бы статься с теми, над кем ни солдатской пирамидки, ни бугорка степной земли.
А о некоторых я совсем ничего не знаю. Помните, с нами был майор Берестовский? Вы о нем ничего не слыхали? Сразу после войны его фамилия еще время от времени встречалась в газетах — как это ни странно, даже под стихами! — а потом он совсем куда-то исчез. Стихи его мне нравились, никогда не думала, что он поэт, слишком много только было в них непонятной печали. Наверное, поэтому его неохотно печатали, а потом и совсем перестали. Странное он производил впечатление, что угодно могла бы я о нем подумать, только на поэта он никак не был похож… Кто-то мне рассказывал, что он теперь на периферии, закопался и пишет роман уже много лет. Не знаю, может, у него и получится… Мне трудно об этом судить, я ведь только фоторепортер, но я думаю, что писать роман — это все равно что черпать воду из колодца: если колодец глубокий и чистый, можно брать без конца, он все время пополняется, а что, если воды в нем слишком мало? Вынешь несколько ведер, взмутишь воду — хорошо, если на дне чистый песок, а бывает ил, липкая грязь, слизь. Чтобы писать, нужно уметь видеть, знать и понимать. Я имею в виду все, что вокруг, — мир, землю, людей… И кроме этого, роман не только познание жизни, но и самопознание: больше, чем в колодце есть воды, из него не подымешь. Даже в нашем ремесле за репортерскими снимками всегда видишь автора — человека. Не знаю, удастся ли Берестовскому роман, мне кажется, что это не в его возможностях… А вы не знаете, в какой области он окопался? Жаль, я все время в разъездах, — может, когда и встретились бы.
Я со всеми хотела бы встретиться, кого знала, и с Берестовским тоже… Он устроил меня на самолет, когда я неожиданно получила вызов в Москву после «тигра». Помните? Тогда кончалась одна полоса моей жизни и начиналась другая. Поэтому он, должно быть, и запомнился мне, — наверное, поэтому ничего интересного в нем не было, разве что кожаные галифе!
Налейте, Василий Иванович. Мне не надо, видите, моя щербатая рюмочка совсем полная. Вы так неожиданно пришли. Галя в мастерской, мама не выходит, я лежу, а холодильник у нас всегда пустой… Яко птицы небесные. Стыдно мне вас так принимать. Если б вы хоть позвонили! Нет-нет, я вам очень рада, это во мне заговорила неудавшаяся домашняя хозяйка. Хоть мы и условились, что прошло всего четыре месяца, все же можно было бы приспособиться к новым обстоятельствам, не чувствовать себя на марше… У вас нет такого чувства? Меня оно не покидает. К тому же газеты пахнут не типографской краской, а порохом, словно ничто не кончилось. Печальные стихи сейчас совсем не ко времени. Пасеков, Дмитрий Лукич, безжалостно выбрасывает их в корзинку… Вы с ним встречаетесь? А ведь вас, бывало, водой не разольешь! Мне о вас много рассказывали, о вашей дружбе, а что именно — я уж теперь не припомню. Правда, Пасеков высоко взлетел, но это ведь не основание, чтобы забывать тех, кто остался на земле. Если хотите, Викентий Петрович, я не буду об этом говорить, мне и самой неприятно. Может, что-нибудь было с вашей стороны? Он ведь хороший человек. Правда, я тоже очень редко его вижу, хоть и работаю в его журнале. Он все время вдалеке, объездил почти весь свет. Остановится в коридоре, блеснет золотыми зубами: «Не забыли наш корреспондентский хутор? Вот времечко было! Так хочется сесть в машину и двинуться по старым путям!.. Ничего не выйдет! Завтра вылетаю на Кубу. Что вам привезти оттуда?»
Конечно же он ничего не привозит. Просто встреча в редакционном коридоре — разве можно все удержать в голове?
А я один раз собралась-таки на старые места. Конечно, без машины. Вышла на станции и пошла в город искать пристанища на ночь. Мне сказали, что город отстраивается, что есть уже целые новые улицы, и театр, и гостиница… Ничего не можешь до конца представить, пока сам не увидишь. После июльской битвы я проезжала через город; конечно, он был разрушен, но я не понимала масштаба разрушений, может потому, что досыта нагляделась на множество таких разрушенных городов. По правде говоря, до войны это был не город, а провинциальная дыра, законсервированная еще с царских времен. От него и развалин не могло остаться сколько-нибудь впечатляющих — груды кирпича, обгоревшие двухэтажные коробки, пережженная глина, немощеные улицы… И все это приземистое, низенькое, словно придавленное к земле. Человек не может измениться с такой быстротой, с какой он изменяет свою землю и города… А теперь я увидела многоэтажный город, не очень красивые и, наверно, слишком дорогие дома, похожие на дворцы, заасфальтированные площади, красивые фонари дневного света, — конечно же давно уже нет развалин. Остались, правда, пустыри, но битый кирпич, горелую глину, ржавое железо — все давно уже вывезли. Город вырос не только вширь, но и вверх, в нем чувствовался порыв к высоте, он поднимался передо мной на фоне светлого вечернего неба и будто говорил: «Видишь, от прошлого не остается следа, не пытайся искать его…»
Что же мне было делать, когда я приехала его искать? В новой гостинице не было мест. Я вышла на площадь. Уже совсем стемнело. Если выйти на шоссе, можно поймать попутную машину, поехать прямо в наш корреспондентский хутор, остановиться у Аниськи и прожить там несколько дней.
Вы не подумайте, что я не знала, куда еду. Я ведь читала ваши очерки о новом рудном районе, Викентий Петрович, там все время говорилось о знакомых населенных пунктах, и даже наш хутор вы упоминали. На шоссе было движение, как днем: легковые машины, грузовики, громадные самосвалы. Фары высвечивали широкую полосу асфальта, а когда машины проходили и опять становилось темно, вся земля вокруг мерцала огнями, будто я и не выходила из города, будто он раскинулся на множество километров, и за горизонтом тоже нет ему конца.
«Вам куда?» — спросил шофер, открыв дверцу. Он смотрел на меня сверху вниз, скаты его машины были выше меня, в узкой юбке я еле взобралась на подножку и подумала, что было по-своему удобней на войне, когда я ходила в штанах. «Что-то я не слышал о таком хуторе. Все равно садитесь, в рудничном управлении разберетесь…»
Вы помните гусачевскую церковь? Я ее сразу узнала.
«Слушайте, — сказала я шоферу, — мой хутор тут где-то, совсем близко».
«Я вас завезу в рудничное управление, надо же вам где-нибудь ночевать?»
«Не беспокойтесь, я найду сама».
Отсюда было удобно начинать поиски. Я прошла за ограду. Все тут осталось, как прежде, — и пролом в ограде, и солдатское кладбище. Только высокие деревья, кажется, стали еще выше и обступили церковь еще тесней. В темноте под деревьями я постояла у солдатских надгробий — под ними у меня были знакомые, — вышла через пролом и пошла по холмам… Слева, в балке, оставалась Гусачевка, как и в ту ночь, когда я в последний раз проходила тут, и ночь была тоже июльская, как тогда, только освещенную электричеством Гусачевку нельзя было узнать: двухэтажные длинные дома, улица коттеджей и наверху, за балкой, большой клуб с ненужными колоннами,
По холмам легко было идти, там теперь не сеяли, пшеница не обступала меня, и колосья не шелестели, я шла медленно и не чувствовала усталости, хоть вторично проходить путь, когда знаешь, чем он кончился, очень тяжело. Мне помогали огни вокруг, особенно впереди их было много, слышался непрерывный грохот, как будто шла колонна танков. Странно было только, что этот грохот доносился словно из-под земли и словно из-под земли вырывался белый свет фар, лучи упирались сначала в черное небо, потом медленно сползали на землю, развертывались на ней веером, вырывая из тьмы телеграфные столбы, кусты, деревья, встречные машины, и исчезали, будто снова проваливались под землю.
Глубокий карьер преградил мне дорогу. На дне карьера не прекращалась работа, он весь был залит светом прожекторов на высоких стальных мачтах, людей совсем не было видно, только громадные экскаваторы вгрызались в породу, один за другим подходили самосвалы, ковши раскрывались, и руда с грохотом сыпалась в кузов.
Стыдно, я все время рассказываю о себе, не даю вам и слова сказать. Разлейте вино, Василий Иванович, там есть еще немного, а мне дайте кусочек шоколаду. Я знаю о вас больше, чем вы обо мне, подполковник запаса Дубковский! Я все читала, что вы пишете. Никогда бы не подумала, что вы так хорошо знаете, как делается хлеб, мне казалось, что вы умеете только про войну. Хотя, правда, у нас тогда у всех была одна тема, это теперь мы можем любить каждый свое. Так и должно быть: мир сразу же стал разнообразнее, но то, что мы пережили, лежит на сердце у каждого. Про солдатскую шинель нельзя забыть. Тот, кто не надевал ее, этого не поймет… Мне рассказывали, что в том рудном районе во время вскрышных работ сначала из земли извлекали массу различного металла — осколки и целые снаряды, разорванные танковые гусеницы, втоптанные в землю орудия — и кости тех, кто лег костьми… Теперь мне кажется, что тогда, в июле, гитлеровцы не могли сдвинуть нас с места потому, что мы стояли на железе.
Я шла ночью над карьером, хотела его обойти, чтоб попасть в наш хутор, и думала о том железе, к которому надо пробиваться сквозь толщу земли, слой за слоем снимать почву, чтоб убедиться, что оно красное, как человеческая кровь. Кстати, в старину кровь так и звалась — руда.
«Слушайте, да ведь вы напрасно ищете тот хутор, — сказали мне утром в рудничном управлении, когда я вернулась в Гусачевку. — Его ведь давно уже нет!»
«Как нет! А где же он? Его начали отстраивать еще во время войны, там был плотник-сектант…»
На меня посмотрели как на сумасшедшую.
«Хутор тоже стоял на руде».
«А люди?»
«Людей переселили».
«Куда?»
«Ну, разве вспомнишь!.. Много и осталось, живут теперь в наших поселках, работают на руде».
Человек не может и не имеет права жить прошлым, его цель — будущее, каким бы оно ни было. Но прошлое кончается только вместе с нами. Так и наш хутор — его уже нет, на его месте гигантский карьер, экскаваторы грызут руду, но во мне он существует и будет существовать, пока буду существовать я. Я иду в свое будущее вместе с ним, с Аниськой и Людой, с ее братом Кузей и с той рудой, на которой хутор стоял, хоть мы о ней не знали, как никто не может знать будущего, пока оно не станет сегодняшним днем.
Это звонок Гали, не беспокойтесь, мама откроет… Галя звонит тремя короткими сигналами, это у нас семейный звонок — еще Саша научил меня так звонить, и мама научилась, когда переехала из Тарусы, а теперь Галя научила своего Севу.
— С кем ты разговариваешь, Варюша?
— Что ты, мамочка! Я ни с кем не разговариваю, лежу себе и думаю.
— А мне показалось, что кто-то к тебе пришел. Мою чашки и слышу твой голос. Как хорошо, думаю, что пришли проведать Варю! Как только это я звонка не услыхала?
— Мыслям не надо открывать дверей.
— Ох, Варюша, не надо слишком задумываться, так никогда не выздоровеешь.
— А я уж здорова, мамочка… Открой Гале, она звонила и стоит теперь под дверьми, боится снова позвонить, думает, спим.
Мама вышла — как легко и неслышно она ступает в свои семьдесят лет! — и сразу же вернулась.
— Там никого нет, Варюша. Тебе послышалось.
— Правда? Сядь ко мне, мама, она скоро придет, и будем пить чай.
— Чайник на плитке, я прикрутила газ — не выкипит и не убежит…
— Тебе теперь трудно, мама, когда нас четверо? И тесно. Надо было нам с тобой оставаться в нашей комнате, а не переходить в проходную.
— Пускай молодым будет удобно… Ты же сама сказала: Гале дадут квартиру, и мы останемся с тобой вдвоем.
— Сева тебе нравится?
— Уборки за ним много, всегда он со своей глиной и тряпками… Галя его любит.
— А он ее? Ты не замечала?
— А что заметишь, когда он лепит, курит и молчит? Галя говорит, это ничего, что он не зарабатывает, тут на заработок сразу не приходится рассчитывать — у Севы талант, ему надо созреть… Это что ж, как чирей?
— Нет, мамочка, таланту нужно время, чтоб общество приспособилось к его вкусам или же чтоб он приспособился к вкусам общества.
— Ну, этого я никогда не пойму!
— Так говорит Сева. И я не могу этого понять — отстала от жизни. — Она помолчала и спросила без видимой связи: — Мамочка, ты очень горевала, когда умер отец?
— Очень, дочка.
— Долго?
Мама поглядела на нее прозрачными, как подсиненная вода, глазами.
— Сколько надо, столько и горевала. Человек-то не вечно живет. И горе тоже не вечно. Да и грех был бы мне долго горевать — я ведь с ним счастливо жила.
Мама уснула на старой широкой тахте рядом с ней, сбросила домашние туфли, положила кулачок под щеку и затихла, даже дыхания не слышно. Лицо у мамы свежее и чистое, как у девочки, и что-то детское есть в нем, во всей маминой фигуре… Или, может, это потому, что она чувствует себя старше матери, будто прожила и ее и свой век?
Она осторожно сползает с тахты, укрывает маму одеялом и садится у стола, у того круглого стола, где на высоком стульчике сидела Галя и пила молоко с блюдечка в то утро, когда они отправились пешком в Тарусу. И скатерть на столе та же самая, белая в синих цветах, и тот же разрисованный абажур, только он с одной стороны обгорел от очень сильной лампы, там теперь большое желто-коричневое пятно и по нему трещинки, а бумага все-таки держится.
Завтра придет знакомая врачиха из районной поликлиники и закроет бюллетень. Здоровье легче симулировать, чем болезнь, врачиха ей поверит. Галя будет уже в мастерской, Сева тоже не сидит дома. Мама, конечно, догадается, но не сможет с нею бороться: она тоже чувствует, что Варюша старшая и что ей нельзя противоречить… А командировку в редакции подпишут куда угодно. Деньги по бюллетеню она оставит маме, а суточные возьмет себе.
Она погасила свет — мама не проснулась — и тихо прошла в кладовушку, которая издавна называлась у них лабораторией. Увеличитель, черные карболитовые ванночки, лабораторный фонарь на стене… Все как было когда-то — и десять, и двадцать, и двадцать пять лет тому назад. Бутылки с химикалиями на полочке, тряпка для рук на гвоздике. А в этой старой корзинке из-под белья рулончиками свернутые пленки, ну просто уйма, если б и хотела что найти, какой-нибудь старый негатив, нет возможности, пришлось бы копаться целый год. В конце концов надо сдать все это в какое-нибудь государственное хранилище, она уже никогда не вернется к этим сокровищам; то, что ей нужно, лежит не здесь.
Уже стерлись записи карандашом во фронтовой записной книжечке, на некоторых страничках ничего нельзя разобрать, они дочерна затерты графитной блестящей пылью, лишь изредка проступает номер какой-то полевой почты или несколько букв чьей-то забытой фамилии. Сколько было этих фамилий, сколько лиц, сколько адресов — и всем она посылала карточки, тратила на это массу времени и бумаги, фотобумага была тогда на вес золота, в редакции выдавали ее под расписку, а купить негде было.
Она положила кусочек пленки между стеклышками увеличителя, выключила общий свет и в темноте вспомнила Людин подвал, колыхание проявителя в ванночке и как под ним начало вырисовываться на бумаге его лицо… Тогда она порвала мокрый отпечаток, теперь уже можно напечатать. Через столько лет? И что она с ним сделает? Оправит в рамочку и поставит на стол или повесит над тахтою?
— Чей это у тебя портрет, мамочка? — спросит Галя.
Мама не будет расспрашивать, мама никогда у нее ни о чем не спрашивала, она всегда все знала о ней.
Вспыхнул свет в увеличителе, луч пронизал пленку и положил его лицо на белую бумагу. Хорошо, что она не часто позволяла себе рассматривать этот кадрик, пленка прекрасно сохранилась, словно и не прошло столько лет. Так он и остался на снимке: лицо, освещенное улыбкой, которой он ответил на ее испуганное восклицание.
Она поднимала все выше и выше подвижное плечо увеличителя, объектив автоматически наводился на резкость, его лицо уже не помещалось на белой бумаге, теперь увеличивались и плыли на нее только его глаза. Он обнял ее глазами на плацдарме у капитана Жука, и в ту минуту она поняла, что это навсегда.
Нет, не надо печатать снимок, не надо вставлять в рамочку, не надо ставить на стол.
Она включила свет, завернула кадрик в свежую бумажку и спрятала в книжечку.
Мама не проснулась, когда она вышла из лаборатории. Галя с Севой где-то задержались.
— Не выпить ли нам, Варюша, чаю? — улыбнулась она самой себе.
Свет падает в комнату через маленький коридорчик из кухни. Она сидит за столом, подперев подбородок кулаками. Стакан чаю остывает перед нею… Тихо дышит мать во сне. Длинный вечер впереди, долгая ночь.
ЧАСТЬ IV
1
Существует старое выражение, которым по привычке пользуются люди, и те, кто пишет книги, и те, кто их не пишет, не задумываясь над тем, что, собственно, это выражение значит. Судьба человека… Как будто тот, кто пользуется этими словами, верит в предопределенность того, что происходит с человеком в жизни, независимо от обстоятельств времени и места, тогда как на деле все, что происходит с человеком от минуты его рождения и до последнего вздоха, является непрерывным сцеплением причин и следствий, которые могли бы быть иными, если б возникали в иной связи. Эта цепь причинных связей начинается задолго до рождения человека и не оканчивается даже с его смертью.
Почему, подвластные одним законам, такими несходными бывают человеческие судьбы? Почему для одного человека складывается счастливая, а для другого несчастливая судьба? Почему мы говорим о счастливой или несчастливой судьбе не только отдельных людей, но и целых поколений? Почему некоторые представители так называемых счастливых поколений бывают глубоко и даже трагически несчастными и почему в толще поколений так называемых несчастных иногда встречаются безмятежно счастливые судьбы?
Почему так часто произносит человек задумчиво-печальное «если б»?
Если б не случилось то-то и то-то, то и все, что произошло потом, могло бы произойти совсем иначе, то есть вся жизнь человека, вся так называемая его судьба могла бы стать совсем иной! Но в том-то и дело, что цепь причинных связей не может прерваться, не могут не цепляться друг за друга ее звенья, исключая и отбрасывая все человеческие «если б»!
Варвара Княжич задумывалась над своею судьбой, как задумываются над своей жизнью сотни и тысячи других счастливых, а особенно несчастливых женщин. Очень часто приходило ей в голову это человеческое «если б».
Что, если б она родилась не в Тарусе, а в Мурманске или в Полтаве? Как сложилась бы ее жизнь, если б отец ее не был скромным почтовым чиновником, а мать — дочерью провинциального землемера? Она пыталась остановиться на какой-то поворотной точке своей жизни и представить, как могло бы пойти все дальше, если б… Если б Саша не приехал в Тарусу и она не встретила его на Кургане, там, где встречали своих суженых другие тарусские девушки! Не встретила бы — не потеряла б… Не было бы ни ее радости, ни горя. А если б Саша не научил ее фотографировать, что делала бы она теперь? Ведь именно то, что она умела фотографировать, привело ее в редакцию иллюстрированного издания, когда началась война и она стала искать свое место в жизни. То, что она стала фотокорреспондентом, сделало возможными и необходимыми ее поездки на фронт и этим летом привело ее как раз на тот его участок, к которому прикованы теперь взоры всего мира. Если так смотреть на ход событий, то нет уже ничего странного и в том, что там, где решается судьба тысяч и миллионов людей, должна решиться и ее судьба. Могла бы она решиться иначе? Конечно, могла, если бы генерал Савичев не послал ее в хозяйство Костецкого, где бронебойщики подбили новый немецкий танк. Но генерал Савичев не мог не послать Варвару за фотографиями танка, а раз уж послал — Варвара не могла не встретить Лажечникова.
Савичеву нужны были фотографии. Без разрешения Лажечникова Варвара не могла попасть на плацдарм к капитану Жуку. Но разве не могло случиться так, что Лажечников не сам пошел бы с нею на плацдарм, а поручил бы это кому-нибудь другому? А если пошел, если не захотел или не смог поручить это кому-нибудь другому, могли бы они не остановиться на фосфорической поляне? Совершилось бы в ней то радостное превращение, которого она и представить себе не могла накануне?
Варвара не знала этого, как не знает и не может знать этого каждый отдельно взятый человек. Она только чувствовала, что за всей ее жизнью, за всеми ее радостями и горестями стоит великая сила, которой надо быть благодарной за все, что она с тобой делает, потому что это сила жизни, законы которой и суровы и благодетельны.
«Значит, так надо, — думала Варвара, — значит, надо было мне сюда приехать, и надо было, чтоб Савичев послал меня фотографировать «тигра», и я пошла и встретила то, что сделало меня счастливой».
Но тут же страшная мысль врывалась в рассуждения Варвары: «Ничего этого не было бы, если б я не потеряла Сашу, если б не началась война и я не попала в редакцию, — значит, и гибель Саши, и война, которая принесла несчастье миллионам таких же людей, как я, гибель больших городов и маленьких деревень, сиротство и увечья, — все это должно было произойти для того, чтоб я пришла сюда и стала счастливой? Как же я могу так думать? Как я могу все это не то что оправдать, но и просто принять, примириться с этим? Как может существовать мое счастье рядом с несчастьем других людей, как оно может жить во мне, когда не только слезы, но и кровь заливает землю и нет уголка на ней, где не проливалась бы эта кровь? Не может быть, чтоб так было нужно, не может быть, чтоб кто-то иной, кроме меня, мог чувствовать себя счастливым среди всего этого несчастья… Значит, я просто выродок какой-то, дурная женщина, черствая, себялюбивая душа, и нет мне оправдания, нет и не может быть оправдания моему счастью!
Если я примирюсь, признаю закономерность моего счастья, я должна признать закономерность той беды, что царит вокруг. Если же я не могу признать закономерности человеческой беды, я не должна признавать и своей радости, она не только противоестественна, но и преступна, ей нет места в моем сердце… Вот и все. И легче будет дышать и жить».
— Знаете что, — сказала Варвара Берестовскому, когда они вдвоем подошли к шлагбауму на околице штабного села, — я не люблю ездить в компании… Хоть одной и труднее и страшнее. Вы не обижаетесь?
Как раз проезжал грузовик, и Саня, веселая регулировщица с темной мышкой на щеке, остановила его. Незнакомый шофер открыл дверцу кабины.
— Какое хозяйство? — крикнула Саня.
— Полковника Повха, — ответил шофер.
— Пожалуйста, товарищи корреспонденты, — сказала Саня, довольная тем, что незнакомый шофер не отпускает шуточек и не ухаживает за ней.
Варвара, борясь с собой, поправляла с равнодушным видом аппарат на ремешке.
— Я уже была в этом хозяйстве, — проговорила Варвара, — что мне там делать? Поеду в какое-нибудь другое хозяйство…
Берестовский подергал свои усы и переступил с ноги на ногу.
Сегодня, больше чем когда-либо, Берестовскому тоже хотелось быть одному. Грохот артиллерии, долетавший сюда, к штабному шлагбауму, не обещал легкой прогулки. Он не знал, что «хозяйство Повха» — это и есть дивизия Костецкого, но что-то подсказывало ему: «Не нужно выбирать, пусть будет хозяйство Повха…» Мысленно он все еще стоял в сенях Людиной избы, прислушивался к голосам за дверьми и ничего не знал. Он все еще чувствовал себя так, словно только должен был узнать. «Там мне скажут, — думал Берестовский, — там мне все скажут». Он обрадовался, когда Варвара сказала, что не любит ездить в компании, хоть и не дал ей этого понять.
— У каждого свои привычки, — сказал он миролюбиво, — что ж тут обижаться.
Берестовский полез в кабину.
— Ни пуха вам, ни пера, — пожелала ему Варвара.
Грузовик двинулся.
— У шлагбаума нельзя сосредоточиваться, — сказала Варваре Саня. — Вон там, в холодке, у нас лавочки сделаны.
В вишеннике у крайней избы были вкопаны в землю низенькие скамьи, над ними висела маскировочная сетка с набросанными сверху ветками. Варвара прошла под сетку, села на лавочку и, сжав в руках аппарат, задумалась. Спина ее ссутулилась, лопатки выпятились под гимнастеркой, голова склонялась все ниже и ниже, и вдруг, прижавшись лбом к кожаному футляру Сашиного фотоаппарата, Варвара облилась слезами.
Саня подошла и села рядом с Варварой, пораженная горем вольнонаемной женщины, которую она приняла когда-то за штабную машинистку. Хотя Саня и не могла забыть, как сдержанно и холодно отнеслась Варвара к ее попытке завязать разговор по дороге от шлагбаума к избе генерала Савичева, ей стало жалко Варвару. Саня была добрая девушка, неравнодушная к чужому горю. Была она и счастлива тем особым девическим счастьем, которое состоит в независимости сердца, в той девичьей воле, которая не знает ни принуждения, ни обременительных обязанностей. Саня была счастлива, несмотря на то что кругом бушевала война, что эта война оторвала ее от дома, от матери, от привычного существования в маленьком зеленом городке. Она была счастлива потому, что никого еще не встретила и никого не потеряла. Правда, был один сержант, белокурый мальчик с автоматом на груди, который проезжал на «виллисе» мимо ее шлагбаума, следом за генеральской машиной, но он тоже входил в тот круг чувств, который определяется понятием «девичья воля»: хочу — есть белокурый сержант, а хочу — нет его.
И все-таки, несмотря на свою «девичью волю», Саня хотела понять, что творится с Варварой. Она сидела рядом с ней на лавке под маскировочной сеткой и не решалась спросить: «Что с вами? Чего вы плачете?» Да если б даже Саня и решилась, если бы спросила, могла ли Варвара ей ответить? Знала ли она и сама, откуда этот взрыв горьких и вместе счастливых слез, что потряс ее душу?
Варваре казалось, что она и торжествует и оплакивает победу над собой. Счастье самоотречения, которое так нелегко дается человеку, счастье отказа от сокровища, которое могло бы обогатить сердце ценой потери собственного достоинства, наполняло Варвару гордостью и сожалением. Она горда была тем, что нашла в себе достаточно сил, чтоб отказаться от сокровища, которое могло бы принадлежать ей, она радовалась тому, что таким образом сохраняла чистоту совести, не желая счастья среди общей беды и страдания, но ей и жаль было того сокровища, от которого она отказывалась… Варвара думала, что, отказываясь от своего сокровища, становится беднее, потому и плакала такими горькими слезами, в действительности же она становилась богаче, потому-то ее горькие слезы и приносили ей облегчение.
Саня не успела ничего спросить. К шлагбауму приближался грузовик. Шоферы сами останавливались у шлагбаума, зная, что тут всегда кто-нибудь ожидает попутной машины. Саня прижалась к плечу Варвары.
— Вам куда?
— Все равно, — ответила Варвара.
Саня что-то сказала шоферу, всунув голову в кабину. Шофер открыл дверцу. Варвара взобралась на продавленное неудобное сиденье. Саня махнула флажком, и грузовик выехал на пыльную дорогу.
2
Капитан Жук неприветливо встретил Иустина Уповайченкова.
Было темно на берегу, за плащ-палаткой, прикрывавшей вход в нору под обрывом, колебался огонек «катюши», самодельной солдатской светильни; капитану как раз принесли ужин — котелок подогретого борща и вареники с картошкой. Он не стал есть, пошевелил ложкой мелко изрубленные овощи в котелке, приподнял ею кусок жилистого мяса, да так и оставил ложку в борще.
Солдаты уже получили добавочный запас противотанковых гранат и бутылок с зажигательной жидкостью. В сумерки на плацдарм переправился полковник Лажечников. Он сам вручил капитану Жуку боевой приказ.
Сидя на перевернутой лодке под обрывом, Лажечников поговорил с командирами рот. Все сосредоточенно стояли вокруг него, говорили почти шепотом, хоть в этом не было никакой надобности. И капитан Жук и командиры рот приняли приказ спокойно, лишь приглушенные голоса выдавали их волнение. Лажечников рассказал им все, что знал о намерениях врага.
— Наше дело — выстоять, — закончил он тихо и почувствовал, как перехватило у него горло, словно насыщенный влагой прохладный вечерний воздух заставил его больно сжаться. — Выстоим?
— Выстоим, — прогудели командиры.
Лажечников уже не видел лиц командиров рот, сумрак окутывал их, только влажно блестели глаза и слышалось тяжелое дыхание, шедшее словно из одной груди, в которой билось одно большое сердце. Не такого приказа ждали командиры рот, не такого приказа ждал командир батальона Жук, но никто из них не посмел сказать вслух, что лучше было бы не принимать на себя удар, а нанести его: немец теперь уже не тот. Командование, конечно, лучше знает, что надо делать, ему сверху виднее, а за себя мы спокойны: приказано выстоять, так и выстоим, было бы кому потом двинуться вперед.
Лажечников отпустил командиров рот и велел вызвать Данильченко.
Пока лодка Данильченко тихо подходила к берегу, командир полка стоял у воды, молчаливый, непривычно отчужденный. Лодка уткнулась носом в песок. Лажечников, уже ступив через борт, полуобернувшись, подал руку Жуку и проговорил;
— Будь готов, капитан…
Он вышел из лодки, обнял низкорослого худощавого Жука большими руками, подержал у заскорузлой гимнастерки, а потом будто оттолкнул от себя.
— Все мы хлебнем горячего, Жук, а тебе прямо со сковороды хватать придется.
Хмурясь от неожиданного прилива нежности к командиру полка, Жук пробормотал:
— Ну и что? Нам не впервой.
Лодка растаяла в темноте. Жук стоял на берегу и ловил ухом неясный шум и говор за рекою, — в овраге, по дну которого петляла накатанная грунтовая дорога, выходившая на стратегическое шоссе, становились на огневые позиции артиллеристы. Через его плацдарм открывался выход немецким танкам к этой дороге и дальше — на стратегическое шоссе. В том, что танки пойдут прямо на него, капитан Жук не сомневался. Он давно знал, что не только удерживает важный плацдарм, но и прикрывает танкоопасное направление. Прошлой ночью бойцы дивизионной разведки, возвращаясь из немецкого тыла, рассказывали, что сразу же за холмом, который закрывает околицу большого села с белой церковью, у немцев замаскированы в вишеннике готовые стальные фермы моста для тяжелых танков. Чтоб навести переправу, немцам надо уничтожить его батальон.
Но не только понимание серьезной опасности, которая ожидала его батальон, делало угрюмым капитана Жука.
Жук был угрюм потому, что привык к мысли о наступлении и уже не представлял ни возможности, ни необходимости принимать удар на себя, когда можно предупредить его своим ударом.
Спиридон Жук ни словом не обмолвился о своих мыслях капитану Уповайченкову, когда тот вышел из лодки и подошел к нему.
— Ну вот! — сказал Уповайченков с вызовом, в котором чувствовалось: «А ты уж думал, что Уповайченков не вернется!»
Хоть плащ Уповайченкова уже не так шуршал, а фуражка не так топорщилась на голове, хоть и сам он, казалось, весь как-то обтерся, сделался мягче, хоть и в голосе его, несмотря на остатки самоуверенности и бессознательной спеси, чувствовались несвойственные ему мягкие поты, все же капитан Жук не смог побороть неприязни к совсем ненужному ему в эти минуты гостю, не смог и не захотел.
— Что, понравилось вам у нас? — сказал Жук холодно. — Ничего нового нет, не каждый день подбивают «тигров», не каждый день умирают генералы.
Если бы Уповайченков не был Уповайченковым, он мог бы понять, что Жук просто предлагает ему покинуть плацдарм, но он не мог не быть самим собою и поэтому, как ему казалось, по-дружески бросил Жуку:
— Ну, может, все же случится что-нибудь специально для меня.
Жук пожал плечами:
— Ничего не случится, капитан, могу поручиться и за нас и за немцев, нечего вам у нас время терять… Говорят, у соседа справа должна быть небольшая свадьба, вам бы туда передислоцироваться.
Уповайченков был Жуку сегодня ни к чему. Жук не хотел ни заботиться о нем, ни отвечать за него. Но, как назло, Уповайченков ничего не понимал и ничего не замечал вокруг себя, хотя если б он был немного опытней, то мог бы заметить, что тут что-то готовится, — не только по сдержанности капитана Жука, но и по особой сосредоточенности телефонистов, которые молча хлопотали у своей щели, и по тому, что на обрыв все время поднимались бойцы, неся ящики со снарядами для противотанковых пушек и цинки с патронами. Впрочем, это лишь удвоило бы его решимость — Уповайченкову нравилось на плацдарме, и ничто не могло бы его заставить искать какого-то соседа справа.
«Эх, и откуда ты взялся на мою голову! — думал капитан Жук, нетерпеливо переступая с ноги на ногу. Ему еще много дел предстояло сделать. — Если б ты хоть знал, что тебя тут ждет…»
— Ужинать хотите, капитан? — сказал Жук, подумав вдруг, что, усадив Уповайченкова ужинать, сможет заняться своими неотложными делами.
— Не откажусь. По правде говоря, я с утра ничего не ел.
— Так чего ж вы молчите?
Он посидел с минуту в своем блиндаже, глядя, как Уповайченков хлебает его ложкой простывший борщ из его котелка, поднялся и равнодушно сказал:
— Ну, вы располагайтесь, а мне тут кое-чем надо заняться. «Катюшу» не забудьте погасить.
Жук вышел, опустив за собой полу плащ-палатки. Уповайченков остался один в блиндаже. Он доел борщ, побросал в рот холодные вареники и только тогда огляделся. Сбитые из трех досок нары были покрыты старым, вытертым тулупом, поверх него лежала надувная полосатая подушечка. Уповайченков лег на нары, как был, в плаще, надвинул на глаза козырек фуражки и сразу же заснул, не зная, что в это время капитан Жук уже ползает в темноте от одного командира роты к другому, прислушивается, как политруки проводят беседы с бойцами в окопах, отдает приказы, вглядывается в темноту над черным бугром земли, из-за которого должно надвинуться на него завтрашнее испытание.
Уповайченков очень устал и чувствовал удовлетворение от своей усталости даже во сне. Как-никак он много успел сделать, если принять во внимание, что это первая его поездка на фронт. Корреспонденция уже в редакции, — может, ее даже дали в номер. Начальник отдела будет доволен, главный редактор тоже. Соня преисполнится гордостью за своего мужа, когда прочтет под заголовком статьи набранные курсивом слова: «От нашего специального военного корреспондента», а в конце: «Действующая армия».
И пускай не очень-то чванятся своими подвигами те корреспонденты, которые торчат на фронте уже сколько времени, а пишут бог знает что и бог знает о чем. Можно сочетать и подвиги и деловую корреспондентскую работу — надо только разумно подходить к делу.
Уповайченков сердито открыл глаза. Кто-то не очень осторожно трогал его за плечо.
— Где капитан Жук? — склонилось над Уповайченковым темное лицо. — Кто вы?
— А вы кто такой? — недовольно буркнул Уповайченков. — Капитан, должно быть, там…
Он неопределенно махнул рукой на плащ-палатку, прикрывавшую ход.
— Вы новый тут в батальоне?
— Я корреспондент, моя фамилия Уповайченков… Из Москвы.
— Очень приятно. Да вы лежите… А я майор Сербин, председатель дивизионного трибунала… У меня тут подшефные, у капитана Жука…
Не договорив, майор Сербин нырнул в темноту за плащ-палаткой. Уповайченков опять лег на нары и накрыл лицо фуражкой. Странный какой-то майор! Какие могут быть подшефные в батальоне у председателя военного трибунала? Чепуха какая-то! Бродит, людям спать не дает…
Уповайченков уже сквозь сон услыхал голос майора Сербина, немного приглушенный плащ-палаткой:
— Что ты тут делаешь, Ваня?
Другой голос ответил:
— Да вот отпросился на передовую… Генерал мой помер, куда мне еще? А комбат приказал пока что быть при нем связным.
— А где комбат?
— В ротах.
— Знаешь, как пройти к бронебойщикам?
— Конечно, знаю.
— Там есть такой Федяк…
— Недавно вы судили его.
— Он самый… Далеко до него?
— Идемте, я покажу.
Голоса затихли, удаляясь; за плащ-палаткой слышалось тяжелое топанье сапог по береговому песку, но почему-то оно не только не затихало, как полагалось бы, а все усиливалось, словно уже не две пары ног, майора Сербина и Вани, а тысячи тысяч одновременно впечатывали в берег шаги, раскачивали его и заставляли содрогаться обрыв, в который был врыт блиндаж капитана Жука.
Уповайченкову показалось, что он совсем не спал, а только смежил глаза и сразу же открыл их. Блиндаж ходил ходуном, нары под Уповайченковым раскачивались, как от землетрясения. Огонь «катюши» мигал, плащ-палатка на входе то и дело надувалась, как парус, ее вдавливало воздухом внутрь блиндажа, потом высасывало наружу, снова вдавливало в блиндаж и снова высасывало. «Катюша» мигнула и погасла. Наткнувшись в темноте на угол вкопанного в землю столика, Уповайченков добрался до выхода. Он долго боролся с плащ-палаткой, которая в эту минуту вдавливалась воздухом в блиндаж, не победил и должен был дождаться, пока ее опять высосет из блиндажа, чтоб выйти наружу.
Небо едва светлело. Из-за реки, с ближних и дальних позиций, над берегом, над обрывом, сотрясая воздух, разрывая его, со скрежетом, воем и свистом летели снаряды.
Уповайченков снял фуражку и стоял, держа ее в руке, будто сознательно обнажил голову перед трагическим грохотом железа, смысла и назначения которого все еще не мог понять. Небо за лесом на левом берегу осветилось желтовато-серой продолжительной вспышкой, из нее вырвались блестящие золотые стрелы и с электрическим шорохом пронеслись над головой Уповайченкова; на обрыве раздался грохот взрывов, после которого в тишине, казалось, стал слышен шелест деревьев на левом берегу.
— «Катюша» играет, — услышал Уповайченков голос у своих ног и только теперь увидел, что стоит над щелью, в которой сгорбился телефонист в большом шлеме.
— Где капитан? — крикнул телефонисту Уповайченков.
Телефонист показал трубкой вверх, на обрыв, и нырнул в свою щель.
Напялив фуражку на голову, Уповайченков решительно зашагал под обрывом. Телефонист высунулся по пояс из щели и что-то крикнул ему вслед, но тут снова заиграли «катюши», и Уповайченков не услышал его слов. Бойцы тащили снаряды вверх по вытоптанному широкому спуску, он пошел за ними и, когда очутился среди реденьких, будто обожженных кустов наверху, увидел, что земля впереди поднялась дыбом и падает с грохотом, наклоняясь, как подрытая темная стена, — но то была не земля, то было небо, сплошь затянутое тучей дыма, небо, наполненное поднятой взрывами почвой, песком, железом, камнями, вывороченными кустами, обломками немецких блиндажей, небо, которое стонало и выло от боли, падало и снова вставало стеной перед изумленными глазами Уповайченкова.
За грохотом артиллерии на земле не слышно было, как появились и повисли в небе над немецкими позициями десятки штурмовиков и бомбардировщиков. Они беспрепятственно строились в боевой порядок — немецкие зенитки молчали — и один за другим заходили на цель и сбрасывали бомбы. Черная стена поднималась все выше и выше, в ней проблескивал снизу темный огонь и словно раскалывал ее, но трещины тут же зарастали, будто их кто-то заклеивал дымным, непрозрачным пластырем, чтобы сразу после этого снова возникнуть со страшным грохотом на том же месте, и рядом, и справа, и слева по ограниченному высотой горизонту.
Сколько времени все это продолжалось, Уповайченков не знал. Немцы не отвечали. Кто-то дернул его за полу плаща, он поглядел вниз и увидел капитана Жука, который стоял в полуприкрытом ветками окопчике.
— Ну как, корреспондент? — крикнул Жук и хрипло засмеялся.
Жук держал возле уха трубку телефона и что-то кричал, прикрывая мембрану ладонью, усы у него топорщились, пот катился по лицу, он утирал его ладонью и опять кричал в трубку.
Теперь Уповайченков увидел, что кругом кроме капитана Жука есть еще люди, что в кустах стоят противотанковые пушки и возле них хлопочут артиллеристы, что вся земля тут перекопана щелями, блиндажами и траншеями, что у каждого блиндажа, у каждой щели и траншеи стоят не пригибаясь солдаты и офицеры и что все они смотрят вперед, на ту черную стену, которая с железным стоном вздымается от земли до неба.
«Вот как начинается наступление, — подумал Уповайченков, довольный тем, что не ошибался, говоря Жуку, что у Гитлера нет возможности наступать, что наступать будем обязательно мы. — Хорошо, что я не послушал Жука и не ушел с плацдарма… Вот так жук! — Уповайченков невольно улыбнулся неожиданному каламбуру, который сам собой сложился у него. — Хотел меня спровадить отсюда в такую минуту!»
Тишина настала внезапно, и в тот миг, когда она возникла из того грохота и грома, которому, казалось, не будет конца, Уповайченков увидел, что все живое вокруг словно провалилось под землю — офицеры и солдаты прыгнули в свои блиндажи, индивидуальные окопчики и траншеи, артиллеристы залегли в ровиках у своих орудий, притаились, в то время как, по мнению Уповайченкова, им надо было поступать иначе.
«Что ж они прячутся по своим окопам и щелям, — возмущаясь, думал Уповайченков, — что ж они, в самом деле, прячутся?! Теперь надо подниматься и идти в атаку на немецкие окопы, там ведь все вверх ногами… Неужели капитан Жук этого не понимает? Он же не кто-нибудь, а командир батальона! Как ему не стыдно — не знать таких простых вещей? Кончилась артподготовка — иди в атаку. Даже я это знаю! Надо ему сказать, что ж он, в самом деле!»
Капитан Жук снова дернул Уповайченкова за полу плаща.
— Давай сюда ко мне, корреспондент, — сказал он, — давай, давай…
Уповайченков посмотрел на него сверху вниз и прыгнул в щель.
— Что случилось? Почему мы не наступаем?
— Давай перекурим, — ответил на это капитан Жук. — Что-то у меня в горле пересохло…
— Не выучился. Не курю.
— Оно и лучше для здоровья. Проживешь до ста лет.
Оба говорили коротко, отрывисто, бросая слова друг другу сквозь стиснутые зубы — Уповайченков нервно, Жук совершенно спокойно, с каким-то презрением, которое относилось неизвестно к кому.
— Ничего не понимаю, — сказал Уповайченков, собираясь вылезть из щели.
— А вот я тебе сейчас объясню. — Капитан Жук задержал его за рукав.
Небо опять раскололось над ними — немцы опомнились и навалились на батальон капитана Жука всею силой своего огня.
3
До начала огня, который должен был сорвать немецкую артподготовку перед наступлением, полковник Лажечников, несмотря на занятость делами своего полка и на то, что на его НП находились сейчас командир дивизии полковник Повх и начальник политотдела Курлов, командиры приданных частей и артиллеристы-корректировщики, все же успел написать письмо сыну.
«Мой дорогой мальчик, — писал Лажечников, — пишу тебе в последние минуты перед началом новой великой битвы, она должна решить очень многое для нас с тобой, для всех мальчиков, которые, подобно тебе, ожидают своих отцов с войны по разным городам, в детских домах, в эвакуации с матерями или на той части нашей земли, которую нам еще предстоит освободить от фашистов.
Не знаю, поймешь ли ты меня сейчас, или пройдет много времени, пока прояснится для твоего маленького сердца смысл моей отцовской любви к тебе. Знай, мой мальчик, что все эти долгие и тяжелые дни, с первой минуты войны, душа моя полна тобой и нашей мамой. Что бы я ни делал, где бы ни был — в боях, в наступлении или отступлении, в госпитале или в дороге на фронт, — я всегда думал о той минуте, когда смогу вернуться к тебе, обнять твои худенькие плечи, подержать в ладонях твою умную головку, увидеть твои глаза и в них — мамины, которых мы уже никогда не увидим, ни я, ни ты.
Я всегда любил тебя, — когда тебя еще не было на свете, когда я еще только мечтал, что ты будешь, и когда ты появился, и мы с мамой шли из больницы, и я нес тебя на руках, завернутого в голубое одеяльце, маленького, спрятанного от осеннего ветра так, что только крохотный носик выглядывал из-под прозрачного кружева конверта, — всегда я любил тебя.
Когда, бывало, я ехал с лекцией на завод, или в клуб, или в другую какую-нибудь аудиторию, я думал, что вернусь домой, а дома у меня есть мой мальчик — он уже узнаёт меня и тянется ко мне маленькими ручонками.
Мама выносила тебя мне навстречу, поднимала на руках и говорила: «Смотри, какой хороший у нас сын, он весь — ты, и он будет такой, как ты, — добрый, открытый и честный…»
Я верю, что такой ты и будешь — прямой и несгибаемый, — лучше меня.
Странно, что судьба моя повторяется в тебе, хотя прошло много лет, и все вокруг изменилось, и время не то, и мы все теперь уже не те, что в прошлом. Мой отец — твой дед — погиб в Галиции, в первую немецкую войну… А с матерью получилось совсем плохо. Кому она была нужна, кто о ней мог позаботиться в те годы, когда голодный тиф косил людей, а вокруг разорение, хаос — ни врачей, ни лекарств, ни хлеба!
Вот и я вырос в детдоме, тогда они назывались приютами, позже — колониями; мог из меня выйти вор и наверное вышел бы вор, если бы не встретил я маму… Она ведь тоже из сирот той, первой войны. Было в ней что-то, заставлявшее меня верить, что я могу и должен быть лучше. Она была и мягче и сильнее меня. Я шел за ней в жизни, она меня сделала человеком, — помни ее всегда…
Видишь, я все время возвращаюсь мыслью к маме, так, будто она с нами и мы никогда не расставались, всегда были втроем, никогда не было ни войны, ни разлуки, ни других мыслей — только о ней и о тебе.
Конечно, ты не поймешь меня сейчас, но это не имеет значения. Надо, чтоб ты понял это потом, когда сам будешь взрослым. Я верю, что на твою долю не выпадут такие жестокие испытания, какие пришлось выдержать нам. Главное в жизни — сохранить верность: сыну, матери своего ребенка, которую любишь всей душой, Родине, от которой себя никогда не отделяешь, в конце концов — самому себе. Только тогда ходишь с высоко поднятой головой, открыто смотришь в глаза людям и спокойно идешь на смерть.
Будь смелым, честным, открытым и верным. Сейчас начинается бой».
Лажечников перечитал письмо и понял, что написал его не сыну, а самому себе.
Вопреки тому, что написал Лажечников в письме, он не мог не думать о том, о чем запретил себе думать.
Лажечников знал: чтоб быть хорошим отцом, хорошим мужем своей погибшей жены, наконец, просто хорошим человеком, ему не следует думать о Варваре Княжич, но он думал о ней и не переставал от этого чувствовать себя хорошим человеком, хорошим отцом.
«Нужно было иначе написать», — подумал Лажечников, но у него уже не было времени переписывать письмо. Лажечников сложил письмо треугольничком и сунул в нагрудный карман своей габардиновой гимнастерки.
Огонь начался минута в минуту, точно в назначенное время. Лажечников стоял в траншее своего НП на краю кукурузного поля и в окуляр стереотрубы глядел на село за рекой. Он никогда не видел такой плотности огня, хотя видел на войне многое. Снаряды, мины, бомбы всех калибров падали непрерывно. Не слышно было отдельных разрывов, все сливалось в сплошной грохот. Артиллерист-корректировщик непрерывно кричал в телефон. Он лежал локтями на бруствере и вел наблюдение невооруженным глазом, лишь время от времени поднося к глазам длинный тяжелый бинокль, висевший у него на груди.
Дым поднимался над селом за рекой.
Сначала Лажечникову было видно, как летели вверх обломки плетней, которыми были перегорожены улицы села, потом снаряды начали попадать в избы; пламя охватывало стены и крыши, вырывалось из окон, пробивалось темно-красными и золотыми языками сквозь тучи дыма и пыли, исчезало на миг, но тут же его подвижные лезвия прорезали дымную толщу, высовывались из нее, как из прорванного мошка, и снова исчезали, словно их кто-то втягивал внутрь… Провалилась темно-серая черепичная крыша колхозного коровника, дым тоже словно провалился вместе с черепицей внутрь строения, потом высоким столбом поднялся вверх и начал расплываться в небе. Теперь все село уже исчезло в дыму вместе со своими постройками и садами, только белая колокольня плыла и будто покачивалась над стеной дыма.
Лажечников подумал, что для того, чтобы выгнать врага из избы, иногда надо уничтожить саму избу; ему сделалось больно от этой мысли, но он не успел на ней сосредоточиться: снаряды начали попадать в колокольню.
— Есть! Есть! — кричал в трубку артиллерист. — Так продолжать!
Тяжелые снаряды откалывали от колокольни кусок за куском. Зеленый проржавевший купол слетел, как шапка с пьяной головы, колокольня на глазах делалась все ниже и ниже, доски, которыми были зашиты сквозные проемы ее этажей, давно уже снесло; вдруг колокольня накренилась, мгновение постояла так, словно раздумывая, падать ей или не падать, и завалилась набок, прижимая к земле дымное облако, беспокойно клубившееся внизу.
4
Танковая бригада подполковника Кустова на рассвете сосредоточилась в дубовом лесу километрах в десяти — двенадцати от переднего края.
Тупоносый грузовик, в который регулировщица Саня посадила Варвару у штабного шлагбаума, подминал под себя белую дорогу. Варвара сидела рядом с шофером, усталым солдатом, который вяло крутил баранку руля, и с острым сожалением думала, что начало событий, ради которого ее послали на этот участок фронта, по сути говоря, пропало для нее. Надо было не сидеть в корреспондентском хуторе, а сразу же закрепиться в какой-то части и терпеливо ждать, — тогда все было бы в порядке. На передовой никогда не прозеваешь. Там если теряешь, то ничего уже не остается, даже места для сожалений, а тут чувствуешь себя без вины виноватой. Но с другой стороны, как она могла знать, что свадьба начнется именно этой ночью, если все держится в тайне, особенно от болтливых корреспондентов? Варвару не утешало и то, что она успела отправить самолетом с фронтового аэродрома свои снимки в редакцию. «Тигр» там понравится, и Гулоян с противотанковым ружьем тоже произведет впечатление, но все это не то — начало она прозевала.
На обочине дороги стоял танкист в новом, блестящем кожаном шлеме с валиками, похожий на большеголового марсианина.
От дороги в лес ползли следы танковых гусениц, на молодых деревцах опушки сохли изломанные и ободранные ветки.
«Теперь уже все равно, с кем начинать, — подумала Варвара. — Пристану к танкистам, а когда они пойдут в бой, пойду с ними, и все будет в порядке».
Грузовик давно уже проскочил мимо леса и мчался теперь по открытому полю. В поле колхозницы жали серпами ячмень. Варвара сказала:
— Я тут сойду.
Шофер посмотрел на нее удивленно и молча затормозил. Варвара вышла на дорогу и услышала грохот орудийного огня впереди. Грузовик вскоре исчез за бугром. Женщины спокойно склонялись и выпрямлялись на ячменном поле, не обращая внимания ни на орудийный грохот, ни на столбы разнообразно темного дыма, выраставшие и таявшие на горизонте. Только когда над головой пролетали самолеты, они прекращали работу, выпрямлялись, смотрели из-под руки в небо, а потом снова начинали подрезать серпами ячмень.
Танкист проверил у Варвары документы. Он старался казаться суровым, хотя глаза его блестели от любопытства — не каждый день заезжали в бригаду корреспонденты.
Ветвистые дубы обступили Варвару плотной стеной, когда она вошла в лес по впечатанной в сухую, твердую землю танковой колее.
Первое, что привлекло внимание Варвары в этом сухом лесу, были не танкисты, хлопотавшие у своих больших, тяжелых машин, не пузатые заправочные цистерны, подъезжавшие то к тому, то к другому танку, не бронеавтомобили с торчащими стволами пулеметов и не грузовики, из которых выгружали и складывали аккуратными штабелями ящики со снарядами для танковых орудий, — лес встретил ее громким страстным воркованием: множество маленьких лесных горлиц гнездилось на дубах, они ворковали в ветвях, не обращая внимания ни на танкистов, ни на их машины, ни на Варвару.
Командир бригады сидел под дубом в открытом «виллисе» и ел гречневую кашу из котелка. У него были аккуратно подстриженные черные усы щеточкой и совсем седой молодой чуб, — если б не седина, ему можно было бы дать самое большее тридцать лет.
Представляясь командиру бригады, Варвара невольно смотрела на котелок с гречневой кашей: она ничего не ела со вчерашнего дня.
Командир бригады перехватил ее голодный взгляд, воткнул ложку в кашу, вытер платком рот и крикнул в кусты:
— Максим! Каши корреспонденту!
Из кустов медленно появился Максим, неся за ручку плоскую крышку от котелка с вкусно пахнущим холмиком каши.
— Извините, — сказал Максим, подавая Варваре ложку, — будет мало, я добавлю.
Командир бригады, как и все в лесу, был очень занят, но, несмотря на свою занятость, охотно, хоть и немногословно, разговаривал с Варварой. Все время подходили командиры батальонов и офицеры штаба, подполковник вежливо говорил Варваре: «Извините», отдавал распоряжения и опять поворачивал к ней молодое лицо. Он курил большую трубку с длинным тонким чубуком, придерживая ее сильными пальцами. Варвара узнала, что он кадровый, начинал войну на границе, был тяжело ранен в ноябрьской битве под Москвой, отлежался в госпитале и поспел под Сталинград.
— Научились наши доктора сшивать людей из кусков мяса, — засмеялся командир бригады, и Варвара вдруг увидела: вздутый красный рубец бежал у него из-за правого уха и исчезал под воротником чистого комбинезона.
С ним было легко, с этим бывалым и сдержанным подполковником, очень легко, как с братом или старым знакомым — скажем, школьным товарищем, которого не видишь с детства, а потом встречаешься и свободно рассказываешь всю свою жизнь. Это чувство было издавна знакомо Варваре. Однако тут оно проявлялось совсем иначе, чем, например, во время последней ее встречи с Савичевым, — и проще и сложнее. Савичева Варвара воспринимала как старшего, кроме того, он лишь на мгновение показался ей близким и способным понять ее, потом он снова стал не Савичевым-человеком, души которого коснулось горе, а Савичевым-генералом, от которого ее отделяла не только разница в летах, но и служебное положение, все те бессмысленные и обременительные условности, которые затрудняют и усложняют взаимоотношения между людьми. Кустов, в отличие от Савичева, был человеком ее поколения, она никак не зависела от него — уже это одно сближало их. Но она и теперь сдержалась, не стала рассказывать о себе, хоть знала, что ему нетрудно будет понять, проникнуться тем, что составляло ее жизнь. Что могло ей дать понимание Кустова, когда она теряла уже надежду понять сама себя?
Неспокойно было на душе у Варвары.
То ей казалось, что она сделала ошибку, запретив себе ехать в хозяйство Повха, то она оправдывала и уверяла себя, что не могла поступить иначе. Варвара говорила с командиром бригады, а в это время в ней вели свой отдельный, не слышный ни для кого разговор внутренние голоса, к которым она прислушивалась с надеждой и страхом.
«Еще не поздно, — говорил один голос, успокаивающий и готовый со всем согласиться, — ты еще можешь распрощаться с танкистами и разыскать ту дивизию».
«Нет! — сразу же отзывался другой голос, который запрещал ей соглашаться с тем, что легче легкого. — Теперь ты уже останешься тут».
«Почему же она должна оставаться? — удивлялся первый голос, и Варваре казалось даже, что воображаемый голос пожимает при этом плечами, такой он был реальный и убедительный. — Почему она должна оставаться тут, когда ей нужно быть там? Ей же тяжело!»
«А ты думаешь, что самое легкое и есть самое лучшее? — ироническим вопросом разрушал удивление первого второй голос. — Ошибаешься».
За деревьями виднелась крытая машина бригадной рации, над ней колебался, поблескивая тусклым металлом, тонкий прутик антенны. Начальник штаба быстрыми шагами подошел к Кустову и молча подал ему белый с красной полоской вверху листок шифровки. Варвара увидела, как лицо командира бригады начало медленно напрягаться, словно под кожей у него становились железными мускулы, выпирали тугими узлами и до неузнаваемости искажали его молодое, чистое лицо.
Кустов коротким движением вбросил шифровку в руку начальника штаба и легко выпрыгнул из «виллиса». Варваре показалось, что в тот же миг из-за деревьев выдвинулся квадратный полугрузовичок, к нему подбежали несколько офицеров и остановились, ожидая командира бригады. Кустов направился к ним, с полдороги вернулся и сказал Варваре, улыбаясь неожиданно мягко, словно не было еще мгновение тому назад искажено суровостью его лицо:
— Походите по лесу, познакомьтесь с людьми… У вас хватит времени.
Он сел рядом с шофером, офицеры вскочили в кузов — и полугрузовичок выехал из лесу.
— На рекогносцировку, — сказал медлительный Максим, убирая котелок и крышку с остатками каши с сиденья «виллиса». — Значит, скоро.
Максим будто нехотя поглядел в ту сторону, куда исчез полугрузовичок с командиром бригады и офицерами. Варвара поняла, что он имеет в виду: сразу же за рекогносцировкою, на которую выехал Кустов с командирами батальонов, начальником оперативного отдела и командиром разведки, бригада вступит в бой.
Варвара пошла бродить по лесу. Ее никто не останавливал: танкисты уже знали, что женщина с фотоаппаратом прибыла в бригаду на все время, и доброжелательно разговаривали с нею. Почему танкисты решили, что Варвара должна быть с ними все время, трудно сказать. Она не говорила этого командиру бригады. Просто сказала, что ей надо пофотографировать танкистов в действии, а кто-то уже сам сделал вывод из ее слов. Может, тот медлительный Максим, что накормил ее такою вкусною гречневой кашей со шкварками, пустил этот слух? Только он и мог слышать ее разговор с командиром бригады. Тем лучше, она действительно останется с этими людьми на все время, не может же она разрушить их доверия к себе, не может и не имеет права: Варвара уже чувствовала себя связанной с танкистами, это чувство помогало ей верить в то, что она правильно поступила, запретив себе ехать в дивизию Повха. Больше того, ей казалось, что танкисты, которые не знали и не могли знать, какая сложная работа происходит в ее душе, что танкисты одобряют решение, которое так тяжело давалось ей.
«Очень хорошо, что ты остаешься с нами, — читала Варвара в глазах танкистов, в глазах, которые говорили словно только о ней, а на деле рассказывали о себе. — Тут не нужна ни особая смелость, ни какие-то там исключительные качества. Просто надо быть спокойным и готовым ко всему. К куску железа в грудь. К подбитой гусенице и заклинившейся башне. К взрыву снарядов в подожженном танке. Но об этом не надо думать. Надо думать только о жизни, о тех, кто тебя ждет, шлет письма и в каждом пишет: «Береги себя!» А сберечь себя — это иногда значит отдать до конца. Вот до этого конца ты и будешь с нами! И что будет с нами, то будет и с тобою».
Варвара подумала о колхозницах, которые жали ячмень у леса. Они знали, эти колхозницы, то же, что и танкисты: надо спокойно делать свое дело. Для одних это значит идти в танке навстречу врагу, стрелять по нему из пушек и пулеметов, давить его гусеницами и таранить всей силой движения и весом брони, для других — жать ячмень и не обращать внимания на то, что грохот и столбы дыма на горизонте придвигаются все ближе и ближе; а для нее, для Варвары, это уже совсем мало — поднимать к глазу аппарат, ясно видеть кадр и мгновенным скольжением шторки отсекать его для памяти людей. Пусть идут в будущее эти танкисты, которые в последний раз перед боем осматривают свои машины в лесу, и этот полный воркования горлиц лес, прикрывающий их от самолетов врага, и ячменное поле, окруженное дымными столбами разрывов, и колхозницы, что поблескивают на нем серпами, и крутят перевясла, и вяжут снопы, и складывают их в копны.
Варвара вышла в поле и сфотографировала колхозниц. Она легла на жнивье и построила кадр так, что в него вошли и копны, и женщины с серпами, и темные фонтаны дыма на горизонте, на переднем плане сидела простоволосая девочка с кривыми ножками и сухой деревянной ложкой кормила серую тряпичную куклу, завернутую в другую, цветастую тряпочку.
Колхозницы насмешливо посматривали на Варвару, они о чем-то переговаривались. Варвара поняла, что это о ней и что-то не очень хорошее, что именно, не имело значения. Откуда им знать, этим черным от труда и горя бабам с потрескавшимися ногами и узловатыми, жилистыми руками, что она их любит, что у нее тоже не легкая жизнь, что у ее Галки такие же тоненькие, кривые ножки, как и у этой простоволосой девочки, которая кормит свою куклу, сидя на жнивье? Они думают: вот не знает женщина горя, щелкает себе аппаратом, когда вокруг такие страхи, такая беда! Бывает же у людей легкий хлеб, не то что у нас!
Она не обижается — пускай себе думают.
Когда Варвара вернулась в лес, там кипела напряженная работа. Танкисты в последний раз перед боем осматривали свои машины, заправляли баки горючим, регулировали механизмы, пополняли боекомплект; кто сменял траки, кто, лежа на земле, натягивал поплотнее гусеницы своего танка, кто озабоченно, словно это было самым важным, протирал тряпкой триплексы, а кто подрисовывал свежей белой краской боевой лозунг на броне.
Молоденькая девушка с острым, птичьим носиком, смешно толкая воздух тонкими голыми коленками, ходила среди танков с тяжелой сумкой на боку. Все знали ее, но делали вид, что не замечают: никому не хотелось раньше времени узнать, что писем для него сегодня нет. Надо было видеть, как упорно, с отсутствующим видом гремел танкист ключами, когда девушка с сумкой приближалась к танку, как уныло склонял он голову, когда она проходила, не останавливаясь, мимо… Но нужно было видеть, как быстро вытирал он руки паклей, как блестели у него глаза, когда осторожно, кончиками пальцев брал он свой треугольничек и отходил в сторону, чтобы прочесть его наедине!
Фотографируя раздачу писем, Варвара не заметила, когда вернулся из рекогносцировки командир бригады.
В лесу быстро стемнело, замолкли горлицы в ветвях. Варвара сидела на подножке большой, крытой брезентом на железных дугах машины и ужинала хлебом с каменной колбасой, а начальник АХО, толстый, с обрюзгшим лицом майор Кваша, стоял над нею, покачиваясь на тонких ногах, и медленно и подробно рассказывал все, что знал о своей бригаде, о старых командирах, о прославленных экипажах, о давно убитых людях и о новичках, которые прибыли из пополнения. Иногда он прорывал свой рассказ и, глядя внимательно на тонкий кусок колбасы в руке у Варвары, серьезно говорил:
— Вы ешьте. На снабжении бригады это не отразится.
Варвара уже знала, что у майора Кваши жена и двое детей, мальчик и девочка, остались в Зинькове и что он не надеется на верность своей Ксении. «Она у меня разбалованная, прилепится к кому-нибудь от трудной жизни», — сказал Кваша таким голосом, будто он давно привык к мысли о том, что Ксения обязательно к кому-нибудь «прилепится», и перешел к следующему вопросу повестки дня. Командир батальона майор Черняков влюбился в казачку в одной станице на Дону, — кажется, это было в Усть-Медведицкой, а может, немного позднее, когда стояли уже в Клетской. Только эта казачка не обращала на него внимания, ей пришелся по сердцу механик-водитель Кацоев, осетин, его вскоре убили, самому Чернякову и пришлось написать об этом казачке. Он и теперь пишет ей и сохнет, совсем извелся. И другой командир батальона, Иван Петрович Геть, — на что уж у нас, украинцев, бывают странные фамилии, но слыхали вы такую смешную? — у него тоже сложная история: перед самой войной влюбился, уже женатый, да так влюбился, что жена дала ему развод. Собирался уже идти в загс с новой своей, а тут утром — трах! — и он теперь, как в песне поется, «ни девушка, ни вдова».
Майор Кваша колыхался на тонких ногах, голос его, однообразно спокойный и, казалось, такой же обрюзгший, как и лицо, утомил уже Варвару. Кваша говорил, будто ворота дегтем мазал. «Скоро он провалится сквозь землю?» — с тоскою думала Варвара. Вдруг Кваша на полуслове прервал свое повествование, повернул голову, уловил ухом ему одному понятные приметы, сказал «Ага!» и, даже не оглянувшись на Варвару, ушел.
Притаившийся в сумерках лес в одну минуту ожил. Экипажи строились возле танков. Зафыркали моторы, командиры батальонов расходились от подполковника Кустова, на ходу пряча сложенные удобными гармошками карты в целлулоидные планшеты. Тьма в лесу все сгущалась, уже не видно было лиц, и нельзя было понять, как в этой темноте каждый находит свое место, безошибочно узнает своих людей, отдает приказы и выслушивает сдержанные ответы подчиненных.
Варваре вдруг показалось, что ее забудут в темноте. Она всем телом почувствовала свою затерянность и одиночество среди этих людей, которые знали и уверенно делали каждый свое дело, состоявшее в подготовке к значительно более важным делам. Ей не пришлось долго предаваться этому чувству. Перед ней забелело лицо, и молодой голос сказал:
— Комбриг просит вас к себе.
Это был медлительный Максим, который утром кормил ее кашей.
— Я ничего не вижу! — с отчаянием сказала Варвара.
Максим осторожно взял ее за локоть и вывел на поляну, где перед строем людей и машин в темноте говорил подполковник Кустов. Речь его была короткой и состояла из давно известных и ему и тем, кто его слушал, привычных слов, но эти слова звучали на темной поляне с такой страстью, голос Кустова был такой твердый и вместе теплый, что у Варвары все перевернулось в душе.
И все, кто слушал в темноте слова Кустова, проникались в этот миг не только смыслом его простых слов, но и тем, что вставало для каждого за этими словами; те, кто знал, что такое танковый бой, кто сидел уже в подбитом на поле танке, кто ремонтировал под огнем разбитую снарядом гусеницу или выскакивал из охваченной пламенем башни за минуту до взрыва, вспоминали все, что уже приходилось пережить; а те, кто впервые должен был идти в бой, кто ничего не знал и мог только усилием воображения рисовать себе близкое будущее, — для тех тоже в словах командира бригады звучали и грозная тревога, и великая печаль неизвестного, и человеческая горячая надежда…
Послышалась команда «По машинам!», экипажи в темноте занимали свои места в танках, с резкими выхлопами заработали моторы, проснулись испуганные неожиданным шумом горлицы в ветвях, захлопали крыльями, и вот уже ничего не стало слышно за лязгом гусениц: ни человеческих голосов, ни шелеста листвы, ни вздохов горячего ветра, — все утонуло в сдержанном содрогании готовой к движению танковой бригады.
Блеснули желтоватые круглые пятна света от потайных фонариков на истоптанной земле. Танки один за другим начали выползать из лесу.
Через полчаса в лесу остались только тылы бригады, и майор Кваша обрюзгшим голосом сказал своему ординарцу, сидя на подножке машины, там, где раньше сидела Варвара:
— Ну что ж, Мозольков, война войною, а ужинать надо.
5
Берестовский прибыл в дивизию Повха, когда немцы, ошеломленные, прижатые к земле нашим огнем, опомнились, с опозданием провели артподготовку и перешли в наступление.
Но хоть артподготовка немцев состоялась с опозданием, которое было вызвано колебанием, начинать наступление или отложить его, хоть она и не имела той силы, какая предусматривалась, так как значительная часть немецких огневых средств была подавлена нашим упреждающим огнем, все же заболоченный лес, в котором стоял штаб дивизии Повха, выглядел так, будто над ним пронесся ураган.
С леса словно сняли зеленую шапку; то там, то здесь, зацепившись за нижние ветки, провисали почти до земли как бритвой срезанные верхушки деревьев; другие лежали на земле; лес просматривался насквозь и казался Берестовскому беззащитным, как израненное живое существо.
Расщепленные березовые стволы с ободранной корой белели, как обглоданные кости, красноватая древесина осин, казалось, истекала кровью. В свежих воронках проступала подпочвенная вода. Теперь, когда открылось небо над темным раньше лесом, в них проплывали облачка и отражалось затуманенное солнце.
Заложив руки за спину и слегка клонясь вперед, Берестовский медленно шел по лесу. Навстречу попадались легко раненные бойцы, без оружия, поодиночке и группами; кто прижимал к груди забинтованную руку, кто опирался на палку и волочил ногу. Другие сидели под деревьями вдоль дороги и ждали, пока их подберут санитарные машины. Сандружинницы перевязывали раненых, на обломанных, безлистых кустах висели окровавленные бинты.
Трубка дымилась у Берестовского во рту, кончики усов, порыжевшие от табака, шевелились, будто он что-то неслышно говорил себе. Трофейный автомат ненужно висел у Берестовского дулом вниз на плече. Пистолет болтался, бил по бедру на каждом шагу и все время сползал на живот. Берестовский щурил левый глаз, не потому, что на него относило дымок из трубки, — он плохо видел левым глазом, надо было щуриться, чтоб даль не расплывалась цветным пятном. В кожаных потертых галифе у Берестовского был довольно странный вид. Однако никто не обращал на него внимания — ни раненые, ни сандружинницы, ни офицеры связи, которые иногда перегоняли его на юрких вездеходах, а иногда на полном газу летели навстречу.
Берестовский медленно вышел на изрытую бомбами и снарядами большую поляну. Под высокими изломанными осинами у разрушенных землянок кто-то нестерпимо знакомым голосом покрикивал на коротконогого солдата, который, растерянно разводя руками, перебегал от землянки к землянке. Конечно же голос был очень знакомый, в этом не могло быть сомнения, — Берестовский хорошо его помнил, хоть и не слыхал давно. Известное чувство бессильной детской тоски, которое вызывал в нем когда-то этот голос, сразу же охватило Берестовского. Нет, не может быть, прошло столько времени, все уже забылось, зачем же нужно, чтобы как раз сегодня этот голос снова появился на его дороге? Никогда ничего нельзя знать заранее, неизвестно, чем будет эта встреча, найдет ли он в себе силу сдерживаться, не говорить и не делать глупостей. Нужно было поехать в какую-нибудь другую часть, тогда все сложилось бы иначе, тогда ко всему не присоединилась бы еще и эта нестерпимая тоска. Да разве он мог знать, что именно здесь его ожидает этот голос? Нет, не нужно заранее настраивать себя на худшее, взвинчиваться, раздражаться. Нужно сбросить с себя тоску и идти навстречу знакомому голосу, будто никогда ничего не было между ними, — голос как голос, и дело с концом.
Полковник Курлов, стоя у своего блиндажа, развороченного прямым попаданием снаряда, еще издали узнал Берестовского.
— Знаете басенку про Ходжу Насреддина? — встретил он его насмешливой гримасой. — Хорошо, что меня не было в этом халате.
Курлов ткнул несколько раз пальцем в сторону изломанных, раздавленных, измазанных грязью бревен, оставшихся от его блиндажа, и сразу заговорил совсем иным тоном:
— Не возражаю против вашего пребывания в дивизии, но ничего хорошего обещать не могу… Видите, что делается?
Телефонисты тянули новую линию связи, офицеры и солдаты в разных концах поляны вытаскивали из разрушенных блиндажей политотдельское имущество, разбитые столы, железные ящики с документами. Коротконогий солдат нырнул в блиндаж с обвалившимся перекрытием и сразу же выскочил оттуда, неся на согнутых руках пишущую машинку. Круглолицая машинистка с толстой косой за плечами всплеснула руками: каретка была разбита и висела сбоку, держась на тросике.
— Пропал твой пулемет, — сказал солдат, останавливаясь перед машинисткой. — Чем теперь будем отстреливаться, Маня Федоровна?
Машинистка выхватила из рук солдата машинку, поставила на землю и беспомощными движениями начала прилаживать на место перебитую каретку.
— У меня же сводки в Поарм недопечатаны! — послышался ее всхлипывающий голос.
Капитан в порванной гимнастерке, придерживая распоротый рукав, быстрыми шагами подошел к начальнику политотдела. Чтобы приложить руку к фуражке, ему пришлось оставить на минутку рукав; откозыряв, капитан сразу же опять ухватился за него, стараясь скрыть непорядок в одежде.
— Товарищ полковник! Командир дивизии на проводе.
— Поцарапало вас, Пашков? — Курлов глядел на рукав капитана. — Где аппарат?
— У начальника штаба уже наладили. Я вас провожу… — Капитан перехватил взгляд Курлова и добавил, смущаясь: — И ничего не поцарапало, это я за сучок зацепился…
— Другой раз будьте осторожнее, — ткнул его кулаком вбок начальник политотдела. — Тут такие сучки летают, что недолго и живот пропороть.
Несмотря на очевидную сложность обстановки, Курлов был в прекрасном настроении. Берестовский не узнавал в нем прежнего полкового комиссара и удивлялся и радовался перемене, которая произошла с Курловым.
— Найдите себе надежное укрытие, — доброжелательно обратился к нему Курлов. — Опять начнет бросаться железом… Или лучше идемте со мной, тут все разрушено.
Начальник штаба сидел на низком железном ящике в кустах; на другом, большом деревянном ящике перед ним лежала карта, исчерченная красными и синими линиями и стрелами. Офицеры штаба работали тут же рядом, примостившись кто на чем.
Берестовский прислонился спиной к искалеченному дереву, из-под разорванной коры которого проступал мутный сок, словно кровь из раны.
— Пришел четвертый! — крикнул начальник штаба в трубку, увидев Курлова. — Передаю трубку четвертому!
Грохот артиллерии слышался спереди, справа и слева, но снаряды теперь сюда не залетали. Разрывы мешали Берестовскому слышать, чть говорит полковник Курлов.
Стараясь понять, почему переменился Курлов, Берестовский подумал, что начподив не может по-прежнему относиться к нему теперь, когда он уже не его подчиненный, когда его поднял в глазах Курлова авторитет центральной газеты, которую он представляет на фронте. Нет, не в этом дело. Курлов изменился, поэтому изменилось и его отношение ко мне, газета тут ни при чем. Но изменился Курлов не сам по себе, поняв не собственными усилиями, что ему надо измениться, иначе он погибнет, а потому, что изменились обстоятельства. Были неблагоприятные, слишком тяжелые для него обстоятельства — он не выдержал, покатился вниз, обстоятельства выровнялись — выровнялся и он.
«Курлов относится к тем людям, которые хороши, когда все хорошо, — подытожил свои мысли Берестовский. — Теперь уже все хорошо, и он может позволить себе не быть стихийным бедствием».
При всей своей проницательности Берестовский был прав лишь отчасти. Курлов не мог бы так решительно измениться, если бы к воздействию на него обстоятельств не присоединялось действие его собственных усилий. Только он сам знал цену своих усилий. Самую большую роль в его превращении, в том, что он стал не столько прежним, сколько совершенно новым Курловым, играло его постоянное общение с людьми переднего края, среди которых он оказался после того, как его перевели из армии в дивизию. Сдержанный героизм людей переднего края, которые принимали на себя всю тяжесть неудач и разочарований, не гнулись, не теряли веры в победу, готовились к ней и в конце концов научились побеждать, отрезвил Курлова.
Усилия Курлова быть новым, непохожим на прежнего, ненавистного ему полкового комиссара никогда не прекращались, продолжались они и в эту минуту.
Начальник штаба водил карандашом по карте, время от времени поднимал голову к Курлову, бросал слово и снова склонялся над картой. Курлов передал ему трубку и пошел через поляну к Берестовскому, будто все время видел его под искалеченным деревом,
— Политотдел мы, очевидно, передислоцируем, — сказал Курлов. — Вам полный резон быть при политотделе, вас обеспечат информацией.
Курлов хотел укрыть, защитить Берестовского от неожиданностей, связанных с пребыванием в лесу, который немцы в любую минуту могли снова обстрелять, но слова его невольно складывались так, что в них звучала прежняя его неприязнь к корреспондентам, которые якобы не очень-то любят быть под огнем, предпочитая отсиживаться в безопасных местах. Берестовский это сразу понял, но промолчал: он не хотел сводить старых счетов с Курловым.
— Я, к сожалению, не смогу уделить вам внимания, — продолжал Курлов. — Меня ждет командир дивизии… Там…
Курлов качнул головой вперед и в сторону, откуда все с большей силой слышался грохот артиллерии.
Раздражение накипало в нем — своим появлением в лесу Берестовский напомнил теперешнему Курлову о прежнем Курлове, которого теперешний Курлов ненавидел и о котором не хотел вспоминать: тот, прежний Курлов еще сидел где-то в глубине его сознания, от него не так-то легко было отделаться. Прежний Курлов резко сказал: «Желаю спокойной работы, майор!» — и, не дожидаясь возражений, пошел от ободранного дерева, под которым происходил этот разговор, в глубину искалеченного леса.
Берестовский пошел за Курловым.
Курлов оглянулся и неожиданно улыбнулся доброй, грустной улыбкой, которая должна была означать: «Ничего с вами не поделаешь… Видно, вы сами лучше знаете, где вам надо быть».
Чем ближе они подходили к передовой, тем печальней становился вид леса. Громадные березы и осины лежали, как срубленные топором, одна на другой, надо было обходить завалы и воронки, продираться сквозь сплетение изломанных веток. Потом лес будто расступился, стал ниже, они прошли полосу кустов и выбрались на изрытое снарядами кукурузное поле, в конце которого виднелся НП полковника Лажечникова.
Курлов остановился, поправил фуражку на голове, одернул китель и спокойно пошел через кукурузное поле. Берестовский, на голову выше Курлова и довольно широкий в плечах, смотрел полковнику в затылок и не отставал ни на шаг. Все звуки боя сосредоточились теперь где-то левее кукурузного поля, тут было относительно спокойно, хоть иногда через головы Курлова и Берестовского перелетали снаряды и разрывались в лесу.
Траншея НП была утыкана кукурузными стеблями и сухими ветками, которые скорее выдавали, чем маскировали ее на обрыве. Рядом с этой главной траншеей, где с ночи сидели в тесноте круглоголовый командир дивизии Повх, полковник Лажечников и другие офицеры, чернели соединенные ходами сообщения свежие узкие и глубокие щели, тоже полные людей. Над траншеей и щелями виднелись офицерские фуражки, солдатские шлемы и пилотки. Шлемы, пилотки и фуражки все время менялись местами, иногда руки, поднятые над траншеей, раздвигали стебли и ветви, к образовавшемуся просвету припадала чья-то голова. Берестовский уже улавливал характерный звук зуммера полевого телефона и голоса телефонистов. Позывные, как всегда, удивили его своей неожиданностью.
— Сириус! Сириус! — услышал Берестовский, вползая следом за Курловым в главную траншею. — Я Марс, холера тебя возьми, чего не отвечаешь, Сириус?
Управление боем шло в космическом масштабе. Полковник Повх сверкал очками на телефониста и что-то цедил сквозь зубы, телефонист скорее угадывал, чем слышал его требование и вызывал то Меркурия, то Венеру, то вдруг отлетал от Земли на миллионы световых лет и начинал умолять Вегу, чтоб она дала трубку одиннадцатому.
— Вы кто? — оторвав глаза от карты, толкнул Берестовского локтем в бок грузный, тяжело дышащий полковник.
— Корреспондент, — сказал Берестовский, не очень присматриваясь к полковнику.
Они не узнали друг друга: Лажечников видел Берестовского только дважды, это было так давно, что, перевидав с того времени множество людей и множество лиц в различных обстоятельствах, Лажечников даже забыл о существовании Берестовского.
Берестовский был бы рад узнать Лажечникова, воспоминания о Трубежском болоте преследовали его издавна и до последних дней, только события прошлой ночи оттеснили в его памяти батальонного комиссара, по следам которого он шел тогда через гать. К тому же неожиданная встреча с Курловым… Берестовский не мог представить Курлова рядом с Лажечниковым, они были отделены в его сознании не только разницей характеров, но и несходством обстоятельств, в которых он знал и помнил их.
Берестовский заглянул в карту, которую держал на коленях полковник. Щуря левый глаз, Берестовский увидел оттушеванный на карте фронт дивизии, который шел по берегу реки и заканчивался плацдармом на правом берегу, разграничительные линии, вычерченные красным карандашом, и даже прочел напечатанное курсивом название реки, над которой поднимался обрыв с траншеей, где он сидел.
— Не дышите мне в затылок, майор, — сказал полковник.
Берестовский оторвался от карты.
Название реки, вернее, то, что стояло за этим названием, взволновало Берестовского. Он осматривался, видел всех, кто находился в траншее, начиная от круглоголового, в больших очках командира дивизии и кончая долговязым, будто из одних костей составленным телефонистом, и вместе с тем словно и не видел ни их, ни потрескавшихся горбылей траншеи, ни проводов полевого телефона, сходившихся в ней, ни рогатой стереотрубы, в которую смотрел теперь артиллерийский капитан, — Берестовский видел перед собою только густо натыканные в бруствер траншеи мертвые кукурузные стебли и сухие ветки, сквозь которые ничего не было видно, и знал, что если раздвинуть эти ветки и стебли, то перед глазами его появится та река, название которой он прочел на карте, — река его детства.
Берестовский мысленно провел прямую линию от траншеи на юго-запад, она перебросилась через реку, исчезла за горизонтом, пересекла рощи и перелески, овраги и поля, пролегла над многими селами и хуторами и на берегу этой же изогнутой дугою к западу реки уткнулась в давно не крашенные крыши одноэтажного города с улицами, поросшими травой, с мощенной булыжником площадью, в центре которой белело приземистое и тяжелое здание церкви. Берестовский увидел не только это — стайка турманов купалась в теплом синем небе, мальчик размахивал тонкой жердью на крыше одноэтажного домика, немолодая женщина, повязанная платком, в серой ситцевой кофточке, стояла посреди двора, подняв голову, и смотрела на мальчика на крыше, рядом с нею прыгал по траве маленький серо-желтый песик с черным носом и черными висячими ушами и весело лаял на голубей и на мальчика.
«Ведь это же я! — чуть не крикнул Берестовский. — Это я… и мама… и Лобзик!»
Он поднялся в траншее, раздвинул сухие кукурузные стебли, но не увидел того, что ему представилось: за девственно зелеными лугами, изрытыми свежими черными воронками, за безмятежно спокойной стеклянной полосой реки догорало большое село. Языки прозрачного пламени и светлый дым поднимались над развалинами, чернели обугленные скелеты безлистых деревьев, весело белели расписанные птицами и цветами уцелевшие печи по дворам. Ни людей, ни скота не было видно, но, когда Берестовский с похолодевшим сердцем вгляделся в близкое зрелище, заслонившее от него далекий город его детства, он заметил, что между развалинами, почти стелясь по земле, перебегают немецкие солдаты в похожих на горшки шлемах и исчезают в таких же щелях, как и та, в которой стоял он сам. Волна горечи поднималась от сердца, заливала Берестовского. Дорога в детство, та прямая линия, которую он мысленно прочертил от своей траншеи на юго-запад, представлялась ему теперь во всей своей страшной реальности, — ее надо было прокладывать огнем, который уничтожал все, что ему мешало, что хотело его остановить, уничтожал не беспрепятственно, а в бешеном сопротивлении враждебных сил, которые тоже уничтожали все перед собою и за собою. Но существовала же — должна была существовать разница в этом двустороннем уничтожении! Берестовский понимал это, хоть понимание и не приносило ему облегчения. Нет уже мальчика с тонкой жердью на крыше, нет черноухого песика Лобзика, в щель между кукурузными стеблями смотрит взрослый человек с усталым, тяжелым сердцем и не видит за развалинами ни своего детства, ни той повязанной платком женщины, которая поднимала к нему голову, когда он гонял своих турманов тряпкой, привязанной к тонкой жерди… Была — и нет ее…
И если провести воображаемую линию еще дальше, повернуть ее прямо на запад, к разрушенным киевским мостам, к уютной, в высоких деревьях улице за Ботаническим садом, она упрется концом также в то, чего уже нет… Было — и нет! От всего, что было у Берестовского, остались только развалины, как от киевских мостов, как от этого села, дотлевающего за рекой. Развалины на земле — и развалины в сердце, черные, пережженные, уничтоженные огнем, задымленные, тяжелые развалины того, что казалось прочным, если не вечным. И никто не виноват, и некого ему винить за развалины в сердце, как и за развалины на земле, есть один только виновник, на котором лежит ответственность: война, фашисты…
Окно на третьем этаже над деревьями Ботанического сада возникло перед глазами Павла Берестовского, и хоть он знал, что Аня далеко, в неразрушенном городе на востоке, что она пишет письма и посылает карточки не ему, что у нее есть для этого и время и желание, во всей реальности увидел он ее искаженное войной лицо в том окне, холодные глаза и жадный рот, смеющийся над всем, что в развалинах лежит вокруг.
Сухой стебель хрустнул в кулаке у Берестовского, сломался и упал на бруствер.
Кто-то, рванув за плечи, силой посадил его на дно траншеи.
Над обрывом кружились бомбардировщики, ревели моторы, отчаянно стучали замаскированные на опушке леса зенитные батареи. Берестовский не слыхал, когда это началось.
Бомбы падали на поле, свист их полета и грохот взрывов сливались с тяжким гудением, скрещивавшимся над обрывом, и разрывами снарядов в селе за рекой и в лесу за кукурузным полем. За воем и грохотом в небе и на земле в траншее ничего не было слышно. Берестовский видел, как наклоняется телефонист над зеленым ящиком в углу траншеи, видел его красное от напряжения лицо и раздутую от крика шею, но самого крика не слыхал — только раскрывался и закрывался рот над телефонной трубкой, прикрытой ладонью, да блестели воспаленные глаза телефониста. Комдив Повх тыкал пластмассовой дужкой очков в карту, которую держал перед ним грузный, тяжело дышащий полковник, и тоже раскрывал и закрывал рот, губы его медленно шевелились, произнося слова, которых нельзя было услышать. Курлов кивал головой, соглашаясь с комдивом.
На минуту грохот притих, словно немного отдалился, тяжело дышащий полковник сказал:
— С батальоном Жука нет связи… Музыченко докладывает, что видит со своего НП танки на плацдарме.
Снова, с еще большей силой загрохотало, снова начал открывать и закрывать рот командир дивизии, снова закивал головой Курлов. Грузный полковник медленно сворачивал карту, он долго втискивал ее в планшет. Повх и Курлов терпеливо смотрели на его большие руки, будто в эту минуту все зависело от того, управится полковник со своей картой или не управится.
Протянув руку из-за спины полковника, устроившего наконец карту в планшете, телефонист подал трубку командиру дивизии. Теперь уже грузный полковник и Курлов не отрывая глаз смотрели на него, по движению губ угадывая, с кем и о чем он говорит.
Грохот снова затих, и Берестовский услышал, как полковник Повх сказал:
— Ну что же, идите… От ваших батальонов теперь зависит вся дивизия.
Повх отдал трубку телефонисту.
Лажечников уперся ногою в стенку траншеи и вылез на поле. Берестовский пополз за ним.
Берестовский был убежден в том, что ему нужно ползти за полковником и быть вместе с ним. Он понимал, что Лажечников отправился в самое опасное место, туда, где надо перекрыть дорогу немецким танкам, которые, судя по всему, уже захватили плацдарм или были близки к этому. То, что Берестовский мог встретиться с танками, не только не пугало его, а, наоборот, освобождало от страха, приказывало ползти за Лажечниковым И сделать все, чтоб танки не вырвались с плацдарма на левый берег реки. Он не отдавал себе отчета в том, что будет делать и что сможет сделать, вооруженный только давно не чищенным трофейным автоматом. Это не имело для него значения; имела значение только необходимость быть там, где складывалась наибольшая опасность.
Лажечников, лежа на земле, оглянулся и остановил его взглядом.
«Хватит с меня корреспондентов!» — говорили глаза Лажечникова.
Голос его прозвучал мягко:
— Не разрешаю.
Берестовский подтянулся на локтях к Лажечникову.
— Вы уверены, что имеете на это право?
— Вам там нечего делать.
— Это еще неизвестно.
К ним бежал лейтенант Кахеладзе, низенький, худощавый, с маленьким, как кулачок, выбритым до синевы лицом под большим зеленым шлемом, за лейтенантом спешили два автоматчика.
Лейтенант склонился к земле и положил руку на погон Берестовскому.
— Комдив приказывает вернуться.
Берестовский глянул вверх, на лейтенанта, и замотал головой, будто не понимая его слов, да, собственно, так это и было, он не мог понять, чем вызвана эта чрезмерная забота о его безопасности со стороны полковника, а теперь еще и командира дивизии.
— Не понятно? — еще ниже наклонился к Берестовскому лейтенант. — Что тебе не понятно, майор? Когда комдив приказывает, надо сразу понимать.
— Вот видите, — сказал Лажечников, поднялся и быстрыми шагами пошел к лесу. Лейтенант и автоматчики поспешили за ним.
Берестовский вернулся в траншею. Полковник Повх оторвал глаза от карты, сбросил с переносицы очки и ткнул ими в грудь корреспондента.
— Нам нужен не ваш героизм, а ваши стихи, — сказал Повх, нацепил очки и снова молча склонился над картой.
Курлов не смотрел на Берестовского, он старательно раскуривал в это время папиросу, клубы дыма закрывали его лицо,
6
В полутьме круглой ивовой пуньки гулял прохладный ветерок, пахло прошлогодней мякиной. Они лежали на сене и больше молчали. Сквозь темное плетение ивовой лозы синими полосками просвечивало небо, вся пунька была окутана теплым сиянием, но оно оставалось снаружи, а в пуньку проходило профильтрованное — серое и бесцветное, будто эта тонкая ивовая стенка была сделана нарочно, чтобы отделять их от яркого, солнечного, веселого мира, в котором не прекращалась жизнь, — отделять и держать в однообразной бесцветности воспоминаний про ад, из которого они только что вышли.
Возможно, эта бесцветность воспоминаний была обусловлена тем, что все, что они пережили, началось в серой полумгле еще не рожденного утра, в те минуты на грани дня н ночи, когда еще нет света, а тьма уже рассеялась и на земле царит печальный сумрак, в котором и поля, и леса, и строения, и люди приобретают оттенок нереальности, тем более заметный, чем глубже тишина вокруг, тишина, в которой зреет реальность живого дня.
Сколько из тех танкистов, с которыми Варвара вышла из лесу, сколько из тех молодых, веселых и сдержанных парней, которые у нее на глазах хлопотали у своих машин, получали письма и писали домой, а потом вели танки по темной, ночной дороге и на рассвете вступили в бой, — сколько их пришло в это тихое, отдаленное от фронта село, Варвара не знала.
Штаб бригады подполковника Кустова в темноте расположился на околице маленькой деревни, которая лежала на высоте у дороги.
Два танка с задраенными люками стояли под деревьями у избы. В избе над картой при свете самодельной коптилки сидел подполковник. Офицеры, связные, телефонисты входили, стояли у длинного ящика, служившего подполковнику столом, выходили — вместо них появлялись другие. Черные тени шевелились на обрушенном потолке, беззвучно сталкивались, расползались и опять сходились. Варвара вышла и прислонилась плечом к теплой броне тяжелого танка, уткнувшегося в темноту длинным хоботом пушки. Открылся люк, из башни высунулся по грудь танкист, он перегнулся вниз и узнал Варвару.
— А-а, это вы, — сказал танкист. — Будете нас фотографировать?
— Буду, — ответила Варвара.
Танкист нырнул в танк и сразу же опять появился над башней. Перебивая дух машинного масла и горючего, в воздухе поплыл запах хорошего табака. Танкист курил, прикрывая ладонями огонек папиросы.
— Хотите папиросу? Дело будет жаркое, раз майор Кваша расщедрился на «Казбек»!
Варвара взяла папиросу и неумело прикурила от папиросы танкиста, огонек осветил его шершавые большие руки в наплывах мозолей, как у кузнеца или слесаря. Варвара затянулась, закашлялась и затоптала папиросу в землю у гусеницы танка.
— Ко всему нужна привычка, — снова послышался сверху голос танкиста, — к табаку, к бомбежке, к танковой атаке,
— А вы уже привыкли?
— К табаку? Привык.
Варвара вздохнула, поняв печаль, которая прозвучала в ответе танкиста.
— Только к смерти привыкать не надо… Если успеешь сказать «мама» — твое счастье, а потом — уже ничего нет, сырая ямка или сухой песок.
— А где у вас мама?
— По мне некому будет плакать: я круглый сирота.
— И девушки нет?
— А что девушка? «Пускай она поплачет, ей ничего не значит…»
— Вы любите стихи?
— Хорошие люблю. Но хороших мало… Вот еще в старой песне поется: «Под кустом под тем ракитовым лежит убитый добрый молодец, весь израненный, изрубленный. То не ласточки-касаточки вокруг гнездышка увиваются — убивается тут родная матушка. Она плачет, как река льется, сестра плачет, как ручей течет, жена плачет, как роса падет: взойдет солнце, росу высушит…»
Танкист читал тихо и красиво, будто пел. Он не только понимал, но и чувствовал слова, которые слагались в мелодию печальной старой песни. Варваре не впервые уже доводилось слышать, как люди выражают свои мысли словами песен или стихов и как от этого песни и стихи наполняются новым, бесконечно глубоким содержанием, будто живое человеческое чувство, влившись в них, заставляет пульсировать и горячо биться их мелодию.
— Ты лучше свои прочти, — послышался голос рядом с Варварой. — Лермонтов хоть тоже солдатом был, а так, как нам, ему не приходилось.
Из-за дерева вышел другой танкист и стал рядом с Варварой; голова его казалась непомерно большой от черного кожаного шлема, который почти сливался с темнотой.
— Да что мои, так себе — прихоть, — отозвался танкист из башни. — Где уж нам, малярам!..
— Правда, прочтите свои, — попросила Варвара.
— Прочесть? — В голосе танкиста прозвучала радость оттого, что чужой человек заинтересовался его стихами. — Я недавно начал писать, в госпитале… Да и не писал я там, а диктовал одной сестре… Я диктую, а она плачет.
— Вот видите!
— А что ж я вижу? Вы не подумайте насчет той медсестры — просто грамотная девушка, жаль ей было меня: ни рукой, ни ногой шевельнуть не могу, голова обмотана — только нос торчит из марли… Вот она и плакала… Что же я вам прочту? Разве, может, вот это…
— Прочти, как мы шли на Калач, — сказал танкист рядом с Варварой.
— Хорошо, — согласился танкист в башне и уже как название стихотворения произнес: — «Как мы шли на Калач».
Между избами зафыркали моторы, послышался скрежет тормозов, глухой басовитый голос проговорил: «Подполковник Кустов тут?» Другой голос, молодой и веселый, ответил: «Так точно, товарищ генерал-лейтенант, подполковник Кустов на своем НП».
Сверкая в темноте светлым золотом генеральских погон, из-за избы энергичными, быстрыми шагами вышел коренастый, широкоплечий генерал, сразу же появился другой, высокий, за ними на расстоянии шли офицеры, ординарцы. Варвара подумала, что она знает высокого генерала, и сразу отбросила это предположение: «Я тут никого не знаю среди танкистов!» Низкий, басовитый голос опять спросил: «Куда тут?» Молодой голос весело и приветливо сказал: «Сюда, сюда, товарищ генерал-лейтенант!» Генералы исчезли в избе, высокому пришлось наклониться, чтоб не удариться о низкую притолоку. Офицеры остались снаружи, они стояли у избы, негромко переговариваясь.
— Что ж вы? Прочитайте! — сказала Варвара танкисту в башне танка.
— Да нет, теперь уже не время, — откликнулся он с сожалением.
Тьма еще больше почернела, потом сразу начала подниматься, отплывать куда-то вверх и вперед, за шоссе, понемногу она перешла в серый сумрак, и Варвара увидела лицо танкиста в башне. Он стоял, видный по грудь, без шлема, голова у него была круглая, коротко остриженная, изрезанная белыми полосами шрамов, а совсем безбровое лицо было обожжено, иссечено и сшито наспех, со следами пересаженной кожи.
— Что, красивый я? — наклонился из башни к Варваре танкист; он услышал, как она сдержанно охнула, увидев его лицо. — Можно такого любить?
— Можно, — прошептала Варвара, чувствуя, как тоскует душа этого молодого парня.
— Вот и хорошо, вот и спасибо, — пробормотал танкист и нырнул в танк.
Воздух с грохотом раскололся, перед глазами у Варвары выросли столбы темной земли, они падали, таща за собой серое небо; взрывы опять раскалывали его и подбрасывали вверх, прошивая полосами огня; оно опять валилось на землю вместе с железом, комьями почвы, корнями убитых деревьев и испепеленной травою.
В небе появились бомбардировщики. Варвара плотнее прижалась к танку, лбом уткнувшись в броню. Кто-то толкнул ее в плечо:
— Ложитесь, ложитесь немедленно! Что ж это вы, эх…
Варвара увидела знакомое лицо капитана Петриченко.
— Лезьте, лезьте под танк!
Варвара, чувствуя неловкость, полезла под танк и легла на живот между гусеницами.
— А вы? — поглядела она из-под танка на Петриченко.
— А мне надо быть возле моего генерала, — ответил Петриченко и пошел в избу.
Бомбы падали между избами. Варвара сжалась под танком, чувствуя над собой его тяжелую, падежную массу. Вдруг настала тишина, и она услышала уже знакомый басовитый голос:
— Задание ясно? Бог тебе в помощь, подполковник!
За спиной у коренастого танкового генерала стоял Савичев и смотрел прямо на нее. Варвара как раз вылезала из-под танка, упираясь локтями в землю. Она почувствовала, как кровь прилила ей к лицу, глаза невольно наполнились слезами стыда, который она не могла побороть, — вид у нее, наверное, был жалкий… Варвара поднялась и начала поправлять волосы под пилоткой. Савичев сделал шаг к ней и протянул руку.
— Вам надо быть тут?
Он удивленно повел глазами вокруг, словно забыв, что несколько дней тому назад сам посылал ее в такое же опасное место.
— Надо, — улыбнулась ему Варвара.
Савичев крепко сжал ей руку. К избе задним ходом подвинулся «виллис». Танковый генерал сел рядом с шофером.
— Поехали, поехали! — крикнул он, повернувшись через плечо к Савичеву.
«Виллис» исчез за избою, офицеры побежали к своим машинам. Подполковник Кустов стоял на пороге избы и пускал дым из длинной трубки, придерживая ее крепкими пальцами у плотно сжатого рта. В эту минуту на дороге и в поле возник железный грохот. Кустов вынул трубку изо рта и нырнул в дверь избы, Варвара прошла за ним и увидела, как он легко и быстро уже поднимается по лестнице на чердак, Варвара, оступаясь, полезла за ним.
Снопы черного камыша, покрывавшие избу, были раздвинуты, образуя небольшой, расширяющийся книзу треугольный проем. У этого проема уже стоял Кустов, приложив к глазам большой, тяжелый бинокль. Из-за его плеча Варвара увидела в бесцветном утреннем освещении серую стрелу дороги, желтоватый простор созревших хлебов по обе ее стороны, невысокую темную стену леса за полями и над лесом — нагромождения будто из зернистого алюминия отлитых кучевых облаков.
Поперек поля и дороги стояли врытые в землю танки, среди растоптанной пшеницы чернели аккуратные артиллерийские дворики с орудиями и расчетами, виднелись ячейки петеэровцев с торчащими вперед длинными ружьями на сошках; в глубоких окопах сидела пехота. Варвара увидела разной величины воронки между танками, окопами и орудиями, пятна выжженной земли, перевернутые, вдавленные в землю танковыми гусеницами пушки, обгоревшие танки, наши и немецкие, — все, что осталось тут от вчерашнего боя.
Немецкие танки шли из лесу.
Слышалось тяжелое лязганье гусениц и рев моторов. Танки маневрировали по полю, прячась за подбитыми машинами. Они не стреляли, и по ним тоже не стреляли. Вслед за первой волной из лесу выплеснулась другая, слилась с первой и вместе с ней покатилась вперед.
Почти одновременно с первыми залпами артиллерии и выстрелами танковых орудий, перекрывавшими сухой лай бронебойных ружей и кряканье мелких и крупных мин, снова появились самолеты. Бой закипел на земле и в воздухе. Уши и глаза Варвары уже ничего не могли различить в хаосе разнообразных звуков, разноцветного дыма, столбов вывороченной взрывами земли и стелющегося по полю огня — во многих местах уже пылала спелая пшеница, ветер кружил языки пламени.
Казалось, ничто не может остановить атаку «тигров», за которыми шли бронетранспортеры с пехотой. В разных местах пылали машины, пехотинцы перебегали по полю, прячась за танками, падали, поднимались, и опять перебегали, и опять падали, чтоб больше уже не встать.
Варвара забыла, зачем она тут.
Аппарат висел у нее на боку, как совсем ненужная вещь, назначения которой она никогда не знала.
Кустов подходил к проему, смотрел в бинокль на поле боя, отдавал приказы по радио командирам батальонов и офицерам связи, которые поднимались на чердак, докладывали и сразу же грохотали вниз по лестнице. От избы отъезжали маленькие, юркие бронеавтомобили, они ловко разворачивались между щелями, в которых сидели бойцы, вырывались на дорогу и исчезали где-то среди обгоревших танков, в дыму и огне, чтоб вынырнуть на миг и опять потонуть, исчезнуть из виду.
Варвара взяла бинокль у Кустова. Девушка-санинструктор подползала к охваченному огнем танку, навстречу ей поднимал голову танкист, без шлема, в разодранном комбинезоне, с белым как мел лицом… Девушка на локтях подтянулась к нему, легла рядом, подсунула свое плечо танкисту под грудь. Танкист охватил ее за шею рукой, она поползла от танка, таща раненого на себе, тяжелого, залитого кровью. Девушка выбивалась из сил, разгребала руками стебли раздавленной пшеницы, словно преодолевая водное пространство, замирала обессиленно, припав щекою к земле, и опять ползла вперед. Прошитый огнем фонтан черной земли взлетел в небо. Варвара открыла глаза. Чернела свежая воронка, и расходился дым.
Варвара сунула бинокль в руки Кустову, переступила через ноги телефониста и стала спускаться по лестнице с чердака.
Только теперь, в прозрачной пуньке далекого от фронта села, лежа на сухом пахучем сене с закинутыми под голову руками, Варвара понемногу отходила душою после того потрясения, которое бросило ее с чердака крытой камышом избы, где она могла находиться в относительной безопасности и наблюдать поле боя, на самое поле боя, где уже ничего нельзя было наблюдать, где можно было только действовать и где опасность подстерегала ее каждую минуту на каждом квадратном метре выжженной земли.
Пережитое не возникало в ее памяти с трезвой последовательностью, все было разорвано на куски отдельных впечатлений, будто она опять просматривала альбом со старыми фотографиями.
Варвара ползла по полю от танка к танку, от окопа к окопу, перевязывала раненых, вытаскивала их из-под огня. Перевязочный пункт находился в балочке за деревней, куда прибывали машины и забирали раненых. Она опять возвращалась на поле. Неизвестно, сколько это продолжалось. Варвара видела перед собой только обгорелую, пропахшую дымом, соляркой и мазутом землю, спутанные стебли пшеницы, вдавленные в землю колосья, осколки железа, снарядные ящики, рассыпанные бронебойные патроны, раздавленные винтовки и пулеметы, сорванные с танков башни, убитых бойцов, которые лежали то навзничь, то ничком, раскинув руки, то на боку, подогнув ноги, — как кого застала смерть.
Среди всего этого мертвого мира ей светили живые глаза раненых, глаза, которые звали на помощь, заставляли побеждать страх, ползти, перевязывать и опять ползти из последних сил, доползать до балочки, подниматься, подсаживать раненых в машину и возвращаться туда, где лилась кровь.
Потом Варвара увидела, как из избы, где еще так недавно она стояла возле проема в снопах камыша, вышел подполковник Кустов, натягивая на голову танкистский шлем. Он легко вспрыгнул на броню танка, стоявшего под деревьями с заведенным мотором. Танк прошел совсем близко от нее, ей обжег лицо горячий воздух, она хотела что-то крикнуть, но Кустов уже исчез в танке, и люк башни закрылся. Танк шел туда, откуда Варвара выносила раненых, и она пошла за танком, боясь подумать о том, что ей придется, возможно, тащить на себе по полю обожженного, залитого кровью Кустова.
Варвара шла по полю и не могла уже распознать танк Кустова среди других танков, которые неожиданно вырвались из-за села на поле, обогнали ее и с ходу вступили в бой с немецкими танками. Варвара остановилась, пораженная стремительной мощью этого неожиданного движения, и тут опять увидела Кустова. Он медленно шел по полю среди воронок, держа в руке шлем, и седые его волосы блестели и казались синевато-зелеными. Остановившись рядом с Варварой, Кустов начал набивать табаком свою длинную трубку. Руки его дрожали. Варвара взяла у него спички. Он наклонил набок трубку и будто зачерпнул огонь из ее сложенных лодочкой ладоней.
— Ну, пошли? — сказал Кустов, затянувшись и выдохнув дым.
— Куда? Почему? — не поняла Варвара.
— Сгорела моя бригада, — сведенными в гримасу белыми губами громко прошептал Кустов, и Варвара увидела бездонную пустоту в его глазах. — Не видите, что сгорела?
Она тогда не поняла, что машины, которые вырвались из-за села и с ходу вступили в бой с немецкими танками, были уже не танками бригады Кустова, а из совсем новой танковой части, которая подошла как раз в то время, когда Кустов уже не надеялся на помощь и решил сгореть на поле боя, зная, что почти все его боевые машины и большинство людей погибли. Она не поняла и того, что все задание бригады Кустова состояло в том, чтобы выстоять под немецкой атакой те полтора-два часа, которые бригада и выстояла, что и высшее командование, которое поставило его на этом рубеже, и сам Кустов, и все его танкисты знали это с первой минуты и что это знание не только не уменьшало их решимости выстоять, а, наоборот, увеличивало эту решимость. Каждый наперед знал свою судьбу и шел ей навстречу без колебаний, хоть солгал бы тот, кто сказал, что судьба эта казалась всем одинаково легкой. Возможно, если б каждый должен был в одиночку встретиться с ней, с судьбой бойца, который должен ценой своей жизни обескровить врага и дать возможность другим бойцам разгромить и уничтожить его, — возможно, не все нашли бы для этого достаточно сил в своем сердце. Но собранные вместе, объединенные чувством долга и любви, они уже не могли думать каждый о себе и о своей судьбе отдельно — у них была общая судьба, и идти навстречу этой общей судьбе, встречать и принимать ее, какой бы она ни была, им казалось не только легким, но и радостным.
— А что с ним… — начала было Варвара и не смогла закончить: она не знала, как зовут танкиста с обожженным лицом, с которым Кустов ходил навстречу немецким танкам.
— С кем? — коротко бросил Кустов.
— Он еще стихи пишет…
Кустов не взглянул на нее и не ответил.
7
На четырех танках, из которых один был серьезно поврежден и часто останавливался, они вернулись в лес, где стояли тылы бригады. Танкисты сидели на броне и часто курили. Никто ни слова не промолвил за всю дорогу. Они подставляли лица встречному ветру, расстегнули комбинезоны, сбросили шлемы. Солнце радовало их. Иногда кто-нибудь закрывал глаза и запрокидывал голову, поднимая подбородок, чтобы поймать как можно больше смягченных встречным ветром солнечных лучей — каждой клеточкой, каждой порой кожи. Иногда кто-нибудь осторожно заскорузлым пальцем смахивал с глаз выжатую ветром слезу. Один попробовал запеть, прочистил кашлем горло и начал: «Три танкиста, три веселых друга…» Кто-то невесело засмеялся, — он оглянулся и умолк.
На опушке Варвара спрыгнула с танка и пошла назад к дороге. Кустов догнал ее.
— Вы куда?
Варвара пожала плечами она и сама не знала куда: в корреспондентский хутор, в другую часть?
— Оставайтесь… Вы теперь наша,
Варвара осталась.
Солдатские штаны на ней были грязные, в пятнах мазута, на изорванной гимнастерке запеклась кровь. Кустов приказал выдать Варваре танкистский комбинезон. Майор Кваша неохотно выполнил его приказ.
Теперь уже этот лес был где-то очень далеко, в прошлом, как были в прошлом громадные костры пылающих танков на поле боя, и чердак крытой черным камышом избы, и Петриченко, который заставил ее прятаться под танком, и Савичев, который несмело, будто извиняясь, спрашивал ее: «Вам надо здесь быть?», и танкист с обожженным и заплатанным лицом, который не успел прочесть своих стихов… Очень много было у Варвары в прошлом — много дней, много лиц, много сердец, много потерь. Теперь были только плетенные из ивовой лозы прозрачные стены прохладной пуньки и новые друзья, которых она, казалось, знала всю жизнь, давно не видела и вот неожиданно встретила. Все они тут, и все молчат, и ей не надо слов, чтоб понимать их, и они ее тоже понимают.
Варвара поднялась на локте. Подполковник Кустов лежит с закрытыми глазами, зажав погасшую трубку в зубах, — можно было бы подумать, что он спит, если б временами не вздрагивали у него веки. Рядом с ним капитан Геть, белокурый, совсем безбровый, нельзя угадать, сколько ему лет, — этот и вправду спит. А майор Черняков лежит на спине и смотрит на сучковатые стропила, которые поддерживают соломенную крышу пуньки, и думает, наверно, о своей казачке и о том, как ему пришлось писать ей о смерти Кацоева. У майора Чернякова сухое лицо, упрямый подбородок и тонкие губы, он сжимает их так, что они белеют. Ординарец Кустова, Максим, спит сидя — привалился спиной к стенке и готов проснуться, как только услышит голос своего подполковника. А майор Кваша расстелил плащ-палатку в загородке на мякине и посвистывает носом, уткнувшись лбом в сплетенные руки.
— Помнишь, Черняков, — сказал вдруг Кустов, не раскрывая глаз и не вынимая трубку изо рта, — помнишь, как мы на Дону захватили немецкие базы снабжения! Там было много всякого добра: и сардины в маленьких жестяночках, и французское вино, и консервированные ананасы, и наша водка. А старший лейтенант Кольцов принес пузатые фарфоровые бутылки с красивыми этикетками, обвитые золотым шнуром… Помнишь?
— Помню, — шевельнул белыми губами Черняков, — помню…
— И мы сели пить водку, а старший лейтенант Кольцов поставил на стол свою фарфоровую бутылку и сказал, что надо попробовать сначала из нее… И налил всем по кружке. На всю избу запахло цветами, как весной… Вот вино так вино! Кольцов от радости одним духом опорожнил свою кружку. «Братцы, — кричит, — начальники! Это же мыло!» Помнишь, Черняков, как он кричал: «Это же мыло, братцы мои, начальники!»
— И совсем это было не мыло, а розовая вода, — сказал Черняков, не шевельнувшись.
— Я знаю, что розовая вода, но он кричал, что мыло.
— Я тоже помню, он кричал: «Мыло!» — проснувшись, сказал капитан Геть.
Майор Кваша перестал посвистывать носом, поднял голову и проговорил своим обрюзглым голосом:
— Старший лейтенант Кольцов? Хороший был парень, пока не нарвался в Богучаре на эту кралю… Помните? Я ему говорил: не лезь, это немецкая овчарка, она тебя искусает. Не послушал, так искусала его, что ой-ой-ой!
Кустов выхватил трубку изо рта и сел на сене.
— Не смей говорить плохо о старшем лейтенанте Кольцове!
— А что я плохого говорю? Искусала, — значит, искусала, только и всего.
Кваша опять уткнулся лбом в сплетенные руки и засопел. Кустов лег и закрыл глаза.
— Подумать только, какой ты мерзавец, Кваша! Старший лейтенант сгорел в танке, бился до последнего снаряда и сгорел, а ты про него черт знает что выдумываешь. Никогда я не видел такого мерзавца!
Кустов говорил все это ровным, равнодушным голосом, но Варвара чувствовала, что в нем каждую минуту может прорваться та злость, с которой он выхватил трубку изо рта и сел, услышав слова Кваши.
Черняков проговорил:
— Он не только про Кольцова, он про всех вот так.
Кваша уже не посвистывал носом, а храпел вовсю. Кустов послушал его храп и покрутил головой:
— Уже спит, ворюга… Максим, огня!
Максим мотнул спросонья головой, выхватил из кармана коробку спичек — огонек сразу же засинел у него в ладонях. Кустов затянулся — душистый дымок расплылся в воздухе и смешался с запахом сена.
Капитан Геть совсем проснулся и сказал, потягиваясь так, что слышно было, как хрустят у него суставы:
— Интересно, что мы раньше получим — людей или машины? Мне сон снился: получаем мы машины с такой броней, что снаряды от нее отскакивают, как резиновые мячики… Вот бы гитлеряка позавидовал!
— Да и мы бы не отказались, — повернул к нему голову Черняков. — Выпить хочешь, Геть?
— А ты?
— Должно быть, хочу.
— И я, кажется, хочу.
— А командир бригады разрешит?
— Боюсь, что не разрешит, — вздохнул Геть.
У Кустова погасла трубка. Он положил ее в карман, поднялся с сена, отряхнулся и пригладил ладонями седые волосы. Варвара глядела на него из своего уголка. Движения его были замедленны, будто он что-то пересиливал в себе и не мог пересилить. Кваша храпел на мякине, Кустов подошел к Кваше, взял его одной рукой за воротник, другой за штаны на круглом заду, поднял над мякиной, подержал в воздухе и уронил на землю.
— Что ты? Что ты? Что ты? — забормотал Кваша, то хватаясь за грудь, то разминая пальцами лицо, будто умываясь.
— Неси, что там у тебя есть… Есть у тебя что-нибудь?
— Все есть, все есть… — Кваша поднялся и тер обеими руками поясницу. — У Кваши всегда все есть… Можно же по-человечески, а не так! Идем, Максим, поможешь мне.
Максим порядка ради отряхнул с Кваши мякину, и они вышли. Ивовые двери остались открытыми. В пуньку вошел серо-зеленоватый сумрак. Видна была черная зелень густых деревьев во дворе. Прошла невысокая беременная женщина, неся маленького ребенка на руках. Ребенок плакал, женщина приговаривала:
— Не плачь, не плачь… Подуй на пальчик, он и перестанет болеть. Не надо плакать. Тятька твой, солдат, как убило его пулей, не плакал… И ты будешь солдатом.
— Не приведи бог, — сказал майор Черняков.
Капитан Геть свистнул:
— Тятьку убило пулей, а брюхо у нее — от святого духа?
Капитан Геть совсем не пил, и все пили очень мало, просто сидели на сене; на плащ-палатке лежала колбаса, консервы, хлеб. Кваша вытаскивал из кармана бутылку, зачем-то закручивал в ней винтом водку, наливал в кружки и снова прятал бутылку в карман.
— В Москве, говорят, пол-литра водки «Тархун» — пятьсот рублей, — сказал он.
— Вот был бы тебе заработок.
— Я казенным добром не торгую.
Варвара отпила глоток, чтобы не обидеть Чернякова и Кустова — они молча протянули к ней кружки. Выпив, Кустов сказал:
— Нет в ней утехи… Спой, Геть.
И Геть начал петь и пел, пока уж совсем не стемнело, тихим, приятным голосом, отчетливо выговаривая слова. Он знал много песен и, пропев одну, начинал сразу же другую. К пуньке тихо подошла беременная женщина и села прямо на землю, вытянув вперед толстые короткие ноги. Потом подошли танкисты. Один спросил:
— Разрешите послушать, товарищ подполковник?
Кустов молча кивнул. Танкисты уселись снаружи, прислонившись к стене пуньки, под их спинами затрещала лоза.
А капитан Геть все пел и пел, звезды уже высыпали на черном небе, а его песням не было конца. Варвара вслушивалась в его голос, печаль хватала ее за сердце, но ей было легко с этими добрыми, суровыми людьми, и она думала о том, чтоб навсегда остаться с ними. Ей всегда хотелось остаться с теми, кто ей нравился, кого она считала добрыми, — остаться и быть тоже доброй с ними. Она понимала, что это невозможно, но ей все-таки хотелось остаться. И с Лажечниковым она хотела остаться в его землянке. Она вдруг увидела его на скамейке в лесу у дивизионного шлагбаума, а потом — как он стоял с поднятой рукой и смотрел вслед ее грузовику. И там она тоже не могла остаться. Почему? Как все плохо, несправедливо складывается на свете. Там ей надо было остаться. Надо было не с этими танкистами, а с ним пережить то, что она пережила на поле, и машина была в хозяйство Повха, а она заставила себя не ехать. Почему плачет эта беременная женщина? Что он такое поет, этот капитан Геть? Варвара прислушалась к песне. Капитан Геть пел, словно сам себе рассказывал;
Летiла зозуля Через мою хату, Сiла на калинi Та й стала кувати. Ой ти, зозуленько, Чого ж бо ти куєш? Чи ти, зозуленъко, Мое горе чуєш?Почему так доходят до сердца эти нехитрые слова о кукушке, что в них заложено, какая правда в них бьется, какие слезы в них кипят? Сколько слез годами вливалось в эту простую мелодию — от поколения к поколению, что так наполнилась она ими, трепещет, как живое сердце, бьется и рыдает?
Ой, горенько-горе, Що я наробила? Козак має жiнку, А я полюбила!Ах, вот оно что! Старая как мир история, о ней во всех книгах написано, и пето, и перепето, и будет петься, пока мир стоит… «Козак має жiнку, а я полюбила!» Неправда, нет у него жены, и у меня никого нет, и ничто нас не связывает, и никто нам не препятствует… Почему же я не осталась там? Почему я здесь и не знаю, где он и что с ним?
Козак має жiнку, Ще й дiточок двое… Колеться серденько Начетверо моє!Значит, так и должно быть, если кто-то уже чувствовал раньше то, что она чувствует теперь, и не только чувствовал, а излил свои чувства в тех нехитрых словах, что потрясли ее душу? Значит, не она первая проходит сквозь то состояние, когда «раскалывается сердце»? А где же счастье? Не просто счастье, а ее неизбежное счастье, о котором она могла бы сказать — «мое»?
Капитан Геть замолк и не начинал новой песни. Всхлипывала беременная женщина под пунькой. Подполковник Кустов поднялся и чужим голосом сказал:
— Концерт окончен.
Танкисты сразу же встали и ушли. Встала и женщина, фигура ее прорисовалась черным неуклюжим силуэтом в дверях пуньки.
— Спасибо тебе, командир, что ты бабье горе знаешь, — сказала женщина и отошла от дверей, исчезла сразу, будто ее и не было.
Варвара вышла из пуньки, чтоб разыскать женщину, поговорить с ней, — может, у этой женщины найдет она ответ на вопрос, который разрывает ей сердце, может, эта женщина, что потеряла мужа, нянчит его ребенка и уже носит под сердцем второго, от другого, может, эта женщина с большим животом и толстыми короткими ногами, которая так горячо всхлипывала, слушая песню капитана Гетя, и с таким чувством произносила слова благодарности, может, она знает что-то, чего не знает Варвара, — пускай поделится с ней, пусть отдаст ей хоть часть своего знания, и Варваре будет легче… Женщины уже не было на темном подворье. Белая хата стояла запертая, в занавешенных окнах не было света.
Варвара подошла к воротам, раскрытым настежь, посмотрела на серую полосу песчаной улицы, обставленной белыми хатами и высокими темными березами. В небе летели самолеты, заслоняя крыльями звезды. Тихо рокотали моторы, тихо плескалась листва берез, словно что-то говорила ей.
Твоя жизнь, Варюша, ты и отвечаешь. И все, что тебе приходится решать в жизни, ты должна решить сама. Говорят, что жизнь учит… Но учит не чужая, а собственная жизнь. Если боишься сделать ошибку, ничему не научишься. Чужая ошибка тебя тоже не научит. Надо самой и ошибаться и находить тот ответ, что все решит и позволит жить дальше, до нового узла вопросов, который тебе придется развязывать. И ни в жизни других людей, ни в книгах ты не найдешь готового ответа на то, что тебя мучает. В книгах только примеры, а не образцы. Даже пользуясь поваренной книгой, надо иметь свой вкус. А сделать собственную жизнь так, чтобы не стыдно было перед собой и перед людьми, — это ведь не ватрушку слепить!
В пуньке все уже спали.
Варвара тихонько прошла в свой уголок — в головах белела подушка, грубое шерстяное одеяло прикрывало ее до половины. Варвара наполнилась благодарностью к тому, кто подумал, что ей может стать холодно ночью. Она осторожно стянула сапоги, укрылась до пояса одеялом и прислушалась. Тихо дышал Кустов неподалеку от нее. Привыкнув к темноте, Варвара увидела его лицо. Он лежал, как и днем, закинув руки под голову, только трубки не было во рту. Седина его сливалась с чем-то темным, блестящим… «Это он свернул кожаную куртку себе под голову, — поняла Варвара, — а подушку положил мне. Какой милый». Скрежетал во сне зубами Черняков, и беспокойно поворачивался с боку на бок капитан Геть. На мякине посвистывал носом Кваша… Все тут, только Максима, кажется, нет… Но и дыхание Максима она вскоре услыхала — он устроился на шинели у Квашиной загородки, положил голову на руки, так и заснул в комбинезоне и сапогах.
Хорошо, будет спать и она. Надо выспаться, отдохнуть и снова приниматься за свою работу… Завтра она сфотографирует новых своих друзей, хоть редакцию не заинтересуют танкисты на переформировании. Она сфотографирует их для себя и для них, запишет адрес полевой почты и вышлет снимки. И Максима сфотографирует, и даже Квашу… Пленка у нее есть, хватит на всех. До обеда она управится с этим, а там — дорога… Она легко вздохнула, представив себя снова в попутной машине, рядом с незнакомым шофером, — нет ничего лучше, чем ехать навстречу неведомому. Все, что было, — уже было, а того, что будет, — не знаешь и не можешь себе представить. Кого встретишь, с кем будешь говорить, повесть чьей жизни услышишь, чье лицо запомнишь, чье сразу же забудется… Одно лицо она запомнила, оно заставило ее забыть все, что было в ее жизни, — Сашу. Ей стало горько от мысли о Саше и его судьбе, но что она может сделать с собою? Она ни в чем не виновата перед Сашей, перед собой, перед Галкой… Она ведь могла быть теперь там, куда сердце велело ей броситься в первую же минуту, как послышался грохот артиллерии на передовой. Она победила себя, она здесь нашла новых друзей, которые так много ей дали и так много значат теперь для нее, хоть ни один из них не значит столько, сколько тот полковник, имени которого она даже не знает… Лажечников — и все. Пусть так все и остается — встретила какого-то полковника Лажечникова, сердце рванулось ему навстречу, но, если давать волю сердцу, далеко можно зайти. Иногда она сможет посмотреть на тот маленький негатив, что лежит в ее записной книжечке, завернутый в чистую бумажку. Печатать она его не будет. Нет, не будет… На что ей этот полковник? Она даже не знает, как его зовут. Если б ее спросили: «Кого ты любишь, Варюша?» — что она могла бы ответить? Полковника Лажечникова? Глупости! Так не бывает.
Легкая рука легла на ее грудь и замерла. Грозно ударило сердце. Варвара не раскрыла глаз. Молчаливая мольба была в тепле этой легкой руки. Она поняла, кто молил ее о тепле, кому так безмерно холодно и одиноко этой черной ночью. Варвара накрыла эту беспомощную руку своей большой ладонью и в тот же миг ощутила, как чужие горячие губы ищут ее губ. Задыхаясь от слез, Варвара ответила на поцелуй Кустова, обеими руками взяла его голову и отклонила от себя. Он слышал, как она в темноте шарила руками, отыскивая сапоги, и не остановил ее.
Фотоаппарат и вещмешок лежали под стеною. Варвара взяла их и тихо вышла из пуньки. Беременная женщина сидела у дверей своей хаты на обшитой досками завалинке. Варвара вышла из ворот и медленно пошла по дороге. Скоро начнет светать, и она найдет попутную машину в хозяйство Повха.
8
Бросив в глаза лейтенанту Мине свое: «Виноват, виноват!» — Люда выбежала из избы, не зная, что ей делать и где искать брата. Гнев и отчаяние душили ее. Одно лишь она знала наверняка: Кузю надо найти, надо выпросить у него прощение за любовь, которая так не ко времени вспыхнула в ее доверчивом сердце. Что будет потом, когда вернется с войны Серега, что она скажет ему, Люда не знала. Серега был далеко, словно в другом мире, который неизвестно, существует ли, а Кузя был где-то здесь, очень близко, и она чувствовала ответственность только перед ним, перед маленьким неподкупным судьею, который, осудив ее, сам испугался своего приговора и убежал неизвестно куда.
Люда и не заметила, как очутилась на ночной полевой дороге.
Хутор маячил позади темной грядой высоких деревьев. Знакомый хуторской барбос сначала сослепу облаял Люду, а потом, узнав, выбежал за нею в поле, — он стоял перед ней, задрав морду, и глядел в глаза, словно спрашивал: «Куда ж ты теперь?»
Ответ подсказала теплая дорога, на которой Люда стояла босыми ногами. Люда наклонилась к барбосу, потрепала его за уши и сказала:
— Пойду по родным, не сквозь землю же он провалился!
Барбос мотнул головою, будто сказал: «И то правда».
Люда пошла по дороге, барбос постоял немного, посмотрел ей вслед и вернулся в хутор: он охотно побежал бы за ней, но был воспитанным псом и знал свое место у хозяйской клети.
У Люды было много родственников по окрестным селам: в Крапивном — тетка-вдова с маленькими детьми, в Зубарях — старшая сестра с безногим мужем (как раз перед войною ему оторвало ногу на молотилке), в Гусачевке — родители Сереги и его замужние сестры, мужья их тоже воевали.
Люда боялась поверить в то, что Кузя исполнил свою угрозу и сбежал в бойцы, — это налагало на совесть тяжкий груз, она бы не снесла его.
Убежал к кому-нибудь из родни. Что ему делать в бойцах! Маленький, глупый, первой пулей его и срежет. Был бы он хоть братом Сереге, можно было бы понять, что обиделся за брата. А то ведь ее брат, она его вынянчила, была ему вместо матери, а он не мог ни понять ее, ни простить!
К тетке в Крапивное, небольшое сельцо, расположенное на горе в стороне от большой дороги, Люда пришла задолго до рассвета. В теткиной избе стояли солдаты, сама она с детьми ночевала в плетеной пуньке на мякине. Дети заплакали, когда Люда осторожно вошла в пуньку. Тетка спросонок не узнала ее.
— Ты кто? Ты чего?
Кто эта босоногая женщина, утомленная ночной ходьбой, тетка в конце концов поняла, а поняв, сразу же сообразила, что ее привело среди ночи.
Тетка Фрося, отцова сестра, была не старше Люды, но вдовство и трое детей состарили ее преждевременно, обострили ум и притупили чувства.
В девках была Фрося красивой и веселой, переплясывала и перепевала всех подруг на вечеринках, парни ходили за ней табунком, она только посмеивалась над ними, оставляя свое сердце для одного. За того одного, кто был ей милее всех, и пошла замуж; а его взяли на финскую войну, взяли и не вернули домой — там он и остался в глубоких снегах под Выборгом, получив свою пулю в последнем штурме, когда уже известно было, что мир подписан. За детьми да за хозяйством Фрося почернела, иссохла, не часто умывалась, а от песен и смеха не осталось в ее сердце и следу.
— Ложись, — сказала Фрося и подвинулась на мякине. — Грех, должно быть, у тебя на сердце… Носит тебя по ночам!
Люда легла возле Фроси и заплакала.
— А не блуди, — сказала Фрося и с сердцем ущипнула Люду за полную руку выше локтя, — так и глаза сухие будут!
Фрося любила выразиться и крепче, она давно отвыкла от тонкостей и называла вещи своими именами, как и все бабы в маленьком село Крапивном, не пугаясь ни оболочки слов, ни их смысла.
Люде нечего было ответить, в слезах она уснула возле тетки, уткнувшись лбом ей в спину. Фрося долго еще слышала, как всхлипывала Люда сквозь сон.
Люда проснулась, едва начало светать. Земля содрогалась от далекого орудийного грома. Над селом кружили самолеты. Фрося хватала детей и относила их в щель, выкопанную за избой. Там уже сидели босые солдаты в нательных рубахах, они принимали из рук Фроси сонных ребят.
— Прилетел аэродром бомбить! — крикнула Фрося, хватая на руки старшую девочку. — Он часто прилетает, паразит, а на том аэродроме фальшивые самолеты стоят. На той неделе швырнул, паразит, бомбой на село, у Домны Аккуратовой корову убило!
Люде не было дела до Домны Аккуратовой и ее коровы. Она оперлась спиной об угол избы, машинально переплетала концы своих пышных кос и глядела, как над ложным аэродромом под горой, где стояли фанерные самолеты, очень похожие на настоящие, кружат немецкие бомбардировщики, разворачиваются и сбрасывают бомбы. Столбы земли взлетали в небо; грохот взрывов и толчки воздуха, которые словно прижимали ее к углу избы, не пугали Люду, она не слышала, как солдаты кричали ей из щели, чтобы пряталась: убьет осколком — и очень хорошо, сразу все кончится. У нее шевельнулось враждебное чувство к этим пожилым, один к одному некрасивым, низкорослым солдатам из какой-то строительной команды, прятавшимся в щели. Она не знала, что им как раз больше всего и доставалось от немецких самолетов, когда они ремонтировали дороги и наводили мосты, и что умеют они не только прятаться по щелям, но и копать, забивать сваи, тесать бревна, гасить плотины под огнем, не откладывая топора и не поднимая головы, когда рядом падают товарищи, такие же немолодые, многосемейные люди.
Немецкие самолеты, сбросив бомбы на ложный аэродром, улетели. Люда поела с Фросей холодной картошки с простоквашей, повязалась своим желтым платком и отправилась в Зубари, так и не сказав тетке, зачем приходила. Люда шла полевыми дорогами, прежде безлюдными и тихими. Она с детства знала эти тропки, рощицы, балочки и теперь не узнавала их. Всюду в замаскированных травою и соломою окопах и щелях сидели солдаты, в балках стояли орудия и танки. Несколько раз Люду останавливали, но простой рассказ о том, что она ищет маленького брата, который убежал на фронт, не вызывал подозрения — ее пропускали, хоть каждому хотелось, чтоб эта красивая молодая женщина осталась с ним на знойном поле.
Один старший сержант, что сидел у дороги над длинным окопчиком и чистил противотанковое ружье, так и сказал, глядя на Люду белыми, будто выгоревшими на солнце глазами:
— Оставайся с нами, красавица, не найдешь ты своего брата, раз парень захотел бойцом стать… Армия большая, вам обоим дела хватит.
— А что я буду у вас делать? — спросила Люда.
— Будешь мне портянки стирать, а как раздавит меня танк, поплачешь немножко, да и забудешь.
Люда улыбнулась солдату и пошла дальше.
Люда была не из тех, что забывают. Красавец Миня стоял у нее перед глазами, и хоть он причинил ей столько горя, Люда уже снова не чувствовала к нему ничего, кроме любви и благодарности. Побег Кузи был теперь сам по себе, а ее любовь к Мине сама по себе. Люда свои отношения с Миней уже не связывала с поступком брата и во всем винила только себя. То, что она крикнула Мине в избе Александровны, было только словами, а сердце ее уже тогда оправдывало красивого лейтенанта. Сама ведь она бросилась ему навстречу, забыв и про Кузю и про Серегу, сама должна и отвечать за все.
В Зубари Люда пришла к полудню. Тут тоже было много солдат. Во дворах под деревьями стояли машины, тягачи, орудия. Проходя мимо березовой рощи, Люда видела танкистов. Грохот орудий слышался тут яснее. Зубари были ближе к передовой, но Люду не пугал этот грохот, главное было — найти Кузю.
Федора месила тесто в высокой кадке, руки ее чмокали в похожем на оконную замазку синеватом тесте; Силантий сидел на лавке, вытянув вперед деревянную ногу, подкованную белым стертым железным кольцом. Они обрадовались Люде и не спросили, зачем пришла; может, потому, что до них дошел какой-то слух — до Зубарей от Людиного хутора было недалеко, а молва быстро ходит, — а может, потому, что жалели ее.
В печи пылали обмолоченные прошлогодние сухие головки подсолнечника. Люда вымыла руки и помогла сестре посадить хлеб в печь. Федора была высокая, жилистая, молчаливая. Зато муж ее любил поговорить.
— А что, Люда, — сказал Силантий, постукивая кольцом своей деревяшки по полу, — опять война к нам пришла? Ты к штабу живешь близко, что там солдаты говорят: устоят против наступления или опять сдадут нас немцу? Говорят, немец собрал такую силу, что устоять трудно.
Занятая мыслями о Кузе, Люда не успела подумать о том, что будет с войною: пойдет она на запад или опять покатится на восток, как в прошлом году. У Люды похолодело под сердцем от страха, она еле прошептала побледневшими губами:
— Не слыхала, Силантий Матвеевич, я ведь из дому вышла, еще когда не гремело.
— Да тебе и некогда к солдатским разговорам прислушиваться за тяжким-то трудом, — сказал Силантий и так глянул на нее из-под нависших бровей, что Люда поняла — Силантий все знает.
Она молча ждала: вот он сейчас заговорит о том, что неминуемо должно свалиться ей на голову, но Силантий говорил уже о другом, потому что это другое больше интересовало и беспокоило его, чем дела Люды.
— Хоть бы хлеб убрать, жарынь какая стоит! — сказал Силантий. — Ходил я вчера по полю… А кто убирать будет? Колхоз — одна слава, безногий Силантий да безрукий Петр. До войны были и жатки и комбайны присылали, а теперь бабы с серпами.
— Солдаты помогут, — откликнулась Федора, отодвигая заслонку и заглядывая в печь, откуда пахло уже печеным хлебом.
— Солдаты помогут бабам детей рожать! — стукнул об пол деревяшкой Силантий, и Люда опять испугалась, что он сейчас заговорит про ее беду.
— Что ты все про солдат? — снова сказала Федора, будто умышленно отвлекая его внимание от опасной темы. — Благодари бога, что тебе ногу оторвало на молотилке, а то был бы и ты солдатом, была бы и я вдовою…
Люда переночевала у сестры. Федора молча вздыхала рядом с ней всю ночь, а на рассвете, когда Люда умывалась из медного позеленевшего рукомойника, Федора сказала:
— Свекор твой приходил, будто бы Силантия звать на подмогу гусачевцам — к ним фронт близко, им хлеб надо убрать… Спрашивал, старый черт, про тебя. Как там, говорит, наша Людка, ничего про нее не слыхать?
Люда поцеловала Федору в черную щеку и пошла к Гусачевке все по тем же полевым дорогам и тропинкам, по которым, бывало, бегала до войны. Как ни рано она проснулась, а война проснулась еще раньше. Впереди, там, где была Гусачевка, гремело сильнее всего: Люде казалось, что это не орудия бьют непрерывно об землю, а старый свекор отчитывает ее своим страшным басом, который идет у него не из груди, а откуда-то из живота. Люда знала, что не миновать ей тяжелого разговора со свекром, что лучше бы ей повернуть в свой хутор — тут до него рукой подать, — но шла все вперед и вперед, низко склоняя голову, которая в сбившемся оранжевом платке похожа была на подсолнечник.
Была Люда не только из тех, кто не забывает, но также и из тех, кто умеет идти навстречу ответственности, не сворачивая с дороги, что бы там ни ждало впереди. Люда не могла бы сказать, что не боится свекра, не боится его глухого голоса, не стыдится тех слов, которые должна от него услышать, — и боялась она и стыдилась, но жило в ее душе что-то, велевшее ей не избегать разговора, предстоявшего в Гусачевке.
О свекрови Люда не думала. Мать Сереги уже пятый год лежала без ног на печке. Простудилась, выколачивая белье в гусачевском пруду поздней осенью, — как легла, так и не встала уже, хоть Серега привозил врачей из райцентра и даже возил мать на колхозной полуторатонке в курскую больницу. Свекровь разве что посмотрит на нее с печки полными слез глазами, а вот свекор! Видит она его порыжевшую от табака бороду, слышит голос, и руки-ноги у нее холодеют, а сама все идет по тропинке вперед — знает, что нельзя ей не идти.
Над Гусачевкой еще издалека увидела Люда тучу дыма, а когда вышла на шоссе с полевой тропинки, сразу же встретила несколько грузовиков, на которых поверх столов и ящиков сидели военные девушки. Потом навстречу ей прошли легкораненые. Их вела молодая женщина-военврач с капитанскими погонами на гимнастерке. Обгоняя Люду, с грохотом проползла на тупоносых тягачах батарея пушек и заняла позиции на гусачевской горе, у церкви.
Свекор, словно ничего этого не замечая, чинил ворота. Машины шли мимо двора, солнце уже взошло, на высоком морщинистом лбу свекра блестели капельки пота. Старик был сильный, широкоплечий, неторопливый, а слова умел говорить такие, что били, как гирей.
— Чего пришла? — сказал он, когда Люда поздоровалась. — Видишь, раненых вывозят. Скоро немец опять у нас будет… Легкие пошли своим ходом, а кто потяжелее, тех на машинах. В избу зайдешь?
— Зайду, папаша, — тихо проговорила Люда, восхищаясь спокойствием, с которым свекор обтесывал острым топором старую, сухую доску перед тем, как прибить ее в полотнище ворот.
— Разворачивалась ночью пушка, повалила ворота.
Свекор, как бритвой, снял тонкую стружку с доски, поставил доску на место, вытащил из кармана ржавый гвоздь и обухом с двух ударов пришил доску куда следует.
«Серега — тоже хороший плотник, — подумала Люда, входя в избу, — у отца учился…»
Свекровь узнала ее шаги, — лежала она на печке навзничь и не могла видеть, кто вошел.
— Каким ветром тебя занесло, доченька? — сказала свекровь тихим, больным голосом, от которого у Люды всегда замирало сердце. — Слышишь, как стреляют?..
Люда любила свекровь: за все годы, что была за Серегой, не слыхала от нее плохого слова. Как начнет, бывало, свекор бить ее своими словами, что, мол, нет внуков, свекровь замашет на него руками: будут у тебя, старый, и внуки и правнуки, не встревай ты не в свои дела!
— Может, вам что нужно, мама? — сказала Люда, стоя у печки.
— А что мне нужно? Сереженьку повидать бы перед смертью, а так все слава богу.
Свекор вошел в избу, положил на лавку топор, напился воды из деревянного ведра, накрытого чистой фанеркой, стряхнул капли из кружки на пол и сел, положив руки на черный от старости стол.
«Сейчас он и скажет», — подумала Люда, холодея, и услыхала голос свекра:
— От Сереги писем не было?
— Не было, папаша.
— И нам не было. Некогда писать.
Избу тряхнуло взрывом, задребезжали стекла, свекровь на печи вздохнула.
— Может, ты по делу какому к нам, Люда?
— Нет, мама, просто соскучилась, захотела проведать…
Свекор поднялся.
— Иди домой. Покуда что живы, а там посмотрим.
Люда вышла из избы. Свекор провожал ее.
— Я бы и сам пошел, — слышала Люда его голос у себя за плечом, — нету охоты опять немца видеть… Насмотрелись! Да куда пойдешь с больною?
У ворот остановилась большая крытая машина, шофер выскочил из кабины, выдернул из-под сиденья брезентовое ведро и подбежал ко двору.
— Где у тебя колодец, дед? Закипел мой самовар!
Свекор повел шофера за избу к колодцу, вскоре они вернулись, и шофер, глядя на Люду, сказал:
— Вот это твоя невестка? Что ж такого, взять можно… Правда, не знаю, какой нам будет маршрут, а все-таки дальше от пекла. Полезай, красавица, в кузов!
Шофер из брезентового ведра наливал воду в радиатор.
Люда поглядела на свекра и впервые увидела, какой он стал старый, как опустились и будто уже сделались его плечи. Он быстро моргал ресницами, словно боялся, что предательская слеза выкатится из глаз, а негоже ему, старику, показывать свою слабость, плакать перед невесткой… Надо, ох надо бы ей много чего сказать про ее жизнь, про Серегу — да не то время, чтоб язвить живое сердце. Пускай все утихомирится, живы будем — тогда и поговорим. Тогда он ей все и скажет, а не сможет сказать, не будет уже в нем дыхания человеческого — пускай тогда ее господь судит.
Люда ткнулась свекру лицом в бороду, услышала запах махорки, всхлипнула и полезла в кузов. Там лежали на соломе раненые и жались к бортам медсестры и санитарки. Одна из них, с круглым, как у окуня, ротиком, зашипела:
— Куда ты? Не видишь, тут раненые!
Машина двинулась. Люда ударилась плечом и вскрикнула.
— Люда, — услыхала она голос Кузьмы и увидела его загорелое, до синевы бледное лицо у своих ног. — Сильно ушиблась?
Глаза у Кузьмы были испуганные и радостные. Люда поглядела в эти глаза и увидела в них, что малолетний брат ее понял, что она ищет его, обрадовался ей и простил все, что должен был простить, — поняла также, что именно ради этого прощения она искала Кузю, что оно было для нее самым нужным и самым важным.
Люда склонилась над братом, слезы покатились у нее из глаз, упали на его лицо и смешались с его слезами.
9
Немцы, опомнившись после нашей контрартподготовки, навалились на батальон капитана Жука всей силой своего огня. Батальон сразу же понес большие потери. Спиридон Жук и Иустин Уповайченков, который лежал рядом с ним, уткнувшись лицом в землю, остались в живых.
Мимо командного пункта санинструкторы тащили к реке, под обрыв, тяжелораненых. Легкораненые ползли сами. Они несли с собой оружие — автоматы, бутылки с горючей смесью, большие противотанковые гранаты, бронебойные ружья. Капитан Жук приказал оставлять оружие на плацдарме. Вскоре в щели у командного пункта образовался целый арсенал.
Связь с левым берегом, где помещался штаб полка и в овраге расположились батареи капитана Слободянюка, была прервана в первую же минуту. Вскоре прервалась связь и с командирами рот. Связисты поползли во всех направлениях. Некоторые из них не вернулись, но связь была восстановлена. В это время и пошли на батальон капитана Жука немецкие танки.
Сначала из-за бугра высунулись длинные хоботы танковых пушек, блеснули гусеницы, танки взяли перевал и медленно поползли вниз по полю на окопы бойцов.
Уповайченков, поднявшись на локте, начал считать танки, но от волнения все время сбивался. Танки меняли направление, заслоняли друг друга, и ему не удавалось установить, сколько их выползло на поле.
— Шестнадцать «тигров»! — послышался отчаянный и веселый голос капитана Жука.
Уповайченков оглянулся. Спиридон Жук кричал в телефонную трубку, прикрывая мембрану ладонью:
— Своими глазами вижу шестнадцать, а сколько их всего!.. Есть держаться!
Веселый, отчаянный голос Жука успокоил Уповайченкова.
Было то мгновение на поле боя, когда все замирает в ожидании первого выстрела. Слышалось только грохотание танковых моторов да лязганье гусениц. Танки не стреляли, медленно сползая вниз по полю. Они выжидали, пока демаскируют себя огнем противотанковые пушки. Артиллеристы не открывали огня, чтобы преждевременно не выдать своих замаскированных позиций. Для пехоты танки были еще далеко — бойцы осторожно выглядывали из-за брустверов, держа наготове гранаты и бутылки с зажигательной жидкостью, ожидавшей своей минуты за тонкой стеклянной оболочкой. Вдруг в этой напряженной тишине чье-то сердце не выдержало — затарахтел длинной очередью тяжелый пулемет, захлебнулся, снова затарахтел, его скороговорку подхватили другие пулеметы, послышались выстрелы противотанковых ружей, взорвалась, подняв фонтанчик смешанного с песком дыма, вслепую брошенная граната. Танки продолжали ползти по полю, грохот моторов и лязганье гусениц отдавались тяжелым буханьем крови в висках Уповайченкова.
Что-то с резким металлическим звоном ударило рядом. Уповайченков оглянулся и теперь только понял, что тот странный корявый куст, под которым лежали на земле бойцы в зеленых шлемах, был противотанковой пушкой. Он вспомнил также, что перед выстрелом пушки ему послышался молодой свежий голос, крикнувший: «Огонь!» Теперь Уповайченков видел уже того, кому принадлежал этот голос.
Лейтенант в короткой зеленой плащ-палатке, собранной на тесемке вокруг шеи, с зеленой увядшей веточкой на шлеме, стоял на одном колене в двух шагах от пушки, подняв правую руку. У пушки два бойца тоже стояли на коленях, третий склонялся к пушке сзади.
Лейтенант резко рванул руку вниз и крикнул!
— Огонь!
Стрелка золотого огня вылетела из жерла пушки, в то же время лопнул воздух, небольно ударив Уповайченкова по ушам; он поглядел вперед и увидел, что перед танками по всему полю вырастают из земли столбы взрывов, а сами танки расползаются в разные стороны, будто каждый из них выбирает свое особое направление.
— Ну что они там, пускай дают! — услыхал Уповайченков раздраженный голос капитана Жука и увидел рядом с Жуком еще одного капитана, в артиллерийских погонах. Откуда он тут? Что значит слово «дают», которое с таким раздражением выговорил Жук? Очевидно, от этого артиллерийского капитана зависит, чтоб «давали», иначе Жук не стал бы к нему обращаться.
Уповайченков не мог охватить всей картины боя с тяжелыми немецкими танками, который завязывался на плацдарме. Глаза его выхватывали то ту, то другую подробность, но не объединяли их и не осмысливали. Ему казалось, что каждый тут действует отдельно и независимо от всех прочих. Лейтенант поднимает кулак, стоя на колене у своей пушки, и кричит: «Огонь!»; капитан Жук хрипит в телефонную трубку: «Не бойся, Солодовников, подпускай ближе»; артиллерийский капитан кричит что-то свое, и все это перекрывается грохотом выстрелов, взрывами, лязгом железа и ревом танковых моторов.
Тяжелый, как яростный удар грома, грохот орудийного залпа и отделенная от него лишь кратчайшим мгновением серия разрывов заставили Уповайченкова припасть лицом к земле. Уповайченков не чувствовал страха. Не чувствовал он и того подъема, который охватывает старых бойцов перед лицом врага. То, что чувствовал Уповайченков, скорее всего можно было назвать удивлением, потому что это и было удивление неопытного человека, который впервые переживает бой, — чистосердечное, неподдельное удивление новичка перед всем, что развертывается у него на глазах.
Все тут было не так, как представлял себе Уповайченков; не так, как писали фронтовые корреспонденты в своих очерках; не так, как это выглядело на фотоснимках с фронта, которые он отбирал для очередного номера газеты во время своих дежурств в редакции; не так, как показывали короткометражные выпуски кинохроники, и конечно же совсем не так, как изображали войну кинорежиссеры в снятых за тысячи километров от фронта художественных фильмах. Все было значительно проще и значительно сложнее.
Было еще одно «не так», которое чувствовал вместе со своим удивлением Уповайченков.
То, что все тут происходило не так, как он привык представлять себе по корреспондентским очеркам, фотоснимкам, короткометражным выпускам кинохроники и художественным фильмам, удивляло его меньше, чем то, что все тут происходило вообще не так, как должно было бы происходить. Уповайченков отбросил все «не так», которые возникали из его прежних представлений о бое и о войне в целом, а картина, развертывавшаяся перед ним, все еще не умещалась в те рамки, которые он мысленно создал для нее, и потому, что она ломала эти выдуманные Уповайченковым рамки, он не мог с нею согласиться.
Зачем капитан Жук так страшно вращает черными блестящими глазами, топорщит усы и перемешивает слова команды с отвратительной руганью, которая вырывается из его искривленного рта ужасными словосочетаниями, каких и представить себе нельзя?
Зачем снаряды и мины все время перебивают кабель, когда без связи тут ничего нельзя ни сделать, ни даже понять? Почему танки идут по открытой местности, где их так легко поразить, но их не поражают и не останавливают, и они продвигаются все вперед и вперед? Ведь стоит только хорошо прицелиться, попасть — и конец!
Почему снаряды отскакивают, не пробивают брони, даже когда попадают в «тигров»? Если они не могут пробить броню, значит, надо было сделать другие снаряды, которые могут ее пробить, — это ведь так просто!
Почему боец должен выскакивать из окопа, чтобы бросить под танк гранату или разбить о броню бутылку с горючей смесью? Ему редко удается беспрепятственно осуществить свое намерение: пулеметная очередь пришивает бойца к земле, — а этого не случилось бы, если бы он имел возможность бросать гранату или бутылку при помощи какого-нибудь устройства, не выходя из окопа.
Почему связисты так медленно ползут вдоль провода, припадая к земле каждую минуту, когда им кажется, что снаряд, гудящий в воздухе, предназначен именно для них?
Почему лейтенант у пушки вскидывает руку, поднимается во весь рост, увидев совсем близко, перед собою немецкий танк, и, не успев крикнуть «Огонь!», падает головой вперед на выгоревшую, истоптанную, засоренную ветками, листьями, какими-то бумажками, снарядными гильзами и щепками, неубранную землю?
Еще множество «почему» возникало у Уповайченкова как неопровержимое свидетельство того, что все тут идет «не так», и вызывало желание все переиначить, переделать по-своему.
К капитану Жуку подполз сержант в растерзанной гимнастерке, кровь струилась у него по щеке, он утирался какой-то тряпкой и хрипел, лежа на животе:
— Капитан… слушай меня, капитан! Командира роты мина убил!
— Какой роты? — крикнул Жук.
— Нашей роты… Солодовникова мина убил… лейтенант Заречный теперь командует… Какой будет приказ?
— Приказ будет держаться, сержант! — отрываясь от телефонной трубки и только теперь узнавая сержанта, крикнул капитан Жук. — Да выбрось ты свою тряпку, Токомбеков, пускай тебя перевяжут…
— Зачем перевязывать? — удивился сержант, глянул на тряпку в своей руке и увидел, что она вся в крови; его темное скуластое лицо побледнело, черные узкие глаза сразу провалились и будто погасли.
Сержант ухватился за окровавленную щеку, пополз рукою выше и прошептал упавшим голосом:
— Как же ты будешь без уха, Токомбеков?
Из кустов выползла девушка с сумкой на боку и ловко начала бинтовать Токомбекову голову. Он сидел раскинув ноги, вид у него был растерянный, — нельзя уже было узнать в нем того смелого сержанта, который приполз на животе к командиру батальона с сообщением о смерти Солодовникова.
— Токомбеков! — крикнул капитан Жук. — Ты чего ж расселся? Без уха воевать можно! Давай к лейтенанту Заречному, пускай стоит — ни с места… Ясно?
— Ясно! — мотнул головой сержант, будто проверяя, прочно ли она сидит на шее, перевернулся на живот и пополз в тот ад, где была его рота.
10
В темноте Ваня привел майора Сербина к окопу бронебойщика Федяка.
Федяк не сразу понял, что надо Сербину от него, но к появлению майора в своем окопе отнесся совершенно спокойно.
Над Федяком висел тяжелый приговор, который надо было смыть кровью.
Федяк уже давно привык к мысли, что его кровь раньше или позже впитается в землю, поэтому приговор не казался ему слишком тяжелым, тем более что и вину свою он считал очень тяжкой. Как случилось, что после двух лет войны, проведенных изо дня в день на поле боя, он испугался немецкого танка, Федяк не мог объяснить ни на суде, ни самому себе. Если б это случилось с ним в первые дни пребывания на фронте, он мог бы объяснить свой поступок страхом, но он был старым солдатом и давно уже не чувствовал страха, во всяком случае был лишен его в той мере, в какой привыкают к мысли о смерти все старые солдаты, привыкают настолько, что могут при любых обстоятельствах владеть собою и контролировать свое поведение.
Что же случилось с ним, когда он увидел, как движется на него неуязвимый, разрисованный желтыми и черными полосами под натурального тигра немецкий танк? Конечно, он знал, что ни полосы на броне, ни страшное название не прибавляют танку силы, что надо бить по триплексам, по бакам с горючим, по гусеницам — и он остановится так же, как останавливались другие немецкие танки, но, зная это, Федяк все же выскочил из своего окопа, бросив ружье, и побежал, сам не зная куда и зачем.
— Как воюем, Федяк? — спросил майор Сербин, стараясь завязать разговор.
— По привычке, товарищ майор! — отозвался Федяк с еле уловимой насмешкой и над майором Сербиным и над самим собою.
О чем думал Федяк, трудно было понять. Одно было ясно: Сербина он не боится, как боялся недавно, стоя в лесу перед столиком трибунала, даже чувствует свое превосходство над ним тут, в окопе, где хозяин он, а не майор, который приговорил его к расстрелу.
«Хорошо, что Ваня уже ушел, — подумал майор Сербин, — не надо ему присутствовать при нашем разговоре… Почему не надо? То, что я хочу сказать Федяку, Ваня мог бы слышать! А что мне ответит Федяк?.. Может, и мне не надо было бы этого знать?»
В окопе был еще напарник Федяка, второй номер, он сидел прислонившись к стенке и громко дышал, будто спал.
«Без этого свидетеля не обойтись!» — опять подумал майор Сербин.
— Слышишь, Орлов, — сказал Федяк, перегибаясь через Сербина к своему напарнику, — сходи к комвзводу, скажи, чтоб патронов подбросили, боюсь, не хватит сегодня…
— Так принесли же вечером, — отозвался Орлов, которому не хотелось вылезать из окопа, хоть было еще темно.
— А ты все равно сходи, раз тебе велят, — мягко сказал Федяк, и Сербин понял, что дело не в патронах, что Федяк сам не хочет, чтоб Орлов присутствовал при их разговоре.
Орлов поднялся, оперся руками о бруствер и выбросил ноги из окопа.
Федяк вздохнул в своем уголке и проговорил негромко, глядя куда-то в землю, которая была и за спиною у него и перед грудью, разве что над головой ее не было:
— Шли бы вы лучше отсюда, товарищ майор…
— Это почему? — так же тихо отозвался Сербин.
— Не для вас наша работа.
Черное небо начало подниматься над окопом и отплывать вверх. Сербин уже видел лицо Федяка, оно вырисовывалось перед ним, медленно отделяясь от темноты, от земляной стенки окопа, само похожее цветом на серую супесчаную землю, в которой они сидели.
— Там, за рекою, не испугаешься, — медленно шевелил губами Федяк, — не испугаешься и не побежишь…
— Обижаешься ты на меня, Федяк?
— С чего бы?
Одно плечо Федяка резко выпятилось, поднялось к самому уху, потом вернулось на место, будто он удивился, пережил свое удивление и отбросил его прочь.
— Лучше бы вы все-таки пошли, товарищ майор… Никуда Федяк не побежит: некуда ему бежать, и нечего вам его сторожить. Правду говорю, я тут на своем месте, а вы идите на свое.
— За реку? — невесело сказал Сербин, чувствуя силу и убежденность слов Федяка.
Он пришел сюда потому, что жалел Федяка и не мог забыть, не думать о нем, хотел подбодрить солдата перед новым смертным испытанием, а оказалось, что Федяк сильнее, чем он, от своей силы жалеет его и готов прикрыть грудью: я тут на своем месте, а вы идите на свое… за реку… С Федяком нетрудно воевать, повоевали бы с немцем…
Ко всем ранам совести Сербина прибавилась еще одна. Сербин знал: сама собой она не зарастет, не закроется; для того чтобы заросла, закрылась эта рана, он должен что-то сделать. Но что? Повоевали бы с немцем, говорит Федяк и имеет право так говорить, потому что с кем он, Сербин, воюет? Не захотел бы и не пришел бы в этот окоп, и никто бы его сюда не послал… А раз пришел, то может и уйти, Федяк и сам хочет, чтоб он пошел на свое место. А кто его поставил на это место? На его месте легко и безопасно воевать, легче, чем на месте Федяка, но не Федяк судит его, а он судил Федяка… Правда, Федяк совершил преступление, за которое следует наказывать, но ведь и он мог совершить такое преступление, если б был на месте Федяка. Тут все дело только в том, что фашистский танк шел на Федяка, а не на него, поэтому ему легче было не совершить того преступления, которое совершил Федяк, поэтому и получилось, что он судил Федяка, а не Федяк его.
За бугром начали взлетать в небо столбы дыма и земли. К окопу подполз Орлов, тяжело свалился в щель и сказал:
— Комвзвода говорит, что патронов больше не будет, обходитесь, говорит, тем, что есть…
— Обойдемся, — спокойно сказал Федяк. — Патронов у нас достаточно, это мне в темноте показалось, что мало.
Орлов поглядел прищурившись на Федяка, ему с самого начала казалось, что дело тут совсем не в патронах.
«Стыдится, — подумал Орлов. — Стыдится меня Федяк… А что я ему? Сам не побежал только потому, что будто врос в землю… Но сегодня уж не побегу, и Федяк не побежит».
Огонь летел у них над головами. Все трое знали, что за этим безопасным для них огнем вскоре начнется другой, опасный огонь, и ждали его каждый по-своему.
Майор Сербин сидел в окопе между Федяком и Орловым и слушал, как они кричали друг другу:
— Ты писал вчера домой?
— Написать написал, но почтальон не пришел…
— А я так и не написал!
— Надо было написать.
— Что напишешь? Да и почтальона, говоришь, не было.
— Потом найдут, отошлют.
— Ну уж, что из того!
Федяк тихонько толкнул майора Сербина локтем в бок.
— Поменяйтесь местами с Орловым, мешать мне будете,
Сербин послушно поднялся, Орлов продвинулся и занял место рядом с Федяком. Сербин знал уже, что теперь ему нечего и думать о том, чтоб уйти из окопа, хотя как раз замолкла наша артиллерия и он еще имел время сказать то, что хотел, Федяку и не спеша отползти на командный пункт капитана Жука, а потом под обрыв и за реку… «Нет, мое место тут, рядом с Федяком», — сказал себе майор Сербин, сидя в уголке окопа бронебойщиков и прислушиваясь к тишине, в которой затаилась передовая.
— Ты не сомневайся, Орлов, — услышал Сербии голос Федяка, — я и сам не знаю, что это со мной было…
— Да что об этом говорить, — ответил Орлов неохотно.
Орлова убило осколком снаряда сразу же, как немцы опомнились и начали свою артподготовку.
Они положили тело Орлова за окопом, и Федяк сказал:
— Видно, не твоя, а его судьба была… Будешь подавать мне патроны.
Сербин не удивился, что Федяк обращается к нему на «ты», — он понял, что они давно уже поменялись местами, что тут Федяк старше его и что он должен во всем слушаться Федяка. Когда фашистские танки выползли из-за бугра, майор Сербин думал уже только о том, чтобы как можно лучше выполнять все, что ему приказывает Федяк.
А Федяк точно совсем забыл, что еще несколько дней тому назад стоял перед Сербиным в лесу и со жгучей скорбью вслушивался в слова приговора, — он кратко бросал ему приказы, весь сосредоточенный, напряженный, совсем не похожий на того растерянного, уничтоженного собственной виной Федяка, которого знал майор Сербин.
Федяк поворачивал на сошке свое длинное ружье; долго, — Сербину казалось, что очень долго — целился, дергал за спусковой крючок, выбрасывал отстрелянную гильзу и, не глядя на своего нового напарника, протягивал руку за патроном. Майор Сербин от непривычки и волнения блуждал глазами по полю, ему казалось, что каждый из тех многих танков, которые выползли из-за холма, движется прямо на их окоп, а Федяк знал, какой именно танк для них опасен, он знал и по какому танку ему удобней бить — его ружье не могло взять «тигра» в лоб, и он стрелял по тем танкам, которые шли боком к нему; по танку, опасному для него, били другие бронебойщики… Только когда опасный танк подходил совсем близко, он начинал бить по триплексам, стараясь ослепить машину.
— Складывай гильзы в уголок, там у нас для этого ниша выкопана, — не отрываясь от прицела, сказал Федяк. — Воды… Там и вода, в нише.
Майор Сербин наклонился в угол окопа, нащупал флягу и подал Федяку. Пот катился у Федяка по лбу, густой и мутный, смешанный с пылью и копотью. Федяк, не поворачивая головы, взял фляжку, отпил из нее и отдал майору. Танк двигался прямо на них. Федяк стрелял и протягивал руку за новым патроном. Сзади к окопу подполз Ваня и тронул Сербина за плечо.
— Капитан приказывает вам возвращаться со мной на командный пункт, — услыхал Сербин и не оглянулся на Ванин голос. — Насчет вас из штаба дивизии звонили…
Майор Сербин не ответил. Впереди и сзади танка, шедшего на них, начали вырастать дымные столбы земли, — артиллеристы взяли танк в вилку. Танк отошел в сторону и начал пятиться в глубину поля.
— Товарищ майор, — снова услышал Сербин голос Вани, — приказано без вас не возвращаться.
— Возвращайся, Ваня, — сказал майор и припал губами к теплой фляжке, которой только что касались черные, сухие губы Федяка.
— А что же я скажу капитану? — ужаснулся Ваня.
— Скажи, что майор Сербин на своем месте.
Ваня пополз от окопа. Это была та минута, когда отхлынула первая волна атаки немцев и танки отползли за бугристый край поля.
— Перекурим, — сказал Федяк, прислонясь спиной к стене окопа.
Федяк свернул цигарку и протянул Сербину раскрытый кисет:
— Закури, легче будет…
Сербин нерешительно оторвал клочок от аккуратно сложенного в виде книжечки листка бумаги с печатным текстом и иллюстрацией. Ему бросился в глаза длинный ствол пушки с утолщением дульного тормоза на конце, он развернул книжечку и увидел, что это листовка, изданная для бойцов. Два бронебойщика стояли на фотографии рядом с подбитым «тигром», лица у них были окаменевшие и удивленные. Сербин смотрел на фотографию и старался представить себе, чть думал Федяк, складывая книжечкой напечатанную для него листовку.
«Не нужна она ему, — думал Сербин, — он сам знает все, что ему нужно».
Федяк понял, что Сербин не умеет крутить цигарок, взял у него из рук бумажку, насыпал табаку, свернул и передал заклеить.
— На свадьбе хорошо водку пить, а на войне табачок — первая утеха.
Майор Сербин затягивался и кашлял. Все слова, которые он приготовил для Федяка, давно уже выветрились из его головы. Он видел теперь, что Федяк очень спокойный, верный и надежный человек, ничего не боится, а если и боится смерти, то умеет владеть собой настолько, что никакие слова ему не нужны — они ничего не могут прибавить к тому спокойствию, что царит в его сильной душе. Сербин шел сюда, чтобы придать Федяку бодрости и спокойствия перед смертным испытанием, а вышло так, что он сам теперь не только подчинялся спокойной силе Федяка, но и черпал в ней ту самую бодрость и стойкость, которых, как ему раньше казалось, недоставало Федяку.
Майор Сербин вздрогнул, когда из-за бугра снова поползли фашистские танки. Он сразу же заметил тот танк, который шел с бугра по полю, нащупывая хоботом пушки их окоп. Федяк тоже видел этот танк и не сводил с него глаз. Снаряды поднимали перед танком столбы земли, огня и черного дыма, а он двигался, не останавливаясь и не меняя направления, прямо на них. За башней танка прятались автоматчики, они стреляли перед собою вслепую, высовывая дула автоматов из-за башни. Пули из спаренного пулемета выбивали фонтанчики сухой земли уже невдалеке от окопа. Федяк стрелял и протягивал открытую ладонь за патроном. Танк открыл огонь из своей пушки. Они приседали в окопе и поднимались, когда смолкал грохот выстрела и рассеивался дымный столб перед окопом.
Федяк протянул руку за патроном — она упала, бессильно повисла вдоль тела, неестественно длинная и будто совсем неживая… Разрыва снаряда, осколком которого перебило Федяку руку у плеча, они не услышали за грохотом других разрывов. Федяк повернул к Сербину серое лицо.
— А остановить его надо, — скорее угадал, чем услышал Сербин.
Федяк левой рукою вытащил откуда-то из угла окопа две большие гранаты, заткнул их за ремень, ручками вниз, еще одну положил перед собой на бруствер, уперся ногами в стенку окопа, но вылезть не смог.
— Подсади меня, — прохрипел он.
Сербин послушно ухватил его за ноги выше колен и подсадил на бруствер. Федяк взял гранату, лежавшую там, и пополз навстречу танку, — длинная правая его рука мертво волочилась по земле, оставляя кровавый след. Майор Сербин схватил в углу окопа несколько гранат и вылез вслед за Федяком. Ползти он не умел и боялся, что гранаты разорвутся в его руках раньше чем следует. Он догнал Федяка и бросал теперь свое тело навстречу танку рядом с бронебойщиком. Федяк тяжело дышал, смертный пот уже проступил на его сером до синевы лбу.
Федяк и Сербин подползали к танку и, странное дело, оба вспоминали в это время своих жен.
Федяк вспоминал свою немолодую Матрену Никитичну, которая ждала его с войны и которой он был нужен для жизни и для хозяйства. А Сербин вспоминал свою молодую Лелю, которой был совсем не нужен, которая даже не знала, что он на войне, как и он не знал, где она теперь: Леля ушла от него в одну из сентябрьских ночей шесть лет тому назад, когда он возвращался домой из своего учреждения лишь на рассвете. Он открыл дверь своим ключом и сразу же понял, что в квартире нет никого — ни Лели, ни двухлетнего Николки.
На столе белела записка: «Не ищи».
Он не искал их, хоть имел возможность найти, потому что знал: найти — еще не значит вернуть.
Где теперь его Николка? Что он знает об отце? Да и знает ли хоть что-нибудь?
Два сына Федяка воевали: один — в пехоте, другой — в артиллерии; если не кончится скоро война, и третий успеет хлебнуть горя.
— Прости, что я судил тебя, — сказал майор Сербин почти касаясь губами воскового уха Федяка. И услышал в ответ тихое и совершенно спокойное:
— Закон судит.
Танк наехал на них, прогремел взрыв, гусеница танка распалась, и он остановился посреди поля.
11
Огонь на плацдарме теперь бушевал, так сказать, в два наката. Если б Уповайченков был хоть немного опытнее, он мог бы отличить ближний огонь — тот, что вели по немецким танкам орудия, расположенные на самом плацдарме, выстрелы бронебойных ружей и разрывы противотанковых гранат, которые бросали, выползая из своих окопов, пехотинцы, а также огонь танковых пушек и пулеметов, которым отвечали немцы, — весь этот ближний огонь — от огня, бушевавшего над этим накатом, перекрывая и заглушая его, от дальнего огня, которым обменивались немецкие батареи, стрелявшие из-за бугра, с закрытых позиций, и наши тяжелые батареи, расположенные за рекою. Для Уповайченкова, ухо которого не улавливало разницы между снарядами разного калибра, все звуки боя сливались в один сплошной грохот, в один сплошной вой.
Уповайченкова удивляло то, что он все время слышал голос Спиридона Жука.
— Да их никакой огурец не берет, товарищ, полковник! — кричал капитан. — Вызывайте «канделябры»… Лучше было бы «канделябрами»! Что ж стоять, стоять мы будем! Если надо, и ляжем… Прилетят? Вот спасибо! Тогда хорошо, тогда порядок!
В это время над полем загремело «ура».
— Гляди! Гляди! — крикнул капитан, толкая Уповайченкова телефонной трубкой в плечо. — Горит!
Уповайченков увидел на склоне поля, как на раскрытой ладони, развернутый вполоборота танк, за которым тянулась ребристая полоса разбитой, вдавленной в землю гусеницы. Из пробоины в задней части танка валил черный дым и поднимался вверх, обтекая тяжелую башню. Танк ворочал длинным стволом пушки и вслепую выбрасывал снаряд за снарядом. От танка, таща за собой длинное черное бронебойное ружье, полз солдат в съехавшем на шею железном шлеме. Казалось, что у солдата две головы — одна крепко держится на шее, другая болтается и стучит по плечу.
Над башней поднялся люк, из танка один за другим выскочили танкисты, они упали на землю и тоже поползли, но в другую сторону, высоко подбрасывая зад и, как лягушки, дергая длинными ногами. С разных сторон ударили пулеметные и автоматные очереди. Фашисты подергали ногами и затихли.
— Кто? Зинченко? — кричал в трубку Жук. — Зинченко подбил? Молодец Зинченко… Поздравь его с орденом Славы!
На Жуке давно уже не было фуражки, волосы слиплись на лбу, лицо почернело, как головешка. Капитан наклонился в щель к телефонисту:
— Давай мне полковника Лажечникова!
Телефонист дул в трубку. Жук колотил трубкой по железному шлему телефониста.
— Дашь Лажечникова? Дашь мне наконец Лажечникова? — Он построил несусветное ругательство в четыре этажа, а потом расхохотался и спокойно сказал: — Извините, товарищ полковник, это я от радости… Есть почин!
Грохот перекрыл его слова. Башню танка, на который все еще смотрел не отрывая глаз Уповайченков, подбросило вверх, из танка вырвался клуб дыма, прослоенный огнем; танк, облитый горючим и маслом, пылал посреди поля.
Другие танки выбросили еще по нескольку снарядов, начали расползаться по полю и одновременно исчезли за бугром.
Несмотря на то что все это произошло совсем не так, как он хотел, а значительно проще, Уповайченков с облегчением вздохнул и сказал про себя: «Молодцы! Отбили!»
Капитан Жук не разделял его радости. Он не только знал, что дело идет, как ему и надлежит идти, но и наперед угадывал, как будут развиваться события. Капитан Жук по очереди связывался с командирами рот. С одним он шутил: «Перекур, Самохин?», на другого кричал (Уповайченков не знал, за какую вину, но по голосу капитана понимал, что были основания кричать): «Ты что, Заречный, с ума спятил? Береги бойцов, я тебе голову сниму!», третьего подбадривал: «Держись, еще не такое увидим…»
Опять мимо командного пункта проносили под обрыв раненых. Уповайченков видел, что их очень много, но не мог ни подсчитать, ни представить сколько, хоть и понимал, что существенно важно знать теперь, насколько боеспособным остается батальон.
А Жук уже знал потери батальона — и по разговорам с командирами рот, и по опыту прошлых боев, и по собственным наблюдениям. У опытного капитана Жука было преимущество перед неопытным капитаном Уповайченковым: он не только замечал отдельные явления, но и сводил их в целое и видел настоящую и полную картину положения своего батальона. И делал он это без особого напряжения, за него действовал хорошо натренированный аппарат сознания, которое все было подчинено одной цели — правильному и успешному ведению боя.
Капитан Жук знал, что правильно ведет бой, знал он и то, что этот бой для него последний.
Самолеты прилетели, но это были не наши «канделябры», на прилет которых так рассчитывал Жук, а немецкие бомбардировщики. Бомбардировщики повисли над плацдармом, Жук потянул Уповайченкова за рукав и сказал, тяжело хватая воздух после каждого слова:
— Ну что… корреспондент… будет у тебя о чем писать? Давай за мною… И все это…
Уже скорчившись на дне тесного окопчика и прислушиваясь к вою и взрывам бомб, Жук, все так же тяжело дыша, окончил:
— И все это, брат, только присказка, а сказка вся еще впереди!
Уповайченков услышал печальную ноту в голосе капитана — он не знал, что Жук за всю войну не мог привыкнуть к самолетам и с подозрением относился даже к нашим, когда те появлялись в воздухе: кто их знает, еще перепутают да сбросят бомбы на свои окопы, случалось и такое в его практике. Они вылезли из укрытия. Бомбардировщики уходили врассыпную, наши истребители преследовали их. Завязывался бой в воздухе, но следить за ним не пришлось: из-за бугра опять появились танки. На этот раз их было гораздо больше. Уповайченков успел заметить, что и на броне, прячась за башнями, сидят автоматчики, и за танками, редкой цепочкой, пригибаясь и все время перебегая, продвигаются немецкие солдаты.
— Ложись! — крикнул капитан Жук, и в ту же минуту на поле между окопами начали рваться снаряды.
Уповайченков слышал голос Жука будто сквозь вату. Жук кричал что-то в телефон, кажется все те же слова: «Будем стоять!» — и хоть теперь опасность была уже гораздо ясней для Уповайченкова, знакомый голос Жука успокаивал его.
«Все будет хорошо, — думал Уповайченков, — отбили же первую атаку и эту отобьем…»
Танки не останавливались, хоть уже немало их горело на поле. Из-за реки били орудия. Уповайченков видел, как бойцы выскакивали из окопов, ползли наперерез танкам и бросали связки гранат под гусеницы.
Некоторые танки останавливались, но другие продолжали идти вперед, вползали на окопы, утюжили их гусеницами, стараясь разрушить узкие щели. Автоматчики спрыгивали с брони. В окопах шла рукопашная, уже нельзя было разобрать, кто в кого стреляет, кто кого схватил за горло, кто кого повалил на землю и душит судорожно сжатыми пальцами, которых и сам уже не в силах разжать.
Удивление все время не покидало Уповайченкова. Он был ошеломлен тем, что до сих пор остается в живых, хоть кругом уже погибло столько людей и с каждой минутой гибнет все больше и больше. Но и теперь ему не было страшно. Он был убежден, что с ним ничего не случится, что все это должно обернуться иначе, что должна быть возможность отбить и эту атаку, а если этой возможности никто не видит, то он видит и использует ее.
— Людей, людей у меня мало осталось, — услышал Уповайченков голос капитана Жука. — Автоматчики просачиваются на командный пункт!
Уповайченков не успел понять, что означают эти слова, когда голос Жука, так необходимый ему для уверенности, что все кончится хорошо, вдруг исчез, словно провалился сквозь землю или растаял в грохочущем воздухе.
Уповайченков оглянулся.
Голова капитана Спиридона Жука склонилась на правое плечо, его черное лицо побледнело, трубка выпала из рук. Телефонист, высунувшись по пояс из окопчика, поддерживал командира батальона и кричал куда-то в кусты:
— Санинструктора!
Капитан Жук тяжело пошевелил головою. Взгляд его остановился на Уповайченкове.
— Корреспондент, — прохрипел, с трудом ворочая окровавленным языком, капитан Жук, — ползи на переправу… тебе можно… скажи, что мы тут…
Грудь его напряженно выпятилась, он сделал попытку повернуться — это ему удалось — и вдруг упал головою в окоп, придавливая и заливая кровью телефониста.
На прижатом к краю обрыва командном пункте сбилось пятнадцать — двадцать бойцов. Они, лежа на земле, стреляли из автоматов, отползали за дисками к той груде, которая образовалась из оружия, оставляемого ранеными, перезаряжали и опять отстреливались.
Танк надвигался на командный пункт, он был уже близко, пушка его медленно обнюхивала воздух перед каждым выстрелом.
Уповайченков выхватил из груды оружия несколько гранат, заткнул их за пояс, потом взял в каждую руку еще по одной, оглянулся на бойцов и медленно пошел навстречу танку. Ноги его будто врастали в землю, он тяжело отрывал их, бросал тело вперед и шел прямо под танк, прижимая гранаты к груди. Его прорезиненный плащ, пробитый во многих местах, надувало горячим воздухом. Уповайченков уже не видел ничего вокруг, только танк, до которого оставалось, может, пятнадцать, может, двадцать шагов. Не видел он и того, что из-за башни танка высунулся белогубый, с криво стесанным подбородком немец, ткнул в его сторону автоматом и нажал на гашетку. Уповайченков упал на спину, раскинув крестом руки. Танк шел прямо на его тело. Немцы поднялись на танке и изо всех сил стучали автоматами по броне — танкисты наконец поняли предупреждение и свернули в сторону. Танк прошел рядом с мертвым Уповайченковым, чуть не коснувшись гусеницей гранаты, которую он зажимал в кулаке.
Уповайченков лежал навзничь, с гранатами в обеих руках и за поясом, уже далекий и от танка, и от немецких автоматчиков, которые спрыгнули на землю, и от бойцов, которые встречали их последними выстрелами, и от этих выстрелов, и от тишины, которая вскоре воцарилась на плацдарме.
С лица убитого Уповайченкова не сходило то удивленное выражение, которое появилось на нем в первую минуту боя, да так и застыло. Он будто говорил солнцу, которое обжигало его почти отвесными лучами, и ветру, который шевелил его волосы, и маленьким муравьям, которые заползали под его приоткрытые веки: «Разве так воюют? Разве так надо воевать?» — и удивлялся, что другие не понимают его удивления и считают, что если уж воюют, то воюют именно так.
В то время когда Иустин Уповайченков уже лежал мертвый на плацдарме, в редакции получили его первую и последнюю корреспонденцию.
Приземистый, не по летам отяжелевший полковник, начальник отдела, в котором работал Уповайченков, прочел наклеенную на серую бумагу телеграфную ленту и покрутил бритой, круглой как мяч головою. Он долго думал, давать корреспонденцию в номер или не давать, потом позвал на помощь молодого сотрудника, которого недолюбливал за красивый, старательно уложенный чуб.
— Прочитайте, что тут написал Уповайченков, — сказал начальник, неприязненно глядя на молодой чуб сотрудника.
Чубатый сотрудник умел схватывать глазами сразу по нескольку строк печатного текста.
— Не то, — сказал он осторожно, возвращая начальнику листки телеграммы.
— Совсем, совсем не то, — вздохнул начальник. — Такой требовательный работник и такой, оказалось, неоперативный. Устарел его материал.
— Он еще сориентируется, это с непривычки, — ответил чубатый. — Будем давать?
— Вот когда сориентируется, тогда и дадим.
Начальник резким движением отодвинул телеграмму Уповайченкова на угол стола, подальше от себя и поближе к чубатому сотруднику.
— Вы завели папку для его корреспонденций?
— Заведу… Это ведь первая от него.
— Обязательно заведите сегодня же.
Чубатый сотрудник завел папку, то есть написал на обложке четкими буквами: «И. Уповайченков», — и положил в нее корреспонденцию.
Так она и осталась навсегда в архиве редакции,
12
Остатки батальона капитана Жука под огнем переправились вплавь и вброд на левый берег. Лодки, спрятанные в левобережных камышах, не успели перевезти всех раненых. Лодка Данильченко пошла на дно посреди реки, пробитая во многих местах осколками. Данильченко, раненый, выплыл на мель, но, уже коснувшись ногами илистого дна, потерял сознание и пошел под воду.
Танки появились над обрывом. Артиллеристы капитана Слободянюка встретили их огнем с прямой наводки. Танки поползли назад и скрылись в глубине плацдарма. Только один, с разбитой гусеницей, остался над обрывом с задранным вверх стволом орудия, резко вырисовываясь на фоне поблекшего неба, которое стеной поднималось за ним.
Полковник Лажечников, тяжело дыша, спешил лесом к переправе. Лейтенант Кахеладзе шел впереди. Два автоматчика шагали по пятам за полковником.
По приказу Лажечникова на левом берегу развертывался свежий батальон майора Музыченко; полковник держал его в резерве и выдвинул теперь вперед — прикрыть дорогу через овраг и шоссе, которое немцам надо было оседлать, чтоб развить наступление.
Прямо на переправу нельзя было выйти: немцы держали под обстрелом левый берег. Лажечников, сделав крюк, лесом вышел с тыла на командный пункт Слободянюка, где должен был находиться и Музыченко.
Высоко в небе кружил немецкий разведчик. Давно обжитый блиндаж был пуст. Ни Слободянюка, ни Музыченко Лажечников в нем не нашел. Кахеладзе вывел полковника по узкой крутой тропинке на поросшую лесом высоту над оврагом. Под деревьями в щелях сидели телефонисты, провод тянулся куда-то вверх. Лажечников проследил за ним взглядом и отыскал в ветвях высокой старой осины замаскированный настил, на котором и находились теперь Слободянюк и Музыченко.
— Эй, вы там! — крикнул Лажечников вверх. — Выдержит ваш насест еще и меня?
Не ожидая ответа, он полез вверх по прибитым к стволу осины ступеням. Кахеладзе с автоматчиками остался внизу.
С дощатой платформы, которую Лажечников назвал «насестом», хорошо просматривались выход из оврага к реке, правобережный обрыв и широкий вытоптанный спуск на нем. Музыченко, стоя на коленях, смотрел в бинокль на берег под обрывом. Он отнял бинокль от глаз и передал его Лажечникову:
— Посмотрите, товарищ полковник.
В голосе Музыченко слышалась нескрываемая горечь, он был угнетен и растерян, таким Лажечников его никогда не видел.
Лажечников поднял бинокль к глазам и начал наводить на резкость. С большим приближением Лажечников увидел обрыв — верхний слой плодородного чернозема, переплетенный корнями деревьев, которые когда-то росли тут, слой красного песка и под ним пласт рыжей глины, вытоптанный спуск, мертвые ветки обгорелых кустов и танк с задранной в небо пушкой. Все это было мертвое, мертвыми казались и обрыв, и обгорелые кусты, и пушка, и стена неба, затянутого полосами белесых облаков, словно взгляд Лажечникова проникал в какой-то иной мир, на какую-то другую планету, похожую и непохожую на нашу — похожую тем, что на ней почти такая же земля и почти такое же небо, и непохожую потому, что на ней нет живых существ и вся она будто окаменела в вечном молчании.
Лажечников знал, что это ощущение обманчиво, что он не должен верить своим глазам, что за линией правобережного обрыва, в глубине плацдарма, есть жизнь, но, так как эта жизнь была враждебна ему, он отказывался ее признавать.
Капитан Жук погиб, погиб его батальон, на плацдарме лежали только их мертвые тела, но они были более живыми, чем оставшиеся в живых фашисты, убившие их своим огнем.
Из сообщений воздушной разведки, полученных полковником Повхом, Лажечников знал, что в глубине плацдарма еще не убитые фашисты готовятся форсировать реку, что там у них стоят наготове фермы моста для тяжелых танков, что тягачи должны доставить эти фермы к берегу, что тысячи еще не убитых гитлеровских солдат ждут со своими танками, пушками, минометами и другим оружием, когда мост будет наведен, чтобы броситься теперь уже на батальон Музыченко, — он все это знал, но и гитлеровцы, и их танки, и мостовые фермы, и орудия в его глазах были уже заранее мертвы, а живыми он продолжал видеть капитана Жука, командиров его рот, всех лейтенантов, сержантов и рядовых, которых он знал по именам и которых не знал, — всех, кто погиб, отстаивая своею живой кровью правобережный плацдарм от той мертвой силы, которая навалилась на него своим мертвым железом.
— Ниже, ниже глядите, — услышал над собой Лажечников голос Музыченко и перевел бинокль на берег под обрывом.
Лажечников почувствовал, как сердце его сжалось и будто совсем перестало биться. Он со всхлипом втянул в себя воздух, словно проглотил его. Боль отдавала под левую лопатку, долгая и пронизывающая, словно кто-то всадил ему в спину тонкий нож и теперь медленно вытаскивал.
На правом берегу, прижимаясь к обрыву, лежали раненые из батальона капитана Жука, те, кого не успели перевезти на левый берег. Возможно, немцы не знали о них, а возможно, и знали, но не могли до них добраться. Раненых прикрывал обрыв. Как только на гребне обрыва начинали шевелиться обгорелые кусты, бойцы с левого берега открывали огонь. Больше ничего они не могли сделать для своих товарищей. Раненые знали, что с них не сводят глаз, и терпеливо ждали решения своей участи.
Лажечников отчетливо видел в бинокль не только фигуры раненых, но и сведенные болью, испуганные лица. Раненые жались поближе к блиндажу капитана Жука, выкопанному в обрыве, и лишь по тому, что время от времени кто-нибудь из них шевелился, меняя позу, или переползал на другое, как ему казалось, более надежное место, можно было понять, что не все они окоченели в последних судорогах. Лажечников начал считать раненых и насчитал восемнадцать; возможно, еще несколько человек пряталось в блиндажике Жука, — значит, их могло быть больше двадцати.
— Какой будет приказ, товарищ полковник? — снова услышал Лажечников голос Музыченко, но на этот раз в голосе уже не было растерянности, — голос Музыченко требовал от Лажечникова быстрого, недвусмысленного, точного и умного приказа. Музыченко, который минуту тому назад позволял себе быть растерянным, потому что был тут старшим и решение судьбы раненых обстоятельствами возлагалось на него, теперь, когда рядом с ним был командир полка, когда, таким образом, его майорское старшинство перекрывалось полковничьим старшинством Лажечникова, мог уже требовать приказа от старшего командира, оставляя для себя только беспрекословное выполнение этого приказа. Можно было не сомневаться, что Музыченко выполнит приказ не только потому, что воинская дисциплина требует этого, но прежде всего потому, что выполнять приказы значительно легче, чем отдавать их, — в этих случаях вместо твоей воли, вместо твоего разума и совести действуют чужая воля, чужой разум и совесть, словно снимая с тебя ответственность за все, что происходит с тобой и с теми людьми, с которыми и ради которых ты выполняешь приказ,
Лажечников не спешил с ответом.
Немецкий разведчик уже не кружил над переправой, нудный, назойливый звук его моторов исчез в глубине неба за обрывом. Слышалось только громыхание артиллерии на флангах дивизии и отдаленное буханье тяжелых бомб.
Лажечникова не вводила в заблуждение передышка после утреннего огня и попыток немцев вырваться на переправу. Он знал, что это временная передышка, что скоро опять начнется атака, и был готов ко всему, — поэтому он и пришел на самое опасное место, в батальон Музыченко.
Разум подсказывал, что надо затаиться и ждать удара, не тратя сил, которые будут нужны еще, чтобы выстоять до решающей минуты, когда можно будет самим ударить на врага и сломать ему хребет. Лажечников не был уверен, что его полк и вся их дивизия сохранят достаточно сил для перехода в наступление, он знал только, что надо выстоять до того времени, когда наступление и продвижение вперед станут возможными. Ну что ж, если не его полк, не их дивизия, так другие полки, другие дивизии осуществят то, что сделает возможным он.
Лажечников увидел в бинокль, как раненые, жавшиеся у блиндажа капитана Жука, зашевелились — колыхнулась плащ-палатка, из-за нее вылез молодой солдат с перевязанной головой, лег на бок и начал подползать к реке… Раненые смотрели на него со страхом и надеждой.
«Откуда я знаю этого солдата? — подумал Лажечников, поймав биноклем бледное молодое лицо, которое медленно, рывками надвигалось на него. — А я его хорошо знаю… Неужели он хочет переплыть реку? Не выйдет у него, не может выйти — безнадежно… А что ему остается делать? Выхода нет, мы ему помочь не можем… И все-таки я его знаю… Может, потому мне так жаль его?»
Лажечникову было знакомо это свойственное многим командирам чувство: легче терять бойцов, которых ты не успел узнать, а как только познакомился ближе, узнал человека, заглянул ему в душу, сразу же становится неимоверно трудно принимать на себя ответственность за его судьбу.
«Да ведь это же Ваня! — чуть не вскрикнул громко Лажечников, узнав наконец молодого солдата. — Это Ваня, ординарец покойного Костецкого… Я же сам направил его к капитану Жуку, а теперь он… торопится к своему генералу!»
Ваня подгибал колени и отталкивался ногами. Каждое такое движение стоило ему больших усилий, но только на каких-нибудь двадцать — тридцать сантиметров отдаляло от обрыва и приближало к реке. Лажечников опустил бинокль и опять подумал, словно подводя итог усилиям Вани: «Безнадежно».
Об этом же думали Музыченко и Слободянюк. Они смотрели на берег и видели все, что там происходит. Ваня, наверное, тоже понимал всю безнадежность своей попытки, но продолжал упорно ползти к реке. Он знал, что за ним, за каждым его движением следят не только его товарищи под обрывом, не только бойцы на левом берегу, но и немцы… На что он рассчитывал? Почему не дождался темноты? Возможно, ему надоело ждать смерти под обрывом, возможно, он не хотел попасть в плен теперь, когда до конца было уже так близко, — неизвестно. С каким-то неистовым отчаянием Ваня бросал и бросал вперед свое тело. Вот уже рука его коснулась влажного песка, облизанного водой, он еще раз согнул колени, выбросил руку вперед, будто хватаясь за дно реки, — и вдруг упал головою в воду.
Выстрела Лажечников не услыхал потому, что в эту минуту по всему берегу затрещали выстрелы: бойцы стреляли с левого берега по немцам на обрыве, хоть в этом не было никакого смысла; немцев не было видно, и слепой огонь не причинял им вреда.
— Раненых мы не спасем, — сказал Лажечников, отдавая бинокль Музыченко.
Музыченко и сам понимал это. Слободянюк не вмешивался в их разговор — он лежал с карандашом в руке над картой, исчерченной полосами и усеянной разными условными значками. Его усталое лицо было сосредоточенно, он так сжимал впавший, беззубый рот, что скулы резко выпирали под кожей, иссеченной черными мелкими точками, как у шахтера.
Воздух над ними запел на все голоса. С двух сторон вдоль реки наплывали на переправу, на овраг и на лесистые холмы немецкие бомбардировщики. Их прикрывали истребители, шедшие по сторонам и сверху. И, словно заранее зная, что бомбардировщики должны появиться, из глубины обороны, из-за леса, вылетели наши истребители, прибавляя свое завывание ко всем звукам, которыми наполнилось небо. Теперь воздушная карусель шла уже в три яруса, и трудно было не только стрелять по немецким самолетам, но даже и выделить их из этой массы блестящих, продолговатых, с распластанными крыльями тел, которые непрерывно менялись местами, обменивались пулеметными очередями и пушечными выстрелами.
— Вы бы сошли вниз, товарищ полковник, — неуверенно сказал Музыченко.
Лажечников промолчал.
Слободянюк лег лицом на карту, красно-синий карандаш покатился по ней и сквозь щель между досками упал на землю. Музыченко пожал плечами и тоже лег вниз лицом. Только Лажечников, неудобно стоя на коленях, глядел в серо-голубые просветы неба меж ветвями над головой, в которых то появлялись самолеты, то с воем исчезали… Лес застонал и закачался. Небо в просветах между ветвями потемнело. Лажечников лег на спину и руками, не глядя, нащупал плечи Музыченко и Слободянюка.
Бомбы падали близко, осину шатало, дощатый настил колыхался, как лодка на волнах. Лажечников весь отдавался этому колыханию — тут ничего нельзя было поделать: кто угодно на его месте был бы бессилен перед этим водоворотом железа, раздавленных, сломанных деревьев, вскинутых взрывами комьев влажной земли, смешанной с сорванными листьями, горячих волн воздуха, которые били снизу в доски и, казалось, поднимали и раздвигали их.
Вероятно, все это длилось недолго, возможно, всего лишь краткие секунды, но эти секунды растягивались в сознании Лажечникова в бесконечную цепь еще более коротких отрезков времени, наполненных мыслями, воспоминаниями, беспокойными движениями сердца, которое теперь вмещало в себя всю пережитую жизнь с ее болью и радостью, с собственной судьбою и судьбами близких и далеких людей, с которыми эта жизнь сплеталась, входя как уток в основу бесконечного полотна, что ткется и ткется без конца, а когда обрывается, то опытный старый ткач подхватывает тонкую нить ловкими пальцами, завязывает новый узелок, и опять бегает челнок, и опять ткется бесконечное полотно. «Нехорошее письмо написал я мальчику, — подумал Лажечников. — Надо будет заново написать, когда все это кончится… Он не поймет».
Бомбы валили лес, осина каким-то чудом еще стояла, ее шатало во все стороны. Лажечников теперь лежал на «насесте», прижавшись головой к стволу осины, и смотрел вниз, на землю. По прибитым к осине ступеням лез, поднимая к нему маленькое лицо, лейтенант Кахеладзе. Большой шлем его свалился с головы на спину, тонкий ремешок врезался в горло под подбородком. Зачем ему сюда? Не надо ему сюда! Кахеладзе хватался за ступени, шатался вместе с осиной, на Лажечникова надвигались его глаза, они становились все больше, приближались, обнимали Лажечникова — совсем другие глаза вдруг вспыхнули перед ним, отразив в себе все небо, и погасли…
13
Варвара Княжич долго шла пешком, вещмешок натер ей плечо, попутных машин все не попадалось. Весь длинный июльский день прошел в ожидании на разных перекрестках, у разных контрольно-пропускных пунктов, в разговорах с незнакомыми регулировщиками, солдатами и офицерами. Где искать дивизию Повха, Варвара не знала. Никто из случайных знакомых не мог ей ничего посоветовать. Отвечали, что армия, в которую входила дивизия Повха, отошла на запасный рубеж, что бои продолжаются с неослабевающей силой, — все это не предвещало Варваре ничего хорошего. Но Варвара знала теперь лишь одно: ей надо во что бы то ни стало найти дивизию Повха, где бы она ни была, и в той дивизии полк, которым командует Лажечников. Все сомнения, которые раздирали ее, все умные решения, которые она принимала раньше, весь порыв самоотречения, который не позволил ей в первый день немецкого наступления броситься туда, где был Лажечников, — все это рассыпалось прахом. Теперь она уже знала, что только рядом с Лажечниковым может быть спокойной и счастливой.
Розыски лучше всего было начинать с корреспондентского хутора. Берестовский при ней отправился в дивизию Повха, он мог бы сказать, как его найти. В корреспондентский хутор Варвара решила не заезжать. Начнутся расспросы: где была, что видела?.. Что она может ответить! Слушала песни капитана Гетя в ивовой пуньке? Под вечер Варвара добралась до уже знакомого ей обменного пункта и у длинного низкого строения, где стояло несколько грузовиков, увидела Васькова.
Варвара остановилась у машины и терпеливо ждала, пока Васьков кончит грузиться.
— К нам? — угрюмо спросил Васьков, не глядя на нее.
Варвара подумала, что шофер обижается за карточки, которые она все еще не напечатала.
Васьков только махнул рукой, когда на выезде из ворот обменного пункта Варвара сказала, что была очень занята и что карточки скоро будут готовы.
— А зачем они Васькову? На себя любоваться не с руки, а чтоб жена слезы проливала, вспоминая, какой такой у нее был Васьков, — тоже радость небольшая.
Васьков гнал машину по знакомой дороге, быстро стемнело, уже не видно было его лица, только по тому, как горбился шофер, как втягивал он голову в плечи, можно было понять, что Васькову невесело, что какой-то червяк грызет его беззаботную шоферскую душу.
— Плохое письмо из дому получили, Васьков? — спросила Варвара.
Васьков не ответил. Варвара не повторила вопроса: не хочет Васьков делиться с ней своею заботой — не надо, может, ему так легче. Наученная опытом своей внутренней жизни, Варвара знала, что у каждого человека в каждую минуту его жизни есть большая или маленькая тайна, которую он оберегает и не хочет никому выдавать, потому что считает эту тайну личного переживания важной только для себя и ни для кого другого не интересной. Другое дело, что есть люди, по виду которых никогда не узнаешь, чем наполнена их жизнь, люди с крепким защитным покровом, сквозь который не скоро доберешься до их сути. Она не относится к таким людям. Хорошо, что сейчас темно и Васьков не может прочесть того ожидания, которое написано на лице Варвары. Хорошо, что можно молчать и думать о своем… Мотор гудит равномерно, машина подпрыгивает на выбоинах, давно уже остался позади обменный пункт и те перекрестки, у которых она целый день жарилась на солнце, ожидая попутных машин, и та ивовая пунька, где легла ей на грудь молящая рука Кустова, — все это уже далеко от нее.
Наверно, Варвара не смогла бы вынести всего, что случилось с нею за эти дни, если б не жила в душе у нее тайна ее любви. Ни на минуту не угасал в ней тот огонек, отсвет которого можно было видеть в ее глазах, тот маленький огонек, которого все же хватало, чтоб осветить особенным светом и согреть особенным теплом все, что она видела вокруг. Свойством ее любви, которую она упрямо скрывала и не могла скрыть ни от себя, ни от людей, — свойством ее любви было освещать и согревать все существующее вокруг. Любя Лажечникова, Варвара любила не только себя и свою любовь к нему, она любила всю землю и всех людей на земле. Любовь наполняла ее добротой, иногда она даже боялась, что эта доброта ослепит ее, сделает неспособной видеть разницу между добром и тем злом, которое существует в мире и которое надо ненавидеть.
«Нет, я не могу быть только доброй, — думала Варвара, — не могу быть только доброй и жалеть всех без разбора. Если я буду жалеть всех, то я должна жалеть и фашиста, который вот уже два года разрушает, жжет, убивает на моей земле… Разве я могу жалеть того фашиста, который убил Шрайбмана, и Гулояна, и других, кого я не знаю, не видела никогда? У каждого из них была своя радость в жизни, и эта радость наполняла их добротой, но они не могли не противостать убийству, не должны были допустить, чтоб радость и доброта ослепили их. Моя доброта относится только к добру, когда же она начнет относиться и к злу, она сама сделается злом, я перестану быть доброй, сделаюсь равнодушной ко всему, что происходит не только во мне и со мною, но и вокруг меня, во всем мире…»
— А я заезжал к вам, — вдруг прервал ее мысли Васьков. — Два раза приезжал… Да вас все не было.
Видно, что-то оттаяло в душе Васькова, раз он решил заговорить с Варварой.
— Боевой народ ваши корреспонденты!.. Я там у вас с одним познакомился… забыл, как фамилия… свой в доску, хоть и подполковник!
— Пасеков?
— Он и есть, Пасеков!
Чем мог затронуть душу бывалого шофера Пасеков?
Пасеков не произвел на Варвару особенного впечатления, разве что умение его быть «своим в доску», как выразился Васьков, заметила она, когда готовились ко дню рождения Дубковского, к празднику, который так плохо кончился… Значит, у Пасекова есть еще что-то, кроме качеств «рубахи-парня», она этого не заметила, а Васьков заметил.
— Подполковник Пасеков на штурмовку летал.
— Ну? — восхищенно откликнулась Варвара.
— Я сам сначала думал, что ну! А выходит, летал, — не отрывая глаз от темной дороги, продолжал Васьков. — Встретил знакомого летчика — вместе выходили из окружения, — с ним и летал… Тот летчик раньше был пехотой, а потом переучился.
— Он вам сам рассказывал?
— Зачем сам? Там у них шофер есть, шофер и рассказывал. Летчика, говорит, ранило, но он дотянул-таки до своего аэродрома, только потом упал без сознания, много крови потерял… А Пасеков сел и написал в газету, как и что было… Интересно будет теперь прочесть.
Чтоб написать о боевых действиях летчиков, не обязательно подниматься в воздух. Война не спорт. При всех своих качествах Пасеков не такой человек, чтоб искать острых ощущений там, где другие идут на смерть.
И вдруг Варвара со всей ясностью поняла, зачем Пасеков летал на штурмовку. Он не мог оставаться наблюдателем там, где каждый отдает себя до конца. И не потому он полетел на штурмовку, что встретил знакомого летчика, — глупости! Она хорошо знает унизительное чувство непричастности к боевому коллективу. Это чувство не раз заставляло ее уклоняться от прямых корреспондентских обязанностей и браться за такие вещи, о которых потом жутко было и вспоминать.
Варвара усмехнулась в темноте. Она невольно поставила себя на одну доску с Пасековым. Хорошо, что никто не может увидеть в эту минуту ее лицо, — имел бы случай убедиться, какие самодовольные дурехи бывают на свете. Только представить ее в кабине самолета, который летит над колонной немецких танков, пикирует, стреляет из своей пушки или сбрасывает бомбы, — умереть со смеху можно! Нет, она не способна на такие подвиги. Васьков вдруг свернул с шоссе и поехал, как Варваре показалось, прямо по полю, подминая колесами грузовика темную стену высоких хлебов.
«Как же мы тут проедем?» — подумала было Варвара, но прежние ее мысли были сильнее, и она уже опять думала не о дороге, а о Пасекове и о его полете на штурмовку.
Варвара охотно думала о Пасекове. Его полет не был продиктован необходимостью, как не было продиктовано необходимостью и ее ползание по полю, вытаскивание и перевязывание раненых. А что же ты должна была делать? Варвара не на шутку рассердилась на себя. Смотреть, как раненые истекают кровью, ожидая санинструкторов, и фотографировать их искаженные страданием лица? Могла бы ты после этого глядеть людям в глаза? Могла бы не презирать себя? Да пропади они пропадом, все снимки, какое ей дело до того, что она корреспондент! Она не только корреспондент, но и человек… Вот до чего можно докатиться! Когда утрачиваешь разницу между добром и злом, становишься механизмом для выполнения прямых обязанностей, машиной без сердца и души. Пасеков правильно сделал, что полетел на штурмовку.
Варвара поймала себя еще на одном преступлении.
Она пряталась за мыслями о Пасекове от мыслей о себе, потому что ей было страшно — она и хотела и боялась новой встречи с Лажечниковым, воображала и не могла вообразить, как эта встреча произойдет, как она подойдет к нему, что скажет… Господи, что она может ему сказать! Просто ей нужно быть рядом с ним, нужно видеть его, слышать голос, а слова… Варвара никогда не умела произносить те горькие и желанные слова, которые звучали в ней, ей казалось, что они теряют все свое волшебство, если их произнесешь вслух; не любила она и слушать эти слова, не любила и боялась. Хорошо, что Лажечников умеет сдерживаться, он ни словом не дал ей понять, что и его душу потрясло видение фосфорических пней, — что это было так, Варвара не сомневалась. Он не мог не чувствовать того же, что чувствовала она на сказочной поляне, она знала это безошибочно и была благодарна Лажечникову за то, что он ни тогда, ни потом не поспешил со словами, которые могли бы разрушить все очарование их ночного похода в батальон капитана Жука. Он даже смог погасить иронией трепет и восторг, вспыхнувшие в нем: «Гнилые пни — только и всего!» В иронии Лажечникова было больше настоящего чувства сильного человека, который знает цену своему сердцу, чем могло бы вместиться в словах, которые легко произносят другие.
Лажечников будто говорил там, в лесу: «Ты думаешь, что чудо окружает нас? Нет, не думай так, как и я не думаю. Знай, как это знаю я, что чудо в нас самих, в этой нашей встрече, всколыхнувшей и твою и мою душу. И надо беречь это чудо, иначе оно исчезнет, погаснет, как погаснут эти фосфорические пни, едва рассветет, — погаснут, и страшно будет глядеть на них. И ты подумаешь: неужели я могла верить, что эта гнилая древесина может так пылать, так струиться вверх, к темному синему небу, усеянному звездами, так пугать и так манить!»
Машина шла без дороги по холмам. Впереди что-то неясно белело — Варвара не сразу поняла, что это над черной грядой ночных деревьев поднимается колокольня гусачевской церкви.
— Приехали, — сказал Васьков, ловко развернул грузовик и прижал его бортом к кирпичной церковной ограде под низко нависшими ветвями деревьев. — Плохо ехали, да хорошо доехали.
Васьков вылез из кабины, Варвара передвинулась на его место, протиснулась между баранкой руля и сиденьем и тоже вышла, — с ее стороны дверца не открывалась, упиралась в ограду.
— Кого ты привез? — услышала Варвара знакомый голос.
Она не сразу узнала, кому он принадлежит.
— Да вот… Привез! — проговорил Васьков, и Варвара опять уловила в его голосе ту же неохоту разговаривать, которая поразила ее при встрече на обменном пункте, как будто он поборол эту неохоту в дороге, а теперь она опять одолела его.
— Фотокорреспондент Варвара Княжич. Мне к командиру дивизии.
— А, это вы! — придвинулось к ней в темноте лицо Кукуречного. — Давненько не были.
Кукуречный стоял перед ней в темноте и, казалось, переминался с ноги на ногу. В его словах и голосе Варваре снова почудилась неуловимая нотка не то смущения, не то жалости, но она опять не поняла, к чему это относится, и не придала этому значения. Кукуречный помолчал, вздохнул и сказал:
— Ну что ж, пошли к командиру дивизии.
И уже после того, как они нырнули в пролом церковной стены, он на ходу повернул к ней лицо, которое теперь казалось серым пятном в темноте, и сказал, будто оправдывался в какой-то вине, угнетавшей его:
— Тут у нас такое было… Не слыхали?
— Пришлось отойти? — сказала бодро Варвара, думая, что ее бодрость поможет Кукуречному побороть чувство вины, которое, по ее мнению, переживали тут все в связи с вынужденным отступлением дивизии. — Километров на десять — пятнадцать, наверно, не больше?
— За каждый этот километр большой кровью заплачено, — неожиданно горько отозвался Кукуречный, и Варваре сделалось стыдно, что она забыла об этом, хоть кровь лилась и на ее глазах в бригаде Кустова и она своими неумелыми руками старалась спасти хоть несколько капель этой горячей живой крови.
— Ох, правда, — прошептала она так тихо, что Кукуречный не расслышал.
— Что вы сказали? Осторожно, тут кресты на могилках… И генерал наш тут похоронен, вот где пришлось нам воевать! Вы что-то сказали?
Варвара молчала. Не получив ответа, замолчал и Кукуречный. Она шла за ним через могилы, хватаясь за кресты, и тут ей впервые пришло в голову, что среди крови, которой оплачены были пятнадцать километров отступления дивизии Повха, могла быть и та кровь, которая так властно звала ее сюда. Но она сразу же отбросила эту страшную мысль. Нет, нет, ничего не могло случиться с Лажечниковым! Не может она потерять свое чудо, едва поняв, как оно ей нужно. Варвара даже улыбнулась, отбрасывая свой страх, как ничем не обоснованный, совсем детский… Весь огонь и все железо войны казались Варваре предназначенными для кого угодно, только не для Лажечникова. Варвара даже не заметила, как эгоистично это чувство, так ослепляла ее вера в свое счастье.
Полковник Повх сидел в церковной ризнице за небольшим столом. От его тяжелого дыхания колыхался шаткий огонек коптилки на столе. В граненом стакане без блюдечка остывал мутный чай. В углу стояла железная койка под коричневым грубым одеялом, окна, завешенные плащ-палатками, не пропускали воздуха, пахло сыростью, смесью ладана и плохого табака. Подпирая бритый подбородок кулаком, Повх смотрел на груду бумаг, лежавших перед ним на столе.
Командир дивизии поднял голову, когда Варвара поздоровалась, несмело переступив порог ризницы, и молча протянул ей руку через стол. Он оглянулся, увидел, что в ризнице нет ни стула, ни ящика, и так же молча показал раскрытой ладонью на койку, — мол, садитесь.
Варвара осторожно села на край низкой койки. Кукуречный постоял в дверях, ожидая приказаний командира дивизии, потом, не дождавшись, поднял руку к фуражке:
— Разрешите идти, товарищ полковник?
Повх кивнул; его круглый бритый череп поблескивал в свете коптилки, за очками не видно было глаз — толстые стекла казались совсем темными, и потому, что Варвара не видела глаз командира дивизии, ей становилось не по себе. Она вздохнула, теребя пальцами ремешок своего фотоаппарата, и сказала, будто это не было ясно и так:
— Вот я опять к вам, товарищ полковник.
Повх повернул к ней лицо, сбросил очки резким коротким движением, рука его остановилась в воздухе, — он разглядывал Варвару усталыми, воспаленными глазами, разглядывал и изучал одновременно, потом, словно закончив изучение, усадил свои очки на место.
— А что вам у нас делать? Героических подвигов мы не совершили! Видите, куда допустили немца, и не только допустили, а людей своих положили без счета — бойцов и командиров… Мог бы назвать вам не одну фамилию…
Повх положил большую руку на груду бумаг, лежавшую перед ним.
— Вот сижу, подписываю… Уведомления семьям, посмертные реляции — кому медаль, кому орден… А двоих даже на Героя представляем. Я бы назвал вам фамилии, да вы никого из них не знаете.
Командир дивизии замолчал, потер ладонью бритый череп и опять положил руку на бумаги.
— Бумажки, бумажки… А за каждой человек, своя судьба, свой подвиг! Командиры батальонов пишут и командиры полков. Политотдел пишет, полковник Курлов все носит мне. Это я вам неверно сказал про героические дела. За каждым этим уведомлением, за каждой реляцией столько героизма, что хватило бы на две войны. Только людей этих уже нет, и вы их не сфотографируете… Вот о чем я говорю.
Полковник снова замолчал, теперь уже надолго. Глядя в бумаги, он нащупал на столе толстый граненый красно-синий карандаш, покатал его по столу — карандаш затрещал гранями, словно пустил короткую пулеметную очередь, — столешница была фанерная. Полковник решительно зажал карандаш в пальцах и, не читая, подписал несколько бумажек.
Варвара широко раскрытыми глазами смотрела на Повха. Только теперь до ее сознания дошел смысл его тяжелых, через силу выговоренных слов. Завтра пойдут эти бумажки по всей стране, и в далеких селах, может где-то в тайге, на Дальнем Востоке или на Урале, в десятках городов будут их получать неизвестные люди — матери и отцы, жены и дети… Нет героев в дивизии полковника Повха! Да разве каждый, кто отдал свою кровь, совершил лишь один подвиг верности, не отступил с боевого рубежа перед лицом железной смерти, — разве каждый верный солдат не герой?
Полковник положил карандаш на бумаги и, глядя прямо перед собой на беленую стену ризницы, проговорил с тихой гордостью, будто отвечая на мысли Варвары:
— Отошли, ничего не скажешь, отошли… На нас такой кулак обрушили, что поневоле пришлось отойти. Отошли, но остановили!
— Остановили? — переспросила Варвара, вся еще в плену своих мыслей.
— Остановили фашиста! Выдохлось его наступление, закапывается в землю, переходит к обороне… Теперь мы будем наступать!
Голос полковника Повха звучал уверенно и даже весело. Лицо его уже не казалось Варваре усталым, оно словно приобрело неожиданную резкость и упорство, мускулы щек напряглись, упрямый подбородок был полон энергии.
— Пойдем вперед — целые танковые кладбища увидите. Теперь он покатится в свою берлогу, покатится — нечем ему нас остановить!
Повх с силой ударил кулаком по столу, коптилка качнулась и чуть не упала, он подхватил ее, придержал, понюхал сложенные щепотью пальцы они пахли бензином — и вытер их о китель.
— Вот как я развоевался! — усмехнулся Повх. — А вы что же молчите?
Варвара не могла сказать ни слова. Все, что она услышала и увидела, а главное, что поняла, сковало ее, она сидела в странном оцепенении, не способная ни слова промолвить, ни пошевельнуться, только смотрела широко раскрытыми глазами на Повха и за его широкими плечами и массивной головой, на беленой стене ризницы, подкрашенной красновато-желтым светом коптилки, будто на экране, видела все, что произошло за эту неделю с его дивизией. Видела немецкие танки, надвигающиеся на окопы, видела фашистских автоматчиков на бронетранспортерах, всматривалась в карусель бомбардировщиков с черными крестами над передним краем — над тем передним краем, который для нее давно уже был не условной линией на штабной карте, а стеною живых и до боли близких сердец, из которых льется кровь в окопах, под гусеницами танков, от пулеметного огня, от разрывов снарядов и бомб… Что он говорит, полковник Повх? Голос его опять звучит как реквием всем, кто пал за эту неделю.
— У меня теперь, считайте, совсем новая дивизия. Не говоря уж о солдатах, нет ни одного прежнего командира роты. Командиров батальонов мало осталось в живых, из трех командиров полков только один… Вы, кажется, были в батальоне капитана Жука, фотографировали танк? Батальон капитана Жука остался на плацдарме.
Как это остался на плацдарме? Что значат его слова? Ну как это ты не понимаешь, лег костьми, сложил голову… Бедный капитан Жук, как смешно вращал он глазами, как топорщились его усы! Значит, и он лег костьми? Ходил по земле человеком, любил — наверное, была у него жена и дети, мечтал к ним вернуться, а лег костьми… Повх, кажется, еще о ком-то говорил, о командирах полков — из трех только один… Сердце рванулось в груди и сразу же замерло, сжатое болью, словно остановилось над пропастью: еще мгновение — и полетит в бездну, где только тьма и тишина. Командир дивизии не называет фамилий, — может, он щадит ее? А разве он знает, что ее нужно щадить? Откуда он может это знать, если она сама так долго не знала?
Варвара закрыла глаза и снова открыла их, почувствовав на себе внимательный взгляд командира дивизии. Знает, он все знает — поняла Варвара, — все знают и все щадят ее… И Васькову было тяжело разговаривать с ней, пока он не вспомнил о полете Пасекова, и Кукуречный был так растерян и смущен потому, что знает и решил щадить ее…
Варвара опустила голову под взглядом Повха, который, держа в руке очки, будто говорил ей: «Конечно же мы знаем… Разве вы из тех, кто может скрывать?..»
Резко колыхнулся огонек гильзы-коптилки. Вошел полковник Курлов, без фуражки, с пачкой бумаг в руках, и остановился у стола. Он не обратил внимания на Варвару, возможно просто не заметил ее.
— Вот наконец все, — сказал Курлов, положив бумаги на стол перед Повхом. — Подписывай, Андрей Игнатьевич!
Варвара услышала, словно из-за толстой глухой стены:
— А о полковнике Лажечникове кому пошлем? У него только малолетний сын в детдоме,
Повх взял верхний листок из пачки бумаг и смотрел на него поверх очков. Варвара поняла, что это и есть уведомление о смерти Лажечникова, которое некому посылать, разве что заведующей далеким детдомом.
— Дайте мне, — сказала Варвара тихо.
Курлов удивленно глядел на нее. Повх кивнул, положил перед собой листок и размашисто подписался красным концом карандаша под несколькими строчками, напечатанными на машинке с фиолетовой лентой. Потом он поднял глаза на Варвару, которая уже стояла у стола, и сказал, протягивая ей уведомление:
— Я знаю, это принадлежит вам.
Варвара вышла на ночные холмы сквозь пролом в церковной ограде. В темноте белели проложенные грузовиками колеи. Никто не остановил ее. Грозная тишина царила под звездами, и в этой тишине громко и больно билось ее сердце. Она шла сама не зная куда и ничего не видела перед собой, кроме неотчетливых полос колеи. Потом темные стены высокой пшеницы обступили ее, ветерок слегка раскачивал их, они шумели, как отдаленный прибой; колосья, из которых давно уже высыпалось зерно, касались ее лица. Когда-то она уже шла так, не спрашивая дороги, и такая же тишина была в ее сердце. На руках у нее была девочка, ее ребенок… Большой город с его неустанной тревогой, борьбой и страданиями остался позади, августовский простор открывался перед ней, и в этом просторе она была одна со своими мыслями об утрате, которую, казалось, нельзя пережить. Звездочка вышла на небо, посмотрела на нее с девочкой на руках и оказала: «Уже поздно, переночуй ночку в поле, а утром пойдешь дальше…» И она ночевала ночку в поле, и Галя лежала у нее на руке, упираясь острыми коленками ей в бок, и ровно, спокойно дышала, потому что ничего не знала.
Галя так и не знает, где ее отец, не спрашивает о нем, забыла… Как же она могла забыть, не помнить того большого, доброго человека, который дал ей жизнь, держал в больших теплых ладонях, подбрасывал к потолку и ловил ее, испуганную и обрадованную, и прижимал к себе, маленькую, беспомощную капельку родной крови?
А ты разве не забыла? Она не помнила, а ты помнила… Галя прожила свой век без него, а ты — ведь он был твоей жизнью, как же ты могла забыть его для другого?
Варвара словно отдалялась от сегодняшнего своего страдания и с каждым шагом по темной дороге меж высокими хлебами приближалась к своему прежнему горю. Но старое горе не приближалось, как она ни ускоряла шаги, а сегодняшнее страдание не отставало, шло за ней по пятам.
Оба они жили в ее мыслях, в ее сердце, не споря друг с другом и не сердясь на нее, будто оба они понимали, что она не властна над своими чувствами, что за нею нет вины в этом мире, где страдание и радость, любовь и смерть не исключают друг друга, а стоят рядом и делают жизнь жизнью.
Их уже не было, они не могли ее слышать, а она говорила с ними, как с живыми, хоть и без всякой надежды, что они услышат ее из своей дали.
«Что вы делаете с моей душою, — говорила Варвара, — зачем она вам, что вы ее раскалываете надвое? Вас уже нет, и я не нужна вам, вы можете существовать без меня, как без воздуха, без дня и ночи, без хлеба и соли… А что вы оставили мне, живой, кроме бесплодной жажды, которую нечем утолить? И ты, далекий, и ты, близкий, оба вы не хотите удовлетвориться частью, обоим вам нужна вся моя душа. Тебе, далекому, потому, что она принадлежала тебе, была твоей, ты уже знаешь ее, и тебе горько там, где ты находишься, без моей души. А ты, близкий, — тебе моя душа только могла принадлежать, ты не успел ее ни понять, ни узнать; зачем же она тебе, ты легко мог бы обойтись… Зачем вы разрываете мою совесть? В чем ваша власть надо мною?»
Саша стоял напротив нее над кроваткой Гали, он протянул к ней руки, милые руки, поросшие рыжими волосами; она подошла и поцеловала его в глаза… И сразу же Саша исчез, а она уже сидела с Лажечниковым у дивизионного шлагбаума, ела дикий мед, который расплывался золотым озерком на дне трофейного котелка, и Зубченко, старый добродушный солдат, говорил, стоя в стороне:
— Дикий мед должен горчить… Природная пчела и с горького цветка взяток берет.
Несчастливые? Почему она думает, что они несчастливые? Они оба ушли с целой, нерасколотой душой, только ей суждено было понять, что значат слова той страшной своей откровенностью песни, которую пел танкист со странной фамилией — капитан Геть:
Колеться серденько Начетверо моє…Медленно светало. Вдалеке, за гусачевскими холмами, неохотно просыпалась война… Варвара шла уже по дороге, и ночные ее думы и видения, так мучавшие ее, словно расплывались в синеватой дымке рассвета.
В корреспондентском хуторе ее ждал вызов в редакцию.
14
Миня стоял у дверей Людиной избы. Два вещмешка лежали на низкой, вытоптанной траве у его ног, Пасековская машина уже ожидала Миню у ворот.
Миня исхудал и загорел за эти дни, его красивые маленькие усики уже не так резко чернели на лице, в глазах блуждала блаженная усталость. Ему все удавалось в этой командировке. Он нигде не задерживался больше, чем нужно было для дела, но вел себя всюду одинаково хорошо; в частях даже бывалые солдаты удивлялись храбрости лейтенанта с фотоаппаратом, который ради своих снимков лез в огонь, будто не замечая того ада, что кипит вокруг.
Днем он мотался на попутных машинах, летал на «кукурузниках», ходил пешком, фотографировал пехоту в окопах, летчиков на аэродромах, артиллеристов на огневых позициях, танкистов на марше и в бою, а ночью возвращался к Люде в избу, проявлял пленки и утром уже отправлял их в Москву. Все было бы хорошо, если б не телеграмма из редакции и не это вынужденное прощание. Люда стояла, опершись плечом о дверной косяк, по привычке сложив руки под высокой грудью. Она красиво оделась, как на праздник, уложила косы тяжелым кренделем, концы желтого платка, выплывая из-за плеч, в ритме дыхания медленно поднимались и опускались на ее груди.
Влюбленным и печальным взглядом Люда смотрела на Миню, хорошо понимая всю неловкость и фальшь его положения. Миня что-то тихо говорил ей, Люда не отвечала, он еще больше терялся, смущался и краснел. Его похожие на маслины живые глаза беспокойно искали, на чем остановиться, но ни в глаза Люды, ни на ее бледное, осунувшееся лицо глядеть Миня не мог; не мог он глядеть и на концы желтого платка, что поднимались и опускались на груди Люды.
Миня то закладывал руки за спину, то прижимал их к сердцу, в чем-то убеждая Люду. Она слушала его молча, иногда только короткая, недоверчивая и прощающая улыбка мелькала в уголках ее красивых полных губ.
Люда держалась с царственным достоинством женщины, которая не только много пережила, но и много поняла за очень недолгое время. Ни разочарования, ни отчаяния, так свойственных тем, кто потерпел катастрофу и видит перед собой только обломки своего выброшенного на берег, разбитого волнами корабля, не заметно было на ее лице.
Лицо Люды говорило: «Я поняла и сделала вывод для себя, а ты как хочешь… Можешь и дальше идти своей дорогой… Мне до тебя уже нет дела, ежели ты такой!»
Шофер пасековской машины нетерпеливо засигналил у ворот.
— Ну, мне пора, — сказал Миня,
Люда закрыла глаза и крепко стиснула в черном кулаке уголок своего желтого платка. Миня наклонился к ней, поцеловал ее плотно сжатые губы… Когда Миня выпрямился, Люда сказала, не открывая глаз:
— Прощай… Храни тебя господь!
Миня вскинул на плечи свои вещмешки и пошел к машине. Шофер открыл изнутри дверцу. Миня бросил вещмешки на заднее сиденье, сел рядом с шофером; машина рванулась и исчезла в конце улицы.
Сразу же во дворе появилась Аниська. Люда все еще стояла, прижавшись плечом к косяку, и смотрела на свои босые ноги.
— Уехал? — еще издали запричитала Аниська. — Уехал, чтоб под ним колеса не крутились! Откуда он только взялся на твою голову?!
Люда подняла на Аниську большие, полные печали глаза.
— Чего ты кричишь, Аниська? — сказала она спокойно. — Поехал так поехал.
— И мой Федя говорит, что теперь уже скоро! — кричала, не слушая ее, Аниська. — Теперь, говорит, нам уже недолго… Остановили Гитлера, а он нас не остановит!
Люда пожала плечами в ответ на несдержанность своей подруги, отклонилась от косяка и пошла в избу. Аниська тоже нырнула в сени, оттуда долго слышался ее голос — она то причитала, то смеялась, будто не в себе… Люду не было слышно. Наверное, она молчала — и по своей сдержанности и потому, что в избе лежал Кузя: рана его заживала, и паренька отдали из госпиталя сестре.
Берестовский смотрел на все, что происходило во дворе, со своего вороха сена за сарайчиком. Тетрадь с неоконченной корреспонденцией, заложенная карандашом, лежала рядом; он опять опаздывал, опять чувство вины перед редакцией угнетало его, и опять он не мог ничего с собою сделать.
Есть вещи посильнее, чем его способность водить карандашом по бумаге. В конце концов, он не газетчик. Не его вина в том, что он иногда застывает от удивления перед жизнью, а жизнь не ждет, спешит вперед, ей все равно, успеваешь или не успеваешь ты за ней; в редакции тоже не хотят ничего знать — полосы должны идти в ротацию вовремя.
Берестовский вздохнул и протянул руку к карандашу.
Пасеков и Мирных вынесли из избы чемоданы, вещмешки, шинели и сложили на завалинке. Они тоже получили приказ перебазироваться на Западный фронт, который перешел в наступление и с успехом продвигался вперед. Дубковский вышел с ними — он оставался.
Берестовский со своей кучи сена с тоской смотрел, как они идут к нему — впереди Пасеков, подтянутый, в начищенных сапогах, перехваченный блестящими ремешками, при всех орденах… Новая фуражка лихо сидела на его монгольском черепе.
Этой минуты Берестовский больше всего боялся. Не за себя — за Пасекова. Он-то сумеет притвориться перед всеми, что ничего не случилось. Он давно уже готов к этому, а Пасеков… Берестовский попытался поставить себя на место Пасекова; ему сразу же стало жутко от мысли, что это на нем блестят ремешки, ордена, хорошо вычищенные сапоги, прикрывая холодную, отвратительную пустоту, в уголочке которой шевелится, свернувшись калачиком, жгучий стыд.
Всем хватило места на сене — Берестовский отодвинулся к самой стенке сарайчика. Конечно же Пасеков нарочно пришел с Мирных и Дубковским, — никаких разговоров, таким образом, не будет. Что ж, это очень хорошо… Никаких разговоров и не должно быть. Но по Пасекову не видно было, чтобы он боялся каких-то разговоров. После полета на штурмовку это уже снова был Пасеков во всей своей красоте, ни следа в нем не осталось от того Пасекова, который наклонялся в Людиной избе за карточкой, наклонялся и не успел поднять… Глаза Пасекова победно блестели, он был доволен собой, он оказался способным сделать то, о чем будет долго говорить весь корреспондентский корпус — от Черного до Баренцева моря, — недаром Мирных и Дубковский шли по сторонам у него, как ассистенты у знамени.
«Я все могу, — прочитал Берестовский на лице у Пасекова, и не только это, но куда больше: — Мне все можно».
Нагретая солнцем стена сарайчика пахла сухими досками, дальше некуда было отодвигаться. Берестовский закрыл глаза, чтобы не видеть Пасекова, напрасно — теперь он уже слышал его голос, спокойный, уверенный, ему показалось, что даже более спокойный и уверенный, чем всегда.
Главное в человеке — упорство, умение ставить перед собой цель и достигать ее, — говорил Пасеков, не сомневаясь в том, что он прав. — Человек должен быть хозяином своей жизни, а не плыть по течению…
«Куда это он гнет?» — с тоской подумал Берестовский и вдруг понял, что это же Пасеков специально для него говорит, что Пасеков не только считает себя правым, но и сочувствует ему, считает возможным поучать его, Берестовского.
— Вот хотя бы и Моргаленко, вы помните его, Павел? — сказал Пасеков, обращаясь уже прямо к Берестовскому. — Он говорил вам, что хочет быть летчиком… И стал летчиком, да еще каким! Вспомните меня, он еще будет командовать полком, а то и дивизией!
— А Маруся? — неожиданно для самого себя, проникаясь спокойствием Пасекова, спросил Берестовский. — Про Марусю вы ничего не знаете?
— Так что ж Маруся, — отозвался Пасеков небрежно, как будто Маруся чем-то мешала ему в эту минуту. — Не выбралась Маруся… На Северном Донце осталась, мы пролетали над теми местами.
— Вон как, значит, вышло с Марусей, — пробормотал Берестовский, поняв, что для Пасекова в этом ответе главное не Маруся, а то, что он, Пасеков, пролетал над теми местами, где Маруся погибла. — Вот, значит, как получилось…
С шумом и треском влетела во двор машина; шофер сразу же стал укладывать вещи. Из избы вышла Александровна. Пасеков поцеловал Александровну в обе щеки и задумался, почесывая кончик носа. Шофер как раз нес в машину небольшой сверток. Пасеков выхватил сверток у шофера и отдал Александровне, — он хотел уже давно это сделать, честное слово, да забыл, хорошо, что вспомнилось… Александровна сначала спрятала руки за спину, отказывалась, но, когда Пасеков показал ей пару сиреневого трикотажного белья и вафельное полотенце, сердце ее оттаяло, она вежливо поджала черные губы и запела:
— Золотой ты мой начальничек! Дай бог тебе здоровья и сохранения от врага…
Пасеков замахал руками:
— Что вы, что вы, Александровна, такая мелочь!.. Спасибо вам за приют, за тепло…
Мирных стоял поодаль, словно все это его не касалось, хотя белье и полотенце были записаны в его вещевом аттестате.
— Не мешало бы нам попрощаться с Княжич, — сказал Мирных, когда Пасеков собрался уже садиться в машину. — Вы как считаете, нужно быть вежливым?
— Обязательно!
Пасеков оправил гимнастерку и пошел за Мирных в хату к Аниське.
Берестовский с Дубковским сели на завалинке и молча закурили, Берестовский — свою обугленную трубку, Дубковский — самокрутку из черного трофейного табака, нарезанного длинными тонкими нитями.
— Итак, мы с вами остаемся вдвоем, — сказал после доброй затяжки Дубковский. — Княжич тоже получила вызов из редакции. У нее что, неприятности?
— Не знаю. Кажется, она, кроме того «тигра», ничего не сфотографировала, — ответил Берестовский.
Вернулись Мирных с Пасековым.
— До встречи! — поднялся Дубковский, а Берестовский, как автомат, повторил его слова и взмах руки.
— В Берлине! — крикнул Пасеков, садясь в машину.
— Не возражаем!
Одновременно хлопнули обе дверцы, машина выехала со двора. Берестовский и Дубковский прошли к воротам и увидели ее уже в конце хуторской улицы.
— Переходите ко мне, — предложил Дубковский, когда они возвращались. — Там ведь у вас паренек раненый.
— Подумаю, — сказал Берестовский. — Я очень привык к своему вороху сена за сарайчиком.
— Ну, как знаете…
Берестовский пошел дописывать свою корреспонденцию и увидел на Людином дворе святого Демьяна. Плотник был без шапки, лысина его в венчике серебристых волос сияла на солнце. На плече плотник нес три длинные и тонкие очищенные от коры жерди, они колыхались и почти касались концами земли; в свободной руке он держал кошелку с плотничьим инструментом.
Демьян поздоровался с Берестовским издали, сбросил с плеча на траву свои жерди и осторожно поставил кошелку.
— Надо все-таки поправить солдатке крышу, — сказал Демьян и нескрываемо враждебным взглядом посмотрел на трубку Берестовского. — А вы все бесу воскуряете?
Появление Демьяна во дворе обеспокоило Берестовского. «Неужели Люда капитулировала?». — думал он, глядя на крышу Людиной избы, в самом деле угрожающе осевшую и похожую на старое, изъезженное седло.
— Договорились? — спросил Берестовский.
Плотник посмотрел на него презрительно.
— Чего там договариваться! К кому она пойдет, ежели не ко мне? От молодых офицеров какая корысть? Некуда ей деваться, этой Людке. А мы свои, мы всегда тут, и струмент наш под рукой!
Он нехорошо засмеялся, показывая черные зубы. Стукнула щеколда; Люда вышла из избы с ведром в руке — к колодцу. Она остановилась, увидев во дворе Демьяна, и вернулась в сени. Можно было подумать, что она решила не связываться с назойливым проповедником. Но Люда только поставила ведро в сенях и опять вышла. Она была уже в своей будничной одежде, повязанная белым платком. Решительными шагами Люда пошла через двор к Демьяну. Он ждал ее, стоя над своими жердями; лицо его кривила фальшивая улыбка.
— Чего пришел? — вплотную подошла к нему Люда. — Чего тебя принесло?
Голос у нее был холодный, слова она выговаривала, будто цедила сквозь зубы ледяную воду.
— Да ведь надо все-таки крышу ремонтировать, — испугался ее решительного голоса Демьян. — А насчет цены ты не беспокойся, помиримся… С кем Демьян не мирился?
— Хочешь, чтобы я тебе в глаза плюнула? — совершенно спокойно сказала Люда.
— Бог с тобой, Люда, что ты говоришь? — будто защищаясь, поднял руки Демьян. — Бог с тобою, сумасшедшая!
Люда взяла Демьяна за грудки и встряхнула так, что он замотал головою, как тряпичная кукла. Руки у него были свободны, но он не решался оттолкнуть Люду, даже притронуться к ней боялся, только размахивал руками, как петух крыльями.
Люда оттолкнула Демьяна, схватила длинную жердь и ловко выбросила за ворота. Демьян что-то лопотал, клонясь то в одну, то в другую сторону. Люда схватила вторую жердь.
— Крой его, Людка! — послышался слабый голос от избы.
Бледный и исхудавший Кузя стоял на пороге с перебинтованным плечом, в одних черных трусах; его цыганские глаза сверкали, он даже приплясывал от азарта.
— Прочь со двора, святая падаль! — крикнула Люда, замахиваясь на Демьяна жердью.
Демьян подхватил свою кошелку. Жердь полетела ему вслед, как копье, и, просвистев мимо плеча, упала на дорогу за воротами. Выбросив и третью жердь со двора, Люда отряхнула руки и, тяжело дыша, пошла в избу. Кузя смотрел на нее с восхищением.
15
Из записок Павла Берестовского
Варвара Княжич нашла меня под вечер за сарайчиком и попросила устроить ее на самолет в Москву.
В новом танкистском комбинезоне ей было лучше, она казалась не такой неуклюжей, как в гимнастерке и солдатских штанах; комбинезон был просторный, сквозь немного открытую «молнию» виднелась сиреневая блузка. Только ее сапоги, совсем уже стоптанные и порыжевшие, оставляли желать лучшего.
Получить в штабе разрешение было нетрудно.
Самолет отправлялся на рассвете. Я лежал на сене и курил трубку. Звездное небо плыло надо мною, табачный дым смешивался с запахами сена, снова и снова я возвращался мыслью ко всему, что пережил, увидел и узнал за эти дни.
Варвара подошла неслышно.
— Можно мне посидеть с вами? Аниська все время плачет и жалуется на своего Федю… Тяжело мне сейчас выслушивать жалобы. Человек вообще не должен жаловаться, а женщина особенно.
Варвара села поодаль, охватила колени руками. Она медленно покачивала плечами, словно убаюкивала свои мысли, и вдруг после долгого молчания заговорила. Говорила она так, будто не о себе рассказывала, а о ком-то совсем постороннем, спокойно и мудро. Сказка чужой жизни раскрывалась передо мной, я вслушивался со страхом и надеждой в слова Варвары, — со страхом, потому что боялся, что какое-нибудь одно неосторожное, неразумное слово разрушит ее сказку; с надеждой, потому что страстно хотел не ошибиться в Варваре. И она не сказала ни слова, которое нарушило бы мое представление о ней. Чистая и смелая нежность звучала в ее голосе, и все, о ком она рассказывала, были достойны этой нежности, они как живые вставали перед моими глазами; я готов был слушать и слушать ее без конца, но Варвара внезапно замолкла, многого, наверное, не рассказав.
— Кажется, пора уже на аэродром, — сказала Варвара.
Я поглядел на часы.
— Пора.
Варвара молодо, не опираясь руками о землю, поднялась и пошла к Аниське. Через несколько минут они обе вышли во двор. У Варвары был только маленький вещмешок, да и тот полупустой, вряд ли в нем было что, кроме ее цветастого платья, туфель да двух-трех катушек пленки.
Аниська, всхлипывая, припала к плечу Варвары. Они обнялись и поцеловались, как сестры.
До аэродрома мы дошли в темноте. На Москву отправлялся скоростной бомбардировщик, места в нем были все заняты: офицеры связи летели в Генеральный штаб.
— Как же мне быть? Меня сегодня ждут в Москве, — несмело сказала Варвара.
Дежурный майор задумался, одним глазом оглядел Варвару с ног до головы и предложил:
— Хотите, мы вас устроим там, где обычно лежат бомбы?
— А что, если пилот нажмет кнопку? — улыбнулась Варвара.
— Будете держаться за воздух, — тоже засмеялся майор, с удивлением глядя на большую, спокойную женщину с фотоаппаратом через плечо.
— Я согласна, — сказала Варвара просто и повернулась ко мне: — Долечу?
— Завтракать будете в Сивцевом Вражке, — поспешно сказал я, хоть мне стало страшно за нее.
Начало светать, и на горизонте из-под большой тучи, будто спешившей на запад, сверкнула узенькая полоска света. Бомбардировщик вырулил на старт. Варвара молча пожала мне руку и пошла к самолету вслед за офицерами связи, — они были молоды и не обращали на нее внимания, нечего было и думать, что кто-нибудь из них уступит ей свое место, а сам ляжет вместо бомбы. С грохотом и ревом расталкивая перед собой воздух, самолет запрыгал по полю, подпрыгнул в последний раз и повис над землею. Он быстро набрал высоту, четко вырисовываясь на фоне темной тучи, сделал круг над аэродромом и лег на курс.
ПОСЛЕДНЯЯ СТРОФА
Что же ты не спишь, Саня? Все девочки уже давно спят, уже и вечер прошел, уже и ночь началась, а ты все сучишь кулачками у ротика и агукаешь, и в глазенках у тебя солнышко. Нельзя же так, надо же когда-нибудь спать. Хочешь, я тебе спою? Ну, как знаешь. Странное ты созданьице, Сашенька, никогда, не плачешь, а Галя долго плакала, когда была маленькая, я уж и не знала, что это будет, такая она у меня была плакса! У нее все время болел животик. Боже мой! Сколько я этих пеленок настиралась, ты не можешь себе представить. Саша только руками разводил: «Опять? Что это за девчонка такая у нас!» — вот как он говорил про Галю! А теперь Галя не плачет, она сильная, управляется с двумя младенцами — с тобой и Севой, — правда, с тобою я ей помогаю, а уж с Севой ей приходится самой. Вот и сегодня пошли вдвоем куда-то «пробивать» его очередную уродину, — ты им не говори, что я так называю его скульптуры, будут обижаться.
Как хорошо, что ты у меня есть и что тебя назвали Сашенькой! А могло быть иначе. Когда тебя еще не было, Галя и Сева долго спорили, а потом условились: если будет мальчик, имя дает Сева, а если девочка, он не вмешивается, — вот Галя и назвала тебя Сашенькой… У меня они не спрашивали, Саня, это их дело, главное, что ты у меня есть. Ноженьки мои болят, я уже не могу ни на льдину, ни в тайгу, ни в горы. Мне хорошо быть возле тебя и петь тебе про ветер, солнце и орла, — хочешь, я спою, а ты заснешь? И мне пела эту песенку моя мама, она тебя не дождалась — заснула с вечера, а утром мы уже не смогли ее разбудить, — и мой Саша слышал эту песню в детстве, и Галя, все мы знаем про ветер, солнце и орла с колыбели, поэтому нам ничто не трудно, мы летаем, пока держат нас крылья, а потом сидим на скале, слушаем ветер и смотрим прямо на солнце. Это не всякий умеет, а ты сможешь и летать, и побеждать ветер, и смотреть на солнце, вот ты какая у меня, Саня!
Просто удивительно, сколько всякой всячины вмещается в твоем имени! Если б тебя не называли Сашенькой, я бы давно уже все забыла: и как ночевала ночку в поле с Галей, и того, кто научил меня жить и любить, — и никогда бы не вспоминала ничего… Саня… Саня!.. Была такая девушка, с тех пор скоро будет двадцать лет; она стояла у шлагбаума и видела, как я плакала под маскировочной сеткой, мне надо было все ей рассказать, а я ей ничего не сказала: ни о воронке с убитым немецким танкистом, ни о том танке, который я фотографировала, ни о полянке, на которой струился холодный, серебристо-зеленый свет, ни о полковнике, с которым я шла той ночью на плацдарм… Этого не надо рассказывать, каждый должен это пережить и перечувствовать сам, тогда сможет сказать, что жил, но той Сане, у шлагбаума, я должна была хоть что-нибудь сказать. У нее были такие светлые глаза, полные такой глубины и чистоты, что я хотела бы, чтоб и ты светилась такой чистой глубиной, если тебе придется когда-нибудь стоять у шлагбаума с маленьким флажком и останавливать машины для фронтовых корреспондентов. Нет, это я совсем не то говорю, и совсем я этого для тебя не хочу. Теперь, если что случится, не будет, наверное, ни шлагбаумов, ни девушек с флажками. Тогда были только самолеты и танки, фашисты давали им разные страшные названия, а теперь есть уже ракеты с атомными боеголовками и антиснаряды с инфракрасным наведением, которые сами знают, куда им попадать… Не могу я хотеть этого для тебя, Саня.
Что это ты так разгулялась? Сна и поблизости нет? Это уже просто скандал, воображаю, как ты будешь себя вести, когда будешь большая! Ночь уже, надо спать! Да что тебе ночь, ты будешь из тех, кто не боится ни тучи, ни грома. И все-таки я не хочу для тебя ни разрисованных под тигра танков, ни антиснарядов с инфракрасным наведением… Знаешь, чего я для тебя хочу? Счастья. А какое оно будет, это ты должна решить сама, потому что оно не может и не должно быть похожим на мое — ты сама его создашь собственным сердцем. И хватит агукать, хватит пускать пузыри, надо закрыть глазенки и не утомлять меня своей бессонницей, я столько ночей не спала в жизни. Спи, дитя мое, усни. Сколько ночей я не спала над моим счастьем, а теперь буду не спать над тобою, и пускай Галя возвращается когда угодно домой, она тоже должна создать свое счастье собственным сердцем, лишь тогда это счастье для нас дорого, а если нам не удается его получить, то мы не можем сказать, что не прилагали к этому усилий. Сладкий сон к себе мани. Многое зависит от нас, но многое от нас и не зависит; может, это и лучше, что мы не спим, не плачем и потихоньку агукаем между собой, мы ведь с тобой женщины, а женщинам всегда есть о чем поговорить. Конечно, если бы все зависело от нас, было бы значительно легче, все было бы значительно легче, ну что ж, ничего не поделаешь, надо только не теряться и держать себя в руках, когда тяжело. В няньки я тебе взяла ветер, солнце и орла. Смотреть прямо на солнце и не бояться, что оно ослепит тебя, вот это и значит для человека — жить на земле.
Конец баллады


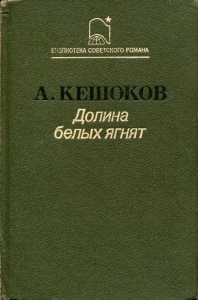


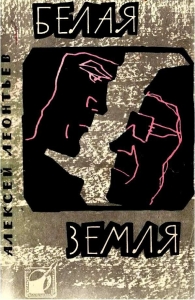
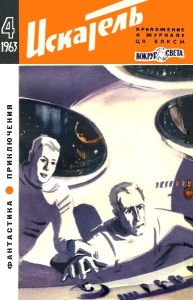


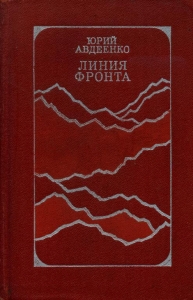

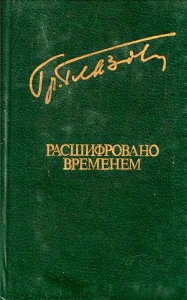
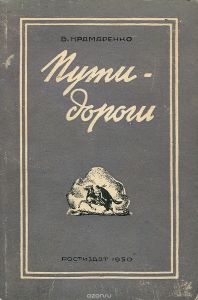

Комментарии к книге «Дикий мед», Леонид Соломонович Первомайский
Всего 0 комментариев