Константин Коничев На ХОЛОДНОМ ФРОНТЕ
А мы встретили злодея посреди пути,
Посреди пути на своей земле,
А мы столики поставили ему — пушки медные,
А мы скатертью ему постлали каленую картечь.
(Из русской былины)1. Накануне и в первый день войны
Вероятно, многие из фронтовиков, вспоминая о пережитом за время Отечественной войны, начинают с того дня и минуты, с той обстановки, в какой их застала внезапно разразившаяся война.
Со мною было так: получив очередной отпуск, я поехал из Архангельска к себе на родину, в маленькую деревушку, повидаться со старыми друзьями и знакомыми, которых, кстати сказать, я не видел добрых пятнадцать лет.
Поезд уходил из Архангельска в белую полночь.
За окном вагона мелькали бесконечные полчища низкорослых сосен. Пассажиры разместились по своим местам, многие без промедления легли спать. В моем купе, на нижней полке сидел слегка подвыпивший пассажир чуть постарше средних лет. Одет он был в хороший серый коверкотовый костюм; из-под распахнутого пиджака виднелась смятая шелковая голубая рубаха с таким же галстуком. Белая ночь и бутылка коньяку не располагали соседа ко сну. Он пил из граненого стакана, услужливо поданного ему проводником вагона, пил и, одобрительно покрякивая, закусывал копченой колбасой.
Мы познакомились. Оказалось, что он едет туда же, куда и я — в Устье-Кубинский район за Вологду.
— Давненько-таки вы не были у себя на родине, а я, батенька мой, не таков! — самодовольно воскликнул пассажир, — узнав куда я еду и сколько лет там не был, — я человек, скажу прямо, мягкосердечный, — хотя в городе живу, тем не менее свою сельскую домашность никак не забываю. У меня привычка — каждый год, или в начале, или в конце лета, ездить в отпуск домой и никуда больше. Я никаких санаториев и курортов не признаю. В селе у меня — теща, две свояченицы. Есть у меня центральная двустволка, а в пожнях там, скажу прямо, — прекрасная охота. Вот и сейчас везу с собой два кило пороху, полпуда дроби. Уж сумею отвести душеньку. Будете там, заходите ко мне в гости. Угощу свежей утятиной. Жить там буду по соседству с бывшим волостным правлением, в собственном доме. Да спросите любого мальчишку, где живет Николай Николаевич Кисельников — вам сразу скажут…
Он разоткровенничался. Я узнал, что мой попутчик служит в Архангельске на «счастливой и сытой» — как он говорил — должности завмага, распоряжается штатом из восемнадцати продавцов, помощников и кассиров и что живет он без нужды и печали, «как прежний граф». В довершение Кисельников сумел осторожно намекнуть, что с такими, как он, вообще не вредно иметь знакомство и дружбу: — «Мало ли чего из дефицитных товаров забрасывают к нам в магазин!..».
— Благодарю, я ни в чем не нуждаюсь, — уклончиво ответил я и, прервав разговор, улегся на своей полке. Однако мне не спалось. Минут через двадцать я покосился на соседа. Бутылка перед ним уже успела опустеть. Лицо Кисельникова налилось кровью, нижняя губа отвисла, глаза сузились и сверкали блуждающим огнем. Он сидел полулежа, прижавшись в угол и облокотясь на обернутый чехлом чемодан с блестящими застежками.
Вагон покачивало. Храпели спящие пассажиры. Задремал было и я, но скоро опять очнулся. Сквозь дремоту я услышал настойчивый, неизвестно к кому обращенный голос опьяневшего завмага:
— Магазин! Что значит магазин? Мага-зи-нишка! Тьфу, да и только!.. Да разве это для меня, Кисельникова, масштаб!.. Продуху мне в жизни нет. Доверь мне работу во сто раз больше— горы сворочу!.. Так нет, все норовят на ответственные посты своих. А я кто? Казанский сирота, бедный родственник, сижу на краешке стула и жду, когда придет родственничек побогаче и скажет: — «Николай Николаевич, сдавайте остатки, вас заменили, вы не заслуживаете доверия!» А? Каково? Вам сударь непонятно, а мне все ясно, как дебет-кредит. Я на этом деле собаку съел. Если бы не двадцать девятый год, я бы в Ленинграде на Невском универмагом ворочал бы. А в то место, пожалте, в Архангельске магазинишка где-то на углу Поморской…
— Чем же был плох двадцать девятый год? — заинтересовался я.
— Для кого как, а у меня вот он где сидит. Партийная чистка мне боком вышла. Разве я виноват, что у меня отец служил урядником. Подумаешь чин — урядник! Да в переводе на теперешний язык это будет пониже начальника районной милиции.
— Вас, наверно, вычистили из партии не за то, что вы сын урядника, а за сокрытие социального происхождения?.. — возразил я.
— Сокрытие, сокрытие, — пробормотал Кисельников, — меня принимали, как сына служащего, а отец мой тогда действительно был служащим и возглавлял заготовку березовых чурок для Ленинградской катушечной фабрики. Меня вычистили, а потом и отца за какую-то провинность…
Кисельников замолк, затем попробовал запеть «Выходила на берег Катюша», но ничего из этого не вышло; он повернулся на бок и быстро заснул с разинутым ртом, пуская слюну на помятый галстук.
Поезд остановился на какой-то станции. Несмотря на позднее время на платформе было множество местных обитателей. Кто-то торопливо садился в вагон, с шумом протаскивая вещи. Звонкие девичьи голоса доносили обрывки песен-коротушек:
Ой, провожала милова До станции Пермилова…Промасленные железнодорожники поспешно шныряли под вагонами и простукивали молотками колеса… Я взглянул на соседа и мне почему-то подумалось, что наша коммунистическая партия — это поезд, идущий на дальнее расстояние. Время от времени в поезде простукивают колеса, проверяют гайки, и если находят что-либо непригодное, выбрасывают вон во избежание всякого вреда.
Когда я погружался в сон, мне уже казалось, что на месте, где храпел пьяный завмаг, лежит разбитое вагонное колесо.
На другой день поезд прибыл в Вологду.
Кисельников немедленно исчез. Видно вспомнив, что ночью спьяна наговорил о себе много лишнего, он решил уйти не простившись и больше на глаза мне не показываться. Не думал я, что снова встречусь с ним при совсем других обстоятельствах.
До отправки парохода было еще много времени. Я пошел в город, любовался на новостройки, осматривал древний собор и стены вологодского кремля, воздвигнутые еще во времена Грозного, зашел в архивный отдел, в библиотеку бывшего дворянского собрания, в музей. Еще успел я посетить знаменитый домик, где в тесной комнатушке с единственным окном, выходящим во двор, жил в тяжелые годы царизма в вологодской ссылке великий человек, чье имя произносится с любовью и восхищением на всех языках мира…
Путь по реке не был ничем примечателен. Однако, всю ночь я не уходил с палубы, смотрел на берега, заросшие ивняком и ольхой. На пароходе мне встретилось немало устье-кубинских земляков. Кто-то из них рассказал, что деревня Попиха, в которой я родился и провел детство и юность, с тридцатого года уже не существует. Соседи все разъехались — кто в город, кто на фабрику. Даже изб и сараев не осталось, они пошли на строительство соседнего животноводческого совхоза.
Моя поездка «на родину» утратила для меня интерес, превратилась в прогулку.
С обратным пароходом я отправился назад.
Небольшой колесный пароход выходил из Кубины на широкую гладь озера. Был тихий, спокойный и теплый июньский вечер. Потревоженные стаи уток носились над простором Кубино озерья, над пожнями, поросшими густой, в человеческий рост, осокой. Чайки с визгом летали над самой водой, ловили мелкую неосторожную рыбешку, другие кружились за кормой парохода, выпрашивая у пассажиров подачки. В стороне за развалинами древнего Спасо-Каменного монастыря буксир тянул к системе Мариинских каналов баржи, груженные досками, и плоты экспортной древесины. Рыбацкие карбасы, наполненные рыбой, один за другим шли к Заозерью. Уставшие за день рыбаки, довольные добычей, солидно сидели на свернутых сетях и, покачиваясь на лодках, курили трубки. Тишина, покой, мир!
Перед закатом солнца легкий ветерок начал рябить воду. Я спустился в красный уголок парохода, читал «Огонек», решал кроссворды и еще какие-то головоломки.
Затем развернул последний номер «Правды».
Здесь в северных краях еще не начинался сенокос, а в далеком солнечном Узбекистане колхозники уже собирали обильный урожай. Готовилась к уборке хлеба Украина, в Крыму и на Кавказе начинался курортный сезон, московские архитекторы на очередной конференции обсуждали проекты реконструкции столицы. По северным рекам к лесопильным заводам шли миллионы кубометров леса, а в Самарканде антропологи и химики вскрывали и исследовали останки Тимура. Страна жила обычной, мирной, созидательной жизнью. Но в коротких газетных строках международной хроники чувствовалось нарастающее напряжение.
Коварный враг удавом извивался у границ Советского Союза. Иногда, осторожно маневрируя, он приподнимал свою мерзкую голову и высматривал себе добычу на нашей земле, стягивался упругими кольцами, шипел, пуская ядовитую слюну, тайно готовясь к внезапному прыжку на страну мирного советского народа.
В задумчивости я бережно свернул газету, отложил ее и остался наедине со своими мыслями.
Пароход прибыл в Вологду утром в воскресенье 22 июня. На перекрестке двух улиц, у репродуктора, я увидел толпу людей и услышал сдержанный говор. По лицам можно было-понять, что ожидается нечто серьезное.
— Граждане и гражданки Советского Союза! — послышался твердый голос товарища Молотова. И народ безмолвно застыл у репродукторов, улавливая каждое слово правительственного обращения.
— Война! — пронеслось в толпе.
— Война!..
И снова напряженное молчание. Все слушают.
— «…Правительство призывает вас, граждане и гражданки Советского Союза, еще теснее сплотить свои ряды вокруг нашей славной большевистской партии, вокруг нашего Советского правительства, вокруг нашего великого вождя товарища Сталина. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами…»
Маленькая девочка прижалась к отцу и, взяв его за руку, спросила:
— Папа, ведь Красная Армия сильна. Мы победим немцев?
— Безусловно победим. Нелегко нам достанется, но победим наверняка, — отвечал отец взволнованным голосом.
До этой минуты я предполагал еще побывать во время отпуска в Москве и Ленинграде. Теперь все это было отброшено. Скорей домой! Там уже, наверно, ждет меня повестка из райвоенкомата…
Через полчаса я был на вокзале. Царила необычная толкотня. Однако, билет я получил без труда. Времени до отхода поезда оставалось достаточно. Я зашел в агитпункт на митинг. Ораторы сменяли друг друга. Запомнилась мне речь старичка-доцента сельскохозяйственного института.
И сейчас я отчетливо представляю себе его моложавое лицо с седой маленькой бородкой, живыми, проницательными глазами. Несколько сутулясь, нерасторопно он пробрался к эстраде на трибуну.
— Товарищи! — заговорил он взволнованно, обводя глазами переполненный зал. — Настал день борьбы за нашу Родину! Товарищ Молотов сегодня в своем историческом обращении по поручению Советского Правительства и его главы товарища Сталина сказал, что не первый раз нашему народу приходится иметь дело с нападением зазнавшегося врага. Давайте оглянемся на историческое прошлое нашей великой и многострадальной матушки-Руси. И Чингис-Хан, и Батый, и Мамай полосовали нашу родную землю. Но выдюжил наш народ. Силой своего оружия прославил себя, избавился от рабства. Иван Грозный вывел Русь в люди, показал ее всей Европе и сказал — вот полюбуйтесь, какая держава из удельных княжеских лоскутьев вышла!
В начале семнадцатого века поляки, литовцы лезли на священную русскую землю, жгли села и города, грабили и убивали население. Вышла Россия и из этой беды, у насильников же оказалось рыло в крови.
Через сто лет надменный король шведский Карл XII, собрав войска, напал на нашу Родину. Петр Великий возглавил русское воинство и одержал блестящую победу. Карл постыдно бежал, потеряв свою армию, и заказал своему потомству никогда не ворошить Россию!.. Еще через сто лет прославленный полководец Наполеон с несметной силой нагрянул на русское государство и, вы знаете, как солдаты Кутузова вышвырнули его за пределы нашей Родины. А еще через сто лет, в девятьсот четырнадцатом, вильгельмовская Германия напала на Россию. Эта война обернулась Октябрьской революцией. Наша Родина обновилась и окрепла, как никогда!..
Есть аравийская легенда о мифической птице-фениксе; эта птица раз в столетие сгорала на костре, но из пепла рождалась вновь и своей красотою и силой удивляла всех. Подобно фениксу наша славная великая Родина возрождалась из всех бедствий и испытаний. Так ужели проклятый тирольский шпик Гитлер может загубить феникса!
— Нет! — послышались дружные голоса в зале, — не бывать этому!
2. Вдали от боев
Первое, что бросилось мне в глаза, когда я сошел с поезда в Архангельске, — военная сутолока, охватившая город. Повсюду строились бомбоубежища. Кое-где на перекрестках вблизи областных учреждений возводились укрепления на случай возможной высадки десанта парашютистов. На крышах зданий поспешно устанавливались спаренные зенитные пулеметы. Окна пестрели наклеенными полосками бумаги. В центре города перекрашивали и маскировали дома. Несмотря на то, что город находился на довольно почтительном расстоянии от фронта, он готовился к отпору. И все сознавали, что эти предосторожности не излишни.
Придя домой, едва успев поздороваться с женой и сыном, я спросил, есть ли мне повестка о призыве в армию.
Жена подала пакет, полученный ровно через час после вчерашнего выступления товарища Молотова.
Через несколько часов я уже надел военную форму. Летняя хлопчатобумажная гимнастерка с тремя квадратами в петлицах плотно обтягивала мои тучноватые плечи. На солдатском ремне сбоку висел в новой кожаной кобуре наган. Кожаные с широкими голенищами сапоги обещали послужить не менее как до конца войны. Такие сапоги радуют солдата: ни в сырость, ни в холод не подведут!..
Белье, два полотенца, носовые платки, кружку, котелок, — все это я сложил в вещевой мешок. Такие сборы для меня не были новинкой. Ежегодно, за последние пять — шесть лет, мне доводилось проходить боевую подготовку в военных лагерях. Один лишь незначительный предмет, выданный вместе с обмундированием, оружием и снаряжением, свидетельствовал, что нынешние «сборы» совсем не те. Это был обыкновенный медальон в виде пластмассовой трубочки, в которую вкладывалась узкая полоска бумаги. Я записал на этой полоске адрес своей жены.
— Пустяшная вещичка, а наверно многих наводит на мрачные размышления? — спросил я расторопного старшину, выдававшего медальон.
— Не знаю, кого как. Между прочим, в этой трубочке очень удобственно иголки хранить, — деловито заметил опытный старшина.
Однако на настоящую войну я попал не сразу, к моему великому разочарованию.
Мне было приказано временно работать в одном из отделов штаба. Когда отправят на фронт, — было неизвестно.
Потянулись дни за днями. Поступили тревожные вести об отходе наших войск. Эшелон за эшелоном — пополнения отправлялись на запад. Враг напирал в трех направлениях — на Ленинград, на Москву, на Киев.
Из Лондона в Архангельск с военной и дипломатической миссией прибыли две громадные летающие лодки. Вскоре за ними в северные порты пришли первые караваны кораблей с военными грузами. Отрадно было смотреть, как с севера в глубь страны двинулись поезда, груженные танками, моторами, самолетами.
Однажды, провожая меня на работу в штаб, жена сказала:
— Вчера я встретила Кисельникову, ее дочурка учится в нашей школе, а мужа ты должен знать, завмаг и твой земляк. Он с тобой недавно до Вологды в одном вагоне ехал. Так вот эта Кисельникова встретила меня такая веселая и говорит: — «Мой Коля растратил десять тысяч, и его уже осудили на пять лет принудительных работ». Я спрашиваю: — чего ты радуешься? — Она говорит — «За пять лет, глядишь, война кончится, Колю не побеспокоят, жив останется». Ну, не сволочи ли?
Вспомнив встречу с Кисельниковым я не удивился.
— Семья не без урода, — сказал я. Тем более в такое острое и тяжелое время уроды, как прыщи, будут появляться. Однако с таким, как Кисельников, с накожными болячками, бороться не трудно. Они сразу видны.
— Я не понимаю, почему в такой ответственный момент находятся советские люди, которые способны на такую подлость, — недоумевала жена.
— В том-то и дело, что такие люди — советские только по паспорту, а души у них советской нет. Война началась не по песне «любимый город может спать спокойно», и началась не на чужой территории. Сейчас оставление нашими войсками своих городов, слезы и смерть, — все это не под силу паникерам, а тем более таким шкурникам, как Кисельников. Ничего, мы выдюжим, а выродкам из нашей здоровой семьи потом будет стыдно. А, впрочем, навряд ли они устыдятся. Таким плюй в глаза, они скажут — божья роса…
Тяжелая туча продолжала виснуть и разрастаться над нашей Родиной.
День за днем все тревожней и тревожней приходили вести с фронтов Отечественной войны.
В глубокий тыл из прифронтовых городов продолжали итти поезда с фабрично-заводским оборудованием. На новых местах — на Урале, в Сибири поспешно строились корпуса заводов. Отмобилизовывались, обучались, вступали в строй все новые и новые соединения Красной Армии.
В эти первые месяцы войны я очень редко заглядывал домой. Мне постоянно приходилось выезжать за город в расположения запасных соединений, полков и маршевых батальонов. Однажды я на целую неделю с группой военных товарищей вылетел на самолете в чекуевские леса искать и вылавливать вражеских парашютистов.
К осени немцы вырвались к Волхову, к Тихвину, к станции Мга. Завязались ожесточенные бои в ближайших окрестностях Ленинграда. Нити железных дорог, ведущих к нему, были на долгий период перерезаны.
Я стал настойчиво обращаться к моему начальнику, подполковнику Галактионову с просьбой отпустить меня на фронт.
— Надо подождать, придет время, — поедем вместе, — неизменно отвечал Галактионов.
Наконец, однажды он вызвал меня к себе в кабинет и объявил:
— Едете на фронт в командировку, на месяц. По специальному заданию. На участке между Ладожским и Онежским озерами финны и немцы прорвались в глубь нашей обороны и в отдельных местах проникли в западную часть Оштинского района Вологодской области. Сегодня же без задержки вы будете доставлены туда на самолете…
Получив подробные указания и запомнив все, что требовалось запомнить, я в приподнятом настроении вышел из кабинета подполковника.
Через час быстроходный катер оторвался от пристани и с шумом разрезая двинские волны, понесся в сторону аэродрома. Меня провожали серебристые чайки. Их крики звучали для меня напутственным приветом и добрыми пожеланиями.
Сумрачный день не предвещал летной погоды. Синоптики предсказывали порывистый ветер, низкую облачность и даже снег. Однако, не взирая на плохие предзнаменования, наша нерасторопная «амфибия» тронулась в далекий путь. Во избежание нежелательных встреч с шныряющими «мессершмидтами» наш безобидный самолет, убрав шасси, шел бреющим полетом. Окрашенная для маскировки в болотный цвет «амфибия», вероятно, была почти, а то и совсем незаметной с большой высоты. Тем не менее, летчик, молодой парень, опасливо поглядывал по сторонам и вверх. И мне подумалось, что он боится смерти, боится случайной встречи с вражеским самолетом. Еще бы не бояться. Ведь на вооружении у нас только два револьвера!
С непривычки мне казалось, что время в воздухе идет слишком медленно. Мысли мои неслись вперед быстрей самолета. Давно уже под нами промелькнули пригородные деревни, фактории и лесозаводы, разбросанные по широкоразветвленному устью реки; затем потянулась бесконечная тайбола. прерываемая мелкими озерами, извилистыми черными речками и впадинами с коричневой железистой поверхностью. А мы все летели и летели.
По расчетам летчика при нормальной погоде мы должны были бы прибыть в Вытегру через четыре с половиной часа. Но вот подул порывистый ветер. Мелкий, ровный дождь стал барабанить по прозрачному козырьку самолета. Началась «болтанка», нашу машину бросало из стороны в сторону. Непривыкший к подобным ощущениям, я инстинктивно хватался рукой за борт фюзеляжа. Летчик, замечая это, смеялся. Потом он набрал высоту и, следя за картой, немного свернул с курса, чтобы обойти встречную тучу. Качка прекратилась; из-за облачных обрывков проглянуло солнце. Сердце «амфибии» затрепетало веселей, она пошла плавно, как подобает летающей лодке. Вскоре опять пришлось набирать высоту, мы встретили снеговую тучу.
В сумерки, сделав разворот над городом, самолет с выключенным мотором пошел на снижение.
Простившись с летчиком и поблагодарив его за благополучную доставку, я направился искать начальника гарнизона. Никого не спрашивая, я зашел в дом, около которого стояли грузовые и санитарные автомашины и дымили походные кухни; оказалось, что попал как раз куда надо. В комнате с ободранными обоями, за столом, на ящике из-под макарон сидел строгий на вид, черноусый, с подвязанной щекой начальник гарнизона. Вся его незатейливая канцелярия состояла из помятой карты и раскрытой полевой сумки. Проверив мои документы, он предложил отдохнуть, а на утро, до рассвета отправиться с попутной машиной туда, где разрозненные части сдерживали напор финнов.
— Далеко это будет?
— К сожалению, близко, — ответил начгарнизона и, склонившись над картой, показал, где проходит линия фронта…
3. Первые впечатления
Поздно вечером я расположился отдохнуть. На улице стояла непроглядная тьма. Где-то вблизи, за городом, на озере ежеминутно, то опускаясь, то поднимаясь и разрезая осеннюю мглу, маячили белые лучи прожекторов Онежской флотилии. Вдалеке, на Свири занималось полыхающим заревом село Вознесение. Там был фронт, Изредка доносились тяжелые глухие раскаты взрывов…
Несмотря на усталость, я не мог уснуть. Погасив свет и полуоткрыв маскировку, глядел я в открытое окно: напротив через дорогу у старинного здания бывшей уездной гимназии в кромешной темноте мигали скупые огоньки карманных фонарей. Там санитары и медсестры переносили о грузовых машин раненых бойцов. Я прислушался к голосам. Сквозь сдержанные стоны раненых можно было расслышать и разговоры:
— Товарищи, сестра, поосторожней… У меня две пули в плече, ой, ой, дыху мешает…
— Меня не троньте, — слышался второй голос, — я сам добреду, ноги целы. Ух, как утрясло, дьявол машину гнал по фашиннику что тебе на пожар, тут и здоровому не долго умереть…
— Эй, ты! Куда ступаешь на живого человека, не видишь, что ль?..
— Эх, наделал гад Гитлер делов, заварил кашицу. И придумал бы, братцы, я ему казнь, подвесил бы его за пущее место над костром и жарил бы на медленном огне три дня и три ночи…
Кто-то неунывающим голосом рассказывал в темноте:
— Мы и до войны не очень-то верили в немецкие заверения, знали: немчура пойдет на Россию… В нашей деревне был общественный бык «Пират». На собрании его перекрестили, дали кличку «Гитлер», а колхозницы еще добавление сделали — косоглазый!.. Так и звали. Потом мы его для партизанского отряда кокнули.
И еще чей-то голос вмешался в разговор.
— Я так помекаю, что после войны ни один порядочный человек фрицем или Гитлером даже собаку не назовет. Нельзя оскорблять животных; блажен кто и скоты милует…
В другом месте, около повозки, где светлячками горели огоньки цыгарок, в темноте раненый боец рассказывал:
— Кончился бой, и я очнулся. Собрался с силами, приподнялся на один бок. Земля вокруг изрыта, убитые лежат, разорванные, стон будто бы слышится, или я стону — не могу понять. Упал, лежу, опять ничего не соображаю. Чу, кто-то подошел, может рану перевяжет… Не то сумерки, или от того мутно, что в глазах туман и все ходуном ходит. Не могу узнать, кто подошел — наш или ихний. Слышу, чувствую левую руку мою берет, пульс проверить. Не иначе наш санитар. — «Помоги, браток, дай водицы»… Молчит. Наклонился ко мне и вижу, ему до моего пульса нет никакого дела, а он часы с моей руки снимает. Эх, была не была, ошибки не сделаю! Собрался еще раз с силой, вытащил нож из-за голенища и хватнул ему в загривок. Потом, разглядел — лежит возле меня фриц, храпит, и всего меня своей поганой кровью подмочил. Пришлось отползти…
— Туговато, чорт побери, нам пришлось в этих боях.
— Ничего, браток, ты не паникуй. Финны и немцы бойки срасплоху да покудова нам подмога не подошла. А подойдет подмога — против русских не устоят…
— У меня там жена и трое ребятишек, — проговорил кто-то стонущим, надрывным голосом.
— Невеселое дело… Говорят, наши Киев оставили…
Сидя у окна, я слышал эти бесхитростные разговоры участников боев и думал о тяжести положения.
За ночь подсыпало снегу и слегка подморозило. Навигация подходила к концу, а от Свири нажимал враг. Речники торопились. Они поспешно, — пока не сковало льдом систему озер и каналов, — отправляли государственные грузы, эвакуировали свои семьи. На улицах под открытым небом вблизи пристани скопилось много эвакуированных из Заонежья. Они долго и терпеливо ждали пароходов на Белозерск, на Череповец, на Вологду. В одном месте на куче узлов и ящиков, несмотря на холод и хлопьями падавший сырой снег, спала усталая женщина. Судя по тому, как она лежала, — головою вниз наперевес через узлы, — можно было понять, что сон свалил ее внезапно. Ей, измученной переездами и тяжкими переживаниями, сладок и приятен был сон даже в такой неудобной позе и в таком месте. Рядом с ней на чемодане сидел небрежно закутанный в кацавейку мальчик лет шести — семи. Я невольно вспомнил о своем сынишке. Мальчик, бледный, голубоглазый, беспокойно озирался вокруг, изредка вздрагивал. Ему, видно, хотелось плакать, но не было слез. Они уже были выплаканы.
— Дяденька военный, скоро ли кончится война? — спросил он меня тревожно и вздохнул.
Я подошел к нему, достал из своего противогаза плитку шоколада, подал.
— Спасибо, дяденька.
— На здоровье, милый. А маму не трогай, не буди, пусть отдыхает.
— Это, дяденька, не мама, а тетя Глаша. Маму с самолета фашисты убили. В Подпорожье похоронена…
Я отошел от него с острым и горьким чувством своего бессилия перед этим детским горем.
Побывав около пристани я направился в госпиталь побеседовать с бойцами.
Во всех классных комнатах, превращенных в палаты, было полно раненых и истощенных, вышедших из продолжительного окружения. Я одел чистый, белоснежный халат и с разрешения начальника госпиталя ходил по палатам и заводил беседы с теми, кто был сравнительно легко ранен и кто более охотно вступал со мной в разговоры. Рядовые бойцы не сведущи в вопросах общей фронтовой обстановки, но они знают много подробностей и в разговорах не скупятся на критические замечания. Я многое узнал от них о серьезных недочетах, о допущенных ошибках, и все это пригодилось мне для моих донесений по телеграфу. Но охотнее всего рассказывали о себе — где и как ранило, как помогают лекарства.
Привлек мое внимание забинтованный вдоль и поперек боец, только что призванный из запаса. В течение одних суток он получил три ранения. Довольный тем, что остался жив, он оживленно рассказывал:
— Жив остался, а почему не убит и сам не знаю. Три раза царапнуло и все по неопытности, главным образом, по своей халатности. Ночью вздумал прикурить, чиркнул спичку, а он в это время тра-та-та, и в мякоть левой руки пуля р-раз!.. Перевязался. Народу в обороне мало. Остался, заживет, думаю. Командир роты похвалил за то, что я без медицины своим бинтом обошелся и действую. Поручил он мне донесение к батальонному отнести. Я рад стараться. Побежал с запиской по ходу сообщения. Мне кричат: «согнись!». А я думаю: чего тут сгибаться. Бегу во весь рост. Как опять застрекочет по мне! Согнулся, да уж поздно: одна пуля сквозь плечо прошла, другая брюшину поцарапала. Из фуфайки вата клочьями полетела. Ребята наши лежат в цепи, говорят: «вон из нашего соловья (фамилия моя Соловьев) — опять перье полетело!..» Смеются дурни, а я ни с места…
— Ничего, помучимся, научимся, — заметил другой раненый, — нашего брата хорошенько разозлить нужно, тогда лучше воевать-то станем, а то еще мы руку не успели набить как следует. Скажу про себя: до войны я настолько добросердечен был, что свинью бывало надо зарезать, а не могу, кротость мешает. Выпью для храбрости пол-литра и иду в хлев ее дразнить да сердить, чтоб на меня бросалась. По три дня хаживал. Потом как она меня рассердит, тут я ей нож под лопатку. Ну, а фашисты нас поразозлили, убей гада — легче на душе будет. Не похвастаю и не совру, сам видел, как двое от моих пуль сковырнулись…
Одного из раненых я узнал по голосу. Он накануне вечером рассказывал историю о переименовании быка. Разговорчивый и не лишенный остроумия, этот боец рассказал, что он карел, уроженец Олонецкого района — Ферапонт Ефимыч Родинов поступил добровольно в партизанский отряд; рана, хотя и не из легких, но меньше всего его беспокоит.
— Тревожусь за жену, — говорил Ефимыч, — не успел жену вывезти. У финнов осталась. А рана чепуха, при хорошем лекарстве да уходе заживет.
С соседней койки тяжело раненый партизан с раздробленной выше левого колена костью скептически заметил:
— Не очень-то верю я молодым лекарям; многие курс не закончили, на войну попали, опыта нет…
Ефимыч, поскольку ему позволяла рана, приподнялся на койке и, поддерживая этот разговор, поведал такую историю:
— Да, земляк, врачевание наука серьезная. Особенно в военное время. Да и в мирное — тоже. Я тебе скажу, что эта наука до чудес дошла. Конечно врач врачу рознь. Так же как и сапожники или молотобойцы. Все зависит от смекалки. От своего котелка. У кого как варит… Расскажу про одного профессора, главного врача медицины. Дело было у нас в селе. Один мужичок по неопытности попил из пруда сырой водички и проглотил лягушонка. Ладно, хорошо. Проглотил и кажется бы дело с концом. Только нет. Этот лягушонок застрял у него как-то в мозгах и вырос в жабу. И от этого факта мужичок стал злой, сильно раздражительный, что ни слово, то и мат. Посоветовали ему в город поехать к профессору, главному врачу по черепным коробкам. Тот постучал ему молоточком по башке и видит в чем дело: надо усыплять мужика. Усыпили. Спилил ему профессор медицины с головы верхушку, глядит, а лягушонок уже вырос в крупную жабу. Сидит эта жабища и за мозги лапками держится. Ежели ее руками снимать, то может она лапками ухватиться и сотрясение мозгов произвести и от этого смерть последует. Профессор был смекалистый. Он взял зеркало и направил на жабу. Вот та гляделась, гляделась и стала исподтишка лапками перебирать, а профессор под нее тихонечко газету подсовывать. Подсунул и снял на газете. Вылечил. Тот человек и посейчас у нас в селе живет. Только заговаривается малость. И на войну его не взяли… Может быть это и не так было. За что купил, за то и продаю…
— Не плохо вылечил! — смеясь отозвался я на рассказ Ефимыча, — и спросил: — Вы, Ферапонт Ефимыч, наверное любитель сказки рассказывать?
— Эге! Копните-ка меня поглубже, из меня как из мешка посыплется. Самому Коргуеву не уступлю. Таких вралей, как я, больше в Олонецком районе не осталось… Будет время, заходите. Дело на поправку пойдет, язык развяжется; удержу не будет. Только знай слушай да записывай…
Раненые хохотали. Ефимыч, довольный, посматривал на всех.
4. На линии фронта
От Вытегры на командный пункт дивизии увертливый «газик» доставил меня через два часа.
Наши части занимали оборону в смежных деревушках. Население эвакуировалось — кто в глубокий тыл, кто в ближние леса. Многие вступили в местные партизанский отряды и вместе с бойцами Красной Армии сдерживали напор врага.
Домик, в котором приютили меня, значился в населенном пункте под № 22 и был занят взводом бойцов. В обыкновенной пятистенке чувствовался еще след полнокровной жизни северного крестьянина, хотя хозяина с домочадцами здесь и не было. В горнице в углу висела без внимания никем нетронутая икона «всех скорбящих радость». Под ней стоял куст терновника. Судя по свежести листьев, за ним кто-то заботливо ухаживал. Над печкой на потолке в недоумении скучились тараканы.
В соседней комнате, на плащпалатках, раскинутых на полу, отдыхали свободные от несения караульной службы бойцы; из-под байковых одеял торчали крепкие с железными подковами сапоги.
— Вот здесь мы и живем, — заговорил простуженным голосом майор Клунев, ленинградский парень, крепкого сложения, с увесистым маузером, свисавшим до колена. — Сегодня здесь, завтра там. Нечего греха таить, потрепаны мы в отступательных боях основательно. Командир у нас — генерал Грозов — тоже ленинградец, прекрасный человек, хороший товарищ, рассудительный и твердый командир. Он заявил, что с этих рубежей мы назад не сдвинемся, а вперед пойдем, когда окрепнем.
«Уж мы пойдем ломить стеною, Уж постоим мы головою За Родину свою»…— продекламировал Клунев.
— Товарищ Малкин! — крикнул он лысому капитану — своему заместителю, — поройся там в вещевом мешке, нет ли чего…
— Есть товарищ майор. — Отложив в сторону раскрытую толстую книгу, Малкин достал из мешка флягу с водкой.
— По стопочке, товарищ, не желаете ли? — предложил майор.
— Не смею отказаться, я пожалуй, с довоенного времени не употреблял.
— Я почти тоже; через четырнадцать дней исполнится две недели, как ни капли не брал в рот, — сострил Клунев и налил себе, мне и Малкину по полному стакану.
За едой Клунев с жаром и горечью рассказывал о том, как их соединение за Петрозаводском с боем выходило из окружения. Между прочим, он рассказал, как на днях местные партизаны поймали кулака Демина, приехавшего с места поселения. Демин хозяйским глазом осматривал конфискованный у него дом с постройками, радовался приближению финнов и немцев и угрожал колхозникам долгожданной расправой.
— Ну, мы таких не милуем. Поймали и в трибунал. Да, если вас интересует, я предоставлю вам возможность участвовать в допросе пленного летчика эсэсовца, и вы почерпнете кое-что интересное. Может быть еще по чарочке? — спросил Клунев, — водка есть…
В это время со стороны противника начался артиллерийский и минометный обстрел. Снаряды полевых орудий и мины рвались то с оглушительным треском, то с визжащим хлюпаньем и посвистом. Я выглянул в окно, чтобы заметить вспышки разрывов и определить до них расстояние.
— Ничего страшного, — успокоительно заметил Клунев, — днем не пристрелялись, ночью будут зря переводить снаряды и мины. Если устали, ложитесь спать… на лежанку. В случае чего нас разбудят…
Не раздеваясь и не снимая сапог, майор положил маузер под голову, лег на деревянную кровать, притаившуюся за пустым шкафом, и через несколько минут захрапел. Я сел к окну и облокотился на подоконник. Легкой, чуть заметной изморозью подернулись стекла в раме. Узкий, острый месяц выглянул из-за леса, окаймлявшего южную оконечность Онежского озера, и быстро спрятался в тучке, должно быть решив, что при свете взлетающих и падающих ракет ему и делать нечего. Со стороны озера доносились отдаленные звуки орудийной стрельбы нашей флотилии. На улице деревушки, несмотря на позднюю ночь, заметно было сильное оживление: подходили с погашенными фарами грузовики, с них на подводы перегружались мешки, ящики, бочки, затем все это быстро и бесшумно исчезало в ночной мгле. Вдруг над деревней с воем пронесся снаряд, другой, третий, они разорвались неподалеку в поле. Еще один угодил поблизости — на задворках в гуменник. У меня зазвенело в ушах. Под окнами медленной походкой прошли два патрулирующих бойца, перекидываясь замечаниями:
— Сволочь, гаубицу пустил.
— Наши-то чего заглохли? Пукнут раз-два и молчат.
Опять где-то вблизи треснул снаряд. Напротив в избе звякнули стекла. Я инстинктивно дернулся за простенок. «Что это трусость или осторожность?» — спросил я сам себя и не знал, что ответить. С улицы опять донеслись голоса;
— Пойдем-ка, брат, по обочине. В случае чего, хоть в канаву сунемся. Пожалуй, накрыть может, в вилку берет.
— А я видел намедни, как наши зенитчики ихнего «мессера» распластали. Здорово получилось! В блин! Один-то успел с парашютом выпрыгнуть, захватили живьем. Из другого месиво получилось.
Бойцы в комнате проснулись, приподнялись с полу и лавок.
— Гадюка, сыпет и сыпет, хоть бы трошки заснуть дал.
— Опять беспокойная ночь, — зевая и свертывая цыгарку, проговорил очнувшийся Клунев. — А вы так и не ложились? — спросил он.
— Нет.
— Привыкнете. Ничего, сон свое возьмет. Сходите на улицу, проветритесь, крепче тогда уснете, — предложил Клунев, — только далеко не отлучайтесь.
Надев шинель и взяв винтовку из пирамиды, я вышел подышать свежим воздухом.
В темных переулках суетились связисты, стояли наготове санитары. Поскрипывали колеса повозок, вздрагивали заведенные моторы автомашин. Обстрел пока прекратился. Пройдя вдоль деревни, я спустился вниз с угорья к мосту, там, за бурливым ручьем, на холме начиналась другая, смежная деревушка. Она была темна и от безлюдья молчалива. В одной из избенок предательски светился огонек, резко просачивавшийся сквозь прозрачную маскировку. Я пошел на огонек.
В избе под самым потолком ярко светилась лампа. В углу за столом в этот неурочный, поздний час сидела девушка, накинув на плечи большой теплый платок. Она угрюмо и рассеянно взглянула на меня и взялась за книгу.
— Гражданка, у вас маскировка не в порядке. Вот это окно сильно просвечивает…
Скрипнули полати, и меня поддержал раздавшийся сверху грубоватый женский голос:
— Нюрка, ты чего, дьявол беззаботная, не спишь и не блюдешь маскировку…
Девушка захлопнула книгу, нервно сдернула с плеч платок и приткнула его двумя гвоздями к верхнему косячку.
— Ну, вот, давно бы так. Вы кто такие будете?
Девушка вместо ответа раскрыла книгу и, насупившись сделала вид, что погрузилась в чтение. Голос с полатей ответил за нее:
— Мы-то здешние, а она приезжая. По земельной части, окопы рыли…
Я не стал больше расспрашивать, вышел на улицу и снова с угорья спустился к мосту. Позади во мраке ночи чуть заметно выделялись силуэты мужицких изб. Они были видны только из низины; издали же казались чуть заметными бугорками, плотно прижавшимися к родной земле.
Почти всю ночь в этой непривычной обстановке я провел без сна. Утром два бойца привели девушку. Они задержали ее на рассвете при попытке перейти на сторону противника. Я сразу узнал ее. Это была ночная любительница чтения. Наши взгляды встретились. Она опустила глаза.
— Ваша фамилия? — отрывисто спросил Клунев.
— Демина.
— Позвольте, вы дочь приехавшего с поселения кулака?
— Хотя бы… — лениво ответила девушка.
— Так, так, — задумчиво промычал Клунев, — отведите ее, товарищи, в соседний дом к военному следователю Горелику.
…Днем, закрывшись в горнице, Клунев через переводчицу допрашивал пленного обер-ефрейтора Иоганна Гайслера.
Молодой, белобрысый, с полуоткрытым ртом немец, оказавшись в плену, делал вид, что он стал, наконец, кое-что понимать.
На все вопросы он отвечал сразу, с готовностью.
Внешне он походил скорей на общипанного индюка, нежели на обер-ефрейтора, награжденного Железным крестом второй степени. Нетрудно было догадаться, что этот крест он получил не зря. Неизвестно, какие он произвел разрушения на нашей земле и сколько жертв числилось в его послужном списке, — но они были.
Во время допроса дверь в горницу распахнулась, и в сопровождении адъютанта вошел генерал Грозов.
Присутствующие встали. Клунев отрапортовал:
— Разрешите доложить, товарищ генерал-майор, допрашиваем фрица…
— Уведите его, — кивнул генерал в сторону пленника.
Выглядел Грозов утомленным, но в разговоре и движениях не терял живости. На вид ему было лет пятьдесят. На нем была обычная солдатская шинель с петлицами; обыкновенная, хлопчатобумажная пилотка, немного помятая; высокие, видавшие грязь, сапоги.
Поговорив о разных неотложных делах, касавшихся Клунева, Грозов вкратце познакомил нас с обстановкой на здешнем участке фронта.
— Можно сказать безошибочно: план Маннергейма — соединиться с немцами в районе Тихвина и таким путем окончательно блокировать Ленинград, — план этот не прошел и не пройдет. Мы здесь сумеем задержать противника, если он еще и попытается итти в наступление. Одновременно будем вести тщательную подготовку с расчетом на длительную оборону. Правда, отдельные незначительные группы финских автоматчиков кое-где еще просачиваются в районе Подпорожья. Но эти недоразумения продлятся еще день — два, так между нами говоря, сюда подходит полнокровная стрелковая дивизия. И тогда все будет закрыто, безопасность обеспечена.
— А когда мы будем наступать? — спросил Клунев.
— При двух условиях, — усмехнулся в ответ генерал, — когда будем готовы к наступлению и когда прикажут перейти в наступление. А готовиться будем, и бить будем наверняка. Кстати могу порадовать: сегодня к нам в соединение прибыл «Дуглас», груженный автоматами. Глядишь, ребятам веселей будет…
5. В тыл врага
— Соглашайся работать моим заместителем! — обратился однажды ко мне Клунев. — Зачем тебе возвращаться в Архангельск.
— Как это так? — возразил я. — Ведь я же тут в командировке, обязан вернуться, доложить.
Клунев слушал меня с улыбкой и, как мне показалось, расценил мои соображения по-своему: — «А не трусишь ли ты, батенька мой? Мы за три месяца столько горя хлебнули! Это не то, что по командировкам ездить…» Повидимому, он решил проверить свое мнение.
— Завтра ребята из разведроты совместно с партизанским отрядом пойдут, обходом километров на двадцать в тыл врага. Хотят испробовать полученные автоматы. Тебе бы не вредно с отрядом прогуляться!.. — неожиданно сказал он с лукавой усмешкой.
— Надолго уходят?
— Нет, всего только на двое-трое суток.
— Хорошо, пусть меня включат, схожу, — согласился я.
— А если убьют? — засмеялся Клунев.
— Только однажды, а больше я им не позволю, — отшутился я и добавил серьезно: — Если это случится, то извести мое начальство, вот и все…
…Меньше чем через сутки отряд старшего лейтенанта Логинова выступил в путь. Шли мы дальним обходом через открытый левый фланг. Под ногами хрустел тонкий слой снега. Ночь была светлая, лунная. Наш отряд состоял из десяти красноармейцев разведчиков и пятнадцати коммунистов партизанского отряда.
Все были молчаливы и сосредоточены.
Шли мы долго. Не буду описывать, как мы совершали этот далекий переход. Он показался мне бесконечным.
Наконец, старший лейтенант Логинов остановился. По его сигналу мы встали около него полукругом. Логинов был коми по национальности, настоящий охотник по профессии, скупой на слова, но упорный и настойчивый человек. Он сказал:
— Судя по времени и по месту, мы вышли в район расположения вражеских тылов. Здесь где-то должны быть землянки фрицев. Немцы здесь воюют против нас руками финнов. Где опасно — туда суют финнов, а сами отсиживаются в тылах. Нам надо их обнаружить и нанести внезапный удар. Такова задача. Приготовьтесь!.. За мной!…
Отряд снова двинулся вперед. Шли осторожно, медленно, прислушиваясь. Но пока ничего не было слышно, кроме собственного дыхания и тихого поскрипывания мерзлого снега под ногами. Прошли еще два километра. И опять остановился Логинов и сделал знак рукой, чтобы все остальные застыли на месте. Он понюхал морозный воздух. Легкий ветерок откуда-то доносил еле уловимый запах дыма.
— Тихо! За мной! — и он, согнувшись, скользнул вперед. Мы вышли на просеку. Впереди из-под валежника, занесенного снегом, просачивались в нескольких местах струйки дыма. Кое-где сквозь плохо замаскированные стекла чуть заметно просвечивал огонек. А в одном месте из-под земли слышался говор, смех и звуки губной гармошки.
— Стойте! Действовать нужно так. — быстро, отрывисто и четко начал говорить Логинов. — Тут всего десять землянок, часового не видно. Стало быть, фрицы уверены в безопасности. Десять бойцов из разведывательной роты с гранатами наготове пойдут за мной и каждый по одной, по две гранаты бросит в землянки. Старайтесь подойти ближе и бросать наверняка; в окна, в раскрытые двери, даже в трубы. Затем сразу же все мы отходим к той опушке и развертываемся, чтобы отрезать путь отступления фрицам, если они попытаются бежать или обороняться. Ваша задача, товарищи партизаны остаться здесь и, как только мы отбежим в сторону к опушке, открыть автоматный огонь по переполошенным немцам. Вот так… Ясно?
— Ясно! — тихо ответили голоса. Кто-то спросил: — Можно и противотанковой ахнуть?
— Воздержитесь, пока пользуйтесь гранатами эф-один. Приготовьте гранаты.
— Есть.
— За мной, к землянкам!
Прошла минута.
Один за другим раздались взрывы ручных гранат. Я успел насчитать до пятнадцати разрывов. Из землянок послышались неистовые крики, одиночные выстрелы. Затем, поспешно, кто ползком, кто на четвереньках, кто в шинели поверх белья, а кто и в одном белье, выскочили обезумевшие немцы. Луна осветила их серые, перекошенные от испуга лица.
— Огонь но гадам! — скомандовал Логинов громким голосом и первый нажал на спусковой крючок ППШ. Враз все наши пятнадцать автоматов треснули короткими, прерывистыми очередями. Стреляли почти в упор, без промаха. Люди, еще не привыкшие воевать, сами дивились быстроте, с которой все было окончено. Убитых и тяжело раненных немцев, лежавших вповалку на окровавленном снегу, не считали. Забрав несколько вражеских винтовок, какие-то бумаги, сумки, наш отряд быстро пошел обратно, изменив свое направление, чтобы на старом следу не нарваться на возможную засаду противника… Мы не понесли никаких потерь.
Взошла луна. Как бы для того, чтобы лучше разглядеть воодушевленных удачей бойцов, она поднялась повыше и, казалось, приветливо, одобрительно улыбалась нам вслед.
6. Встреча с окруженцами
К утру начал моросить мелкий дождь. От вчерашнего снега не осталось и следа. Итти было скользко и сыро. Логинов часто посматривал на компас, на карту и, видя, что бойцы утомились дальним переходом, обещал вскоре устроить трехчасовой привал. Но для этого нужно было выбрать безопасное место.
Вдруг шедший впереди дозор доложил Логинову, что в лесу замечен свежий след двух человек, как видно по следам, обутых в русские солдатские ботинки.
— Надо их догнать, задержать и выяснить, кто они, — распорядился Логинов.
Догнать и задержать неизвестных не составило большого труда. Это оказались два бойца, крайне усталых, голодных, заблудившихся в лесу. Они козырнули мне и Логинову и, не зная, который из нас старший, наугад почему-то обратились ко мне:
— Товарищ командир, от своих мы потерялись, истощали, дальше не знаем, куда податься…
— Покажите ваши документы, кто вы? — строго сказал Логинов.
— Документов нету. Порвали. Думали на финнов наскочим. А винтовочки сберегли. Поржавели только малость.
— Мы заплутали крепко, — начал объяснять один из них. который, как видно, считал себя более бойким на язык, — пошли мы в разведку и нарвались на финнов. Бились, бились, осталось нас шестеро. Мы вот с ним от своих отстали. Глядим, думаем — пни серые перед нами, оказалось, немцы подстерегают. Мы залегли, потом ушли, да так восемнадцать дней и ночей блукали в полном округлении…
— Ну и вояки! — покачал головой Логинов. — Становитесь в наш отряд, и чтобы ни на шаг не отставать.
Усталость одолевала отряд. Учитывая это. Логинов, выводя нас бездорожным, окольным путем, внимательно присматривался к местности, выбирая где посуше, а главное безопаснее и можно устроить привал. Наконец, он нашел такое место: возвышенность, поросшая густым лесом, по сторонам отлично просматриваемые, к тому же непроходимые болота; позади узкое, поросшее кустарником междуозерное дефиле, а впереди за чащей леса далеко идущий хмурый, безлюдный бор. Проверив по карте расположение отряда и начертив на ней дальнейший путь следования, Логинов сказал:
— Вот здесь будет привал! Можно отдохнуть в лесочке часа три-четыре, закусить, выжать, просушить на ветерке портянки. Но костров не разводить.
Затем он выделил сторожевое охранение, лично расположил посты, выбрав для этого удобные складки, бугорки, ложбинки, и каждому бойцу, выделенному нести охрану, показал секторы наблюдений. Логинов договорился со мной спать по очереди, с расчетом, чтобы через полтора часа проверить и сменить новым нарядом бойцов сторожевое охранение. Раскинув на мокрой траве плащпалатку, он заснул. Посмотрев на часы и заметив время, я уселся на пень и начал свое дежурство.
Вокруг установилась тишина. Дождик давно уже перестал. Солнце слегка пригрело промокшую землю. От мокрой одежды уснувших потных бойцов шел чуть заметный пар. Спустя полчаса я решил проверить бдительность часовых. Они, борясь с дремотой, бодрствовали, не поддавались сну.
— Все спокойно?
— Спокойно, — отвечали бойцы, — по этому пути нас только с собаками искать. Без собак ни-ни…
— Смотрите, не спите, через часок будет смена.
— Да разве уснем! Знамо дело, что такое пост, да в военное время. Нам жизнь отряда доверена.
— Правильно.
На одном из постов стоял Мухин, один из найденных нами в лесу бойцов. Я подошел к нему.
— Не извольте беспокоиться, — товарищ командир, идите отдыхайте, мы тут поглядим, как положено. А чуть ежели кто появится, так на мушку и готово.
— Нет, так нельзя, — предупредил я, — зачем на мушку? Сначала ты, как заметишь, немедленно сигнализируй, потом вместе убедимся, кто там появился, и в зависимости от обстоятельств будем действовать. Спешить надо не торопясь.
Предупреждение Мухину оказалось не лишним. Вскоре он заметил примерно в километре слева нескольких человек, барахтающихся в болоте. Мухин начал громко кашлять и махать рукой, чтобы кто-либо из нас услышал или заметил. Все его манипуляции не привели ни к чему; пришлось Мухину поднять испуганным крик, и тогда весь отряд проснулся и загремел оружием. Все рассыпались по команде, приготовились. Логинов вскинул бинокль и увидел четырех человек идущих в нашу сторону.
— Нет, это не противник, это всего скорей наши блуждают, — проговорил Логинов, не то обрадованно, не то разочарованно, и предложил бинокль Мухину. Тот долго вертел его перед глазами, долго нащупывал то место, где показались люди и, наконец, заулыбался.
— Мать честная! Как на ладони. До пупа в грязи купаются. Ну, конечно, наши, те самые, мы от них с Вахлаковым третьего дня отстали. Вон и старшой среди них, в рыжей жеребячьей тужурке…
Мухин не выдержал, крикнул:
— Эй! Живей, дьяволы! — но отняв бинокль от глаз, убедился, что голоса его они не услышат.
Уставшие люди долго карабкались по болоту, то прыгая с кочки на кочку, то увязая по пояс в зыбком торфе. Обессилевшие, они вышли, наконец, к привалу и присоединились к нашему отряду. Старший из них — доброволец из Ленинграда, по профессии инженер-теплотехник, чувствовал себя подавленным, ссылался на свое неумение воевать.
Между тем, Логинов распорядился накормить присоединившихся к нам бойцов, а я, собрав полную флягу водки, поделил ее поровну между ними. Бойцы немного ожили. Теплотехник рассказал о том, как они брели из-за Олонца ни путем, ни дорогой, обходили тракты и карельские деревни, чтобы не нарваться на финнов, как они ночью на бревнах переплывали Свирь, как в пути они съели целую лошадь без хлеба и соли. Рассказал, что немцы и финны отделяют русское население от карел; русских, всех поголовно, гонят в лагеря за колючую проволоку, а с карелами заигрывают, хотят сделать их ручными и даже вербуют в свою армию…
После отдыха отряд двинулся дальше в сгустившихся сумерках. Еще одну лунную ночь провели мы в лесах Подпорожья, а на утро безошибочно вышли к речке Оште.
7. На Онежском озере
…В тот день разразилась снежная буря. Онежское озеро забушевало. Мелкие корабли военной флотилии, укрывшись за мысом, стояли на якорях. Утром погода была тише, и снегопад не мешал тогда видеть и обстреливать объекты, где по данным воздушной разведки находился противник. Корабли не раз подходили шквалом к берегу, занятому финнами, и вели обстрел. Среди дня это стало уже невозможно из-за плохой видимости и боковой качки, которая мешала прицеливанию.
Люди отдыхали, накапливая силы на завтрашний день. Палубы, покрытые брезентом, легкие орудия, — все сплошь залепило снегом.
Мы сидели втроем в одной из четырехместных кают. Политрук Иванов готовился к докладу об Октябрьской годовщине, я, вот уже четвертые сутки пребывающий на судне, от нечего делать перечитывал бессмертные похождения бравого солдата Швейка. Третьим нашим спутником был моряк, неунывающий песенник Захарченко. Он тренькал на гитаре и пел:
Синенький, скромный платочек Немец в деревне украл. В ненастные ночи, Осенние ночи Шею он им прикрывал…Сквозь крепко-накрепко закрытый иллюминатор, к тому же завешенный вещевым мешком, глухо доносился неумолчный рокот взволнованного озера и унылый посвист разгулявшегося ветра. Я отложил книгу на столик и невольно сказал:
— Ну, и погодка на дворе! Да и двор у корабля такой, что дальше палубы не выйдешь. Хошь не хошь, а слушай всю эту вьюжную музыку…
Неугомонный Захарченко продолжал:
…Накинув платочек. Сожмется в комочек, Подохнет фашист под Москвой…За иллюминатором ревела и выла стоголосая вьюга. Вдруг на палубе раздался винтовочный выстрел — сигнал вахтенного. Мы опрометью бросились наверх. Вахтенный в брезентовом плаще с капюшоном показывал помощнику капитана в сторону Заонежья:
— Вот там я заметил что-то вроде лодки. Кто-то со стороны финнов: или беглецы или разведка…
В вечернем полумраке сквозь метель было трудно разглядеть что-либо. Все смотрели в ту сторону, куда показывал вахтенный, однако лодки никто не видел. Да и кто бы мог осмелиться в такую непогодь переправляться через Онежское озеро в лодке.
— Кто же, глядя на ночь, в такую бурю станет рисковать своей жизнью? — усомнился помощник капитана, низкорослый толстяк. — Уж не померещилось ли вам, товарищ вахтенный?
— Ни в коем разе, — ответил тот. И как бы в подтверждение его слов откуда-то из бушевавшего озера донесся чуть слышный крик: «Братцы! Спасите!..»
— Поднять якорь! — распорядился капитан. Через минуту средним ходом монитор двинулся вперед. Мутноватым лучом рефлекторы нащупали лодку. В ней был только один человек. Лодку бросало из стороны в сторону. Опять долетел крик, вопль: «Товарищи!.. Помогите, погибаю!..»
Мы подошли вплотную. С палубы монитора был спущен трап. Два матроса втащили на руках посиневшего, промокшего до последней нитки пловца. Первым делом его опустили в кочегарку, отогрели, высушили и накормили. Двести граммов душеспасительной водки окончательно воскресили его.
Возбужденный и радостный он принялся рассказывать нам обо всем, что он знал, что видел, пережил и передумал за эти дни.
— Товарищи, дорогие! Прежде всего— я коммунист. Яков Кузьмич, фамилия — Шлаков. Уроженец Кировской области, Котельнического района. Карелия — моя вторая родина. Давненько я работаю в Карелии.
— Где вы работали в Карелии до прихода финнов? — спросил капитан судна.
— Все расскажу досконально. Работал я там, куда посылала меня парторганизация. За пятнадцать лет жизни моей в Карелии где только не был. Работал сначала на рыбных промыслах, в лесной промышленности, в бумажной. Работал я и по добыче белой слюды, — она применяется в промышленности, как изолирующий материал в тепловых установках и электроприборах… С год трудился в каменоломнях: доставали так называемый диабаз для мощения улиц, занимались даже разработкой мрамора. Знаете ли вы, что лучшие здания в Ленинграде облицованы карельским мрамором! Там есть и мои плиты!.. Простите, что я немножко увлекся… А перед войной в Совнаркоме стоял вопрос о развитии черной металлургии в Карелии, и меня уже метили послать туда…
— Ну, хорошо, — осторожно перебил капитан Шлакова, подавая ему папиросу, — закуривайте и расскажите, кем и чем может быть подтверждено, что вы коммунист.
— Мои сослуживцы из Петрозаводска эвакуировались в Беломорск. Они подтвердят. Не знаю насколько сохранился верхний листочек моего партбилета. Я его оторвал и спрятал под подкладку брюк. Разрешите ножичком распороть…
Шлаков торопливо и без всякой осторожности разрезал ножом в каком-то месте свои брюки, достал смоченный, свернутый комочек бумажки и, протянув его к свету, бережно развернул и разгладил ладонью. Фотокарточка отклеилась, да кроме того, она мало напоминала теперешнего Шлакова. На снимке он был бритый, значительно моложе, в рубашке с воротничком и галстуком, теперь же перед нами стоял вроде бы и не тот человек. Староватое, исхудалое морщинистое лицо с кровоподтеками, круги под глазами, поцарапанный нос, борода и усы, не видавшие бритвы, по крайней мере, недель пять, затасканная косоворотка с оборванными пуговицами. Видно ему туго пришлось.
Но на страничке партбилета номер, печать и все записи были отчетливо видны.
— Ну, хорошо, продолжайте рассказывать, а мы послушаем.
— Дело вот как было. Из Петрозаводска мы эвакуировались в последнюю очередь, погрузились на баржу № 463. Нас потянул за собою пароход «Рошаль», может слыхали такой? Баржа была переполнена эвакуированными служащими. И вот, то ли от злого умысла, то ли несчастная случайность, — пароход оказался на мели, ни взад, ни вперед. А на побережье, уже мы видим, финские войска идут и идут. Финны кричат нам: «Русс, сдавайся!» Было на барже у нас человек семь военных. Им финны кричат с берега: «Бросайте оружие! Отходите на палубе в сторону!» И против нашей баржи пулеметы выставили. А всего-то до нас метров сто не больше. От смерти, видим, бежать некуда. И тут, вдруг один военный бросил за борт винтовку, поднял руки и крикнул: «Сдаемся!» Только и успел он крикнуть. Другой военный в тот же миг сразил его на смерть штыком и сказал, это мы все слышали, «большевики живыми не сдаются!» И все шестеро военных бросились на корму баржи и спустились в шлюпку, что была за кормой. Попытались они податься в озеро. Но где там!..
Шлаков махнул рукой, на глазах его выступили слезы.
— Всего метров полсотни отплыли они от нашей баржи. Из трех пулеметов финны подняли такую пальбу!.. Все шестеро погибли…
— Потом нас, гражданскую публику, заставили высадиться на берег. И тут начали шерстить: женщин, детей, стариков отправили обратно в Петрозаводск, там создают для русских лагеря… А меня и еще нескольких человек из служащих посадили в сарай и весь месяц таскали на допросы. Били не раз, дознавались, кто остался из коммунистов. Били крепко, чем-то вроде шланга; можете глянуть, — по всему телу синяки да волдыри. Вижу, рано или поздно дознаются через кого-нибудь и вообще в лучшем случае лагеря не миновать, а в худшем — смерть. И стал я примечать, каким бы способом вырваться от них, сбежать. Деревня, где нас содержали под строгим надзором, как раз стоит на берегу этого озера. Когда меня водили на допрос и с допроса, я приметил несколько лодченок, вытащенных на берег. И я надумал пуститься в лодке через озеро. Но когда? Легче и проще всего бежать ночью, но по ночам нас не выпускали никуда. Решил я бежать в непогодь, в сумерки. Приметил около одной избы весла. Решился. Будь что будет! Погибну, так погибну, что я теряю?.. Сегодня я носил воду для мытья полов. Долго носил, и все к озеру присматривался. Бурлит, шумит — в доброе время подойти бы страшно, а тут никакой боязни. Схватил весла, спихнул лодку с берега, и закачало меня на волнах. Снег крутит. Минут через десять, не больше, я уже не видел берега. Одного боялся, как бы не сбиться, не пойти вдоль озера, да не выбиться из сил. Озеро бушует и бушует, лодку бросает, как щепку, заплескивает. Воду выкачивать нечем, догадался снять сапог. То воду им черпаю, то снова берусь за весла. И чего только я не передумал? Всю жизнь до последних мелочей вспомнил. О чем бы ни думал, а желание жить подсказывало одно: «Держись, товарищ Шлаков, ты еще пригодишься Родине. Тебе еще работать в освобожденной Советской Карелии!..» Руки, посмотрите, измозолил до крови; весла вываливались — не могу… А сознания не теряю, духом не падаю. Сознание мне говорит: — «ты, товарищ Шлаков, через не могу добейся!» И вот добился. Не знаю, что было бы дальше, если бы не вынесло сюда…
— Вы были целый месяц у противника. Что вы заметили характерного, интересного в военном отношении? — спросил я.
— Я, конечно, не специалист в военном деле, — подумав, отвечал Шлаков, — но кое-что заметил. Вдоль той деревни, где я пробыл с месяц, проходит Шелтозерский тракт. По тракту в сторону Вознесенья, пешими и на грузовых машинах, по словам жителей, прошло не менее пяти тысяч войска, провезли десятка два пушек или минометов. Сам я видел, как сотни четыре финских автоматчиков прокатили на велосипедах. Ну, что еще? На допросе однажды финский офицер раскричался на меня: «Куда, говорит вы бежите из Петрозаводска? В Вытегру? Мы и Вытегру займем! В Пудож? И Пудож займем! До Вологды, дальше, до Урала будет великая Финляндия!..»
А я думаю, — не много ли будет, не подавитесь ли, сволочи…
В штабе, где меня не раз допрашивали, я примечал — висит карта: ниточка фронта проходит от Лодейного поля до Свири, пересекает Свирь и загибает на Ошту. А дальше, с юга и с северной оконечности Онежского озера у них нанесены на карте зеленые изогнутые стрелы с двух сторон, показывающие на Пудож, а с Пудожа заштрихованная, бледная, но большая стрела впивается через Каргополь в Северную железную дорогу между станциями Няндомой и Коношей. Я, по своему разумению, понял это дело так: финны и немцы задумывают выскочить с двух сторон за Онежское озеро и отрезать северные порты Мурманск и Архангельск, оба сразу. Не знаю, может быть я ошибаюсь. Я не военный человек. Вам видней…
Затем Шлаков назвал несколько прибрежных деревень Заонежья, в которых находились финские части и их склады. Этим сообщением особенно заинтересовались капитан монитора и политрук. Они развернули карты и карандашом сделали на них пометки.
Шлаков долго еще рассказывал, вспоминал пережитое.
На другой день, когда установилась погода, я вылетел на самолете на восточное побережье Онежского озера, где были отдельные запасные опорные точки.
Мониторы, пользуясь благоприятной погодой, выходили на операции, совершали огневые налеты на пункты, занятые противником.
В районе Свири и Ошты крепла оборона. Враг был задержан. К нашим оборонительным позициям подходили свежие силы. Положение на здешнем участке с каждым днем становилось крепче и надежнее.
… На обратном пути я заехал к Клуневу. Было раннее, слегка морозное утро. Связной топил железную печку, Клунев сидел на постели, одна нога его была обута, второй сапог он держал в руке. Глядя на карту, он сказал мне:
— Чорт побери, когда же, наконец, прекратим мы отступление? Что ни день, то и известие об оставлении городов.
— Ты слушал по радио речь товарища Сталина шестого ноября? — спросил я.
— Нет, — ответил Клунев, — вот жду не дождусь никак свежих газет. Обещали сегодня на самолете доставить.
— А я слышал. Специально заходил на узел связи.
И я рассказал Клуневу о речи товарища Сталина. Клунев жадно слушал, досадовал, что я не мог запомнить каждое слово, спрашивал снова и снова.
Он еще не успел одеться, как постучали в дверь. Письмоносец принес свежие центральные газеты. Мы торопливо развернули их. На первой странице речь вождя и клише: на трибуне мавзолея в окружении своих соратников в хмурое, снежное ноябрьское утро Иосиф Виссарионович принимает традиционный парад Красной Армии. Мы с волнением переглянулись.
— Жива, брат, наша сила! — сказал Клунев, хлопнув меня по плечу.
Потом мы долго и внимательно читали и перечитывали великую сталинскую речь.
Днем дружески, быть может навсегда, распрощавшись с Клуневым, я уезжал в Вытегру.
8. Снова на фронт
После этой командировки еще три — четыре месяца пришлось мне пробыть в своем городе.
Снова и снова просился я на фронт. Однажды, на мою настойчивую просьбу Галактионов ответил:
— На фронт, говоришь? У меня тоже такое желание. Но всему свой черед, или как говорят, всякому овощу свое время. Сдается мне, что мы здесь не засидимся.
Действительно, спустя несколько дней после этого разговора, меня вызвали в отдел кадров и объявили об откомандировании, сообщив при этом, что мне присвоено звание капитана.
Стоял конец апреля 1942 года.
В городе на мостовых и деревянных тротуарах лежал подтаявший грязноватый снег. Северная зима отступала. Днем уже пригревало солнце. Серый лед на Двине приподнялся. По вспаханному ледоколами руслу могучей, но пока еще спящей реки передвигались морские транспорты, раскрашенные под цвет арктических льдов. На палубах судов торчали жерла зениток, приподнятые и как будто всматривающиеся в голубую предвесеннюю высь.
С утра я неспеша собрался в путь-дорогу. Уложив все необходимое в вещевой мешок, я взял еще четыре томика книг: поэмы Пушкина, Тарле — о 1812 годе, «Избранное» Вольтера и томик Плеханова об искусстве.
Жена пересмотрела взятые мною книги, пожала плечами, удивившись такому причудливому подбору и, обращаясь к сыну, сказала:
— Феликс, ну-ка выбери папе на свой вкус книжку в дорогу на фронт, чтоб он читал и тебя вспоминал.
— Это я могу! — бойко! отозвался сын и, подставив к шкафу табуретку, достал с верхней полки «Чапаева» в красном коленкоровом переплете.
Близкие проводили меня.
Мы расстались на Двине у кромки льда. Тяжелый ледокол шел по фарватеру реки.
По доскам, наскоро переброшенным через ледяные глыбы, я перешел на противоположную кромку льда, обернулся, помахал шапкой жене и сыну.
Через четыре часа я доехал до станции Обозерской. Там пересел в мурманский поезд и залег спать.
Утром я проснулся. Поезд шел по железнодорожной ветке Обозерская — Беломорск, построенной незадолго до войны.
После оставления нами Петрозаводска эта ветка была единственным путем, соединявшим фронт с центрами страны.
Северная весна началась. Деревья стряхивали с себя остатки снега, на березах, ивах и ольшаннике набухали и слезились почки. Неугомонно бурлили ручьи, на озерах, в серых водяных закраинах, дыбился приподнятый половодьем лед. Тянулись на север в арктические широты, на дальние острова и побережья первые караваны гусей, лебедей, уток.
В купе со мной ехало несколько бойцов. Голос одного из них показался мне знакомым, я стал внимательней всматриваться в черты его лица. И вдруг припомнил:
— А вот ведь это кто! Ефимыч! Здорово, дружище, помните в Вытегре я видел вас в госпитале.
— Как же, прекрасно помню. Вы тогда старшим лейтенантом были.
— Значит выздоровели?
— Давно, еще в декабре выписался. Да четыре месяца в запасном полку околачивался, военного разума набирался, а теперь снова — воевать.
— В родную Карелию?
— Да, к Карелии мне не привыкать, — отозвался Ефимыч, — сначала-то думал, как и в ту германскую войну, доведется в разных местностях побывать, города разные повидать, а выходит — нет. В своей-то Карелии сподручней. Только вот годы мои не те, ловкости бывалошной нет.
Поезд остановился.
— «Станция Нюхча» — прочел я на вывеске новенького бревенчатого вокзала. — Ну, как, Ефимыч, далеко еще до Беломорска? Что это за Нюхча?
— Далеконько, товарищ капитан. Часов шесть-восемь еще протолкаемся. Здесь станция, а там, левей и подальше отсюда, над речкой, стоит старинное сельцо, тоже Нюхчей называется. Очень старинное. До Петра Первого еще существовало… Сам Петр наезжал сюда… И будто даже два раза бывал. Впервой, когда в Соловки ездил молиться Зосиме и Савватию, так привертывал сюда, а сам себе заметинку в ум брал, что здесь за местность и куда отсель прямиком попасть можно. Тогда еще нюхченские мужики украли у Петра кафтан, больно он им понравился. И не знали, что царя обокрали, вот как!.. А потом как дознались, что он своего кафтана хватился, тут и вструхнули. Собрались все, померяли одежду с царского плеча, вроде бы для круговой поруки — всем обществом ответ держать, — и понесли кафтан Петру:
— «Так и так, ваше царское величество, извините, ошибочка вышла, не подумавши на вас, сперли, будьте добры принять кафтанчик и просим прощенья!» — да сами бух всей деревней царю в ноги. Царь кофей пил, смеется, глядя на них, и говорит: «Носили кафтан? Ну, как, ладен он вам?»
— «Носили, батюшка-царь, всей деревней носили, кому ладен, а кому и повелик».
— «Ну, ладно, — говорит царь Петр, — носили, так теперь донашивайте до полного износу, а я до Архангельска в чем-нибудь доберусь»… — И с той поры, товарищ капитан, нюхченских мужиков по всей округе до сего дня «царями» прозывают в насмешку…
— Откуда ты, Ефимыч, знаешь такие вещи?
— А как же не знать, товарищ капитан, передается от отца к сыну. А я к тому любопытство имею. Вот так. В другой раз Петр Первый побывал тут не по молебной части, а по военному делу. С этих мест в наступление на шведов своих преображенцев повел. Привез он сюда их морем с Архангельска. Целую тысячу, а то и больше. Надо итти, а податься невозможно. Кругом лес да горы, озеры да болота. И вот нашелся тогда в бомбардирской роте у Петра сержант Михайло Щепотьев, он-то и взялся проложить мостовую дорогу на сто шестьдесят верст в длину до самого Онежского озера. По той дороге петровские войска двинулись с артиллерией и две яхты на колесах проволокли за собой. А Михайло Щепотьев потом еще под Выборгом отличился: в семьсот шестом году. Тогда он по приказу Петра на пяти рыбачьих лодках с полусотком преображенцев бросился в погоню за шведскими торговыми судами. Суда ушли в туман, а преображенцы на лодках двинулись на шведский адмиралтейский бот, а на нем сто десять матросов и четыре пушки. Преображенцам некогда разбираться, что это за судно и чем оно вооружено. Они часть команды перебили, часть заперли в трюм. Подоспел шведам на выручку второй корабль, а преображенцы опять не сплоховали: зарядили пушки на захваченном судне и отогнали неприятеля. Петр сказал тогда, что это был «преудивительный и чудный бой». И всех рядовых участников произвел в офицеры, а погибшего сержанта Щепотьева похоронил с великими почестями…
— А это, Ефимыч, откуда ты узнал?
— Вот, опять, право, товарищ капитан, — где же все упомнить. Где-то вычитал, давно еще. Может дозволите, товарищ капитан, котелочка, я за кипятком схожу?
— А не отстанешь от поезда?
— Не извольте беспокоиться; здесь поезд с полчаса стоит.
К вечеру поезд прибыл в Беломорск, единственный в своем роде городок на Севере. Его деревянные домики беспорядочно, как попало и куда пришлось, разбросаны на большом количестве речных островков, соединенных мостами и узкими переходами. Непрерывно, несмолкаемо шумели водопады реки, в устье которой расположился город.
Я получил назначение на Кестенгское направление, на север. Туда же поехал в числе небольшого пополнения и мой знакомый Ефимыч.
Ехали мы в теплушках «первой скорости», но скорость была условным понятием. Дорога была сплошь забита эшелонами с военными грузами. Предпочтение отдавалось санитарным «летучкам» и сверхсрочным поездам спецназначения; остальные подолгу задерживались около разрушенных бомбежкой станций и полустанков. По сторонам железнодорожного полотна там и тут зияли внушительные, круглые, как чаши, воронки от авиабомб. Земля была изрыта, словно поражена черной оспой, даже каркасы пролетов на мостах были пробиты осколками.
Станция Лоухи, когда-то благоустроенная, с новыми двухэтажными домами, складами, мастерскими и депо, теперь выглядела неприглядно: большинство домов было разрушено. Неподалеку от разбитых зданий валялись скаты вагонных колес, изогнутые дьявольской силой взрывов рельсы. С наклонившихся и расщепленных столбов свисали порванные провода.
Отсюда до переднего края было всего сорок километров, — так близко подобрался враг к Кировской дороге.
Ефимыч снова подошел ко мне.
— Я, товарищ капитан, бывал здесь до войны. А теперь подивитесь, что натворено! Ох, и обойдется немцу все это в копеечку. Ведь за все, за все немцам и финнам придется раскошеливаться. Пойдемте-ка, товарищ капитан, я вам покажу «чудо» немецкой техники. Тут рядом в переулке я приметил.
— Посмотрим, что за чудо? — Я свернул за Ефимычем в один из переулков. В куче железного лома, собранного отовсюду, лежала верхняя часть неразорвавшейся, обезвреженной немецкой авиабомбы. На ней черным по серому обозначено «С-1000». Это значило, что она весит одну тонну. Лежащая часть бомбы имела сходство с громадной посудиной на манер церковной купели.
— Я из нее сделал бы лохань, — рассудил Ефимыч, — поставил бы на треногу и пусть бы в нее добрые люди плевали кому не лень…
Молча разглядывая эту деталь и озираясь вокруг на разрушения и пепелища, я думал о неумолимых, страшных двойниках этой случайно невзорвавшейся «тонки».
— Сволочи, что они затеяли. Сколько горя людского от этих чудовищных штуковин! Сколько крови и слез!
Между тем к шлагбауму, что на окраине станции, подходили одна за другой автомашины, грузовики, крытые фургоны, закрашенные автобусы, некоторые еще с сохранившимися надписями мирного времени: «Нарвская застава — Урицк», «Финляндский вокзал — Удельное — Парголово». Ленинград уступил часть своего транспорта Карельскому фронту.
— Товарищи! Кому на передний край, занимайте места в машинах! — оповестил пограничник с красной повязкой на рукаве.
Я забрался в сильно потрепанный, изрешеченный пулями и осколками автобус.
Взмах красного флажка в руке регулировщика, и колонна автомашин двинулась туда, откуда доносился глухой рокот артиллерийской канонады.
9. Кестенгское направление
Было время, когда войска эсэсовцев подходили к станции на пушечный выстрел. И тогда нависала серьезная опасность для Мурманского и Кандалакшского направлений, им грозило быть отрезанными от сухопутного сообщения с центрами страны. Подоспевшая дивизия спасла положение. Боевая дивизия одной из первых получила звание гвардейской…
В конце апреля и в начале мая сорок второго года немцы снова пытались прорваться к Мурманску, и одновременно к Кировской дороге на близком, более уязвимом направлении — Кестенгском. На этом участке фронта немецкое командование выставило отборные горно-егерские войска и эсэсовскую дивизию «Норд». Зимой у немцев шла усиленная подготовка к наступлению. Сам Гиммлер приезжал сюда инспектировать и инструктировать войска. Прибывали в Финляндию свежие подкрепления из опытных фашистских головорезов, прославивших себя грабежами и насилиями на Крите и в Нарвике.
Весной генерал Демельхубер по приказу гитлеровской ставки попытался пробиться к станции Лоухи, — перерезать Карельский фронт на две части. А генерал Дитл рассчитывал занять Мурманск. Из этих авантюрных планов ничего не вышло. Красная Армия перешла в контрнаступление и отбросила врага, нанеся ему тяжелые потери. Обе стороны зарылись в землю друг против друга. Лишь иногда возникали ожесточенные бои, не дававшие решающих результатов. А потом вновь наступало затишье с перестрелкой и активными действиями разведчиков на флангах, по тылам противника.
В разгар апрельско-майских боев 1942 года я прибыл к полковнику Дуболю, командовавшему бригадой. Бригада действовала в залитых весенним половодьем болотах, на правом фланге Кестенгского направления.
Где пешком, где на волокуше, запряженной лошадью, усталый и весь мокрый добрался я от шоссе до штаба бригады, расположенного в шалашах и палатках на лесистой сопке. Полковник Дуболь занимал искусно сложенный из еловых веток шалаш с отверстиями вверху, куда струился дымок от костра, разведенного внутри. Откинув плащпалатку, закрывавшую вход, я спросил разрешения войти, по-военному представился и кратко доложил, кем и зачем я сюда направлен.
Дуболь сидел перед костром на гладко спиленном пне и держал на коленях развернутую планшетку. Он поднял на меня узкие глаза и принял протянутую мною путевку. Быстро прочел. Продолжал рассматривать смятые, написанные карандашом донесения.
— Садитесь, — предложил полковник, — вот там чурка лежит, она у меня вместо дивана.
Сквозь полумрак и дымок костра я стал рассматривать этого видавшего виды командира. На нем была поношенная каракулевая шапка-ушанка, на суконной гимнастерке по соседству с медалью «Двадцать лет РККА» сиял Орден Ленина.
Рядом со мной сидел только что прибывший в бригаду капитан, человек лет сорока. Он, как я заметил, чуть-чуть волновался и молча курил подряд вторую цыгарку.
Закончив чтение бумаг и написав на них свои заметки и указания, полковник обратился к нему:
— А теперь, капитан Чеботарев, — так кажется, — давайте поговорим с вами по душам.
Дуболь не спеша стал подробно его расспрашивать, где и когда родился, участвовал ли в гражданской войне, в качестве кого проходил военную переподготовку в мирное время, на какой должности и в каком учреждении работал, какое образование получил, где семья и как она обеспечена. Осведомился обо всем. Меня удивило, как подробно он все выспрашивал.
— Я думаю, товарищ капитан, послать вас временно командиром роты вместо одного выбывшего товарища. Рота слаженная, с большим процентом партийно-комсомольской прослойки. Обстрелянная не раз, а это очень важно, имейте в виду. Между нами говоря, я забыл спросить вас, а вы сами-то не побаиваетесь? Скажите прямо, положа руку на сердце… — и полковник испытующе взглянул на Чеботарева, затем на меня. Однако Чеботарев уклонился от ответа.
— Значит стыдитесь сказать о себе правду? А вы? — обратился он ко мне.
— Да как вам сказать, — замялся было я, не зная как ему ответить на это.
— Да так, скажите откровенно, — настаивал Дуболь.
— От природы я не из трусливых, и в гражданскую на Северном фронте был, и в эту войну немножко в районе Свири и Ошты пороха понюхал. Не трушу, но что-то такое предчувствую. Когда, идя сюда, я увидел первых убитых, мне подумалось, что кто его знает, не сегодня-завтра, я сам буду так же лежать… И холодок по спине пробежал.
— Вот это плохо! — неодобрительно заметил полковник. — Мрачные настроения надо по боку! А вы никогда и мысли не допускайте, что вас могут убить. Не всех убивают. Смерть не страшна. Ведь, что значит предчувствие? Это не роковой подсказ о смерти, отнюдь нет. Поверьте мне, я на себе испытал. Предчувствие рождается в результате близкого соседства с опасностью. А на войне без опасности невозможно, никак невозможно. Привыкнете. На войне привычка — великое дело. Ну, и придется возможно хлебнуть горячего до слез — даром ничего не дается. Важно иметь непоколебимый боевой дух, сохранять его в самой, казалось бы безвыходной, тяжелой обстановке.
Дуболь помолчал, подумал. Потом он вновь обратился к нам.
— Ну, как, отогрелись малость? Сейчас я позвоню командиру третьего батальона. Боец проводит, покажет.
Дуболь покрутил ручку полевого телефона.
— Алло! «Енисей!» Дайте «Сухону», алло, говорит «Байкал». Сейчас я направляю к вам двух товарищей, вновь прибывших. Да, да. Как там у вас? Постреливает… Будьте здоровы…
Он положил на ящик трубку и сказал:
— Сейчас вы пройдете налево в четвертый шалаш к комиссару бригады, познакомьтесь, встаньте на партийный учет.
— Товарищ полковник, вы обо всем расспросили, а партийные ли мы, не поинтересовались.
— Идите, — повторил полковник, — встаньте на партийный учет, а затем вас боец отведет в третий батальон. Разве я не вижу, что вы коммунисты? Желаю успеха!.. В чем понадобится моя помощь — обращайтесь. Чем могу — помогу. Будут сучки и задоринки — не утаивайте, так-то оно лучше.
Через несколько дней комиссар бригады, разговаривая со мной, между прочим поинтересовался:
— Каков наш Дуболь?
— Замечательный коммунист! — сказал я.
— Да, он опытный, чуткий, боевой командир и неплохой беспартийный большевик.
— Разве беспартийный?
— Да. Нынче ему исполнится пятьдесят лет, — на вид ему не дашь этого, — а в партию до сих пор не вступив. Я его знаю с первого дня войны: за Кандалакшей он получил paнение. Дважды с ним были в окружении. И каждый раз в трудной обстановке он пишет заявление: «Если погибну от вражьей пули, прошу считать меня верным сыном коммунистической партии». Человек замечательный, — заключил комиссар, — и надо сказать, с ним очень легко работать.
— Почему же он в партию-то не вступает?
— Вступит. В день своего пятидесятилетия, говорит, подам заявление. Он собирается еще полсотни прожить…
В роте было всего семьдесят восемь автоматчиков. Молодые, задорные ребята, лыжники-северяне, сибиряки, некоторые из них до войны служили в Черноморском флоте. Они уже не раз ходили в распахнутых бушлатах в атаки и, показывая врагу полосатые тельняшки, вместо «ура» кричали «полундра»!
О том, что у нас на здешнем участке фронта есть моряки — отважные головы, — гитлеровцам скоро стало известно; недаром генерал Демельхубер поспешил обеспечить этот фланг более крупными и надежными силами. И тем не менее, бригада полковника Дуболя, через леса и болота, по тающему снегу, прорывалась в глубокие тылы врага на коммуникацию между Кестенгой и Окуневой губой, наносила противнику чувствительные потери. И тогда немцы стали стягивать сюда на фланг пехоту и артиллерию.
А пока шла автоматная и пулеметная перестрелка.
Однажды днем, когда рота была в перестрелке с наседавшим противником, неожиданно появился Дуболь. Опираясь на суковатую палку, прихрамывая, он шел и на ходу ко всему придирался, покрикивал. Он уже не казался таким добряком, каким я видел его несколько дней тому назад. Чеботарев даже на минуту смутился, соображая, как доложить полковнику обстановку и состояние своего подразделения. А Дуболь, не взирая на свист пуль, ковылял прямо к нам.
— Ага! Здесь новичок со своей ротой. Как дела? — заговорил Дуболь, еще не дойдя нескольких метров до места, где с биноклем в руке стоял Чеботарев, разговаривая с командиром первого взвода.
Чеботарев быстро шагнул в сторону полковника, отрапортовал:
— Разрешите доложить, товарищ полковник, дела не совсем блестящи…
— Что-о! Как вы сказали?..
— Убыль есть, а прибыли нет, товарищ полковник.
— Что за двойная у вас бухгалтерия, товарищ Чеботарев? — гневно спросил Дуболь. — О потерях в бригаде мне известно. Держаться до последнего! А там придет и подкрепление.
— Есть держаться до последнего! — твердым голосом ответил Чеботарев и уставился глазами на полковника.
— Вот так! Что это у вас там слева частят из автоматов. Надо короткими очередями, не более пяти пуль выпускать сразу. Иначе бесцельная трата патронов. Учтите это… Где ваше место? А рота? Правильно!.. Взвод в резерв, здесь. Хорошо. Направьте туда (полковник показал рукой) комвзвода передать мое приказание стрелять только по цели и только короткими очередями. Бережно расходовать патроны.
— Есть!
— А что касается того, блестящи или не блестящи у нас дела, оценку нам дадут другие. Сегодня вот мы с товарищем допрашивали «языка». И что же? Против нас немчура вторую тысячу штурмовиков разменяла. Вот вам и сальдо-баланс!..
Дуболь удовлетворенно улыбнулся. Мы перешли в укрытие, представлявшее собою узкий, неглубокий ров, перекрытый жердями и еловыми прутьями. С прутьев немилосердно капало за ворот, на шею, но никто из присутствующих как будто этого не замечал. Дуболь обо всем расспросил Чеботарева. Мы совещались около часу.
Уходя, полковник приказал Чеботареву держаться со своей ротой на занятом рубеже. Без приказа ни шагу назад…
В наскоро вырытых, продолговатых, сырых ямах-ячейках между кочек и пней врассыпную лежали автоматчики. Ни обстрелы, ни бомбежки, ни холодная сырость снизу, ни дождь, ни мокрый снег сверху, ничто не смущало их. Они крепко держались за родную землю.
Положение в эти дни сложилось у нас тяжелое. То стрекот автоматов, то частые разрывы ручных гранат отчетливо доносились до командного пункта бригады.
Немцы все теснее сжимали нас.
Они действовали с трех сторон, окружая наши части. У нас выбыло из строя уже много бойцов.
К вечеру старательный письмоносец доставил почту. Его стиснули со всех сторон. Кто-то нетерпеливый достал из-за голенища финку и перерезал шпагат. Сургучная печать на. фанерной бирке отлетела под ноги.
— Товарищи, не спешите, не хозяйничайте, — оборонялся, локтями письмоносец, — всяк свое получит…
Долговязый старшина выкрикивал:
— Храпову!
— Подавай сюда.
— Веселову!
— Я Веселов, да посмотри нет ли еще.
— Глотову Николаю!.. Из Архангельска, от жены…
— Убит. Отсылай обратно.
— Как, инструктор-химик убит?
— Сегодня утром умер от тяжелой раны, — пояснил кто-то.
Горькое чувство охватило меня. Я слышал, что Глотов находится где-то, а увидеть его так и не смог… Он был мой земляк и хороший знакомый. А вот уже и нет его…
Старшина продолжал выкрикивать:
— Святову!.. Открытка от тещи!
— Давай, не треплись!
— Иванову!
— Давай, потом передам.
— Не могу, тут написано в «собственные руки», где он…
— В госпитале.
Я получил первые письма: два от жены и одно от сына. Кто был на фронте, знает, как радостно получать письма от близких, как много значат эти весточки.
10. Гибель Дуболя и Азарова
Наконец, пришел день, когда сомкнулось вокруг нас кольцо фашистских войск. Связь с тылами была перерезана. Усилился минометный обстрел по расположению бригады. Дуболь принял решение — вырваться из кольца, немного отступить и закрепиться на новой позиции в ожидании подхода подкреплений. Но как прорваться! Сосредоточившись всеми остатками сил в одном месте, или же, пользуясь лесистой местностью, выходить из окружения в нескольких местах сразу? Обдумав создавшуюся обстановку, Дуболь сказал комиссару:
— Принимаю решение: выходить из окружения только организованно, одновременно в более слабом мессе линии, занятой противником. Надо вмешаться в его порядки, смять и выйти вот сюда, — он ткнул пальцем в порванную карту и проговорил уверенно: — Здесь будет выгодная позиция… При выходе не допускать густых скоплений.
Начался прорыв. Разгорелся бой. Пули, простые и разрывные, звучно шлепались о стволы деревьев. Рвались мины, снаряды. Мы пробились. Но в разгаре боя сам полковник Дуболь — любимец бойцов и командиров, — был смертельно ранен. Пуля попала ему в живот навылет. Двое крепких моряков несли его на носилках. Рядом шел комиссар, хмурый а растерянный. Он поглядывал на искаженное в предсмертных муках лицо полковника. «Не выживет. Вынести бы живого или мертвого…»
А Дуболь, силясь приподнять голову, оглядываясь по сторонам, твердил:
— Выходите организованно, без паники… Берегитесь минометов… Поражаемость в лесу ничуть не меньше… Я отвоевал свое… Ты чего, комиссар, нос повесил? Занеси меня в список коммунистов. Бодрей… Бодрей, товарищи…
Комиссар взял его за руку и, шагая рядом с носилками, волнуясь, заговорил:
— За тебя, за жизнь твою боюсь, полковник!
— А что за меня робеть? Я не всех лучше. Вон какие молодые орлы погибают. Так надо. Не зря. За дело великое, правое… Старуха-смерть все равно законная жена каждому… Родимся случайно, умираем неизбежно. Кому в постели, а мне, кажется, суждено на носилках… Веселей, комиссар, веселей… мелкими группами. Патроны бережно…
И еще минут десять говорил он что-то, отрывисто и неясно. Потом стал звать кого-то, неразборчиво. Называл какое-то имя. Вскоре он затих. Комиссар дотронулся до его упавшей руки. Все было кончено. Дуболь умер.
Между тем по его приказу остатки бригады по-ротно, пo-взводно рвались сквозь кольцо окружения. Противник, из боязни нанести поражение своим войскам в такой сумятице, ослабил огонь, расступился. Выход завершился. В замкнувшемся кольце остались только убитые.
Мы заняли новый рубеж. Сюда подошел полк, которым командовал подполковник Азаров.
Получив приказ итти на выручку нашей бригаде, Азаров отлично понял, насколько серьезна задача, поставленная перед ним: с полком устоять против дивизии, занявшей стратегически выгодные опорные пункты на сопках.
Командование полагалось на Азарова, в его храбрости и умении воевать не сомневалось. Еще на Медвежьегорском направлении он со своим полком показывал чудеса храбрости, дерзко и неожиданно прорывался в тылы противника и наводил страх на немцев и финнов. Недаром соединение, в которое входил и полк Азарова, немцы называли «дикой дивизией».
Ко времени прибытия на Кестенгу Азаров уже пять раз был ранен, о чем сам он обычно умалчивал. О храбрости его ходили легенды. Недаром ему первому на Карельском фронте было присвоено звание Героя Советского Союза.
Развернув в боевые порядки свои подразделения, Азаров решительно повел полк в наступление. Немцы не выдержали, оставили ряд высот, отступили.
Сам он. не умевший щадить себя, с наганом в руке шел впереди атакующих. В бою он получил еще три ранения. Ни на какие уговоры товарищей отправиться в медсанроту он не обращал внимания:
— Пока я жив, я не оставлю своих бойцов.
Перевязав раны, Азаров продолжал руководить боем всюду шел впереди.
Участь полковника Дуболя постигла и его. Две вражеских пули прошли сквозь сердце героя.
Весть о смерти Азарова быстро облетела ряды бойцов С удвоенной яростью азаровские храбрецы бросились на врага. Громовое, дружное «ура» неслось по лесу.
Враг был отброшен.
Еще долго после смерти Дуболя и Азарова в их адреса поступали добрые, ласковые письма от родных и друзей долго вспоминали их бойцы и командиры.
Понемногу, день ото дня, я начинал привыкать к фронтовой обстановке, к повседневным схваткам с врагом.
В промежутках между боями и даже во время ах, в лесу, где проходил фронт, неумолчно раздавался стук топоров, звон пил. С треском валились на обнаженную весеннюю землю столетние сосны и ели, не ожидавшие себе такой благородной участи — пойти на укрепления, в помощь и на защиту людям, пришедшим в эту глушь отстаивать свою родную землю. Строились траншеи, землянки, блиндажи, дзоты. Противник посылал авиацию бомбить передний край строящейся обороны, пытаясь помешать нашим войскам закрепиться. Но оборона крепла. Выход к магистрали запирался на прочный замок: подходили по шоссе к линии фронта артиллерийские и минометные части. По обеим сторонам дороги, прячась в чаще леса, тарахтели танки; появились загадочные «катюши». На посадочных площадках, в земляных гнездах, под прикрытием ветвей, притаились наши самолеты и английские «харикейны», прозванные бойцами «харитошами»…
Бойцы построили мне уютную, пахнущую свежей сосной землянку.
Через отдел укомплектования я разыскал Ефимыча, попавшего в дорожно-строительный батальон, и взял его к себе связным. Придя в мою землянку со своей неразлучной «трехлинейкой», двумя гранатами, противогазом и небольшим вещевым мешком, Ефимыч расположился у дверей на узких нарах, сделанных из трех дощечек. Первым делом он попросил:
— Скажите мне, товарищ капитан, про мои обязанности.
— Обязанности, Ефимыч, очень простые и не тебе о них спрашивать. Ты солдат мозговитый, бывалый, а мне такой и нужен. Будь моим помощником и хорошим товарищем, а остальное все приложится…
— Постараюсь, товарищ капитан.
В первый же день он привел в надлежащий вид землянку. Промасленную бумагу в окошке заменил настоящим стеклом из кабины разбитой автомашины. К бездействовавшей до того печке приладил трубу, спуск в землянку и ее поверхность замаскировал прутьями. У письмоносца добыл несколько старых журналов, плакатов и вырезками иллюстраций заклеил стену, на которую падал свет из единственного оконца. Грубо обтесанный столик устлал газетами, сделал вешалку, сделал две полочки. Свой уголок отгородил натянутой плащпалаткой. Другую плащпалатку растянул под потолком, чтобы не капало, и затопил печку.
— В таких условиях воевать можно, — с удовлетворением заметил я, придя в натопленную землянку и почуяв запах разогретых щей. — Кажется мне, что мы здесь, Ефимыч, продержимся долгонько.
— Начальство больше знает, — скромно ответил тот.
Время шло. Оборонительная, позиционная война на Севере принимала затяжной характер. Редко, очень редко вспоминали в сводках Информбюро Карельский фронт.
В одном из своих фельетонов Илья Эренбург как-то сказал, что о Карельском фронте мало пишут, но много думают.
— Ничего, пусть думают. Придет время, заговорят, — успокаивали себя карельские фронтовики и делали свое дело.
11. Письмо девушки из города Л…
Однажды я был вызван на совещание к командиру полка. Тот сидел мрачный и до начала совещания ни с кем из командиров не разговаривал, перечитывал какие-то документы, письма и изредка полушопотом о чем-то коротко переговаривался с расстроенным начальником штаба.
Когда собрались все командиры батальонов, рот и политруки, комполка открыл совещание. Прежде всего он спросил:
— Кто из вас знал начфина Хаулина?
— Понемножку знали, пожалуй, все, — ответил один из комбатов.
— То и плохо, что понемножку, — хмуро заметил комполка и опять спросил — А вы знаете, какую свинью этот гад нам подложил?
Люди настороженно прислушались.
— Так вот, товарищи, двое суток тому назад, как мы полагали, начфин Хаулин уехал за деньгами для полка в штаб армии. А оказалось что же… Командир полка развернул перед нами фашистскую листовку с изображением наглой физиономии предателя. — Вот он, полюбуйтесь. Перешел к противнику, предает и продает нас: да еще собственноручно — почерк установлен — пишет гнусное обращение, размноженное фашистами. Плохо мы знаем людей! Если бы хоть чуточку подозревали о скрытых намерениях этого гаденыша, он не ухмылялся бы нагло с этой вонючей листовки, а в нужный момент получил бы по заслугам. Полагать, что его захватили немцы в нашем тылу — нет оснований. Это изменник-перебежчик. Вот письмо девушки из города Л…, поступившее сегодня в адрес этого негодяя. До войны, на гражданской службе, он был знаком с одной девушкой. Она, видно, не подозревала, как и мы, что он встанет на путь черной измены, иначе она не писала бы ему от чистого сердца. Письмо заслуживает быть прочитанным на нашем совещании… Слушайте…
«Здравствуй дорогой… Наконец-то мне вручили долгожданное письмо от тебя. Я рада, что ты жив-здоров и не забыл обо мне. Спешу сообщить тебе, что за этот перерыв в нашей переписке я натерпелась много. Как тебе известно, наш город находился в лапах у немцев. Ох и много мы перенесли от этих неслыханных мерзавцев, палачей. Нас душила бессильная злоба и ненависть против гадов. Я могла бы пойти на любую дерзость, но не страх за свою жизнь меня удерживал, я боялась, что за мою дерзость они уничтожат наших стариков и младшего братишку Вовку. И потому, скрепя сердце, приходилось мириться с тяжкими невзгодами. За время своего пребывания у нас немцы много нагадили, много причинили вреда: сожгли две улицы, что спускались к лесу. Сожгли редакцию с типографией, дом колхозника, комбинат и много других общественных и частных домов и построек… Ты помнишь милую, веселую комсомолку Лену Алексееву, — немцы ее расстреляли. Евгения Егоровича Селищева — тоже и много, много других. 7 ноября, в Октябрьскую годовщину они повесили посередь улицы славного, боевого Шурку Чекалина и доску прибили с надписью: „Вот вам, русь, праздничный гостинец, так будет с каждым, кто недоволен нами“. Нас, девушек и женщин вместо лошадей впрягали в повозки, заставляли возить воду, дрова, картофель. За стирку белья, если казалось им, что плохо простирано, они нещадно били нас. Не раз и мне доставалось. Среди горожан нашлись прихвостни, предатели. Капитонов был в роли господина полицейского. Орлов, Шутенков, Рябцев — эти были у фашистов доносчиками. Многих они предали. Не со всеми немцы успели разделаться. С приходом Красной Армии мы узнали и тех, кто занимался предательством. Шкурник Сорокин, ты его знаешь (зачем ты дружил с этой сволочью), подошел ко мне и стал лебезить: „Я тебя и других комсомолок от расстрела избавил“. А я ему прямо ответила: „не вы нас избавили, а наши бойцы, а вы в дружбе с немцами не успели от нас избавиться“… И вот мы возвращены к жизни, а предатели расстались с жизнью. За это мы приветствуем наш суровый и справедливый закон военного времени… Недели за полторы до прихода наших войск, я с Оксаной скрывалась в лесу, чтобы немцы не угнали к себе в неволю, как многих. Знал бы ты, с какой радостью мы слушали с Оксаной гром приближавшейся нашей артиллерии. Эту радость ожидания трудно передать. ее можно только прочувствовать. Прячась, мы предпочитали смерть от своих пушек, нежели от рук поганых палачей. Встреча с Красной Армией была настолько радостной и трогательной, что без слез умиления я не могу ее вспомнить и сейчас. Прожили мы при немцах 65 дней, а многие за это время поседели, постарели и казалось, что бойцов наших мы не видели и ждали целый век. Да, я не раз переживала обстрелы и бомбежки, все это страшно, слов нет. Но нет ничего страшней и противней, как видеть озверелые морды немцев, тупых, безжалостных, гадких. Противен их собачий нечеловеческий говор… Ну, все это теперь позади. Сейчас у нас идет работа во всю. Наш цех за хорошую работу получил переходящее красное знамя. Живем сносно. Личную жизнь будем строить после войны.
А теперь — все для фронта. Мы должны победить. Не можем же мы терпеть эту гадость на своей земле. Гоните их вон! Как ты живешь там в далекиx карельских лесах. Я утешаю себя тем, что ты бьешь фашистов. Напиши мне, где Сережа Горбунов, о нем у меня справляется Клава Опарина, она шлет тебе привет. Ваши все живы-здоровы. Дом не сгорел, но стоит без стекол; живут все в маленькой комнатке, к весне оборудуются. Я часто смотрю на тот лесок, где мы бывало с тобой любовались на природу и спорили. Помнишь о чем? Я оказалась права. Мою правоту подтвердило время. Нашу правоту защищает и спасает Красная Армия. Извини, что я напомнила тебе об этом споре. Надеюсь, ты теперь образумился, отряхнулся от чужих и чуждых веяний… Вот и все. Желаю успеха.
Твоя Н…»
— Таково, товарищи — продолжал командир полка, — из слова в слово письмо патриотки в адрес негодяя. Я не знаю о чем они спорили, но догадываюсь, что эта девушка, действительно, была права, а в нем, в Хаулине, уже тогда таился червь сомнения, впоследствии выросший в змею предательства и позора. Судя по письму, у девушки крепкая и правильная жизненная закалка. А то, что она ошиблась в нем, так это по неопытности, по молодости. Но дело не в том, товарищи командиры, а дело в том, что немцы, стоящие здесь против нас, имеют «языка» да еще такого, который и тянуть не надо, разболтает все, что знает. Поэтому, мы должны кое-что предпринять и насторожиться. Кое-где усилить, а кое-где перестроить оборону… Достаточно того, что мы прошляпили, допустили в нашей части такой позорнейший факт — случай измены Родине. В штабе соединения из этого факта тоже сделают некоторые выводы…
После этого командир, предупредив весь комполитсостав полка о бдительности и боевой готовности, распустил совещание, оставив при себе трех комбатов, командира артиллерийского дивизиона и комиссара части. С ними, рассматривая карту обороны своего участка, он беседовал еще добрый час, намечая на всякий случай строительство новых огневых точек и пулеметные гнезда…
Я сидел тут же и припоминал внешность изменника, его поведение и думал, что именно, какие черты были заметны в нем, по которым можно было бы хоть немножко предвидеть и разгадать его гнусные намерения…
Как и следовало ожидать, спустя несколько дней немцы стянули на этот участок около двухсот орудий и минометов, разного калибра. Началась и продолжалась около двух часов непрерывная, слившаяся в один сплошной шум, канонада.
Наши части отвечали тем же. Там, где густо падали снаряды и мины, лес был весь изуродован. Торчали одинокие расщепленные пни, валялись изломанные стволы деревьев, смешавшиеся с землей и торфом ветви, вывороченные корни. И весь этот лесной хаос в том месте, где немцы намечали прорыв, не столько способствовал, сколько служил препятствием! продвижению их пехоты. После внушительной артиллерийской подготовки немецкие егеря пошли в атаку. Наши огневые точки, тщательно скрытые и прочно оборудованные, встретили их плотным огнем. Нивесть откуда появились на заранее подготовленных позициях застенчиво притаившиеся под брезентом «катюши» и впервые на здешнем направлении они подали свой рокочущий неподражаемый голос. И когда они заговорили, вся остальная беспорядочная музыка боя на короткое время стихла. Сотни снарядов-комет вперегонку понеслись в ближние тылы врага, где были стянуты его резервы. Прорыв немцам не удался…
Наша рота выходила с боем на разведку и захватила в плен двух «языков». Один из них был немец-штурмовик, другой— финн, легко раненный в мякоть ноги. Этот финн, когда его брали, дрался отчаянно. У него вышибли из рук винтовку, он успел вывернуться и, прихрамывая на подстреленную ногу, бросился к берегу озера и прыгнул с невысокого обрыва в холодную воду. Конечно, его можно было бы пристрелить, но требовалось взять живым. Сбросив шинель, за ним кинулся в воду Василий Власов, боец из морской пехоты, замечательный стрелок, отличный пловец и силач. Он вмиг догнал финна. Началось единоборство в воде. Рыжий финн не хотел сдаваться. Он усиленно барахтался, плескался, кричал и даже ухитрился больно укусить Власова за руку. Власов крепко выругался и, стиснув зубы, ударил его по голове. Тот сразу обмяк и, как на буксире, был доставлен Власовым на берег. Его обсушили у костра, перевязали сквозную, но легкую рану. Сначала финн робко озирался, вздрагивал, видимо ожидая быстрой расправы. Но тот, кому он основательно запустил зубы в руку, теперь сидел у костра напротив, шутил и улыбался. Мало-помалу выражение боязливого ожидания стало исчезать с перепуганной физиономии финна. Но когда ему завязали глаза, он расплакался, полагая, что сейчас его поведут расстреливать. Переводчик-карел сказал пленному: «Русские пленных не убивают, не волнуйся. Из русского плена ближе до Финляндии, нежели из могилы, в которую толкают финнов немцы».
В ответ финн улыбнулся и кивнул головой.
Его накормили жареной, свежей лосятиной, дали выпить два раза по полтораста граммов и водворили на ночлег в землянку, где уже сидел обстоятельно допрошенный немец. Увидев немца, финн стал ругать его. Затем он уселся поудобнее и запел. Вот перевод его песни:
… День прошел, ночь наступила, Немец подкрался к невесте моей; Как вор, подкрался к невесте. Где ты!.. Заступись Маннергейм!.. Немец оставит в наследство дитя; Кому это нужно наследство? Несчастный ребенок — последыш, Лучше б тебе не родиться!.. Разве плохие солдаты мы были… Ах, девушки наши — суоми! Не вы ли, славясь любовью. Верны были до смерти нам. Смрадная жизнь наступила; Меньше становится нас,— Мы для земли удобрение, Во славу заклятых друзей…Немец-штурмовик, видно, кое-что понял из песни и потребовал, чтобы финн перестал петь. В ответ на это финн бросился на него и, прежде чем часовой успел вмешаться, избил немца, до неузнаваемости изукрасив его физиономию.
Командир объявил Власову благодарность перед строем за смелость и находчивость.
12. Снайпер Афиногенова и разведчик Власов
К нам в батальон прислали снайпера — девушку Аню Афиногенову, крепкую толстушку с мужественным лицом.
Аня сидела в землянке у капитана Чеботарева и! докладывала ему, что она прошла специальные курсы снайперов и теперь направлена сюда для прохождения службы.
— Очень хорошо. У нас тоже есть неплохие стрелки, — сказал Чеботарев. — А теперь, вот что, товарищ Афиногенова. У меня такая привычка, или порядок такой что ли. Кто мне в роту попадает, я хочу о нем знать всю подноготную и не из послужного списка, не по форме, а по существу. Меня интересует, кто вы, где трудились до войны, в войну, когда и где успели заслужить две медали и за что. Расскажите!
Аня рассказала нам всю свою двадцатичетырехлетнюю жизнь. К концу ее повествования в дверь землянки постучался Власов.
— Товарищ капитан, боец Власов прибыл по вашему вызову.
— Очень хорошо. Кстати пришел, — весело проговорил комроты. — Вот этот боец — Аня Афиногенова, снайпер, направлена к нам в подразделение. Познакомься, тебе придется с ней поработать.
— Сухопутный моряк Власов, — отрекомендовался тот, крепко стиснув руку Ани, — сын собственных родителей, родился по личному желанию…
— Садись, балагур, рассказывай, как идет твоя жизнь?
— Да что, товарищ капитан, жизнь наша:
Мы люди моря, Живем на суше, Когда нет боя — Бьем баклуши!— Вот потому и пригласил я тебя, что ты баклуши бьешь, а надо дело делать. Ну, как, не простыл после вчерашней холодной ванны?..
— У меня же тело как у моржа, товарищ капитан, холодной воды не боится.
— Ну, а укусил-то он тебя очень глубоко? — спросил Чеботарев, поглядев на перевязанную руку Власова.
— Чепуха, заживет. Небольшой надкус сделал. Другую неприятность терпеть приходится, — печально поведал Власов и, достав из кармана бумажник, показал расклеившийся партбилет с чернильными и водяными потеками.
— Придется в политотдел обращаться, чтобы заменили. Испорчен документ по уважительной причине.
— Заменят, — успокаивающе заметил я и пообещал выдать Власову справку в том, что действительно причина порчи партдокумента была уважительной.
— Да вот еще фотокарточку своей жены испортил, ну эту-то без всяких справок, напишу — заменит.
Власов бережно положил на столик перед нами размокшую фотографию, с которой улыбалось правильное приятное лицо большеглазой девушки.
— Только, только за три месяца до войны женился в Мурманске. А сейчас она оттуда с матерью в Вологду эвакуировалась. Пожить с ней по-настоящему не успел…
— Работать тебе, товарищ Власов, придется вместе с Афиногеновой. Она направлена к нам, как опытный снайпер; о тебе у нас слава, как о лучшем стрелке; отберите в роте человек десять лучших, я их освобожу пока от всякой другой службы, кроме боевого охранения. Где, как не в боевом охранении, практиковаться снайперу… И занимайтесь. Учтите: в условиях длительной обороны, — а к этому, как надо полагать, Карельский фронт имеет склонность, — подготовка настоящих снайперов — великое дело, — напутствовал их Чеботарев, — потом когда понадобятся напарники для снайперов, я их выделаю сам…
Среди бойцов Власов был известен как неунывающий весельчак-прибауточник и храбрый, неустрашимый солдат. С Аней Афиногеновой он сошелся характером и по-деловому, по-товарищески подружился, Аня учила свою группу стрелять метко, без промаха, а Власов учил их маскироваться, подкрадываться к врагу и уничтожать его. Власов умел ободрить робеющего с непривычки новичка.
— Подумаешь, есть от чего рукам трястись, — говорил он, — двум смертям не бывать, одной не миновать. Да и чего тут вообще бояться. Против нас какой-то вшиво-голодянский полк из штурмовиков…
Однажды, во время такой беседы вблизи окопчика, где Власов лежал с двумя своими учениками, разорвался тяжелый снаряд. Столб огня и дыма, визг осколков, посыпалась земля. Новички, тесно прижавшись друг к другу, побледнев, вопрошали: «Ну, как? Живы ли?»
Рассеялся дым. Власов спокойно свернул цыгарку, затем другую и, улыбаясь, подал бойцам:
— Вот вам для успокоения нервов. Самим-то полчаса, наверное, не свернуть будет? Эх, вы, трясогузки!
Потом, показывая на воронку, вырытую снарядом, небрежно заявил:
— Это разве снаряд. Чепуха. Всю воронку можно шинелью накрыть. А вот помню, в шестнадцатом году в Архангельске пороховой погреб разорвало. Вот хлопнуло, так хлопнуло! Рядом пекарня стояла, ну, ее как не бывало. Один каравай так швырнуло, что до Пустозерска, верст восемьсот катился… Вот это был взрывчик!..
Иногда снайперы по целым суткам выслеживали врага. Кто-нибудь начинал тревожно вздыхать:
— Сухарики и те на исходе. Супцу бы горяченького теперь котелочек…
Власов немедленно откликался:
— Супцу-то что, достать не долго. Полежим вот тут, попостимся маленечко и суп будет; какой вам — перловый или с капустой погуще? Суп — чепуха. В Сванетии бы, ребята, побывать нам, вот где сытая жизнь! Разве вы не знаете? Это на родине у снайпера Аркашки Михашвили. Далеко, далеко за Кавказскими горами есть страна — Сванетия. Ну, и житуха там! Коровы там сами в реки доятся. Молоко между гор течет, Берега кисельные, горы сахарные. А в молочных реках рыба плавает в жареном виде и вилка в хребте у каждой, доставай и ешь. С сахарных гор сладкое вино ручьями льется; хочешь пей, хочешь купайся. У нас вот на деревьях одни шишки растут, а там тебе и орехи шелушеные и яблоки моченые и баранки крученые; грушами, апельсинами телятишек кормят. Изгороди вокруг садов колбасой копченой горожены; улицы шоколадом мощены. Одно там, братцы мои, неудобство: пей, ешь сколько хочешь, а до ветру итти за сто верст надо…
— Почему, Вася?
— Смешно, право. Почему? Кто же тебе позволит на кисельных-то берегах? Не верите? Спросите вон Аркашку Михашвили, от него слышал, он тамошний, из сытой Сванетии…
Власов и Михашвили на досуге нередко друг над другом подшучивали, что не мешало их деловой дружбе. Однажды Михашвили в один день убил трех фрицев. Вечером в землянке на отдыхе он был оживлен и весел, гибко и грациозно вытанцовывал что-то под гармонь и, мотая кудлатой головой, лихо распевал:
Базар большой, Купил поросенка, Всю дорогу целовал Заместо девчонка!.. Ай, Вася, дорогой, Какой ты хороший, Я куплю тебе ишак, На тебя похожий…Затем фертом в присядку прошел перед Власовым.
Бойцы смеялись. Власов погрозил Аркашке пальцем:
— Смотри, сдержи слово, достань мне ишака.
— Достану, душа любезный, достану.
— Я в долгу не останусь, медведя тебе подарю, стройного, как и ты, только пляшет лучше. У нас на Севере от медведей да от комаров отбою нет. Хорошо еще перед войной многие медведи ручными стали, на народ не бросаются. А один медведь, так вроде нищего: выходишь из дому на работу, а он на крыльце сидит — милостыню ждет. Подашь ему ломоть хлеба, он прожует и идет к следующей калитке и там левую лапу протянет, а правой крестится вместо спасибо… Ну, не то, чтобы крестится, а так на подобие этого лапой перед мордой помашет. Однажды моей бабушке в лицо плюнул — мал кусочек подала и без соли. Наш медведь не то, что ишак, не любит обмана…
Балагурство Власова было неистощимо.
Однажды в общей землянке, в присутствии полкового врача Рахили Соломоновны Хацкелевич, бойцы вспоминали о своих женах. Власов молчал и слушал. Рахиль Соломоновна спросила:
— Товарищ Власов, а ты почему не расскажешь про свою жену?
— Вам про которую? Про городскую или про деревенскую?
— Давай про деревенскую, — засмеялась Хацкелевич.
— Так вот, братцы мои. Холост я не бывал, да и женатым не живал. Раньше была у меня жонка — Софья; я ходил на корабле, а она все болела да сохла. Прихожу однажды с круглосветного, кричу «Софья! Ставь самовар!..» А она с перепугу с печи свалилась и надвое переломилась. Что делать? Сшить — не будет жить; спаять — не сможет стоять; взял я крепких мочал да так стачал, что еще жила два года и цвела, как ягода. Бывало сварит суп из двенадцати круп. Крупинка за крупинкой бегает с дубинкой, а черпаешь со дна, там вода одна. Сыто жили, ни о чем не тужили. А перед войной-то поматросил, поматросил да так и бросил. Не то, чтобы бросил, а овдовел. С похорон шел, другую подглядел. Женился, а в загс сходить не успел…
— Какова же эта? — сдерживаясь от смеха, спросила Хацкелевич.
— Про эту много не скажу: умеет пить, есть, одеваться да над мужем издеваться, и слава богу…
— Ну и Власов! Всегда что-нибудь отчебучит! — смеялись его товарищи.
13. Смекалкой страх преодолевается
В свободные часы у меня в землянке нередко собирались товарищи и вели непринужденные разговоры на самые различные темы.
Однажды, наговорившись обо всем понемногу, незаметно и неожиданно для себя завели мы разговор о том, кто что пережил самое страшное.
Один из командиров сказал:
— Самое страшное я пережил в Кишиневе во время землетрясения. Представляете: земля под ногами ходит, в стенах трещины образуются. Звенят стекла, штукатурка сыплется, куры кудахчут, собаки воют… Чего доброго земля раздвинется и раздавит всех, как козявок.
— Самое страшное я пережил на море, — сказал другой командир. — В начале войны мы эвакуировались из Эстонии на судне торгового флота. Рядом с нами шел такой же беззащитный корабль, как и наш, переполненный женщинами, стариками, детьми. И вот налетают фашистские бомбардировщики. Тяжелые взрывы, столбы огня, воды и дыма. Судно наше содрогается. Одна вражеская бомба попала в самую средину корабля, шедшего в ста метрах от нас. Вот когда было действительно страшно. Корабль переломился и исчез под водой в течение одной — двух минут. Очередь за нами. Но фашисты израсходовали уже все бомбы и ограничились пулеметным обстрелом. Мы подобрали людей из воды и пошли дальше.
— Расскажи-ка ты, Ефимыч, о самом страшном в твоей жизни, чего тебе такое переживать приходилось? — обратился я к своему связному.
— Да как вам сказать, товарищ капитан, третью войну воюю; ту германскую, гражданскую и вот эту. Жизнь свою всяко испробовать пришлось. Сколько деревьев сгнило, сколько железа перержавело, а я советский человек — Ферапонт Ефимыч Родинов жив, здоров, цел и невредим. И где меня кривая не вывозила! В чудеса я, по совести говоря, не верю. А бывали случайности не хуже чудес. В германскую в ту войну было: пошел воевать, а мать мне иконку медную сунула в грудной карман, а иконка-то с блюдечко почти и толщиной в три медных пятака. В Галиции дело было: пуля угадала прямо в иконку — я жив остался, а у Николы-чудотворца всю бороду пулей помяло. А в эту войну второпях пришлось сначала в партизанский отряд вступить. Матери в живых нет, благословение некому давать, да и икон в доме ни одной не осталось. Жонка снарядила меня и говорит: «Ha-ко, Ферапонт Ефимыч, возьми с собой резинову подушечку, надуешь ее, спать будет можно. И много ли резиновой подушечке места надо, свернул в карман, положил и готово. А спать захотел, два-три раза дунул во все легкие, крышечку завинтил у отверстия, и спи себе на здоровье». И вот финны приперли нас к одной реке; переправы никакой. Вот тут мы струхнули и страх перед собой увидели. Кто на чем, кто на дощечке, кто на бревнышке, кто просто так вплавь через реку кинулись. На мой пай соломинки не присчиталось. Ужели погибать? А финны в версте от нас и со сторон обочили и отрезали. Вспомнил я тут о подушечке, надул втугую да под рубаху ремнем пристегнул и поплыл как святой. Выбрался на другой берег; сердце от страха трепещется и думаю, как же это так у меня умно мысль взыграла о подушечке… Страх, оно конечно, не легкая вещь, — заключил Ефимыч, — а ежели ум у человека не потерян, то смекалкой и страх побороть можно…
— Верно, смекалкой страх преодолевается, — отозвался Чеботарев.
14. Снова во вражьем тылу
Наступление зимы на нашем холодном фронте не предвещало больших изменений ни в одном из участков и направлений. Соединения всех родов войск занимали прочную незыблемую оборону. Корабли Северного флота, авиация, пехота, артиллерия окончательно, наглухо закрыли немецким и финским войскам вход в глубь нашей страны с севера. В эту зиму отличились своей храбростью и дерзостью подразделения подполковника Беленького и капитана Юсупова, действовавшие в районе Кестенги.
Разведывательная рота капитана Чеботарева тоже нередко выходила в тыл противника.
Однажды Чеботарева и меня вызвали в штаб. Там в просторной землянке сидели командир дивизии, командир полка и двое представителей из штаба армии. Командир полка заговорил первым:
— Так вот, товарищи, — принято решение и разработан приказ — выйти вам со всей ротой в глубокую разведку, разведать позиции противника от переднего края левого фланга и вглубь до последней точки его эшелонирования; устроить засаду, захватить пленных и, умело маневрируя, обходом возвратиться, минуя наш фланг, прямо в тыл к этой точке. — Он показал эту точку на карте. — Вашей роте даются сутки для отдыха. Выделяю вам двух радистов с надлежащей походной аппаратурой. Через них в нужный момент можете вызвать артиллерийский минометный огонь и регулярно поддерживать связь с нами…
— Обдумайте хорошенько операцию, — вмешался командир дивизии, — местность изучите по карте, но карте не доверяйтесь: разведайте каждую мелочь. Только осторожная и всесторонняя разведка обеспечит успех. Действуйте, товарищи, осмотрительно, но без колебаний…
— Есть, товарищ полковник, постараемся сделать все. что от нас зависит, — заверил Чеботарев.
— Будем на вас надеяться, — сказал командир дивизии, — призовите себе на помощь инициативу, находчивость, изобретательность… — Он встал с места, дав понять, что на этом разговор окончен.
Собрав командиров взводов, Чеботарев сообщил им задачу и приказал готовиться в четырехдневный лыжный поход.
…Выступили с вечера. Земля промерзла, мороз был градусов двадцать пять, снег неглубокий. Итти было легко.
Необходимо было совершить глубокий маневренный обход, чтобы противник не обнаружил наш лыжный след. А как действовать дальше, покажет обстановка.
Вышли в зону противника. Такой же лес, пересекаемый промерзшими болотами и скалистыми сопками. Перед утром мороз стал крепче, но нагруженные боеприпасами, оружием и четырехдневным пайком, люди не чувствовали холода, им было даже жарко. Шли осторожно, аккуратно, гуськом, оставляя за собой одну лыжню. Из всей роты только десять человек при переходе пользовались лыжными палками, остальные шли по-их следу, по охотничьи, не подпираясь, держа палки при себе на случай резкого броска, если будет к тому необходимость. А след на снегу от десяти пар палок если б и был обнаружен, не дал бы точного представления о численности нашего отряда.
Днем, когда рота была на привале, трое разведчиков, возглавляемых ефрейтором Михашвили, донесли, что впереди, в двух километрах, находятся два немецких гарнизона, они расположены на расстоянии километра друг от друга и объединяются тропой. Судя по количеству землянок и дзотов, в этих гарнизонах не менее роты немцев.
— За точность сведений ручаетесь? — спросил Чеботарев. — В проверке не нуждаются ваши данные?
— Не нуждаются, товарищ капитан, — ответил Михашвили обиженным тоном, — вы разве не знаете меня?.. Разве затем мы четыре часа на брюхе по снегу ползли?
— А ваше появление вблизи гарнизона не было замечено? — спросил Чеботарев.
— Не должно быть.
— Ну, хорошо, не будем засиживаться здесь и ждать, пока немцы обнаружат наш след и по нему придут к нам сюда в гости. Надо действовать…
Чеботарев посовещался со мной. Через несколько минут было решено действовать так: против двух немецких гарнизонов выделить два отделения с двумя ручными пулеметами каждое; обстрелять гарнизоны в разное время, минут через тридцать одно после другого, и быстро отступить, заманить немцев сюда, а здесь устроить для них хорошо замаскированную засаду.
После пулеметного обстрела, резко прозвучавшего в лесной глуши, немцы зашевелились не сразу. Решив, что их обстрелял небольшой отряд разведчиков, они осмотрительно, ощупью двинулись цепью преследовать пулеметчиков по их следу. След от обоих гарнизонов вел к нашей замаскированной засаде. Она была построена треугольником, углом вперед, фланги засады уступами спускались к открытой низине и обеспечивали охрану всей роты. Капитан Чеботарев заблаговременно предупредил бойцов не стрелять по немцам, пока те не подойдут к засаде метров на двадцать — тридцать, а тогда уже пустить в ход все огневые средства. Поскольку в такой обстановке подавать команду сигналами — свистками и рожками — не безопасно, он избрал ориентиром ложбинку, поросшую кустарником, и сказал:
— Тут мы нм дадим баню. Стрелять без всякой команды, но лишь тогда, когда они начнут спускаться вот сюда, в ложбинку…
Мы напряженно ждали немцев.
И вот они показались.
Серого, мышиного цвета шаровары, спускавшиеся на ботинки, короткие куртки с капюшонами. Откормленные морды, закоптевшие и заспанные в низких землянках и досчатых клоповниках. Они двигались во весь рост прямо на засаду, и число их из-за деревьев мы не могли точно определить.
Отсутствие у них маскировочных халатов и лыж удивило наших бойцов, притаившихся в засаде.
— В таком виде далеко не убредут, — шепнул мне Ефимыч, лежавший в снегу рядом со мной.
Одновременный, сосредоточенный залп из пулеметов, автоматов и винтовок скосил ряды наступавших штурмовиков. Многие упали замертво. Другие, раненые, корчились на снегу, оглашая лес дикими воплями. Шедшие позади залегли, стали вести перестрелку. Но и тем не было спасения от наших снайперов. Тогда немцы попытались перегруппироваться и зайти нам во фланг. Но фланги у нас были надежно прикрыты пулеметчиками.
Бойцы из взвода младшего лейтенанта Егорова, увидев немцев вплотную перед собой, завязали рукопашную схватку. Рядовой Гайдамакин прикладом винтовки оглушил одного фрица и взял его в плен. Михашвили вцепился в глотку другого и еле удержавшись, чтоб не задушить его, тоже отвел и сдал под охрану. Еще двух «языков» взяли бойцы лейтенанта Крохина. Всего немцы оставили вблизи и на месте засады нашей роты около семидесяти человек убитыми, рацию, шесть ручных пулеметов и много другого оружия, часть которого наши бойцы не успели подобрать. Хотя в числе убитых был и немецкий радист-корректировщик, однако, со стороны немецких гарнизонов послышалась минометная стрельба и даже выстрелы шестиствольной «скрипухи».
— Немедленно отходить! — распорядился Чеботарев. Мы пошли не по старому следу, а в глубь леса, дальше, в сторону открытого стыка.
— Передайте, чтоб поменьше было шума. Дело еще не кончено. Не начало дело венчает, а конец…
Мы быстро уходили, уводя четырех пленных и унося с собой захваченные трофеи. Немецкие минометы били наугад, наощупь, по лесу, по болотным низинам. И.все же три мины лопнули над нами, задев за верхушки деревьев. У нас оказалось пять человек убитых, шесть раненых.
Раненых быстро перевязали. Тех, кто не в силах был итти, завернули в палатки, положили на лодочки-волокуши, потащили за собой.
Еще одна тяжелая мина грохнулась в сосновых вершинах, почти над головой Чеботарева. Мы видели, как взрывная волна подбросила и перевернула его в воздухе. Шинель на нем лопнула по швам; полы раскинуло; из стеганых брюк показались клочья ваты. Он упал на спину. Тонкие струйки крови из ушей его стекали по щекам.
Мой связной Ефимыч, упав перед ним на колени, поглядел в лицо Чеботарева и закричал:
— Фельдшера сюда!.. Ротного командира убило!
Вмиг Чеботарева окружили: фельдшер с расстегнутой сумкой, политрук и несколько бойцов. Осмотрели, проверили пульс. Ранения не оказалось — была контузия.
Вечерело. Густые потемки спустились над лесом. Мороз все крепчал. Мы шли быстро следом за высланным вперед дозором. Уже издалека доносилась минометная стрельба и пулеметная дробь противника.
Чеботарев стал приходить в себя. Он что-то бормотал невнятное, очевидно намеревался спросить — «Что со мной?» И этого не мог сделать.
Еле открыв глаза, он издал глуховатый стон.
Ефимыч обернулся, склонившись, поправил на нем плащ-палатку, прикрыл, чтоб не обморозилось лицо, и ласково, как ребенку, сказал:
— Не простудить бы вас, сердешный, оживайте в добрый час, оживайте…
Вдруг Чеботарев внятно позвал:
— Дуболь!.. Азаров!..
И опять Ефимыч на ходу склонился над Чеботаревым:
— Милый ты мой, их нет, вот ведь кого зовет; очухайся родной…
Рота все дальше и дальше углублялась в лес.
Наконец, проверив но часам и по намеченному азимуту, далеко ли мы продвинулись, политрук, заменивший Чеботарева, приказал круто повернуть в свой тыл к намеченной точке.
Чеботарев окончательно пришел в себя только в медсанбате. Над ним в белом халате, склонившись, стояла Рахиль Соломоновна. Она грустно улыбалась и говорила:
— Все в порядке, товарищ Чеботарев, над вами не мало потрудились, чтобы привести в чувство. Вас немножечко контузило и немножечко обморозило. Недельки две-три погостите здесь, и вот тогда все в порядке будет; все в порядке…
15. Ефимыч о себе и Головатом
В полевом госпитале Чеботарев пролежал с месяц. Я и Ефимыч часто навещали его. Приходили и другие, но мне кажется никто из них не приносил ему такой душевной радости, как мой связной, этот бывалый и толковый солдат. Ефимыч, одевшись в больничный халат, иногда часами просиживал около Чеботарева, словоохотливо выкладывая ему все новости, вычитанные из газет, пойманные на лету из разговоров в полку с писарем, с поваром и с другими, как он, связными.
— Товарищ капитан, а про нашу-то роту в газетах тоже пропечатали. Вот фронтовая «В бой за Родину» пишет: «Лыжный отряд капитана Чеботарева вышел в тыл противника и завязал бой. В ходе боя уничтожено до 70 гитлеровцев, захвачено 4 пленных, одна рация, четыре пулемета и много другого оружия. Наши потери незначительны».
— А вы не читали, товарищ капитан, как мой тезка отличился?
— Какой тезка? — спрашивает Чеботарев.
— Да Ферапонт Головатый, саратовский мужик…
— И не знаю такого, и не читал еще. А что именно?
— Эге, брат, да это настоящий русский человек, многих он всколыхнул. Сам товарищ Сталин ему в письме благодарность за это выразил. А случилось как. Идет в деревне собранье, жертвуют колхозники на оборону страны, кто пятьсот, кто тысячу рублей. А Ферапонт Головатый сидит, хмурится и молча соображает. Ему соседи и говорят: «Ты чего, Ферапонт, задумался, не скупись, на такое деле ужели у тебя тысчонка рублей не найдется…» А он обдумал свое дело, подошел к столу, взял подписной лист и подмахнул разом сто тысяч. — Вот, говорит, как надо жертвовать! Вспомните, говорит, Минина и Пожарского, как они делали? Мы тоже ничего не пожалеем. Родина, жизнь советских людей дороже всяких денег. А разве мало, говорит, таких людей, которые за Родину свои жизни пожертвовали и жертвуют? Скажите, кто из вас какую цену назначил бы за свою жизнь. Да нет таких денег, нет! Так чего ж, говорит, вы такие-сякие, крохи даете?.. Подписал и сел на свое место. Глянули соседи в подписной лист, да так и ахнули. Сто тысяч и подпись — Ферапонт Головатый… Тут на собрании все устыдились и стали крупно прибавлять. И вот уже пошло по всей стране. Государству в карман не один миллиард положат, а понадобится — прибавят…
Вот что значит русская душа нараспашку. А ведь копил неспеша, может скупостью себя обкрадывал, а подошел момент: пожалуйте все до копеечки на оборону!..
Ефимыч рассказывал о Головатом с таким удовлетворением, как будто такой поступок он совершил сам, и радуется тому отклику, который на призыв Головатого разливается широкой волной по всей стране.
— Скажи, Ефимыч, а ты бы мог так поступить, как Головатый?
Ефимыч задумался немного, поглядел на раненых бойцов, лежащих по соседству с Чеботаревым, и неторопливо ответил:
— Раньше бы мне так не решиться. А теперь, как сказать — решился бы. Не пожалел… Раньше-то я был малосведущим человеком. Негде да и некогда было образовываться нашему брату. При советской власти зажил я пс-другому и прочитал за эти годы столько книг, что в один шкаф не укласть. Ведь мы и хозяева-то…
Однажды, придя в госпиталь к Чеботареву, Ефимыч вежливо справился о состоянии здоровья капитана, а затем спросил:
— Когда выпишетесь? Вся рота ждет.
— Не знаю, Ефимыч, от контузии, по-моему, и следа не осталось, обмораживание все еще чувствуется, не залечено.
— Ох, уж эта Хацкелевич, не люблю, когда слово с делом расходится. Сказала две-три недельки, а вы все полтора месяца пролежали, пора бы уж…
— Не ворчи, Ефимыч, в медицине не всегда точность соблюдается; бывает, что и слово с делом расходится. Арифметика и та отклонения от правил имеет: например, из двух полуумных никогда не получается одного умного, — пошутил Чеботарев, — а в медицине бывает, что и обманом лечат; человеку больному, успокаивая, говорят сегодня — поправишься, а завтра, глядишь, он не перенес операции. Ну, мое-то дело надежно. Память в исправности, а это главное, руки зажили. Слегка, вот, ноги еще дают себя чувствовать… Ходить нормально не могу. Ефимыч, будь добр, пока я валяюсь тут, возьми мою шинель, она уже старая, непригодна, снеси в АХЧ; там, говорят, привезли новые. После выздоровления хочу пофорсить.
— Форсите на здоровье, а шинель новая уже ждет вас, висит в землянке. Не хотел до поры хвастать. Еще я отхватил вам посылочку, хорошую, на новый год: две комизырянские артистки Ростиславины Нина и Соня прислали. Ихние фотокарточки и письмо в посылочке были, я отдал Аркашке Михашвили, пусть переписывается, а вам женатому не к лицу затевать с девушками переписку. А вот остальное в посылке: печенье, пол-литра спирту, бритва, полдюжины носовых платков и прочее на месте, до вас храню. Мне тоже из подарков присчиталось: кольцо колбасы, табаку легкого полкило, полотенечко с вышивкой: «в белы рученьки возьми, нежно личико утри», да на носовушке вышито тоже: «За родину! Милый, будь героем». Так я эти подарки думаю беречь на память: ни утираться, ни сморкаться в них не стану. Надписи-то прочитал вышитые, чуть не всплакнул…
Пока Чеботарев выздоравливал, на фронтах произошло не мало событий. Наши войска на Северном Кавказе, в районе среднего Дона и на других участках перешли в наступление, освободили Краснодар, Ростов, закончили ликвидацию немецкой группировки под Сталинградом. Настроение среди бойцов поднималось; все с жадностью следили за сообщениями Информбюро, отмечали на картах пути продвижения Красной Армии.
16. Девушка с подарками из Сибири
С попутной колонной грузовых автомашин, по ровному шоссе Кемь — Ухта, я ехал на другое направление фронта. В пути на сто первом километре поздней ночью колонна остановилась. Шоферы и ехавшие на фронт за Ухту военнослужащие приютились в обширной землянке, в лесу, вблизи шоссе. На двух кирпичных печках, покрытых железными плитами, бойцы-лыжники жарили на сковородках свежее мясо только что убитого ими лося. Лось был пудов на пятнадцать. Больше половины лосиной туши бойцы зарыли в снегу до следующего выхода на контрольную лыжню между стыками двух направлений фронта.
Лыжники угостили и нас. Полный котелок мяса, прожаренного на коровьем масле, они подали Ефимычу для него и для меня.
— Не хватит, берите еще, — сказал боец, — у нас этого скота много по лесу гуляет…
Закусив лосятиной, я разулся и сел у печки, присматриваясь к окружающим. В землянке расположилось человек тридцать. Одни из них уже храпели на нарах, другие, обжигаясь, пили чай и закусывали, третьи, протирали винтовки, кто-то настраивал гитару.
Но вот неожиданно у столба, где, мигая, светила самодельная коптилка, появилась девушка. Она размотала теплую шаль, вытерла платочком покрытые изморозью брови и ресницы. На вид ей было лет шестнадцать-семнадцать. Девушка расстегнула пальто; на вязаной кофточке оказался комсомольский значок. Она поправила русые косички и удивленными чистыми глазами обвела утонувших в табачном дыму и полумраке солдат. Ее заметили. Разговоры быстро стихли. Не иначе, увидев ее, многие подумали, что там, где-то далеко у них на родине, такие же светлоглазые, — у кого дочь, у кого сестренка, — бегают в семилетку, в свободное время стоят в очередях за продуктами или организованно всей ребятней собирают железный лом в утиль на оборону…
— Сколько вам лет? — не выдержал кто-то.
— Мне? Мне уже семнадцатый…
И опять молчание. И сдержанные догадки:
— Такая молоденькая, и воевать…
— Страдать, бедненькая, едет, — поправил чей-то простуженный бас из темного угла землянки.
— Какими судьбами ты, голубушка, попала к нам и отколь?..
— Из далекой Сибири, из Кемеровской области, я везу к вам в дивизию подарки…
— И много привезла? — спросил кто-то из темноты.
— Со мной сюда направили двенадцать грузовых машин, да это еще не все.
— Как доехали сюда, все благополучно?
— Благополучно. Плохо что ночь-то светлая. Один самолет пролетел два раза над нами, пострелял. Шофера пулей задело да двух красноармейцев из охраны…
— Перепугалась?
— Нет. Немножко только…
Девушку звали Клавой. Она была ученица девятого класса. В землянке оказалось не мало сибиряков, они обступили ее, интересовались, как живет, как работает наш родной, далекий тыл, и она долго рассказывала нам о сибирских колхозах, совхозах, собравших богатые урожаи, о заводах и кемеровских шахтах, перевыполняющих производственные программы.
Перед рассветом, забравшись в кузов грузовика и закрывшись от ветра плащпалаткой, мы поехали дальше к Ухте. Оставалось всего три-четыре часа езды. Клава ехала с нами. Она часто выглядывала из-под плащпалатки; ее привлекал зимний пейзаж восточной Карелии. Многие места на Ухтинском тракте напоминали ей сибирские сопки, тайгу.
— Закройся, не простудись, — предупреждал я Клаву, — любоваться тут не на что. Всякий пейзаж хорош, особенно, если он не стреляет. А то был случай на Кестенгском направлении: я нашел такое местечко, — картину пиши и только! Озеро, круглое, как чаша. Половина обрамлена сосновым лесом; другая березняком. На немецкой стороне золотой закат. Вдали сопка с наблюдательной вышкой на вершине; вокруг сопки хвойный мелкий, ровный лес. А сопочка такая аккуратненькая, будто шапка Мономаха! А посреди круглого озера, как хребет кита, выпирает из воды продолговатая, скользкая, сверкающая на солнце черная скала с единственной пушистой раскорякой березой, похожей на фонтан, изрыгаемый китом, всплывшим на поверхность. Я недолго тогда любовался на этот примечательный пейзаж. Откуда-то из-за «китова хребта» немцы начали стрелять минами. Тут мне и пейзаж показался не хорош…
Скоро колонна грузовых автомашин подошла к селу Ухта, широко раскинутому на высоком живописном берегу озера Куйто. Новые дома из свежего толстого леса, постройки МТС, лесопильного завода, районные учреждения, школы, больницы, военный городок, — сплошь были продырявлены, разрушены артиллерийским обстрелом.
Батареи дальнобойных пушек противника расположились на лесистом мысу озера и обстреливали село, как только замечали в нем движение.
— Не здесь ли, не в этой ли Ухте учитель Ленрот записывал сто лет тому назад руны Калевалы? — спросила меня Клава.
— Вот именно здесь! — вспомнил я.
А Ефимыч добавил:
— Сказывают люди, что сосна, под которой Ленрот записывал Калевалу, до сих пор где-то сохранилась на берегу озера Куйто.
— Навряд ли, — вмешался в наш разговор шофер, возившийся около машины, — я слышал, что ту сосну снарядом снесло.
— А ты уже и Калевалу успела прочитать? — спросил я Клаву.
— Как же, я люблю народное творчество, вообще люблю стихи.
И завязался у нас разговор о поэзии, о том, почему на фронте любят лирику. Мы беседовали всю дорогу.
По приезде Клава сдала в хозчасть привезенные подарки и в тот же день уехала обратно.
Где ты теперь, Клава? Что делаешь? Вспоминаешь ли Карелию, землянку на сто первом километре и бойцов, которым в тяжелую годину привезла подарки из Сибири.
17. В отдельном батальоне
На Ухтинском направлении я попал в отдельный батальон.
Командиром уже не первый год здесь был капитан Краснов, бывший райвоенком, неизвестно почему облюбовавший себе форму летчика. Человек он был по внешности мрачный, не разговорчивый.
Командование дивизии, занимавшей оборону на Ухтинском направлении, поставило перед нами задачу: разведать силы противника, всегда знать его намерения и для этого почаще и побольше иметь пленных «языков».
До наступления весны Краснов неоднократно направлял разведывательные группы в тыл противника и несколько раз выходил с ними сам. Ходили до села Войницы, что в шестидесяти километрах от линии фронта; ходили за хутор Корпи-Ярви и за Ало-озеро. Однажды так увлеклись, что ушли почти за сто километров в тыл к финнам и привели коменданта гарнизона. От него узнали дислокацию войск противника на этом направлении, кто командует финской бригадой, что он собою представляет, какую имеет военную выучку и что за характер у этого вояки. Установили, какие части стоят на Малеванинской и Регозерской дорогах, и узнали точное расписание, когда прибывают в эти гарнизоны обозы с продовольствием и боеприпасами, чем не замедлили воспользоваться, — разработали план выступления, засады и нападения на обоз противника.
В морозное утро, по крепкому насту, отряд числом свыше сотни бойцов с Красновым во главе вышел в поход. Днем снег стал слабее, рыхлее; лыжи проваливались. Продвижение становилось затруднительным.
— Придется на денек притаиться в лесу, а ночью, как только пристынет, снова в путь, — решил комбат и расположил отряд на удобном оборонительном рубеже, предусмотрев при этом, чтобы противник не смог напасть врасплох.
За едой я приметил в полумраке под деревьями, что один из бойцов очень внимательно присматривается ко мне и видно хочет заговорить. Наконец, боец осмелился, подошел и, козырнув, обратился:
— Товарищ командир, дозвольте узнать, а вы осенью в сорок первом за Оштой около Свири не были?
— Был.
— То-то я вас признал еще третьего дня и передумывал, где же вас встречал? Моя фамилия Мухин, не помните ли, в сторожевом охранении вы меня учили, как надо врага высматривать.
— Это когда мы с отрядом Логинова шли с задачи?
— Вот, вот.
— Очень приятно. Можно сказать в нашем батальоне первого старого знакомого встречаю.
Посадив его рядом с собой на плащпалатку, я стал выспрашивать:
— Ну, как привыкаете, товарищ Мухин?
— Что вы, товарищ капитан, давно я уже перестал привыкать. Думаю, что привык в полной мере, как солдату полагается. Считайте: года полтора, как не виделись, за этакое время да не привыкнуть!
— Давно ли здесь в батальоне, товарищ Мухин?
— Давненько. Осень и зиму сорок первого прослужил там за Онежским озером. Потом имел ранение, вот сюда, чуть пониже ключицы. К погоде и сейчас боль сказывается. Потом меня наградили «Красной Звездой» и отпуск в августе сорок второго дали. Так что и в деревне побывал. Мне кажется мы с вами земляки, товарищ капитан. Я тотемский, а вы тоже из-под Вологды откуда-то. Ну, вот погостил я в деревне до уборки урожая. Потом попал на пересыльный пункт, и вот уже с полгода здесь. Нет ли, товарищ капитан, легонького табачку на цыгарочку?.. Вот спасибо.
— Расскажите, как в деревне жизнь идет? Помню, вы тогда что-то жаловались.
— И как было не жаловаться, товарищ капитан, тогда одно было, сейчас — другое. Война учит и там и тут. В первые-то дни, чего греха таить, и я боялся до винтовки прикоснуться. И отдача казалась сильной, думал, что прикладом скулы выворотит, и затвор, думал, выскочит да прямо в лоб. А теперь я смеюсь над тем— собой! Теперь я автоматом овладел и гранату любую могу швырнуть, и робость как рукой сняло…
— Бытие и сознание! — многозначительно, лаконично, вставил сидевший в стороне Ефимыч и по-свойски подмигнул мне, — со всяким так бывает.
— А про деревню, что можно сказать? — продолжал Мухин, густо пуская табачный дым. — Скажу, что места у нас хлебные, скот неособенный и не поймешь то ли из-за молока, то ли из-за навоза его содержат, потому как земля наша за Тотьмой без навозу ни черта не родит. И что я приметил в деревне? А приметил то, что бабы наши и без нас, хоть и туго и тяжело, а хорошо справляются. Скажу к примеру так: до войны, когда и все мужики были у нас в деревне, мы засевали при старом председателе пятьсот га и считали — хорошо. А теперь председателем там моя жена (до войны жаловалась на здоровье, дескать почки-селезенки на одной ниточке держатся), работают в колхозе старики, бабы, ребятишки и засевают уже шестьсот га. За один год подняли сто гектаров нови! Вот и поди! Работают нещадно, товарищ капитан, чуют ответственность, долг перед всем народом. Скажу по совести: мне тут легче приходится, а то, что рискуем мы здесь, так ведь говорят— «риск благородное дело». Дома-то бывало в колхозе, до войны, все на своих плечах проворачивал: и пахал, и сеял, и убирал, и в своем хозяйстве, то дровишки, то воды наносишь, то коровенку обрядишь, — уважая нездоровье жены, а теперь не на кого ей облокотиться. И здоровье откуда-то взялось. На почки-селезенки жалоб нет, а вот в одну точку бьет: как бы успеть, да не проспать, не забыть. Ребятишки-то быстро взрослеют: большаку моему всего тринадцать годков — четырнадцатый с масляницы, а его уже по имени-отчеству величают — мужчина! Меньшому десяти нет, а тоже кое в чем помогает. Разговорился со мной о войне, выспрашивает — сколько тятька немцев убил, то да се, да каких я главных генералов видал. И скажу по совести: почти ребенок он, а меня за пояс заткнул; всех командующих фронтов наперечет знает по фамилии и по званию. Все они у него из газет выстрижены и под образа наклеены. Зажмет это ручонкой подпись под генералом и спрашивает; — «Тятька, это кто?» Я и говорю наугад: «Ватутин». — А сынишка смеется надо мной, говорит: — «Эх, вояка, генерала армии Мерецкова не знаешь — из Тихвина немцев вышиб…» — Война учит, товарищ капитан, всех от мала до велика.
Мухин замолк и потянулся ко мне за второй цыгаркой.
— Уж накуриться, так накуриться, чтобы дома не тужили…
— Да, это верно, — заметил Ефимыч, — война всему учит, к делу приспособляет. В нашем доме, в девятнадцатом году, когда я жил в Петрограде, проживал один профессор по цифровой части, математик. В гражданскую войну он был не особенно стар и вот от нужды стал шить сапоги и туфли. И так хорошо приспособился к делу, что ремонт обуви считал ниже своего профессорского достоинства, а все принимал у себя на квартире работу только по пошивке новой обуви. Когда я пришел с войны, так упросил его мне перетяжку ботинок сделать за фунт сахару. А теперь этот мой знакомый, ученый, не кинулся за сапожное дело, а затеял писать для артиллеристов какой-то большой труд с расчетами, как способнее из пушек бить немцев. На этом деле он орден получил. Недавно в газете его портрет был…
После длительного дневного привала в заснеженном лесу, под ветвями деревьев, куда почти не проникает солнце, наш отряд, как только подмерзло, двинулся дальше обходом на дорогу, ведущую из вражеского тыла в их гарнизон.
И вот, наконец, мы добрались до цели и устроили засаду.
Обоз из шестидесяти подвод, груженных продовольствием, обмундированием и боеприпасами: патронами и минами, — медленно тянулся по скрипучему снегу. С обозом, кроме ездовых, было человек тридцать охраны, состоящей, из довольно пожилых солдат, и с ними гладко выбритый, лютеранский пастор, в енотовой шубе, одетой поверх шинели.
На передней подводе, на мешках сидел финский солдат с винтовкой на коленях и дремал. Дремали и многие другие солдаты, видимо, уверенные, что вдали от гарнизона, прикрывающего стык обороны, ничего с ними не случится.
Неожиданный всплеск винтовочных выстрелов и автоматных очередей из засады произвел полный переполох. Лошади ржали, поднимаясь на дыбы, кидаясь в сторону и падая на дорогу на возы, на убитых возчиков. От беспорядочно сгрудившегося обоза отделилось человек десять финских солдат. Вместе с пастором, поспешно сбросившим с себя шубу, они кинулись в противоположную от нас сторону леса.
Приказав командиру роты с двумя взводами красноармейцев преследовать и перехватить бежавших, Краснов с остальными бойцами поспешил на дорогу, к обозу.
— Раненых не бить, стаскать всех в сторону, — распорядился он, — возы сгрудить в кучу! Сколько добра! И невозможно захватить, куда по бездорожью потащишь, на чем. Себе дороже, — сожалел он, обходя возы с кладью и вспарывая для просмотра штыком мешки и кули с продуктами.
Радист выстукивал в штаб дивизии шифровку: «Разбили и захватили обоз из шестидесяти подвод, часть охраны перебита, часть — преследуется. Что делать с обозом? Продовольствие, боеприпасы, бензин с собой по бездорожью взять невозможно. Краснов». Из дивизии ответили: «Обоз сожгите на месте, приведите пленных».
Сгруженные в кучу возы с имуществом облили бензином. Зажгли. Пламя мгновенно охватило трофеи.
— Вот она, жертва богу войны! — возбужденно проговорил Краснов, глядя как огонь все шире и шире забирал в свои объятия мешки, ящики и бочки.
— Лошадей жалко, хорошие кони погибли, — проговорил Ефимыч и обратись ко мне сказал: — Товарищ капитан, скажите Краснову, а не отойти ли нам отсюда в сторону, в лесок? Сейчас тут ящики с патронами и минами примутся… Чего доброго взрывами зацепить может.
Едва мы успели удалиться под прикрытие лесной чащи, как действительно в костре затрещали патроны, раздались взрывы железных ящиков, наполненных минами.
Между тем, первый и второй взводы, обойдя с двух сторон бежавшую группу финнов, выгнали ее из леса на снежную поляну. Оставив четырех солдат убитыми, финны бросились по крепкому насту к озеру и хотели обогнуть зиявшую посредине черную с серебристой рябью полынью. Это им не удалось.
Лишь более прыткому финскому пастору удалось вырваться в сторону. Но и ему наперерез, сбросив полушубки, пустились в одних гимнастерках три автоматчика, принявшие пастора за офицера и потому пожелавшие взять его живьем… Пятеро финских солдат были окружены. Оставался только пастор.
— Поймать его! — вскричал старший лейтенант Шамарин — и, огибая полынью, с бойцами пустился на помощь своим товарищам.
Оказавшись со всех сторон окруженным наседавшими, но не стрелявшими красноармейцами, пастор догадался, что его намереваются взять в плен. Он дал несколько выстрелов из маузера, но не задев никого, нерешительно покрутил револьвер около своей головы, обронил его и еще с большей прытью бросился к полынье.
Пастор добежал до полыньи и засуетился на ее краю, И когда один из бойцов подбежал к нему почти вплотную, он, зажмуря глаза, прыгнул в воду. Брызги разлетелись во все стороны.
— Отставить! — приказал Шамарин, боясь, как бы кто-нибудь из бойцов не бросился следом за пастором. Впрочем желающих искупаться не было.
Черная, как смоль, озерная вода расступилась и приняла грузное тело. Увы! Темноводная, озерная «пучина» в этом месте оказалась настолько мелкой, что пастор, открыв глаза, увидел себя стоящим в воде всего-навсего по колени. То ли вода показалась ему слишком холодной, то ли неудача самоубийства отрезвила его, как бы то ни было, воздев обе руки к небу, пастор выругался на чистом русском языке и произнес дрожащим голосом:
— Сдаюсь! Видно богом смерть не уготована…
Затем он, как тюлень, на брюхе выполз на лед. отряхнулся и бегом покорно помчался посреди красноармейцев в сторону дороги, где клубился дым горевшего обоза и слышались последние взрывы уничтожаемых боеприпасов…
Довольные операцией, мы, не чувствуя усталости, прошли на обратном пути лишних десятка полтора километров, лишь бы благополучно завершить свой поход и не нарваться на противника.
Прошли беспрепятственно. Но перед самым выходом в свои тылы случилась беда: в поздние сумерки исчез конвоируемый финский пастор. Пользуясь потемками, густой лесистой местностью и тем, что внимание к нему было уже ослаблено, пленник сбежал.
Искать его было бесполезно. Стрельбой из пулеметов и автоматов «прочесывать» лес — тем более.
Краснов отозвал в сторону командира роты Шамарина и начал его «разносить».
— Какому ротозею ты поручил охрану и конвоирование «языка»? Куда ты сам глядел? На что это похоже? Такое ротозейство всю нашу операцию насмарку сведет, а нас насмех поднимут!..
Шамарин растерянно разводил руками.
— Товарищ комбат, разрешите доложить: я сам никак не ожидал такого недоразумения. Я дал «языка» под ответственность красноармейца Загитдулина Ибрагима; лучший, дисциплинированный, смелый и самый находчивый боец в моей роте!.. У меня в роте три татарина: Загитдулин, Мухаметов, Галиев, — все они один к одному — прекрасные ребята! Так посмотреть — народ не крупный, а дерутся смекалисто, превосходно. Ничего плохого об Ибрагиме сказать не могу. Одного не пойму: зачем в древние времена татары против нас воевали? Еще в ту пору совместно с ними нам бы немцев прикончить, и от этого большая бы экономия в людях была…
— Ты мне турусы на колесах не разводи, — оборвал Краснов Шамарина, — я тебе урок истории сам могу преподать. Вот придем на место, разберемся. Кого-то следует взгреть за это. Я ответственности тоже с себя не снимаю. Да если бы я знал, что он задаст стрекача, я бы его приказал, сукина сына, связать. А теперь вот его ищи-свищи!..
Краснов то ругался, то раздражение его ослабевало и ему становилось смешно:
— Эх, ребята, ребята, головы бедовые! Кому вы позволили себя надуть? Потом хоть дома жонкам не рассказывайте про этот «геройский» случай.
— Ничего, товарищ комбат, в следующий раз пойдем, самого ихнего архиерея сымем…
— Лет восьмидесяти, авось такой не удерет, — уныло отшучивался Краснов.
18. Будничные дела в обороне
Командир дивизии — рослый полковник — и приехавший из штаба генерал — солидный, дородный, — на бойкой и стройной лошадке, впряженной в легкие санки, разъезжали по частям и подразделениям дивизии; интересовались состоянием обороны, устройством заграждений, противотанковых препятствий, минированием проходов и стыков, и всем тем, чем может интересоваться большое начальство. Попутно они заглянули и в нашу землянку. Заглянули и восхитились образцовым порядком в ней. Теплая, светлая и уютная землянка содержалась в чистоте, как горница невесты. Пол был гладкий, ровный, строганый, стены и потолок отделаны переплетенной в ромб сосновой дранкой. Портреты — Ленина, Сталина, Героев Отечественной войны Панфилова, Гастелло, Зои Косьмодемьянской глядели со стен. Самодельная кровать с постелью и подушкой под чистой, безукоризненно простиранной простыней, три самодельных стула около треугольного стола; на полочке два — три десятка книг; в небольшом шкафике — запас консервов и разная незатейливая посуда на случай прихода нетребовательных, но безотказных до угощения гостей, — все было расставлено, как на смотру, У самых дверей помещалась раздевалка и чугунная печка; рядом с раздевалкой было аккуратное жилье Ефимыча.
Генерал все похвалил и сказал полковнику:
— Посылайте всех командиров на экскурсию сюда, пусть учатся, как можно и как надо жить в обороне.
— Это верно, — согласился командир дивизии.
— Все дело в связном, товарищ генерал, — сказал я. — У меня связной Ефимыч — золото-человек!.. Он за порядком следит.
— А он где помещается?
— Рядом из раздевалки дверь к нему.
— А ну-ка, посмотрим у него как?
Ефимыч, слышавший этот разговор, слегка дрогнул, быстро одернул на себе гимнастерку. Дверь распахнулась, и генерал с полковником вошли.
— Связной рядовой Родинов! — бойко отчеканил Ефимыч.
— Здравствуйте!
— Здравия желаю!
— Чем занимаетесь?
— Осиливаю четвертую главу истории партии, товарищ генерал.
— Похвально! Партийный?
— Никак нет, готовлюсь вступить.
— Хорошо. Правильно. А и здесь тоже неплохой порядок! Молодец, товарищ Родинов, молодец!..
— Рад стараться, товарищ генерал.
— В старой армии служили?
— Полтора года до революции в лейб-гвардии Измайловском полку!
— А это что у вас такое?
— Это у меня приспособление, заместо часов, товарищ генерал…
На специальной полочке помещалась цинковая коробка из под патронов, в нижней ее части стеклянная банка с водой и цифровыми делениями; в верхней — в круглое отверстие была вставлена опрокинутая кверху дном бутылка. Через горлышко бутылки, сквозь какое-то препятствие, по каплям просачивалась вода, медленно, равномерно капая в стеклянную банку.
— Досюда докапает — час, досюда — два, до этой черточки — четыре и так далее, — пояснил Ефимыч, — очень правильные, проверены по настоящим. Из боевого охранения ребята прибегают у меня спрашивать сколько времени и по моим часам посты меняют. И никогда никаких нареканий не бывало…
— Настоящих у вас нет часов? — спросил генерал, с любопытством рассматривая изобретение Ефимыча.
— Никак нет. А капитан часто уходит, свои уносит, ну, мне без часов-то вроде скучно…
— Товарищ капитан, — обратился генерал ко мне, — как несет повседневную службу ваш связной?
— Отличный связной, лучшего я себе не желаю.
Тогда генерал достал из кармана брюк небольшие никелевые часики с надписью на крышке: «Боевому русскому народу от трудящихся США» и, подавая их Ефимычу, произнес:
— Дарю от имени Военного Совета Армии за хорошую службу.
— Спасибо! — растерянно и смутясь от неожиданности, проговорил Ефимыч, принимая подарок.
— А по уставу как? — улыбнулся генерал.
Ефимыч мгновенно одернул гимнастерку, щелкнул каблуками и, вытянувшись, четко произнес.
— Служу Советскому Союзу!..
— Вот так, правильно, — одобрил генерал. И весело добавил — А теперь сходите за комбатом, позовите его сюда.
Застегиваясь на ходу и оправляя на себе снаряжение, Краснов быстро прибежал в нашу землянку и отрапортовал генералу.
Потом, развернув карту, он стал докладывать генералу и командиру дивизии о действиях боевых групп, о результатах: своих наблюдений, показывая по карте те места, где приходилось бывать в тылах противника и оставить о себе финнам неприятные воспоминания. Генерал внимательно слушал, делал заметки в своей записной книжке и одобрительно кивал головой.
— Хорошо, товарищ Краснов, чувствуется, что вы и ваш батальон не прохлаждаетесь сложа руки.
— В последний раз вот только подкачали, — такого «языка» выпустили из рук, — напомнил командир дивизии.
— Да, тут непростительно прошляпили, — произнес комбат.
— Впредь будут бдительнее, — заметил генерал, уже слышавший о побеге пленника, — а в остальном ваш батальон службу несет удовлетворительно. Главное — смелость, дерзость у личного состава есть.
— Да, этого нельзя отрицать, — согласился командир дивизии, — благодаря разведке, мы знаем противника, его повадки и намерения и оборону здесь вполне обеспечим имеющимися силами и средствами.
— Финны и немцы на здешнем участке тоже перестали разбрасываться снарядами, — сообщил Краснов, — Ухта теперь обстреливаться не будет; их батареи отведены на Карельский перешеек. Так что теперь тыловые подразделения дивизии вполне могут выбрасываться из леса и занимать уцелевшие в селе строения. И еще, товарищ генерал, я внес бы такое предложение: мы находимся в обороне, от Кировской магистрали в двухстах километрах. Здесь противник не пытается наступать. А вокруг Ухты, по рассказам, до войны были замечательные посевы и огороды; не плохо было бы, если б нынешней весной наши тыловые подразделения и резервы занялись на этой земле сельским хозяйством. Вы представьте себе: поля картофеля и капусты для личного состава дивизии; поля, засеянные овсом для конского поголовья наших обозов! Ведь это тоже удар по фашизму! У нас в соединении есть и агрономы и бригадиры колхозов, и директора совхозов, их нужно только найти. И тракторы есть, и плуги найдутся, и семена. Дело может быть поставлено на верный ход, если попадет в надежные руки, а рук таких у нас, товарищ генерал, хоть отбавляй, и людей свободных от всякого дела в условиях обороны — тоже…
— Идея неплохая, — промолвил задумчиво генерал, постукивая пальцами по алюминиевому портсигару, — идея неплохая, попробуем поставить вопрос на Военном Совете. И чем скорей, тем лучше. Весна не за горами. Как вы смотрите на сей предмет? — обратился он к командиру.
Комдив, молча слушавший Краснова, мысленно соглашался с ним и сожалел, почему он сам раньше об этом не догадался. Он пожал плечами и, сделав вид, что для него этот вопрос не представляет ничего нового, не без запальчивости сказал, показывая на свою довольно широкую шею:
— Вот оно, где такое дело окажется! Я задумывался уже не раз об том. Что ж, если нам сверху разрешат да семена овощей и яровых отпустят, пожалуй, управимся. Смешного в этом, я думаю, ничего нет, — вопросительно поглядел он на генерала.
— Отнюдь нет! — живо возразил тот. — Скажу больше: замечательно это будет! Достойно похвалы и поощрения. У нас есть специально выделенные люди на Мурманском и Кандалакшском направлениях; в Белом и Баренцовом морях ловят треску, пикшу, семгу и сельдь. Результаты их трудов видны, даже здесь на пищеблоках. За хорошие показатели, за тысячепудовые уловы рыбы там передовых товарищей представили к награде. Так что ваше предложение, товарищ Краснов, вполне своевременно, уместно и рационально…
В это время дверь в землянку распахнулась, вошел командир роты Шамарин. На минуту он остолбенел, увидев у меня в землянке генерала и комдива, но быстро сообразил, вытянулся, козырнул:
— Товарищ генерал, разрешите обратиться к капитану.
— А вы кто будете?
— Командир первой роты, старший лейтенант Потап Шамарин, — бойко представился он.
— Почему Потап. А не просто Шамарин?
— Прошу извинить, товарищ генерал, так впопыхах вырвалось. По привычке. Когда в Москве в Динамо я был футболистом, так меня все знали и в афишах писали: Потап Шамарин.
— Вот оно что! Ну, хорошо, обращайтесь.
— Товарищ капитан! Есть возможность отличиться. Позвольте сказать…
— Покороче, Потап, — предупредил Краснов.
— Есть, покороче. С того момента, как Ибрагим Загитдулин выпустил «языка», он страшно это дело переживает. Ночи не спит. Как утро, так на дело просится. Вчера залег с напарником и вел наблюдение. Вдруг выходят из финской землянки двое: один в шинели, другой в черных штанах и в белой рубахе. Первый стал второму поливать на руки воду.
В которого из них сначала целиться? Ибрагим решает: ясно в того, кто умывается; наверно офицер, потому что дольше спал, а в шинели это его связной или денщик. Взял на мушку, раз! И нет одного. Другой бросил котелок с водой, кубарем скатился в землянку. Лежит Ибрагим, выжидает. Приходят за трупом убитого им сразу четверо. Он еще одного срезал и утек. Только ушел с напарником, финны стали их минами нащупывать. Выпустили тридцать штук — успокоились. А сегодня он выследил: слева, на фланге за озером у них кладбище, там они могилу роют. Не иначе, говорит, для двух вчерашних, и просит у меня разрешения сходить туда с ручным пулеметом, чтоб чесануть, так чесануть! Как знать, может целая похоронная процессия будет. Опять же и для противника удобно: кого срежем из пулемета, тех ему и на кладбище не тащить, сами пожаловали. Прямая выгода. Разрешите, товарищ капитан, обойти, залечь и чесануть из дегтяревского…
— Что ж, хотите противнику поднять похоронное настроение? Можно, — ответил Краснов. — Возьмите отделение бойцов, пару ручных пулеметов с полным комплектом патронов, оденьтесь в маскировочные халаты и проберитесь как можно осторожней. Результаты доложите. Действуйте с оглядкой, сами не попадитесь на удочку…
— Есть! Разрешите итти…
Ловко повернувшись на каблуках, Шамарин удалился.
— Молодец! — оценил генерал командира роты. — Интересно, что получится из их затеи…
— Будет доложено, товарищ генерал…
…На другой день Краснов в штабе дивизии докладывал генералу и комдиву об удачной операции; благодаря смекалке Загитдулина было уложено — убитыми и ранеными, — не менее тридцати шюцкоровцев.
— На рядового Загитдулина следует заполнить наградной лист, — сказал генерал.
19. Найденыш
По всему Карельскому фронту, от Онежского озера до Заполярья, до Рыбачьего полуострова, что далеко на побережье Баренцова моря, к весне сорок третьего года прочность обороны не вызывала сомнений. Когда мы начнем наступление, было неизвестно. Но пока непосредственной подготовки к нему не велось.
Весной, в районе Ухты на освобожденные от снега поля вышли с лопатами и мотыгами, выехали на лошадях и тракторах с плугами около тысячи бойцов. Составив винтовки в козлы на луговине, раздевшись до нательных рубашек, они, соскучившиеся по труду земледельца, с большой охотой работали на запустевших полях и огородах.
А впереди, в нескольких километрах, почти не переставая била вражеская артиллерия, нащупывая наши расположения и огневые точки.
Краснов также выделил из своего батальона на работу сорок бойцов.
По шоссе к взрыхленным полосам грузовые машины подвозили картофель для посадки и семенной овес.
В одном месте девчата из банно-прачечного отряда разбивали мотыгами грядки для овощей. Кто-то проходя скептически им заметил:
— Не зря ли стараетесь? Не думаете ли еще до осени здесь околачиваться? Не сегодня — завтра двинемся в наступление, и все тут у вас подсобное хозяйство останется.
— Что ж, — отвечали девушки — тем лучше. Мы с вами наступать, люди вернутся сюда, на свои обжитые и временно покинутые места, нас добрым словом вспомянут, спасибо скажут. Вот увидите, сколько тут добра к осени вырастет!..
— Чем глупости говорить, взяли бы лопатку да с нами в ряд, — предложила одна из девушек.
— Куда ему? Он боится галифе запачкать.
— Молодцы — девчата! Так его отбрили! Правильно! Каждая картошина удар по врагу. Вон, говорят, в Ленинграде Марсово поле, Летний сад и все подходящие места взрыли под овощи. А здесь столько земли, да еще земля-то какая!
Я взял горсть и, рассыпая ее между пальцев, спросил:
— Что вы тут хотите сажать?
— Морковь!
— А свеклу?
— И свеклу будем, и лук, и чеснок… Только вот там — на загорье, а здесь нам приказали одну морковь.
— Кто приказал?
— Майор тут один понимающий в агрономии нашелся.
Я разыскал майора, руководившего работами, разговорился с ним и узнал: под картофель спланировано обработать земли четыреста пятьдесят гектаров, под капусту — триста, под морковь и другие овощи сорок пять, посевом овса и ячменя ведает не он, а другой офицер интендантской службы, и под яровые вспахано уже двести с лишним гектаров.
Уходя с поля, я невольно вспомнил о недавней беседе с генералом в нашей землянке и дельном предложении комбата Краснова. Неспеша, вразвалку возвращался я к себе в батальон. Картина мирной работы на огородах отвлекла мои мысли от войны. Я подумал об Архангельске, о семье. Вспомнились мне юношеские беспечные годы, когда шестнадцатилетним безусым энтузиастом ушел я добровольно служить в Красную Армию и в липовых лаптях, в рваном полушубке, с австрийской трофейной винтовкой шел освобождать от белогвардейцев и интервентов Архангельск. В этом суровом и незаманчивом северном городе я поселился потом, быть может, именно потому, что в феврале двадцатого года, вдохновенно, как победитель, протопал по его изрытым мостовым в своих многоклетчатых лаптях…
В раздумье я шел по песчаной дороге и не обращал внимания ни на журчанье ручья в глубоком овраге, ни на зелень, появившуюся на обогретых солнцем пригорках. Размышления мои неожиданно были прерваны пробежавшей мимо собакой. Она — тощая серая овчарка — одиноко и неторопливо бежала по обочине песчаного проселка, останавливалась, оглядывалась, нюхала воздух.
«Может бездомная» — подумал я и ласково подсвистнул. Собака остановилась, посмотрела на меня усталыми, умными, почти человеческими глазами, осторожно, с оглядкой подошла, понюхала, хотела итти прочь. Наугад я позвал ее:
— Джульбарс!.. Джульбарс!.. — И погладил ее по жесткой серой шерсти. Собака навострила уши. Быть может и в самом деле ее так зовут? В кино на экране я когда-то видел такую собаку, ее звали Джульбарсом. Если у ней нет хозяина, не плохо бы ее приласкать, приручить. Такая в разведывательном батальоне пригодится. Не долго думая, я снял с себя ремень и, пристегнув к ошейнику овчарки, повел ее рядом с собой. Она повиновалась.
В землянке, передавая пса связному, я сказал:
— Вот, прошу любить и жаловать. По всему видать — беспризорная: смотри, Ефимыч, у нее бока-то провалились; подкорми как следует; держи на привязи, чтоб не убежала, да устрой для пса будку…
— А как мы ее назовем?
— Можно Находкой.
— Не подойдет, — возразил Ефимыч, — лучше — Найденыш — это кобель.
— Ну, тогда пусть Найденыш.
Ефимыч вывел собаку наружу и привязал к протянутому от дерева до дерева телеграфному проводу. Найденыш тоскливо и безнадежно посмотрел на Ефимыча, рванулся, но привязь выдержала, только проволока гулко прозвенела. И Найденыш смиренно сел в тень под дерево. Ефимыч вынес ему две консервных банки: одну — с вчерашними щами, другую — с остатками пшенной каши и хлеба. Найденыш покосился, но даже не понюхал и не прикоснулся к пище. На другой день Ефимыч принес собаке ворох костей. Найденыш отбежал в сторону, жадно нюхал воздух, пускал слюну, но к костям, как они ни были приманчивы — не подошел.
Ефимыч жаловался:
— Собака нам не ко двору. Может отпустить ее?..
— Нет, не надо отпускать. Сведи-ка лучше Найденыша в ветлазарет. Там есть такой ветврач второго ранга Игорь Иванович.
— Знаю, — отвечал Ефимыч.
— Ну, вот пусть он посмотрит собаку и даст свое заключение, может она больная…
Ефимыч сводил Найденыша к ветврачу. Тот определил:
— У собаки все в порядке, истощена немного. А внутренности, дай бог нам с вами такие. И аппетит есть — смотрит на пищу и слюну пускает. Не ест же, потому что не доверяет новым хозяевам. Боится отравы. Собака, видать, не глупая, — так и доложите капитану.
На третий день Найденыш, убедившись в хорошем к нему отношении, решил приняться за пищу и ел с собачьей жадностью, без разбора все, что только могло быть им съедено. Наконец, Найденыш признал меня полным своим хозяином. Оказалось, пес был обученный. Скажешь: «Ложись!» — ляжет. «Иди сюда!» — подойдет и уставится глазами в лицо. «Подай голос!» — тявкнет резко, отрывисто, один раз и не больше… Значит собака не с финской стороны, не фрицевской выучки, хотя и немецкой породы.
Заметил я за Найденышем и другие свойства: начнется бывало обстрел, завоют мины и снаряды, — прижмет уши, съежится и бежит в ложбинку, прячется. Особенно боялся самолетов. Как только загудит самолет — не важно чей — Найденыш начнет бесноваться, урчать, подвывать — места себе не находит. Пролетит самолет. Найденыш встряхнется, протянется и стыдливо пряча глаза уйдет куда-нибудь, часа два не возвращается. Вернется, морда виноватая, смотрит застенчиво, как будто хочет сказать хозяину: «Извини, что зря струхнул, почем мне, собаке, знать — чей это был самолет, наш или немецкий».
Не мало в дивизии находилось охотников до этой собаки. И комдив и начштаба, — все просили меня уступить им Найденыша.
— Ни за что!
— А к чему она тебе?
— Как к чему? Мне очень даже нужна собака. Пригодится, будем с собой в разведку брать.
— Подведет.
— Возможно. С этим спешить нельзя. Надо изучить ее сноровки.
Однажды наши разведчики привели в батальон двух пленных. Найденыш увидел и, не подавая голоса, с полного хода бросился на одного из них — и под себя. Другой от страха сам к земле прижался.
Разведчики стоят, не знают, что делать, когда собака хозяйничает, а Найденыш лежит, положив передние лапы на грудь пленного, рычит и ни с места.
На шум вышел комбат Краснов, удивился:
— Не знал я такой выучки у собаки. Найденыш, прочь!.. — Разведчиков спросил, не укусила ли которого.
— Нет, — отвечали бойцы, — не укусила, только обоих к земле прижала. Стало быть сноровку имеет по этой части…
Тогда мы решили брать Найденыша в разведку. Обычно он вел себя очень тихо, осторожно. Но однажды летом случилось так, что в разведке Найденыш был вынужден залаять. Шли тогда бойцы осторожно, ступая один за другим, соблюдая полную тишину. Найденыш вдруг почуял что-то подозрительное, бросился от разведывательной группы в сторону, в лес. Бойцы рассыпались под деревья, притихли, притаились. Прошла минута, две. И вдруг неожиданно — гавк!..
— Чорт возьми! Предаст своим тявканьем, — выругался я. — Однако, ребята, что-то неладное она заметила…
Раздвинув кусты я с несколькими бойцами пошел туда, откуда донесся голос овчарки. И мы увидели: Найденыш, распластав между кочек немецкого разведчика, лежал у него на груди, зубами он крепко стиснул его руку, из которой вывалился автомат с продолговатой обоймой.
Пленного подобрали.
— Ну, как, собачка стоющая?
— Золото, не собака, — отвечали разведчики, — если бы не она, то этот гусь нас бы выследил.
Пленный стоял с поднятыми руками и поочередно смотрел на всех нас помутневшими, как от угара, глазами. Его обыскали. Ничего особенного при нем не было: карта, компас, автомат. Железная бирка с номером, привязанная к шее, свидетельствовала о подлинности его арийской крови. Еще обнаружили при нем записную книжку, новенькую, без единой записи, несколько порнографических карточек и вместе с ними в бумажнике черный Железный крест. Фашист, опустив руки, сказал: «Капут Гитлер — Гитлер капут!» Пошарив в кармане брюк, он достал скомканную советскую листовку с текстом на немецком языке, ткнул пальцем в то место, где в рамке был отпечатан призыв и пропуск для перехода на сторону Красной Армии.
Затем он молча взял из моих рук Железный крест, повертел его на грязной ладони, плюнул на свастику и швырнул крест в траву.
Найденыш, наблюдавший за пленником, обнюхал траву, схватил зубами брошенную фрицем награду и принес мне.
— Молодец, Найденыш. — погладив его, сказал я, — что ж, раз фриц бросает орден, носи ты! — и прицепил крест к ошейнику собаки.
20. Диверсанты
Меня вызвали в штаб. Начальник отдела начал с того, что рассказал мне целую историю.
— Не дальше, как вчера, к нам явился с повинной диверсант. Он выложил на стол порядочную сумму денег, фальшивые документы, развернул вещевой мешок, наполненный наполовину продуктами, наполовину взрывчаткой, и говорит — «Я немецкий шпион, готовился в специальной школе диверсантов-шпионов. Документы мои „липовые“. Фамилия моя такая-то». Стали мы дознаваться, наводить справки — действительно он значился в немецком плену. Да и не может же человек на себя такое наговаривать. Дальше он рассказал, что немцы его и еще четырех шпионов выбросили с парашютами в район Шомбы, то есть в нашем тылу, километров за сто отсюда, в сторону города Кеми. Каждый из них располагает большой суммой денег, имеют они взрывчатку для диверсий на тракте; есть у них рация. По словам пришедшего с повинной, все четверо изменников сдаваться не думают. Значит при поимке могут оказать сопротивление или покончить с собой. А нам крайне желательно взять их живыми. Я направил туда взвод бойцов, но что из этого получится — не знаю. Сейчас лето: тепло, обилие ягод, каждый кустик ночевать пустит. Я это к тому говорю, — добавил он, — не можете ли вы дать мне несколько ловких разведчиков, пусть ваши ребята попытают счастья и помогут нам в этом деле.
— Можно! — согласился я. — Выделю самых боевых хитрецов, только покажите на карте, где ваш взвод занимается проческой. Надеюсь, поселок Шомбу скрытой засадой вы обеспечили?
— Да.
Начальник развернул карту.
— Возможно, они здесь скрываются, — обвел он карандашом.
«Искать „здесь“ все равно, что искать четыре иголки в стоге сена. Однако, попытаемся, чем чорт не шутить»— подумал я.
Придя в батальон, я послал Ефимыча за Ибрагимом Загитдулиным.
Невысокий, скуластый, с узкими проницательными глазами, Загитдулин с автоматом поперек живота через несколько минут прибежал ко мне в землянку.
— Прибыл, товарищ капитан, по вашему приказанию.
— Садись, Ибрагим.
Он осторожно сел на крайчик табуретки.
— На тебя, Ибрагим, моя надежда: подбери по своему усмотрению четырех пареньков, посмелей и порасторопней. Назначаю тебя старшим этой группы. Отправитесь километров за сто отсюда…
— Ой, как далеко, в самую Финляндию?
— Нет, Ибрагим, в наш тыл на сто километров.
— Ну, это совсем просто, товарищ капитан.
— Нет, не совсем просто, слушай, Ибрагим, дальше…
Я подробно изложил ему задачу, указал, где и как надо действовать, как, в случае обнаружения диверсантов, обмануть их, захватить и привести в батальон.
— Понятна задача?
— Понятна, товарищ капитан.
— Сроку дается десять суток. Да, учти. Ибрагим, что у такого ловкача и старателя, как ты, одной медали на груди скучно! Понятно?
— Понятно, товарищ капитан, скучно, товарищ капитан, — ответил Загитдулин, искоса взглянув на свою сверкающую медаль, и широко улыбнулся, отчего глаза у него сделались еще уже, а ровные частые зубы блеснули светлей серебра…
… Район, где приземлились шпионы-диверсанты, славился болотами. Ягоды росли там в изобилии.
И почем знать местным девчатам, что в лесу их подстерегает опасность. Разодетые в цветистые платья, они собирали ягоды неподалеку от поселка. Одни из них молча занимались своим делом и озирались по сторонам, а две девушки впереди беспечно и голосисто наперебой распевали частушки.
На мне розовая кофта, Полушалок голубой. Мне давно уже хотелось Познакомиться с тобой. Полюбила капитана, А майор и говорит: «У меня погон пошире, Ярче звездочка горит!»Пела одна из них таким трескучим дискантом, что за километр, если не дальше разносилась ее песня-коротушка.
Ты военный, ты военный, Ты военный — не простой. Дома жонка, два ребенка — Говоришь, что холостой…— запевала в свою очередь другая, а потом обе вместе:
Мне сказал моряк с линкора, Сухопутный морячок, Что забыл он Черно-море Из-за нас карелочок!И вдруг частушки оборвались. Девушки-певуньи, завидев кого-то, взвизгнули и, прячась в кусты, закричали;
— Ой, девоньки, девоньки, убегайте! Тут четверо каких-то!..
— А мы не звери, вас не слопаем, — отвечали те, и вчетвером кучей шли к перепуганным девушкам, смеясь и подзывая их к себе. Тогда девушки осмелились, с оглядкой стали сближаться с неизвестными. Две из них, делая вид, что стыдливо прячутся за кустами, вытаскивали из под цветных сарафанов автоматы, обнажая при этом солдатские обмотки, винтообразно спускавшиеся с колен к тупоносым, подкованным ботинкам.
Диверсанты смекнули с опозданием.
На повелительный, грубый, далеко не девичий голос, — пришлось поднять руки вверх и сдаться. Да иначе и нельзя было, так как одна лишь певунья оказалась девушкой из Шомбы, да и у той в корзине — две гранаты.
А все остальные были бойцы из нашего батальона во главе с хитроумным Ибрагимом Загитдулиным…
21. Конец Хаулина
В числе задержанных Ибрагимом Загитдулиным оказался переброшенный немецкой разведкой изменник Хаулин. И хотя у него были фальшивые документы на имя какого-то Будкевича, разоблачить его не составило труда. Уличенный во всем, он перестал запираться и стал рассказывать. Дело было так.
…Объятый трусостью и желанием спасти свою шкуру, начфин Хаулин стал изменником. Его, добровольно перешедшего на сторону противника, привели в полевое отделение гестапо. Все, что он знал, рассказал немецкому офицеру; потом согласился подписать листовку для разбрасывания в расположении наших войск.
Фашистам это понравилось. Они ему доверили обработать одну подозреваемую в связях с подпольем студентку из Петрозаводска. На это ушло у него около месяца. Девушка, белокурая, голубоглазая карелка вроде бы полюбила его, она даже согласилась с ним вместе жить, но ничего по интересующим вопросам ему не сообщала.
Однажды офицер в гестапо его спросил:
— Вам нравится эта карелка?
— Пожалуй, да, — неопределенно ответил Хаулин.
— Дело ваше, можете ее любить, но повлияйте на нее или выследите, узнайте все подозрительные связи.
Однако, ничего определенного Хаулину узнать не удалось. Возможно, что никаких связей у девушки и не было.
— Возиться с ней нет больше смысла, — заявил однажды гестаповец, — я вам поручаю сегодня ее пристрелить. — Заметив на лице Хаулина бледность, добавил криво усмехаясь: — Не жалейте, этого добра хватит…
Они спустились в сырой, холодный подвал. Гестаповец включил синий свет. На цементированном полу, от столба посредине и дальше под стену проходила ложбина, по которой, как заметил Хаулин, могла стекать кровь замученных жертв. Два грубых солдата, два заплечных дел мастера, — привели девушку. При виде ее даже паршивое сердце изменника забилось учащенно. Она была бледна, в одной сорочке, избита, капли крови стекали по ее лицу. Привычными и быстрыми движениями солдаты перехватили жертву веревками и крепко привязали к столбу. На последние вопросы офицера девушка презрительно молчала. Тогда гестаповец повернул на стене еще один выключатель. Яркий белесый свет стосвечевой лампочки брызнул в глаза Хаулину. Он заметил на лице девушки слезы, смешавшиеся с кровью. Тяжело дыша, она вскинула голову и молча уставилась на палачей.
Офицер подал Хаулину револьвер, предусмотрительно заряженный одним патроном, и приказал ему стрелять спокойно, с выдержкой, прямо в лицо. Дрожащей рукой предатель взял из руки офицера парабеллум и, чтобы не промахнуться, подошел к девушке вплотную и выстрелил в упор. Окровавленная голова ее опустилась на грудь.
— Хорошо, — похвалил гестаповец, — только нужно учиться убивать не с такого расстояния, а вот отсюда. — И отойдя к дальней стене подвала, он из миниатюрного пистолета дважды выстрелил в труп девушки и похвастал: — Посмотрите, две пули прошли через сердце…
После этого случая Хаулин, проживавший под надзором в отдельной комнате общежития, не спал, ворочался с боку на бок всю ночь. Перед утром вошел к нему посыльный от офицера.
— Не спите?
— Нет.
— Господин офицер приказал вам спать и не смущаться тем, что вы делаете. Вот вам от него бутылка рому. Пейте. Будете спать, как бог…
Вскоре офицер вызвал Хаулина к себе в кабинет.
— Вы детей любите? — спросил он его.
— Люблю, хотя их у меня никогда не было.
По приказанию офицера в канцелярию привели четырехлетнего ребенка. Показывая на него, офицер невозмутимо сказал Хаулину:
— Мать этого ребенка отправлена заложницей в Германию. Отец его — командует у большевиков дивизией. Стоит ли жить ребенку? Я поручаю вам поступить с ним так же, как со студенткой…
— Я вас не понимаю, — возразил было Хаулин, — нельзя ли иначе?..
— Не разговаривать! Берите ребенка, и в подвал.
— Зачем это нужно? — взволнованно спросил предатель офицера, спускаясь с ним по лестнице в подвал.
— Это воспитание вашего характера, — ответил офицер и нравоучительно добавил, — для вас, пожелавшего работать с нами, это означает, что интересы Германии превыше всех и всяких условностей. Запах русской крови, из кого бы она ни истекала, пусть будет вашей потребностью.
Хаулин застрелил и ребенка.
Сутки пьянствовал: даже его подлейшая душа не выдержала. Он был мало-мальски образован, учился в средней школе, когда-то имел понятие о совести, о чести; но после того как он перешел линию фронта и поднял руки, завидев первого встречного фрица, — понятие это было навсегда для него утеряно. Шевеля отупевшими мозгами, он вспоминал когда-то прочитанное им о зверствах иезуитов, о варварских методах сыска, однако фашисты даже в его понятии не шли с ними ни в какое сравнение, они превзошли в зверствах все известное в истории.
Офицер-гестаповец отправил Хаулина на курсы диверсантов-шпионов.
— Вы будете месяц учиться подрывному делу, радиотехнике и другим вещам, а потом с фальшивыми документами и соответствующими предметами будете переброшены за линию фронта. Будете плохо работать, имейте в виду: у гестапо руки длинные. Кстати, вот полюбуйтесь на фотоснимки, они вполне заменят подписку, которую мы с вас не требовали и не нуждаемся в ней…
Офицер небрежно бросил на стол два фотоснимка. Хаулин узнал себя. Фотоаппарат, скрытый где-то за стеной подвала, безжалостно зафиксировал два момента: когда он в упор стреляет в лицо девушки и когда стоит с дымящимся пистолетом над трупом ребенка.
Месяц он пробыл на курсах и под фамилией Будкевича был заброшен к нам в тыл…
— Итак, Хаулин, вы говорите, что немцы были в вас уверены? — спросил следователь, продолжая допрашивать шпиона-диверсанта.
— Да. Они были убеждены, что я не посмею и не решусь явиться к командованию с повинной, что, в крайнем случае, я буду вынужден оказать сопротивление. Я так бы и поступил, если бы не подвох с девчатами. Этого мы не ожидали, и теперь все кончено…
— Пожалуй, — согласился следователь и продолжил допрос. — Вас пятерых немцы сбросили с самолета, а где ваши парашюты?
— Сожгли.
— Вы совершали первый прыжок с парашютом или же в школе диверсантов вас учили этому?
— Нет, не учили. А одно испытание было. Нашу группу однажды сбросили с заданием взорвать мост в тылу Красной Армии. Снабдили всем необходимым. На самом деле это оказалась хитрая проверка. В сумерки мы приземлились в неизвестном районе и направились в сторону моста, который мы, действительно, видели с самолета. Стали подводить взрывчатку, а в это время подошли к нам немецкие часовые и офицер. И мы поняли тогда, что нас проверяют…
Следственное дело на Хаулина было выделено в особое производство. Как изменника и шпиона-диверсанта его судили отдельно показательным судом. Судили вблизи переднего края обороны под открытым небом на небольшой лесной прогалине. Военный прокурор, обращаясь к суду и показывая на обвиняемого, говорил резко и требовательно. Но присутствующим бойцам и командирам его речь казалась уже лишней. Вопрос и без того был ясен, решение суда должно быть одно — расстрел. Процесс шел по всей существующей форме уголовного права и процессуальных норм. Обвиняемому дали последнее слово. Он не защищался, не опровергал ни речи прокурора, ни следственных материалов, он просил о снисхождении в мере наказания — заменить расстрел каким угодно сроком тюремного заключения.
— Не надо такого гада хлебом кормить! — послышался чей-то голос из солдатской массы.
Председатель Военного Трибунала постучал карандашом по столу. Тишина. Над лесом резкий ветерок гнал низкие, хмурые облака. Короткий перерыв. Суд удалился на совещание в землянку. Присутствующие не расходились, ждали приговора, а главное, приведения приговора в исполнение.
Хаулин сидел на скамейке и тупо, немигающими глазами смотрел себе под ноги. Когда зачитывали приговор, он не вникал в его суть. Ждал последних, заключительных слов.
… Расстрелять. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит…
Через две минуты в кустарнике треснули автоматы.
— Готово. Списан, — проговорил один из бойцов, — собаке собачья и смерть…
22. Хозяин нашелся
Летние фронтовые будни шли своим чередом. Карельское лето коротко, но зато солнце светит круглые сутки и в разгар белых ночей почти не успевает зайти за горизонт.
В один из таких дней в добром настроении я с Найденышем совершал прогулку по Ухтинскому тракту. Шел я медленно, любуясь на обширные поля, поросшие зеленой ботвой картофеля, и сердце радовалось за будущий хороший урожай. — «Все же хоть и не велико дело сделали, а поддержка есть» — думал я, проходя дальше и осматривая уходящие к окраине леса длинные полосы капусты, квадраты волнистого овса и ячменя. А умный пес, высунув язык, тихонько бежал и бежал впереди меня.
Из-за поворота шоссе выскочила запыленная легковая машина комдива. Поравнявшись со мной, она остановилась. Вышли двое: комдив и с ним подполковник в форме пограничника. Поздоровались.
Полковник улыбаясь заговорил со мной:
— Везу для вас две приятные новости: первая — командование армии от имени правительства наградило вас орденом Красной Звезды. Поздравляю.
Я ответил, как положено.
— Вторая новость — вы получаете новое назначение. Тот генерал, который был у нас, настоятельно порекомендовал вас в адъютанты к одному большому начальнику одного из отделов штаба армии.
— А вот за эту новость не знаю, стоит ли кого благодарить? — расстроенно ответил я. — Мне и здесь не плохо.
— Ничего не поделать, приказ подписан, я тоже за то, чтобы вы были здесь. Сами знаете — начальство. Против не попрешь…
— Скажу по совести, это меня не радует. Тот генерал ошибается: из меня адъютант, простите, как из коровьего хвоста безмен…
Подполковник в пограничной форме с любопытством издали наблюдал за собакой. Вдруг остановился и, дернув меня за рукав, нетерпеливо спросил:
— Это ваша собака?
— Моя.
— Собственная?
— Собственная.
— Интересно. Вот посмотрим, ваша ли? — Подполковник по-ребячьи сунул два пальца в рот и свистнул. Собака насторожилась. — Казбек! Казбек! — закричал он.
Сначала собака застыла на месте, потом припрыгнув, со всех ног понеслась на зов подполковника и бросилась ему на грудь.
— Казбек, чорт этакий, где ты столько пропадал?! — Казбек виновато подвывал, ласкаясь, лизал руки у своего старого хозяина.
Я рассказал, как собака ко мне попала.
— У меня его в Кеми украли и вот уж никак не ожидал, что найду, — сказал подполковник, обнимая собаку.
До чего мне стало жалко расставаться с Казбеком-Найденышем.
— Вот вам, товарищ капитан, от меня на память, — подполковник отстегнул от ремня изящный с разноцветной наборной ручкой финский нож. На конце рукоятки в виде набалдашника чьей-то умелой рукой была сделана и привинчена серебряная собачья голова, а на блестящем лезвии любовно и тонко выгравировано, как имя близкого друга — Казбек.
Я не мог и не пытался отказаться от подарка. Казбек, видно заметив мою грусть, вдруг, виляя хвостом, подошел ко мне, встал на задние лапы, передними уперся в грудь и лизнул мою щеку.
— Ах, ты, чорт этакий! Ну, прощай, Найденыш, прощай. Казбек, ступай к старому хозяину, — сказал я, гладя его.
Трогательно и вежливо, совсем по-дружески Казбек сунул мне левую лапу, покрутил головой.
Честное слово, в эту минуту у меня чуть-чуть слезы не выступили.
За Казбеком хлопнула автомобильная дверка. Он деловито уселся, видимо, ему было привычно ездить в машине со своим хозяином.
— Может с нами поедете обратно? — спросил комдив.
— Нет уж, лучше я здесь поброжу.
— Броди, броди, только на чужих собак не зарься, — пошутил он, и машина сорвалась с места.
Возвратись в землянку, я первым долгом поделился с Ефимычем всеми новостями.
— От души поздравляю с наградой. Пусть будет не последняя. Ужели, товарищ капитан, теперь нам придется расстаться? — тоскливо спросил связной.
— Придется, Ефимыч. По новой должности мне связной не полагается. Ты мне пиши. Быть может еще и встретимся.
— Да уж не вдруг, — невесело проговорил Ефимыч.
Из батальона уходить мне не хотелось. Это было понятно и Ефимычу. Он с сожалением сказал:
— Больше года мы с вами вместе и никак не удосужились на карточке вместе сняться.
— И так, Ефимыч, не забудем друг друга. У меня о тебе на всю жизнь сохранятся самые лучшие воспоминания.
— Спасибо, товарищ капитан.
— Чего бы, все-таки, подарить тебе, Ефимыч, на память?
— А вот чего: если можете, напишите мне рекомендацию вступить в партию.
— С удовольствием! — ответил я. — Да ты меня пристыдил, Ефимыч! Как же это я сам не догадался предложить тебе. Пора, Ефимыч, пора…
Через непродолжительное время я уезжал к армейскому начальству.
23. С одного места на другое
Я уезжал из батальона по тому же единственному Ухтинскому тракту, бегущему через бесконечный дремучий карельский лес. Лес, лес и лес… И мне, сидящему в кабине рядом с шофером, казалось, что я уже настолько привык к окружающей обстановке, что обыкновенные, ничем не привлекательные деревья становятся в моих глазах живыми представителями суровой карельской природы, с которыми даже хочется поговорить… Колченогие сосны, низкорослые раскоряки, неуклюже, но крепко цепляются своими корнями, борются за каждую пядь земли, за каждую щель в скале, где только есть хоть кусочек земли и влаги. Эти невзрачные деревья очень жизнеспособны, крепки и, несмотря на свою скромную и, кажется, хилую внешность, — корнями ворочают камни, силой упрямства, настойчивости утверждают себя в жизни.
И есть стройные деревья. Красивые великаны с обширными изящно подобранными кронами бархатно пушистых ветвей. Они, надменно возвышаясь над другими, любуясь собою и как бы посмеиваясь над «мелкотой», говорят внешним видом своим: «Ну, куда вы годитесь? Вы без нас ничто, вы мелколесье и только». Но они, хотя и великаны, живут под тем же солнцем и питаются соками той же матери земли, которая создала выносливых и безответных их собратьев. Забывая об этом, они, иногда по причине собственного высокомерия, забывают пускать вширь и вглубь свои корни, а беззаботно тянутся ввысь, лишь бы через головы других не то чтобы дальше видеть и знать, что происходит вокруг, — а показать себя.
Некоторые люди, мало знакомые с лесной природой, увидев этих гордецов, приходят в восторг: «Ах, какое дерево! Какое красивое, матерое». Но вот подходит опытный, искушенный в своем деле лесоруб. Он пристально и почему-то недоверчиво осматривает красавца, затем обухом топора два— три раза ударяет по его стволу. Дерево издает глуховатый стон и осыпает лесоруба остатками прошлогодней хвои. Тогда лесоруб разочарованно отходит прочь и говорит: «Велика Федора да дура: с дуплом, в поделку не гоже». Зазнавшееся лесное высочество, не заботясь о более тесном родстве с землей, от худосочия действительно хиреет и в его сохнущей вершине даже подслеповатая сова и та не ищет себе убежища. Разве дятел старательно будет долбить его носом и искать под корой подгнившего великана насекомых, в которых там нет недостатка. И тогда лесоруб решает:
«Ага, ты с гнильцей, так не ждать же когда ты сгниешь на корню окончательно и бесповоротно. Ты только своей внешностью обманываешь людей. Твое величие — призрак. На самом же деле твое назначение — разменяться на дрова». И лесоруб, плюнув на ладони, берет топор и с треском валит дерево на землю. Окружающее его мелколесье теперь воочию убеждается, что сердцевина великана давненько была охвачена неведомой заразой и очаг этой заразы глубоко распространился; хорошо еще, что нашелся добрый человек и избавил лес от столь опасного и кичливого гордеца, даже заслонявшего солнце, которое в здешних местах и без того светит и согревает все растущее и живое весьма скупо.
Мелколесье приветливей шелестит ветвями, еще глубже пускает корни в землю, радуется и растит крепких молодцов под сенью которых и жизнь становится приятней…
Не так ли и с людьми бывает иногда? Прет и прет какой-нибудь карьерист вверх, а сердцевина его оказывается — гнилая…
Так размышлял я, озираясь по сторонам шоссе, уходящего на сотни километров в бесконечные лесные просторы. Когда едешь далеко, быстро и молчаливо, думается много. И мысли чередуются, быстро сменяясь, как меняется, на первый взгляд серый, но вместе с тем бесконечно разнообразный карельский пейзаж…
Служба на новом месте оставляла мне много свободного времени. Я имел возможность читать военную и художественную литературу.
Но адъютантом пробыл я недолго. Мой «хозяин» вскоре получил другое назначение и уехал. Воспользовавшись этим, я стал проситься у нового начальника отпустить меня в часть. Он не стал удерживать и через несколько дней порадовал меня вестью об откомандировании на линию обороны за Онежское озеро.
— Мне там кое-что знакомо. Бывал осенью в первый год войны.
— Тем лучше, — добродушно сказал начальник, — можете готовиться к отъезду. Ехать придется через Обозерскую, Вологду, а там с Череповца пароходом до Вытегры. У вас семья, кажется, в Архангельске, заверните по пути, и для вас приятно, и для семьи сюрприз.
— Большое спасибо! — обрадовался я, — большое спасибо.
Через два дня я был в Архангельске.
После двух-трех бомбежек и незначительных пожаров от фугасок и зажигалок, город внешне мало изменился. Только еще от вокзала с левого берега Двины я заметил, что громадное здание института взрывом фугаски и пожаром выведено из строя. А когда проходил мимо разрушенного здания, то мне показалось, что и бронзовый Ломоносов стоит на пьедестале чуть-чуть покачнувшись от воздушной волны. Но выстоял и стоит, устремив глаза на север, стоит с той же присущей ему поморской «благородной упрямкой»!
В семье меня, конечно, не ждали. Пришел я в обыкновенный будничный сентябрьский день. Жена была на работе в школе. Сын сидел за столом над задачником. Обрадованный моим появлением он бросился в мои объятия:
— Папа, говори, чего привез мне с фронта?
— Ничего особенного, сынок, ровным счетом ничего. А впрочем развязывай мешок, если что есть подходящее для тебя — забирай.
И пока я говорил по телефону с женой, сын распотрошил мой походный вещевой мешок, обнаружил в нем бинокль, карманный фонарь, флягу, компас, финку, отобрал все это и сказал весело:
— Папа, это мне все пригодится играть в войну, а себе ты добудешь там еще.
— Забирай, забирай, только финку не тронь, тебе рано пользоваться холодным оружием, а у меня это память о хорошей собаке.
— Вот спасибо-то! Теперь я буду у ребятни за главного командира. Ни у кого нет столько снаряжения. Жаль, мама мелкокалиберку куда-то от меня запрятала. Папа, а ты за термос не сердишься?
Я вспомнил, что жена писала мне в одном из писем, как сын, играя с ребятами, набил мой термос порохом, провел к нему фитиль, поджег его и взорвал.
— Да что с тобой поделаешь! — сказал я. — Спасибо, что себя не угробил. Ну, если бы я в ту пору был дома, пришлось бы стегануть ремнем раз десяток…
Сын недовольно посмотрел на меня, нахмурился. Спросил:
— Из-за такого-то пустяка?
— Как из-за пустяка, да ведь тебя могло убить или изуродовать!
— Ну, убить! Фитиль был длинный и пока догорел до пороха в термосе, я убежал за сарай и еще ждал долго, когда рванет.
И сразу, чтобы не задерживаться на этом неприятном инциденте, он спросил:
— Ты надолго приехал?
— Только на два дня.
— Ух, как мало! Я от школы попрошу освобождение на два дня, Клавдия Михайловна отпустит, и похожу с тобой по городу: покажу, где падали полутонки и четвертьтонки. У меня было много, много осколков и стабилизаторов, я все в утиль сдал на переплавку. А потом куда поедешь?
— Снова на фронт. Пойдем, покажу на карте, где я был, и то место, куда теперь переезжаю.
В соседней комнате когда-то висела на стене большая карта Европы, наклеенная на серый коленкор. Теперь эта карта заменяла на окне выбитые воздушной волной стекла и служила светомаскировкой. Мы попутешествовали по этой карте, а потом, пока не пришла мать с работы, он донимал меня всевозможными вопросами, иногда детскими, иногда удивлявшими своей серьезностью:
— Папа, за что тебе дали орден? Про ваш фронт и в газетах мало пишут и по радио не говорят. Почему? А вы докажите! Так тихо будете воевать и война долго не кончится. Папа, а ведь страшно, когда людей убивают… Вы скорей, скорей всех фрицев убивайте да и делу конец, а Гитлера косоглазого запрятать бы в полутонку и бабахнуть над Берлином. Папа, а от дзота до дзота какие окопы бывают: прямые или вот так, зигзагами?
— Зигзагами чаще всего.
— И я ребятишкам доказываю, что зигзагами безопаснее. А они говорят — прямые хода сообщений ближе…
— А ты что. военным инженером хочешь быть?
— Ага, только вот поздно родился, годков бы на десять пораньше!..
Я посадил сына к себе на колени, погладил его по голове, пощупал спину, бока.
— Худенек ты у меня, мой милый, стал.
— Еще бы. Трудненько. Ничего, выживем, в Ленинграде похуже, там настоящая блокада. Ничего! На этой неделе наши три больших города освободили: Чернигов, Полтаву и Смоленск. Скоро из-под Ленинграда вышвырнут немцев…
Пришла жена. Два с лишним года войны ее заметно изменили. Она осунулась, похудела.
До поздней ночи мы просидели, переговорили о многом, но далеко не обо всем.
24. Сергей Петрович
Подразделение, в которое я прибыл, занимало участок обороны примерно в той местности, где осенью сорок первого года мне пришлось быть в командировке. За прошедшие два года здесь на первый взгляд как будто никаких изменений не произошло. Но это только на первый взгляд. На самом деле, теперь здесь стояла закаленная в боях дивизия, в полной мере обеспеченная артиллерией. Дивизия, как и весь Карельский фронт, после октября 1941 года ни на шаг не отступала, а теперь готовилась к наступлению, о котором уже поговаривали, что оно не за горами, и будет, обязательно будет, в зависимости от обстановки и в сочетании с общими успехами наших войск на других фронтах Отечественной войны.
С майором Романенко, на место которого я прибыл, мы обходили подразделение.
— Скажите, товарищ Романенко, а связного своего вы мне оставите или уезжая заберете с собой?
— Заберу. Думаю, что и он возражать не будет.
— Эх, у меня был Ефимыч! Жалко, оставил его еще на Ухтинском направлении. Оригинальный мужичок, честная душа и не из робких. Такого, пожалуй, больше не подыскать.
— Если вы любите оригинальных, так чем вам плох будет Сергей Петрович Борода!
— Да, с таким скучно не будет, — подтвердил связной Романенки, — он тут неподалеку, копается, строит.
— Его у нас в дивизии — говорит Романенко — по имени, по отчеству все зовут. А иногда называют просто-напросто Бородой, и все знают, о ком речь идет. Да вон, полюбуйтесь, Сергей Петрович опять кому-то землянку строит…
Мы подошли ближе. Сергей Петрович стоял внизу под козлами и продольной пилой вдвоем с напарником распиливал сосновое бревно на доски. Желтые опилки сыпались ему на голову, застревали в бороде. А борода с каждым взмахом пилы встряхивалась над его могучей грудью, порой обнажая на ней беленькую медаль «За боевые заслуги».
— Здравствуй, Сергей Петрович! — поздоровался я, как со старым знакомым.
— Здравия желаю, товарищ капитан, — ответил он, опуская пилу.
Мы уселись на бревна около свежевырытого котлована для землянки. Я угостил его табачком. Сергей Петрович свернул цыгарку необычайной толщины, оговорившись, что из легкого табаку никак нельзя тоньше.
— Давно куришь, Сергей Петрович? — повел я разговор издалека.
— Давно, парень, почитай с пятнадцатого году стал похватывать, когда вот так в ту войну попал на службу и был бомбардиром-наводчиком. А ноне-то зрение начало сдавать, не гожусь в наводчики. В этом деле глаз да глаз нужен и вычеты знать, теперь пушки не те, стреляют уж не по тем тарифам. Посмотришь у «горняшки» и дульце-то все не длиннее голенища, а говорят за восемь верст палит. И «катюша», вообще это не моего ума диковинка. Так наш брат, видишь, чем занимается: рубим, пилим, копаем, строим и то польза есть…
— А и крепок же ты, старик, — восхищаясь его могучим сложением, заметил я, глядя на его широкие плечи и сильные узловатые руки.
— Ну, разве это крепость! — усмехается Сергей Петрович, — вот у меня отец был, царство небесное, на восьмидесятом году скончался, — вот это был мужик! Бывало мешки по четыре-то пуда так и на спину не брал, а подмышки, под ту и другую возьмет и легонько тащит. Ну, он, покойничек, ни капли горькой в рот всю свою жизнь не брал. А я вот свои законные сто граммов никому не уступаю. Сам пью. И насчет табачного зелья. Отец всю жизнь осторожен был, не курил, потому как табак, по его мнению и по преданиям стариков — есть дьявольское навождение. И начал он расти таким побытом: когда Христа-то распяли, а богородица шла и плакала в Гефсиманском саду, и там, где ее слезы капали, трава с корнем выгорела. А чорт позади шел невидимкой и сеял по тем местам табак… И курить его люди стали чорту на радость.
— Сергей Петрович, может это неправда?
— Не знаю, не я выдумал. А старики тоже кое-что знали…
Разговор зашел о войне. Сергей Петрович начал мне доказывать, что всякая порядочная война бывает не меньше трех лет и что трудно угадать, когда ей конец. Никто этого не знает и сказать не может.
— Важно то, что мы победим, — авторитетно заключил он и тщательно потушил дымящийся окурок.
— Я тоже в этом уверен, — сказал я.
— Как же, парень, без уверенности никакое дело не делается. А касаемо нашей победы, то и в писаньи сказано: «восставший на меч от меча и погибнет». Такое уж знаменье. Да и народ наш свою власть хорошо почувствовал, не то что при Николашке было. К примеру скажу про свою местность: раньше земля-то у нас кругом была барская, конторская да монастырская, а мужику некуды податься. На баб совсем земли не полагалось. Тридцать саженей на мужскую душу приходилось. Хорошо, что дедушка в нашем семействе догадался скоро умереть, так я у отца на дедушкиной душе и воспитывался до возрощения лет. А девки-бабы так и почитались лишними ртами. После революции зажили по-настоящему; земельки паши сколько душа желает. Забогатели некоторые спервоначалу и в колхоз туго шли. А потом видим доброта жизни от своего труда зависит. Стали нажимать, да нажимать, богаче нашего колхоза в окрестностях не было. Коров, лошадей бог знает сколько, свиней уйма, курам счету не знали. Крепко встали за эти годы на ноги. На выставке в Москве за корнеплоды похвальную аттестацию на дипломе отхватили с золотыми буквами — нашему колхозу имени Энгельса. Дело дошло до такой точки, что наш бывший мужик-лапотник зазнаваться стал, гордыня начала заедать. Баян — не гармонья, подавай пианину или рояль такую, ажно в хату не лезет, а ее пихают и пихают. Денег-то некуда девать! На велисапеды даже собаки лаять перестали, на мотоциклетку, еще туда-сюда, и то привыкли… И вдруг война, сатанинское нашествие Гитлера. На нашу колхозную собственность вражина насел… А вот, скажем, у нас в соседнем селе ученый дьякон был. Голова с пестерь, ума — палата. Книг два сундука- Он и библию почти назубок знал, и черную магу, какую-то книгу от чужого глаза прятал. Так вот этот дьякон до войны и предсказывал: «И будет время такое, тяжелое нашествие совершится на земле и под землей, на воде и под водой и по поднебесью. И протянет враг руку к добру твоему и ты не посмеешь ее отвести». Еще что-то он балакал насчет крови, дыма и смрада, и все это от немца пошло. Случилось по писанию…
— Скажи, Сергей Петрович, ужели за четверть века при советской власти ты не изменился и все еще в бога веришь?
— Да, трудно сказать, парень, смотря что за бога считать?
— Ну, как что за бога, считать, — ясно, установленную попами троицу: Саваоф, Христос, дух святой.
Старый солдат немного задумался, ломая в руках щепочку и неспеша, взвешивая каждое слово, ответил:
— Вот скажу к примеру: люди говорят и в книгах пишут, что солнце в миллион раз больше земли. А я не верю. Не доказано, говорю. Что ты со мной будешь делать! Чего не могу постичь своим умом, объяснить своими словами, я на го сам себе и отвечаю: «бог знает». И выходит, что бог у меня существует для ответов ка темные вопросы.
— Здорово сказано, Сергей Петрович!
— А как же, — прищуриваясь, ответил он, — моя голова тоже кое-что смыслит… По части бога я еще так рассуждаю: не всякому-то он нужен. У нас тут слушок есть, — ездил один офицер в отпуск в Москву, поверите ли, венчался там! В мундире с погонами… На кой ему чорт нужно было это делать? Поистине — дуракам закон не писан, простите за выражение… Зачем образованному человеку бог? Они один без другого проживут не плохо, всяк сам по себе. А то есть еще люди, — идут в бой — крестятся. Только я знаю, что в бою бог помогает тому, кто смело дерется, а не тому, кто дрожащей рукой крестится… Храброму да честному воину не смерть страшна, а страшно другое: он вперед смотрит, как бы вся мать-Россия под вражеский каблук не полегла.
— В этом ты прав, Сергей Петрович.
— Истина! — глубокомысленно заключил он.
— Сергей Петрович, — опять спросил я, — вот ты сказал минуту тому назад: «паши — сколько душа желает». В каком же виде представляешь ты себе душу, веришь ли, что она после смерти человека может поступить в рай или ад в зависимости от ее качества. И где она помещается: в печенке или в желудке!
— Чепуха, — смеясь, отмахнулся старый солдат, — сущая чепуха! Нигде в человеческих внутренностях души нет, да и что ей за надобность помещаться где-то около кишок. Душа у каждого здорового человека в его голове. Вот она где! Душа это ум, я так понимаю. Сумасшедших-то как называют? Душевнобольные. К примеру — Гитлер, разве у него есть душа человеческая? Таких сумасшедших, как он, можно вылечить только обухом по черепу. И вылечат…
Он встал, намереваясь снова взяться за работу.
— Не надоедает, Сергей Петрович, эта работенка?
— Никак нет, товарищ капитан, пока живы, должны трудиться.
— А не возражаешь, если я возьму тебя к себе в связные?
— Премного благодарен, только я староват и на ноги не прыток.
— А я бегать тебя и не заставлю.
— А вы кто, простите, будете? — прищурясь, поинтересовался Сергей Петрович.
— Да вот вместо товарища Романенко служить буду.
— Так-так, премного благодарен. Когда прикажете приходить?
— Закончишь это дело и приходи. Землянку знаешь?
— Та, что у товарища Романенки? Как не знать, своими руками строил. Лесок был сыроват, еле просушили…
Идя со мною по траншеям в огневые точки взводов, Романенко, довольный тем, что мне понравился Сергей Петрович, не без гордости говорил:
— Я, дорогой товарищ, здесь за год службы каждого солдата по всем косточкам изучил, не могу же я вам порекомендовать, скажем, Кисельникова, этот и труслив, и вороват. Или того же Козырева…
— Козырев, товарищ майор, по моему мнению не плохой человек, — заступился шедший с нами связной. — Козырев не подведет ни в чем. А Кисельников, да, это жук, нарочно в начале войны растрату произвел, хотел от войны в тюрьме отсидеться…
— Позвольте, Кисельников, — это не из Архангельска ли бывший завмаг?
— Точно, из Архангельска.
— Так я его чуть-чуть знаю. Где только встречи не бывают, где только дороги не сходятся…
25. Что стало с Ефимычем
Об этом я могу судить по двум объемистым письмам, полученным от него самого, и по рассказам одного офицера, приехавшего с Ухты…
Жена Ефимыча, как мне уже было известно, осталась на оккупированной немцами и финнами территории. Единственный сын их Ванюшка был в партизанском отряде. Изредка от Ванюшки Ефимыч получал письма, но о жене никаких сведений не имел, и это его немало удручало. После того как я выбыл с Ухтинского направления, Ефимыч, не привыкнув к новому своему начальству, задумал расстаться с должностью связного и перейти в одну из рот служить, как положено обычному солдату. Эта мысль особенно окрепла у него, когда однажды комбат, уходя по делам службы, приказал Ефимычу придумать способ ловли мышей, появившихся в землянке.
— Товарищ комбат, да их все равно всех не переловить, — взмолился Ефимыч, — тут их в лесу полно.
— А ты попробуй.
И Ефимыч стал «пробовать» столь необычное для него занятие.
— Хоть бы кто-нибудь не зашел в землянку, — думал он, устраивая приспособление для ловли мышей.
И вдруг, как на зло, в землянку зашел красноармеец Мухин, о котором я уже рассказывал. Зашел Мухин с письмом для Ефимыча и видит: на полу лежит полуопрокинутая оловянная тарелка. Один край у тарелки приподнят и подперт палочкой, а от палочки тянется ниточка за перегородку. Под тарелкой крошки хлеба и рисовой каши. Заглядывает Мухин за перегородку, а там, скорчась сидит Ефимыч и прищуренным глазом наблюдает в щель за ловушкой.
— Мышей ловишь? — догадался Мухин и ехидно улыбнулся, — ничего себе занятьице! Ну, как, клюет?
— Да ну их, проклятых, — хмуро отозвался Ефимыч, — спать проклятые мешают, все и шебаршат, шебаршат, да такой писк поднимут — не уснешь. Трех уж прихлопнул, выбросил…
— Эх, Ефимыч, Ефимыч, — с деланным прискорбием заговорил Мухин, — придешь домой после войны, жонка спросит: «Чем, Ефимыч, на фронте занимался?» А ты ей: «Мышей в землянке ловил!» Она скажет: «Так, за каким ты чортом казенный хлеб жрал? Заместо тебя любой котенок в десять раз лучше справился бы».
— А где ж тут котенков-то возьмешь?
— Нет — и не надо. Мышонок это не фриц, а тварь божья, надо и мышонку дать жить, — заметил Мухин и подал Ефимычу письмо — треугольничком свернутый пакетик: — На-ко вот почитай, кажись от сына тебе.
— Вот спасибо. Редко пишет парень. Все некогда, в отряде но тылам рыщет.
— Не всем же мышей ловить, — насмешливо бросил Мухин и, осторожно закрыв дверь, ушел, оставив за собой мутное облако махорочного дыма. Ефимыч бережно развернул письмо.
«Дорогой мой отец и родитель, Ферапонт Ефимыч, — писал сын. — прости, что пишу редко, спешу сообщить тебе новость, мы опять ходили на дело, а на какое сам знаешь, все описывать нельзя, — надо хранить военную тайну. Расскажу при встрече, где мы были и что там наделали, в общем командование осталось довольно. Были в этот раз и в нашем селе, половину его немцы и финны спалили. Соседи сказывают, что они очень допытывались кого-нибудь из наших родственников, хотя бы и дальних, чтобы повесить на виду у всех на пепелище, где стояла наша изба, там теперь для острастки повешены два пленных бойца, никому не известно, кто они. А произошло все это потому, что наша мама терпела, терпела и напоследок выкинула такую штуку, (пишу со слов соседей, у которых я прятался двое суток) — в нашей избе поселился было немецкий ефрейтор, он заставлял маму готовить ему обед, ставить самовар, мыть, стирать, всякую грязь убирать за ним. А добился он вот чего: однажды ефрейтор заставил маму вскипятить два чугуна воды и вымыть ему паршивую голову. Мама согрела воды, намылила ему башку. И как ей надоумилось, сам не знаю — помнишь, отец, у нас на шестке валялся австрийский штык, ты его принес с той войны и двадцать лет лучину щепали им. Подвернулся он маме под руку и она его с размаху всадила немцу в шею, а в горло выставился. С того часу маму ищут, но не находят. Не иначе она ушла к партизанам, а те ее через фланг переведут, и ты не беспокойся. А изба — дело наживное, после войны построим новый пятистенок получше старого. Вот, отец, какая у нас мать Она открыла счет мести, так давай будем его продолжать.
Твой сын сержант Иван Ферапонтович».
Вот это да! Вот это номер! — изумился Ефимыч, — да как она это осмелилась… Сын партизанит, жена немца прикончила, а я мышей ловлю! Тьфу!.. Да я после этого могу сам себя возненавидеть!.. Нет, надо по-настоящему воевать. А я тут— вроде бы в обозе, да на самой задней телеге!..
И Ефимыч перестал быть связным у моего преемника.
26. Встреча старых знакомых
Между тем, по соображениям высшего командования, на Карельском фронте шла перегруппировка сил. С одного направления на другое перебрасывались специальные части и подразделения; перелетали с места на место авиасоединения. Полк, в котором в прошлом еще году я служил с Чеботаревым на Кестенгском направлении, в полном составе перекочевал на подступы к Свири и оказался поблизости от нас. Узнав об этом, я пошел в расположение прибывшего полка. Радушно и приветливо встретили меня старые товарищи сослуживцы. Среди них были и капитан Чеботарев, и Аня Афиногенова, и разбитной весельчак Аркашка Михашвили. Последний, как только увидел меня, весело бросился навстречу и жал мне руку так крепко, что у меня хрустели пальцы.
— Доброго здоровья, товарищ капитан, рад вас видеть; есть хорошая русская поговорка: гора к горе не идет, а человек к человеку с удовольствием. Ух, много нового, товарищ капитан, произошло: я стал младшим лейтенантом, трехмесячные курсы прошел. Взводом командую! И еще новость: Аня — моя жена!..
— Ты это всерьез?
— Совершенно всерьез, до полного надоедания. В Кеми расписались под мою фамилию оба. На свадьбе десять литров водки было. Вас вспоминали.
— От души поздравляю. Хорошая пара, желаю вам, ну, хотя бы дюжину деток, упорных, как мать, и темпераментных как отец.
— Спасибо, товарищ капитан. Назначайте правильный срок, ваше задание будет выполнено. Начало уже есть!..
— Как так есть?
— Через два месяца Аня поедет к моим родителям в Сванетию.
— Ай, Аркашка, Аркашка, мог ли я думать, что ты чертенок кучерявый, такого хорошего снайпера, как Аня, выведешь из строя…
— Ничего, товарищ капитан, она к активным боям подоспеет.
Аня стояла, прячась за Михашвили и застенчиво улыбалась. Она была, как и прежде, крепка и жизнерадостна, в новенькой шинели, на погонах ее я заметил сержантские нашивки.
— Ты не маскируйся за спину мужа, — обратился я к ней, — а лучше расскажи, как ты не устояла перед этим обольстителем. Ведь я помню: ты не хотела во время войны замуж выходить…
— Так обстоятельства сложились, товарищ капитан, понравился парень. В то время затеял он переписку с двумя заочницами с какими-то артистками, послал им фотокарточку, ну от тех отбою не стало: каждую неделю письма и письма, я и решила их опередить…
— Что ж, правильное решение, — одобрил я, — Михашвили парень что надо, с таким не пропадешь. Вот что: скоро будет Октябрьская годовщина, прошу вас ко мне в гости. Обязательно.
— Большое спасибо, товарищ капитан, — где вас искать прикажете?
Я объяснил им, как меня найти.
В тот же хмурый осенний день я ходил в штаб дивизии, там встретил своих старых знакомых Клунева и Малкина, и тоже позвал их к себе в гости.
…В ночь с шестого на седьмое ноября в моей просторной землянке собралось человек десять старых и новых друзей и знакомых. Четыре бревенчатых наката и метровая насыпь земли с булыжником прикрывали землянку от всяких случайностей. Финны бросали мины, но никто на это не обращал внимания. Когда гости уселись за два сдвинутых столика и когда связной Сергей Петрович налил всем по первой порции, я встал и, подняв кружку, обвел всех глазами. Мои гости были одеты в лучшее выходное обмундирование, у каждого на груди сияли знаки правительственных наград.
— Порядок, товарищи, такой, — предложил я, — будем в этот торжественный вечер пить кто за что, но каждый, поднимая свой бокал, перед тем как выпить, должен сказать несколько слов. Итак, поднимая первый бокал (вообразите, что это бокал, а не походная кружка), я хочу сказать первый тост. Кто из нас не помнит, как справляли Октябрьскую годовщину в сорок первом году? Нелегкое положение переживали мы. На ходу хоронили товарищей, сдерживали врага и, несмотря ни на что, задержали. Не все и не всегда были тогда бодры духом. Чего греха таить, паниковали некоторые. Ведь враг приближался к воротам столицы. И когда были получены газеты, мы развернули их и увидели нашего любимого вождя и его соратников, стоящих на трибуне мавзолея и принимающих парад, и многие из нас тогда невольно прослезились и сказали себе, глядя на портрет вождя и внимая простым словам его мудрой речи: «Мы выстоим! Мы победим!». Да, мы выстояли. Я пью за радость освобожденных сегодня киевлян! За славу и гордость русского оружия, за здоровье нашего великого стратега товарища Сталина!..
В землянке прозвучало «ура!»
Поднимая свой бокал, майор Клунев сказал:
— Выпьем еще за наш крепкий, надежный советский тыл, обеспечивающий нас вооружением и всеми видами довольствия. Выпьем особо за тех скромных и незаметных людей, которые своей бдительностью помогают нам крепить фронт и тыл.
Мы опять понемногу выпили.
— Слово Ане, единственной в нашей среде женщине, — предложил капитан Чеботарев.
Аня подняла стакан и, заметно смутясь, сказала:
— Давайте выпьем за ваших жен, за тех, которые верны своим мужьям, которые с надеждой и терпением ждут вас и заменяют вас у станков, и в поле, и в учреждении. Еще выпьем сразу за ваших детей, самых дорогих и любимых на свете, за наших отцов и матерей, породивших нас на страх заклятым врагам! Выпьем за любовь, которая сильнее смерти!..
— За любовь! — раздались дружные голоса.
— За здоровье наших родных!
И снова все выпили поелику возможно.
— Ну, ты, черноусый красавец Михашвили, за что будешь пить? Держи свою речь, — обратился я к Аркашке — пить-то пей, да не слишком. Мы еще заставим тебя под гитару спеть «Сулико» на трех языках — и на русском, и на грузинском, и на азербайджанском…
Михашвили встал, приподнимая бокал, выточенный из головки зенитного снаряда, и торжественно произнес:
— Пью за тот пароход-теплоход, который скоро из Батуми в Одессу пойдет, а я на том прекрасном черноморском теплоходе опять буду матросом! Одесса, Крым и голубое море и небо и горы, все, все снова будет наше! И груши, и сливы, и виноград, и персики, и апельсины будут расти больше и краше, чем когда-либо, ибо в советском человеке есть сила создавать то, чего и в жизни еще не было. За наш обильный советский юг, за его окончательное освобождение…
Одним глотком Аркашка осушил бокал, крякнул и достал с железной сковородки изрядный кусок мяса, закусывая им, он посоветовал мне впредь своевременно приглашать его готовить настоящий шашлык.
Налили еще по сто граммов водки.
— Дайте слово мне, старому солдату, — спросил разрешения связной.
— Пожалуйста, Сергей Петрович, просим!..
— Давайте выпьем за выносливого и храброго русского солдата, которому нет равного в мире. Да еще за здоровье наших талантливых полководцев, вышедших из простого народа, научившихся хорошо драться, бить немцев в хвост и в гриву. Ведь, братцы мои, хоть и хорош русский солдат, а при плохом командире трудно ему. Вот я служил в ту войну бомбардиром-наводчиком в Васильковском полку. Гремел тогда громкой славой один честный человек из главных, генерал от кавалерии Брусилов. А были еще фоны да бароны, не верил нм наш брат русский солдат. Теперь полководец пошел не тот, не по наследству и не по капризу государыни; теперь наши полководцы — лучшие что есть из лучшего талантливого народа. Эх, братцы вы мои, с такими устоями крепки и нерушимы будут наши солдатские стены!
Звякнули кружки, стаканы, послышались веселые возгласы:
— За счастье и процветание нашей Родины!
— За исполнение желаний советского народа!
Последним говорил капитан Малкин.
— Да, за исполнение желаний, — повторил он. — Чорт побери! Не плохо было бы стать полным обладателем фантастического бальзаковского лоскутка шагреневой кожи. Я бы знал, что пожелать тогда: я воскресил бы всех погибших в Отечественной войне защитников нашей Родины, бескорыстных героев, бесстрашно глядевших в глаза смерти. И еще я пожелал бы от шагреневой кожи магического исцеляющего действия на всех раненых и контуженных бойцов наших…
И снова пили наши гости в эту торжественную ночь за радость побед, за нашу Родину, за ее высокие цели. А потом веселились, как могли. Пели и «Ермака», и «Варяга», и «Катюшу», и «Сулико»…
27. Это было на Свири
Зима сорок третьего — сорок четвертого года на Карельском фронте ничем примечательна не была.
После капитуляции Италии и Румынии, в Финляндии стали подумывать о выходе из войны, но переговоры с финскими представителями в Москве ни к чему не привели; гитлеровские ставленники, заправилы обнищавшей в войне Финляндии, упрямились, продолжая рассчитывать на чудо. И тогда стало ясно, что Финляндию надо выводить из войны только силой оружия. Значит надо наступать, нанести крепкий удар лахтарям.
Развернулась усиленная подготовка всех родов войск к наступлению в условиях лесисто-озерной, болотной Карелии и скалистого, ледяного Заполярья. В короткие зимние дни, в длинные холодные ночи, в свете лучистых россыпей северного сияния батальоны, полки, целые дивизии маневрировали в ближних тылах фронта, учились, зная, что чем больше будет затрачено пота в учении, тем меньше будет пролито крови в бою…
В мае месяце, лишь только бурливые ручьи и многоводные реки освободились ото льда, бойцы нашего подразделения также стали тренироваться в форсировании рек.
Когда-то в юношеские годы мне приходилось работать на баржах «Вологдолеса» то водоливом, то рулевым. Я проводил за пароходами баржи, груженные экспортной древесиной, по всей водной Мариинской системе и по Свири. Теперь по этой реке, вот уже скоро три года, не проходил ни один пароход, ни одна баржа. Свирь, связывающая два крупнейших озер — Ладожское и Онежское была теперь фронтовым рубежом. Но после того, как на юге нашими войсками был форсирован Днепр, настала очередь и Свири. Однако перешагнуть ее было не так-то легко и просто. Средняя ширина Свири — триста метров; глубина и быстрота течения таковы, что ни в одном месте в брод ее не перейти. Учитывая все эти особенности, командиры, подготовляя бойцов к наступлению, находили разливы рек и озера, по ширине и глубине подобные Свири, и по многу раз днем и ночью на автомашинах-амфибиях, на плотах, на лодках да и просто вплавь учились преодолевать водную преграду.
Батальон Чеботарева, кстати сказать ставшего майором, снявшись с линии обороны, проводил учения. Стояли теплые, безоблачные майские дни.
А на фронте попрежнему продолжалось затишье, за которым чувствовалось приближение бури…
Шестого июня радио принесло долгожданное известие: армада кораблей наших союзников под прикрытием одиннадцати тысяч самолетов в нескольких местах пересекла Ламанш. Началась высадка союзников во Франции. Наконец-то открылись ворота второго фронта. Этой операции наших союзников товарищ Сталин дал высокую оценку, как невиданной доселе в истории войн.
В последующие дни войска Ленинградского фронта прорвали линию обороны на Карельском перешейке. Финны отступали, оставляя населенные пункты, прочные оборонительные сооружения линии Маннергейма, бросая военную технику и другие трофеи.
И тогда многие на Карельском фронте сказали:
— Настал наш черед!..
Двадцать первого июня началось. В районе Свири, в Лодейном поле, в лесах, на подступах к грозной реке, загрохотали наши пушки. Разрушающий ливень металла ринулся на головы финнов. Стоял несмолкаемый гул артиллерийской канонады. Взлетали на воздух обломки финских укреплений, валились, как подрезанные, сосны.
Наш батальон в числе других частей находился под прикрытием леса в ложбине на исходном рубеже. Предстоял самый ответственный момент переправы через Свирь. На другом берегу надобно было высадиться как можно быстрей и с наименьшей затратой сил. Мой приятель Чеботарев то и дело обходил своих бойцов, автоматчиков, пулеметчиков; они, притаившись в кустах и под деревьями, были в приподнятом настроении, много курили, возбужденно разговаривали, некоторые из них осматривали новые просмоленные лодки, волоком через лес доставленные к исходному рубежу. Чеботарев к каждой лодке прикрепил опытных гребцов, людей, выросших на берегах рек, на сплаве, на рыбацких промыслах.
Обходя вместе с ним бойцов, присматриваясь и прислушиваясь к ним, я приметил сидевшего поодаль от других красноармейцев Кисельникова. Будто кем-то и чем-то обиженный, Кисельников был угрюм.
— Здорово, земляк, — обратился я к нему.
Тот быстро поднялся, приветствовал.
— Не о смерти ли задумался? Брось, пустая это думушка!
— Нет, не об этом, товарищ капитан, хуже чем о смерти. Другие мысли гложут. Давно хочу с вами, как с земляком, по душам поговорить. — И вдруг он прямо сказал: — Доверия мне нету!..
— Чепуха, глупая мнительность. Вам доверено оружие, отличайтесь, — возразил было я.
— Судимость не снята, товарищ капитан, и все на меня смотрят как-то с недоверием…
— А вы докажите делом, дайте товарищам почувствовать вашу силу, вашу совесть…
— Да я готов в любую опасность броситься. Пошлите меня первым на тот берег.
Я опять возразил:
— Дело, товарищ Кисельников, не только в опасности. Кроме опасности, большая честь тому, кто первый выскочит на тот берег и пойдет впереди других. Не обижайтесь. Идите вон туда в заводь; там мой связной Сергей Петрович с плотниками готовит для переправы плоты. Помогайте ему да выберите себе плот и, как будто сигнал форсировать реку, не отставайте от других.
— Есть, товарищ капитан.
В небольшой заводи — за опушкой леса человек двадцать бойцов стаскивали в воду бревна и кряжи, сооружали конусообразные, углом вперед плоты. Сергей Петрович ловко орудовал ручной пилой, составляя и скрепляя кручеными вицами небольшие плоты, способные выдержать до десяти человек со всем снаряжением. Он чувствовал себя здесь за старшего, покрикивал, предупреждал, отдавал распоряжения. Бойцы повиновались ему, как десятнику, понимающему толк в сплотке. Кисельников, пристроившись к нему, стал мастерить два гребных весла с длинными лопастями. Работа кипела, А позади неумолчно гремели наши пушки всех видов, то там, то тут рвались еще снаряды и мины противника, свистели пули. Вражеские огневые точки и доты, скрытые в глубине финской обороны, еще действовали. Отдельные пулеметные гнезда финнов притаились вблизи за рекой, в них еще сидели лахтари и ожидали, когда начнется высадка десанта; ожидали, чтобы в момент переправы обстрелять плывущих через реку бойцов из пулеметов и минометов.
Чуть смеркалось. За Свирью обозначилась золотая заря. Снова с нашей стороны усилился гул канонады. Затем над правым берегом Свири, над остатками финских укреплений прошли на небольшой высоте звенья наших бомбардировщиков. Тяжелые взрывы авиабомб заглушили все: и артиллерийскую канонаду и гул моторов.
— Ну, теперь скоро, — торжественно и тревожно проговорил Чеботарев, обращаясь ко мне и стоявшим около него командирам роты.
Но тут произошла еще одна задержка. В расположении батальона появился начальник штаба дивизии, с ним три офицера артиллериста. Прячась в кустах на берегу реки, они, вскинув бинокли, несколько минут всматривались в противоположный берег. Подозвав к себе Чеботарева, начальник штаба сказал:
— Здесь форсировать реку опасно. Вблизи подавлены еще не все огневые точки противника. Изредка действуют минометные расчеты. Нужно их засечь, уничтожить, а потом переправляться. А для того чтобы вот эти товарищи артиллеристы могли засечь и нанести на карту оставшиеся доты и дзоты противника, нужно сделать так: нагрузить одну лодку чучелами, и пусть выищется смельчак, попытается в этой лодке пересечь реку. Естественно, в лодку станут стрелять, по вспышкам огня мы установим места, которые еще требуется сравнять с землей. Вам понятна задача?
— Вполне, товарищ начштаба.
— Ищите смельчака-охотника.
— За этим дело не станет.
— Пятнадцать минут сроку, товарищ Чеботарев, отсюда мы будем вести наблюдение за огнем противника. Первая лодка его должна побеспокоить. Ждем!
Вдвоем с Чеботаревым я спустился к заводи, где наготове были плоты и лодки.
— Товарищи, — обратился майор к бойцам, — первая лодка пойдет на тот берег с чучелами. Пробная; требуется установить и засечь оставшиеся огневые средства финнов вблизи от берега. Конечно, первая ласточка подвергнется обстрелу. Но будем надеяться, что оглохшие от наших снарядов и авиабомб финны не смогут стрелять метко. Кто желает первым попасть на тот берег, поднимите руки.
В числе поднявших руки бойцов был и мой связной Сергей Петрович.
— Эх, Борода, и ты туда! — пошутил кто-то среди бойцов. — Да куда ты. старый, небось и грести не умеешь.
— Не у тебя ли учиться прикажешь? — огрызнулся связной и из-под каски сердито сверкнул глазами на товарища. Подойдя ко мне, он взмолился:
— Товарищ капитан, договоритесь с майором, будьте сочувственным к старому служаке; дозвольте мне первому в этом месте пробороздить Свирь. Я уже и мысочек на том берегу облюбовал, где вылезти.
— А не страшно, Петрович?
— Чего страшиться, товарищ капитан, теперь не то время, чтобы страшиться. В начале войны всякому нелегко было умирать. А теперь ясно: победа за победой. Россия матушка спасена. И смерть не страшна! Если убьют, подберите и похороните на том берегу. Разрешите, товарищ капитан?
Чеботарев, слышавший этот разговор, подошел и, поцеловав троекратно Сергея Петровича, сказал — Ладно! Поезжай счастливо!
Мы проследили, как он садился в лодку, как надевал весла на деревянные уключины и как бойцы усаживали к бортам лодки набитые сеном чучела.
Это было в ночь на двадцать второе июня, в ночь трехлетия Отечественной войны. В зеркальной поверхности Свири отражались холмистые лесные берега. Из заводи на речной простор вынырнула лодка. Широкими взмахами весел Сергей Петрович выровнял ее и устремил к облюбованному мысочку правого берега. Махнув рукой в сторону оставшихся на своем берегу товарищей, он крикнул: — За советскую Родину! За Сталина! — и с удвоенной силой стал нажимать на весла.
— Хорошие у нас люди! — проговорил Чеботарев, — Умеют бесстрашно жертвовать собой. Не только твой Борода — и любой бы из них в батальоне согласился на подвиг. При людях на таком деле разве страшна смерть…
Не успел Сергей Петрович добраться до средины реки, как из-за валежника с того берега затявкали минометы. Мины взрывались по сторонам лодки, поднимая водяные столбы. Однако, она продолжала двигаться вперед. Все ближе и ближе был желанный берег. Мины ложились уже позади лодки. Старый солдат неуязвимый сидел в лодке и, не оборачиваясь, работал веслами, насколько хватало сил в его крепких плотничьих руках. Быстрым течением лодку относило в сторону, Сергей Петрович, видимо, примечал это и, чтобы взять точное направление, опускал на время левое весло, работал одним правым. Еще несколько взмахов, и берег достигнут. Он вышел на песчаный мысочек, снял с головы каску, зачерпнул воды, выпил несколько глотков и втащил лодку вместе с чучелами на отлогий берег.
— Молодец! Что ж он будет дальше делать? — обратился подошедший к нам начальник штаба, видя как Сергей Петрович, оставив лодку, скрылся в прибрежных кустах.
— Он догадается обследовать берег и дождется нас. Я считаю, что сила минометного огня со стороны противника не очень значительна, сделаем рывок, и, там!..
— Я тоже так смотрю, — ответил начштаба, — нужно передать соседним батальонам слева и справа, чтобы они немедленно, одновременно с нами форсировали реку…
Между тем, Сергей Петрович, — как он потом мне рассказал, — забрался в финскую траншею и, держа наготове автомат, отправился путешествовать по разрушенным лабиринтам окопов. Десятками валялись там трупы финских солдат: почерневшие, скорчившиеся, лежащие ничком и врастяжку. Сергей Петрович перешагивал через них, осторожно пробираясь дальше; ему хотелось знать, где же, наконец, кто-нибудь живой, оставшийся после наших артиллерийских обстрелов и налетов авиации. Никого живого пока он не увидел. Все вокруг было сметено, перебито. Пройдя от берега метров триста в глубь финской обороны, он оказался перед закрытой дверью дзота. Прислушался. Там кто-то уцелел. Прикладом автомата он постучал в дверь три раза. Тяжелая, низкая дверь бесшумно раскрылась перед ним. И, вероятно, ни один из шести живых финнов, ошалевших от частых взрывов тяжелых снарядов, отупевших от порохового смрада, не принял Сергея Петровича за первого русского солдата, проникшего сюда. Тот финн, который открыл дверь и пропустил его в дзот, снова спокойно сел на скамеечку. Другие также сидели, ничего, видимо, не понимая, пришибленные. «Живые мертвецы» — подумал Сергей Петрович.
— Ну, что, завоеватели! До Урала-то далеконько не дотянули! — насмешливо сказал Сергей Петрович, наведя автомат на финнов.
— Сдавайтесь! — Казалось, что они только этого и ждали. Покорно подняв руки, оставив оружие в дзоте, один за другим финны вышли из мрачного помещения и, подгоняемые Сергеем Петровичем, подались к берегу реки. Здесь они прикурнули в воронке, а Сергей Петрович, опираясь на автомат, стоял около них, махал каской и восторженно кричал во весь голос:
— Братцы! Путь свободен!.. Вперед!..
Голос его, уверенный и громкий, раскатисто перенесся за реку к своим.
Взвилась зеленая ракета — сигнал к наступлению. В тот же миг врассыпную от берега оторвались десятки, сотни лодок, плотов с бойцами, и все это устремилось через реку, туда, где в глубине изуродованного леса притаились готовые бежать дальше лахтари, где на мысочке у лодки стоял бородатый человек с автоматом и радостно приветствовал наступающих.
Учащенный минометный огонь противника не помешал переправиться. Первые группы бойцов стремительно бросились на берег и стали углубляться в лес, расширять плацдарм. Плоты и лодки отвалили обратно за очередными подразделениями.
Кисельников на плоту за три рейса перевез тридцать пять человек, другие тоже не меньше. Ночь прошла без сна, и никто этого не заметил; не чувствовали люди ни утомления, ни усталости.
Саперы быстро возвели понтонный мост. По нему двинулись автомашины с людьми и техникой.
Днем мы опять пошли вперед. Саперам работы было больше всех. Они пробирались впереди вездесущих и всюду проникающих автоматчиков, обеспечивали безопасность движения войск. То там, то тут дощечки, прибитые к деревьям, предупреждали:
«Дорога расчищена от мин по двадцать метров в обе стороны. Саперы лейтенанта Садовникова».
Появились первые группы пленных финнов. На ходу, под деревьями, я допрашивал их через переводчика, узнавал о расположении дальнейших укреплений, о намерениях врага, попутно интересовался впечатлениями финских солдат. У себя в записной книжке отмечал:
«Солдат пулеметной роты Сусминен Эйно рассказал следующее:
— „Артподготовка русских 21 июня произвела исключительно сильное действие на наше моральное состояние. Один молодой солдат из нашей роты чуть не сошел с ума. Он плакал и рвался в тыл. Даже командир пулеметного взвода прапорщик Антилла настолько расстроился, что не мог управлять боем“».
Финны говорили: «С превосходящими силами драться не будем, надо удирать».
«Когда нам сообщили, — говорил один из пленных, — что русские начали форсировать Свирь, все отделение убежало, а я остался. Затем русские подошли, я поднял руки и крикнул: „Русс, сдаюсь“».
«Солдаты того же подразделения Хуопонеи Унто, Пелконен Ээро и другие сравнивают удары нашей артиллерии с землетрясением, с адом и считают чудом, что они как-то остались в живых. Многие ругают Маннергейма, Рюти и Таннера, обзывая их безумными холопами явно помешанного Гитлера…»
Вечером командир дивизии генерал-майор созвал короткое совещание командиров полков и батальонов. Комдив был в приподнятом настроении. Его дивизии была объявлена благодарность в приказе товарища Сталина. Как и многие нынешние участники Свирского прорыва, комдив изведал горесть и досаду отступления сорок первого года и потому сейчас особенно близко принимал к сердцу радость первой крупной победы на Карельском фронте.
Он торжественно зачитал приказ Сталина, затем сел за походный столик, завел беседу:
— Друзья мои, — обратился он душевно и просто к командирам, — первый и решительный шаг нами сделан. Сделан не плохо. Подготовка не пропала даром. Свирь нам открыла пути в глубь финской обороны. И мы будем шагать дальше вперед неудержимо. Мы не позволим финнам держаться на промежуточных укрепленных рубежах. Там, где это необходимо, будем брать в лоб, прямиком, а там, где возможно, — применим маневр, обход с тыла. Не всегда можно верить картам; а главное, не надо пугаться трудных переходов по болотам, по лесам. Кое-кто из вас помнит, как в сорок первом мы отходили от самой границы до Свири и Ошты. И все же и тогда против нескольких финских полков под Пелелахой три дня и три ночи дрался один наш батальон. С боем финны отбивали у нас каждую пядь земли: от Суоярви до Петрозаводска они двигались два месяца. От Поросозера до Медвежки — два месяца: от Питкяранты до Свири около двух месяцев, и так далее. После этого они около трех лет строили запасные рубежи, узлы сопротивления, не жалея ни железа, ни стали, ни бетона. И несмотря на это, мы будем двигаться максимальными темпами, обходя и преодолевая все и всяческие препятствия. Все, что будет мешать на пути нашего продвижения, — полетит к чорту!..
Расспросив командиров, кто из них в какой помощи нуждается, комдив наметил секторы наступления в обход Самбатукского укрепленного района с выходом на шоссе Лодейное Поле — Олонец.
Да не забудьте отличившихся представить к награде, — напомнил он.
Сергей Петрович Борода на другой день рядом с медалью «За боевые заслуги» прикрепил на свою грудь новенький орден Красного Знамени.
28. По пятам финнов
Крупные силы наших войск, богато оснащенные всеми видами вооружения, двигались от Вознесения на Шелтозеро, от Лодейного Поля на Олонец, от Масельской на Медвежьегорск и Кондопогу, угрожая финнам, засевшим в Петрозаводске.
Враг, отступая, яростно сопротивлялся и поспешно уничтожал все, что попадалось под руку. Когда наши части пришли в Медвежьегорск, город нельзя было узнать: торчали одни обгоревшие печи и трубы.
В районе Вознесения, как и в Медвежьегорске и других местах, финны, по методу немецко-фашистских факельщиков, планомерно уничтожали здания. поджигая их горючей смесью.
У одного из поджигателей мы захватили план поджогов Вознесения.
Вот текст этого плана, второпях составленного командиром третьей роты тридцать пятого отдельного саперного батальона финской армии лейтенантом Патанен:
«Разрушение деревянных зданий и уничтожение их производится путем сжигания. Для сжигания применять бутылки с горючей смесью. Расположение зданий указано на карте. Для квартала выделяется по 2 человека и 1 конная повозка. Количество бутылок с горючей смесью и норма уничтожения строений путем сжигания для каждой группы следующая: первая группа уничтожает 46 зданий 50 бутылками, вторая группа уничтожает 47 зданий 60 бутылками, третья группа уничтожает 40 зданий 50 бутылками, четвертая группа уничтожает 40 зданий 60 бутылками, пятая группа уничтожает 61 здание 80 бутылками, шестая сжигает 35 зданий, седьмая группа сжигает здания административно-хозяйственной части, восьмая группа уничтожает здания, расположенные на берегу Свири до деревни Богачево в количестве 56 зданий 70 бутылками, девятая группа уничтожает 69 зданий 85 бутылками, десятая группа — 45 зданий 60 бутылками. Всего подлежит сжиганию 539 зданий 685 бутылками с горючей смесью. Для сжигания время 5 часов.
Лейтенант М. Патанен».
Однако финские поджигатели не всегда успевали выполнять эти разбойничьи приказы. Наши объятые наступательным порывом воинские части стремительно вырывали у врага населенные пункты…
Соединение, в которое входил батальон майора Чеботарева, совершало тяжелый марш по лесам и болотам. Несколько дней подряд наши бойцы упорно пробирались туда, где финны никак их не ожидали, считая местность проходимой только для лосей и опытных охотников. Мокрые до последней нитки, не раз и не два купавшиеся по горло в грязи, бойцы шли целыми полками. Они несли на себе минометы, пулеметы, тащили мелкокалиберные пушки, и прошли там, где считалось невозможным пробраться. Выходили в тыл на дороги, ведущие к финским оборонительным рубежам, отрезая пути отступления. Двигавшиеся за ними саперные части поспешно строили дороги для прохода танков и тяжелых орудий. В наступательном движении наших войск сказалось наше полное превосходство в моральной и материальной силе…
В одну из минут отдыха, раскинув шинель, я улегся на влажной луговине и, прежде чем вздремнуть от усталости, безмолвно наблюдал за летней природой. Южная Карелия значительно отличается от северной. Здесь и высокие, пахучие, цветистые травы, и малинник, и леса, где лиственные породы мешаются с хвойными, и поля, засеянные рожью и яровой пшеницей.
Я задумался над тем, как я представлял войну до ее начала, как она складывалась в первые дни и месяцы и как идет сейчас. Да, война не бывает схожа с заранее сложившимися о ней представлениями и потому, помимо тренировки и предварительной учебы, командир и боец должны быть готовы быстро в любой обстановке ориентироваться, схватывать ее особенности и изобретать на ходу, чтобы умело бить врага и не быть самому битым.
— О чем размечтались, товарищ капитан? — вывел меня из раздумья подошедший парторг Огурцов.
— Да так кое о чем. А что такое?
— Я к вам, товарищ капитан, по делу: надо бы нам собрать парторганизацию. Много заявлений поступило с просьбой о приеме в партию.
— От кого?
— От лучших ребят, отличившихся в боях: от Одинцова, который пятерых финнов вчера срезал, от Горелова, от ефрейтора Локтева — парень лучший подрывник; от сержанта Карпенки и других. Надо рассмотреть их заявления да написать боевые характеристики…
— Это хорошо, — откликнулся я, — но только всю парторганизацию сейчас собирать нельзя. Давайте, созывайте бюро, а собрание потом, когда станет возможным…
Мы еще не успели закончить разбор всех заявлений, как снова последовал приказ — двигаться вперед. И опять на запад, все ближе и ближе к границе Финляндии шли батальоны бойцов. Вот уже наши части обошли с двух сторон древний город Олонец, раскинутый на двух речках Олонке и Мегре. К приходу Красной Армии кто-то в городе догадался собрать население и распорядился после ухода финнов тщательно подмести улицы.
В Олонце мы не задерживались. Батальон в числе других войск наступал, преследуя финнов на Видлицком шоссе. За один день были освобождены десятки деревень Рыпушкальского и Ильинского сельсоветов.
Карелы и карелки, празднично одетые, выходили на улицы, приветствовали нас, показывали ближние пути и места обходов; помогали саперам восстанавливать разрушенные мосты, задерживали и доставляли предателей.
На пыльной дороге кто-то из бойцов заметил свернутую бумажку под камешком, оказалось это письмо, оставленное советскими девушками-невольницами финского плена.
«Дорогие товарищи!
Привет от пленных девушек всем бойцам, командирам и летчикам Красной Армии! Освобождайте нас как можно быстрее от вражеского ига, от гнета финнов. Просим вас об этом, дорогие товарищи! Мы находимся в плену уже скоро три года. Больше нет терпения и сил. Нас угоняют неизвестно куда. Догоните нас. Спешите, родные! Освободите!
Русские девушки: Пахомова Серафима, Мясникова Лидия, Богданова Клавдия, Крюкова Настя…»
И еще восемнадцать девичьих подписей.
Парторг Огурцов зачитал вслух письмо девушек и сказал:
— Вот, товарищи. Можем ли мы медлить? Нет! Надо наседать на плечи лахтарей. Мы должны освободить наших девчат, вырвать их из цепких лап противника.
…Ночью по восстановленным мостам на шоссе вышли десятки наших танков. Со скрежетом и грохотом они пронеслись вперед, обгоняя наступающую пехоту. В одной из деревень танкисты захватили в плен большую группу финнов. Там же они перехватили партию советских людей, угоняемых в Финляндию, и освободили их. Люди эти около трех лет томились в лагерях за колючей проволокой, были оборваны, истощены, но не потеряли веры в свое освобождение. Они бежали навстречу бойцам, обнимали, целовали их, плакали от радости.
— Наконец-то вы пришли, наши родные! Кончено наше мученье!
Несколько девушек запели гимн Советского Союза. К их звонким голосам присоединились голоса танкистов.
— Откуда вы сумели узнать и заучить наш новый гимн? — спросили бойцы девчат.
— От одного пленного красноармейца. Его потом финны расстреляли.
Потные, пыльные, уставшие от дальних переходов пришли пехотинцы генерал-майора Грозова, а с ними и наш батальон. И опять радостная встреча победителей с освобожденным народом.
— А нет ли среди вас Пахомовой Симы?
— Есть! — откликнулась одна из девушек с бледным лицом.
— А нет ли Мясниковой Лиды!
— Я, я, Мясникова, — выбежала из толпы девушка лет восемнадцати в старой гимнастерке и полосатых мужских брюках.
— Мы нашли ваше письмо, оставленное на дороге, и всюду в деревнях спрашивали о вас. Хотели мы вас освободить, да танкисты обогнали, а письмо-то — вот оно! Сохраним как память…
— Это у нас Настя Крюкова догадалась написать. Она и под камень подсунула, хоть без адреса, а попало в те руки, какие надо. Спасибо вам, спасибо…
Два-три часа отдыха и дальше.
Перед рассветом на американской «амфибии» в сопровождении бронемашины за танками проехал генерал-майор Грозов. Здешние места были ему знакомы. Три года тому назад с остатками разрозненной дивизии он выходил, или вернее, пробивался здесь через кольцо вражеского окружения.
Тогда у генерала было не много бойцов и не то вооружение, что теперь. Но он пробился, не оставил финнам и немцам ни одного раненого бойца, всех вывел и вынес на руках. Раненые воины, неспособные держать оружие и владеть им, во время прорыва в ночное время, по приказанию Грозова громко кричали «ура», чтобы нагнать страху на врага. А шедшие впереди штыками и гранатами прорывались в лесные просторы, прочищали путь к своим, и все вместе выходили на новые рубежи строившейся обороны…
Генерал велел шоферу остановить «амфибию». Вместе с адъютантом и офицером связи он свернул с шоссе. Небольшой земляной холмик порос густой высокой травой. Генерал, склонившись, нащупал в траве три камня. Он снял фуражку. Его примеру последовали оба офицера. Генерал сказал:
— Вот на этом самом месте в июле сорок первого мы похоронили двадцать семь товарищей, погибших в бою. Вечная им память и слава!.. Хорошие были ребята, жаль, не дожили до победных дней…
Утреннее солнце, огненно-красное, глянуло сквозь ветви кустарника. На листве ивняка заискрилась роса. Вдалеке впереди громыхали гусеницами танки, гудели моторы машин. В пешем строю шли по шоссе и по обочинам пехотные полки. За тягачами тянулись дальнобойные пушки; на длинных стволах орудий, свесив ноги в обмотках и ботинках, сидели запыленные до самых глаз бойцы-артиллеристы.
Генерал повернулся к шоссе. В это время шеренгами по три в ряд подошел сюда батальон Чеботарева. Не дожидаясь, пока комбат поравняется с ним, Грозов сам подал команду:
— Батальон, слушай мою команду: за мной, шагом марш!.. — И подведя бойцов к братской могиле, построил их полукругом:
— Смирно! Шапки долой!.. Товарищи! Здесь одна из могил наших братьев, павших в боях в сорок первом году в тяжелые дни отступления. Почтим их память трехминутным молчанием.
Бойцы и командиры, склонив головы, безмолвно стояли у незабываемого этого холмика возле шоссе, ведущего с Олонца на Видлицу…
И снова шли полки вперед на запад, к финской границе, не давая финнам опомниться и задержаться на нашей истомившейся под их игом земле.
29. Последние встречи с Ефимычем
Мой бывший связной Ефимыч несказанно обрадовался, когда их часть перебросили в наступление на другой участок фронта. Ефимыч с боями прошел по следам отступавших финнов по улицам сожженного Медвежьегорска, через Кондопогу на Петрозаводск.
В финском концлагере № 5 я случайно встретился с ним и здесь же познакомился и разговорился с бывшим заключенным Иваном Лебедевым. Исхудалый, измученный, выглядевший старше своего возраста лет на двадцать, Лебедев рассказал об их страшной лагерной жизни:
— Всякое было, — говорил он со слезами на глазах, — издевались над нашим братом; хуже скотины считали они русского человека. Живьем иных в землю закапывали. К примеру скажу: повели нас на лесные работы в Кутижму. То один, то другой упадет. Итти не можем, от истощения ноги опухли. Упавших поднимаем, подпираем, не даем падать. А финский палач лейтенант Мяймпяй говорит: «Живой тот, кто работает, а кто с палкой стоять не может — значит мертвый. Таких в землю». Ромашева у нас живьем похоронили. Попробуй, скажи слово супротив — пуля в лоб…
— А вы не слыхали в лагерях Парасковьи Родиновой Мне жена будет, не попала к вам случайно? — спрашивал Ефимыч.
— Нет не слыхал. Всех разве упомнишь. Вот когда я был в лагере № 33, нас привезли в лес на работы пятьсот семьдесят человек, а с работы вернулось в лагерь только сто семьдесят. Остальные вымерли от истощения, а то и живьем есть закопаны… Тут разве всех упомнишь… Худо жили, ой, как худо. Доводили финские бесы до того, что мы и собак ели, крыс ели, старую кожу парили, варили, получалось что-то липкое, и тоже ели. Если бы не надежда на освобождение, то лучше скорая смерть, чем такая жизнь… Били нас каждый день, ой, как били. Ни женщин, ни детей не щадили. В третьем лагере был финский палач Ламбер Вейка. Он бывало сядет заключенному на голову, а на голое тело кладет мокрую, насквозь просоленную тряпку, и через эту тряпку бьет во всю силу плеткой. Тут даже самый терпеливый взвоет. А палач Вейка после порки хвастает: «Это мой способ специально для русских». Женщину тут одну — Надежду Андрееву на глазах ее детей расстреляли финны, а и вины ее только было, что она хотела детям на кормежку отбросов пособирать…
— А вы Петрозаводск видели, товарищ капитан, после финского хозяйничания? — спросил меня Ефимыч.
— Нет еще…
— При случае посмотрите, что они там понаделали…
Оказывается, Ефимыч, пока их часть стояла в районе Петрозаводска, с разрешения командира роты на день отлучился в город: он в добрые времена много раз бывал в столице Карелии. И ему сразу бросились в глаза разрушения, произведенные финнами. Еще наступая на Петрозаводск, он видел пламя пожаров, охвативших кварталы города, а теперь воочию убедился, чего недостает, что уничтожено в городе, основанном Петром Первым: сгорел лесозавод, сгорели склады, поселки рабочих, биржа сплава, причалы и пристань. На месте гостиного двора и гостиницы — обломки кирпича. Пригодный кирпич финны вывезли в Финляндию. Театр и дом культуры сожжены; почта, телеграф, типография взорваны, две электростанции уничтожены. Памятник Ленину из карельского гранита — уничтожен. Бронзовый памятник Кирову увезен в Финляндию. Домик поэта Державина — сожжен. Одна из лучших улиц — улица Пушкина изуродована до неузнаваемости и переименована. Мосты в городе взорваны, университет разрушен; исчезли целые кварталы домов, уничтожены мастерские авторемонтного завода и множество других построек, знакомых Ефимычу.
При виде всего этого у него сжималось сердце, росла ненависть к врагу.
Не имея вестей от единственного сына, ничего не зная судьбе своей жены и видя перед собой то в Кондопоге, то в Петрозаводске страшные разрушения, произведенные финнами.
Ефимыч чувствовал в душе прилив неудержимой ярости; во всех наступательных боях, не щадя себя, он вырывался вперед и строчил короткими очередями из автомата по отступающему врагу.
— В ту германскую немцев бил, в гражданскую белогвардейцев бил, а так отчаянно, как теперь, еще никогда не воевал. Вот что значит жажда мести! — говорил мне Ефимыч при этой встрече.
Надо сказать, что Ефимыч очень поправился Сергею Петровичу, который, будучи, очевидно, и о себе неплохого мнения, сказал мне однажды:
— Ну, товарищ капитан, вы умеете выбирать себе связных…
Вскоре где-то далеко за Видлицей, километров добрых двести за Петрозаводск, на подступах к финской границе Ефимыча осколком мины вывело из строя. Его и других раненых бойцов санитары уносили на носилках в укромные места для оказания первой помощи. Слышались душу надрывающие стоны, умоляющие просьбы.
И вдруг на стыке двух лесных тропинок под густыми ветвями берез навстречу раненым показались идущие цепочкой один за другим наши бойцы. Согнувшись под тяжестью боевого снаряжения, потные и усталые, они пробирались вперед на смену павшим, на смену тем же раненым, которых десятками несли санитары. И вероятно (чего греха таить) в эти минуты кое у кого могла явиться мысль о том, что они через некоторое время так же могут быть ранены, а то и убиты.
Майор Чеботарев оглянулся на шедших за ним бойцов и, вероятно, угадал их мысли.
— Посторонись! Два шага вправо! — скомандовал он, пропуская санитаров и раненых, — затем повышенным голосом произнес:
— Честь и слава дорогим товарищам, пролившим кровь за свободу и независимость нашей Родины!.. Батальон, смирррно!..
И это слово, вовремя сказанное, и команда, поданная своим бойцам, воодушевили людей. Раненые, перестав стонать. приподнимали головы. Один из раненых громко сказал:
— Ничего, ребята, малость мы пострадали, но и финнам не много дышать осталось… А мы еще поправимся и протопаем по улицам Берлина!..
— Счастливо вам добивать лахтарей, — говорили они встречным бойцам. А те, став по команде смирно, приветствовали раненых товарищей.
Позади всех, на самых последних носилках лежал окровавленный Ефимыч. Конечно, мы сразу узнали друг друга.
Я быстро шагнул в его сторону. Носилки качались в руках двух дюжих санитаров. Бледный от потери крови, не имея сил сказать громче, Ефимыч прошептал:
— А вы тут, товарищ капитан?..
— С вами, Ефимыч, с вами.
Чуть заметная улыбка появилась на его лице. Несколько шагов прошел я рядом с носилками, осведомляясь на ходу, тяжело ли он ранен и куда он будет эвакуирован на лечение.
— Рана тяжелая, — за Ефимыча ответил рослый санитар, — перебило два или три ребра. Вероятно, подлечат здесь и направят в тыл, в стационарный госпиталь…
— Ну, прощай, друг, счастливо выздоравливать. После войны напиши в мой домашний архангельский адрес, как-никак порядочное время прожили вместе, не плохо бы когда-нибудь встретиться, — проговорил я, слегка пожимая ослабевшую руку Ефимыча.
— Едва ли, капитан, — неуверенно прошептал он, — если не смерть, то время, пожалуй, навсегда разлучит нас… Желаю вам счастья, товарищ капитан…
Так мы встретились и расстались в лесу на случайном перепутье.
— Вольно! Шагом марш!.. — скомандовал Чеботарев, и батальон тронулся в путь…
30. В Заполярье!.
Еще много дней и ночей провели мы в лесах Карелии.
В сентябрьский день, когда батальон широким развернутым строем осторожно продвигался вдоль государственной границы, ко мне подбежал радист. По его лицу, взволнованному и вместе с тем веселому, я понял, что у него есть какое-то важное сообщение.
— Ну, что? Чему улыбаешься, что за новости?
— Есть новости, товарищ капитан. Финляндия выскочила из войны. Приняла все наши мирные условия. Остается теперь вышибать немцев из Заполярья, а с финнами покончено. За весь ущерб они должны расплатиться с нами и вернуть на свое место все награбленное… Там еще много кое-чего передавали, всего не упомню, потом из газет узнаем.
— Приятную весть радостно и слышать. Замечательно! Передайте парторгу Огурцову, пусть оповестит об этом всех бойцов, — и увидев перед собой повеселевшего связного, я обратился к тому:
— Смотри-ка, Сергей Петрович, наломали финнам бока. Умней и сговорчивей стали. Скоро на немцев пойдем, а там, глядишь, и войне конец подоспеет.
— Да уж и пора, товарищ капитан, чего еще, на четвертый год загнули. Кабы англичане с американцами еще поднажали, как следует, и Гитлеру петля.
— Он своего не минует.
— Да, но кровушки еще будет пролито не мало.
Парторг Огурцов, низкорослый крепыш на коротких, но упористых ногах, прыгая по качкам и цепляясь руками за стволы сосен, запыхавшись бежал к комбату.
— Товарищ майор, может митинг соберем по такому поводу?
— Нет, — ответил тот, — распорядитесь, пусть коммунисты проведут беседы во взводах да сосредоточат внимание не только на том, что мы выбили Финляндию из войны, а и на том, что бдительность и после боев остается бдительностью.
Еще два — три дня батальон «чесал» пограничную полосу, недавно бывшую глубоким тылом финских войск. Потом пришли пограничные части. Снова, через три с лишним года, в здешних местах замелькали зеленые фуражки пограничников.
Подтянутый, весь в ремнях майор, начальник только что прибывшей заставы, вручил Чеботареву пакет.
— То, что не доделано вами, теперь доделаем мы, — сказал майор, заранее зная содержание предписания.
Нашу часть отозвали обратно в дивизию. А дивизия в числе многих других соединений снималась с фронта едва успевших затихнуть боев.
В короткий срок ближайшим путем вышел батальон на шоссе. Если бы кто-либо пролетел на самолете над большой военной дорогой от границы до Олонца, от Олонца до Лодейного Поля, или же хотя бы проехал это расстояние в автомашине, его глазам представилось бы величественное зрелище: по всей этой дороге, поднимая облако пыли, бесконечной чередой, живым потоком двигалось наше войско. Гремели танки, тягачи, самоходные пушки; с песнями шли и ехали на грузовиках видавшие виды пехотинцы. За тракторами и многопарными упряжками солидно катились длинноствольные дальнобойные большой мощности орудия; вне очереди в обгонку спешили закутанные в брезент «катюши». Передвижные госпитали, понтонные саперные части, зенитчики и хозяйственные команды, все безостановочно двигалось к Лодейному Полю грузиться на поезда, а там куда будет приказано.
Выйдя на шоссе, наш батальон примкнул в хвост третьего полка своей дивизии. За последние семьдесят пять дней не мало сотен километров прошли мы по болотам, лесам и равнинам, полям и лугам южной Карелии; не мало преодолели рек вплавь и вброд; извлекли и обезвредили тысячи мин. И ни у кого ни признака усталости. Все бодры, веселы, неутомимы. Я сказал об этом Сергею Петровичу.
— Победу люди видят, — сказал он, — немец-то начал с побед, а докатился до бед. — И добавил рассудительно: — Много нам, товарищ капитан, помогла в этой войне сталинская премудрость. Пусть он живет и живет многие лета.
— Да, Петрович. Все народы всех стран в будущие долгие века станут помнить и благодарить наш народ, нашего Сталина, А фашистской заразе приближается конец… Смотри, какая силища, освободившись здесь, двинется на Берлин!..
В это время комбат Чеботарев подошел к нам. Остановившись, он пропустил мимо себя шагавшие роты бойцов, подбодрил:
— Шагайте, ребятки, шагайте. Олонец уже виден, а там устроим привал на целых два часа.
И снова мерный топот тысяч ног. Пыль, поднимаемая людским потоком, потоком военной техники, клубится, покрывает траву и кусты за обочинами и канавами дороги, пристает к мокрым от пота загоревшим солдатским лицам, лезет в ноздри, в уши, красит в пепельный цвет брови и ресницы; лишь глаза у всех светятся радостью и бодростью, блестят, не затронутые вездепроникающей пылью.
Но вот и желанный привал. Там, где две речки — Мегра и Олонка — слились в одно широкое русло, устремляясь к Ладожскому озеру, бойцы и командиры остановились на отдых. Одни, закусив на привале, сразу разулись и уснули на сухой луговине крепким сном. Другие, раздевшись догола, просушивали промокшее от пота белье и верхнее обмундирование, бросались в заманчивые, живительные речные струи и с шумом и криком барахтались в воде. Река соблазнила и меня. Я разделся. Легкий ветерок опахнул потное тело. Крупными шагами по песчаному дну реки забрел я на глубокое место. Плескаясь, поплыл на середину; нырнул и снова всплыл на поверхность. Солнце отражалось в реке, ослепительно искрилось ломаными лучами.
Я выкупался и, сменив белье, оделся. Спать уже не хотелось. Оставив бойцов на отдыхе, я неспеша пошел вдоль шоссе. Сотни и тысячи людей лежали и сидели в различных позах. У многих виднелись на груди ордена и медали, у многих желтые и красные ленточки свидетельствовали о пролитой крови, о полученных в бою ранениях.
Я всматривался в загорелые лица, но знакомых никого не было, и в то же время мне казалось, что в каждом бойце есть что-то неуловимо знакомое, близкое, родное; многих хотелось спросить — «а не встречались ли мы с вами на Ухтинском или Кестенгском направлениях?»
Неспеша дошел я до окраины Олонца. В тени между домами стояли распряженные повозки. Сонные лошади уныло жевали. За деревянной обезглавленной церковью, на площадке, в разноцветных нарядах толпились олончанки, голубоглазые и сероглазые карелки. У многих на ногах я заметил матерчатые или парусиновые с деревянными подошвами туфли — остатки финской «роскоши».
Девчата весело шумели. В центре фронтовые артисты под звуки бойкой гармоники плясали и пели:
Лежат финны вдоль дорожки, Лежат вытянувши ножки, Как лягушечки. Да, как лягушечки. Из них вытряхнули души Наши славные «катюши», Наши пушечки, Да наши пушечки…Я протолкался среди танцующих, поговорил со стариками. И вот опять раздался сигнал, головные части нашей дивизии поднялись, тронулись.
В разрушенном войной Лодейном Поле, на Свири, эшелон за эшелоном войска грузились и отходили на север к Мурманску. По запруженной дороге поезда двигались медленно; с осторожностью проходили они по временным деревянным мостам, переброшенным через бурные карельские реки.
Однако все шло благополучно. Кировская магистраль действовала на всем протяжении от Мурманска до Ленинграда.
Поезда шли в Заполярье. Я не раз выходил на станциях, от которых шли дороги на различные участки Карельского фронта и расспрашивал.
В Кочкоме спросил:
— Как идут дела здесь, на Ребольском участке?
— Благополучно. Восстанавливаем границу…
В Кеми:
— Что нового слышно с Ухтинского направления?
Мне отвечали:
— Все в порядке. Дивизия перешла финскую границу и, соединившись с войсками Кестенгского направления, лупит немцев на финской территории.
В Кандалакше я услышал, что немцы выброшены, но остатки их перекочевали на самый север, в район Петсамо и там они считают себя в полной безопасности. Будто бы крепки там у них сооружения, неприступны скалистые сопки- непроходимы быстрые реки и вязкие болота и непролазны с моря крутые, обледенелые берега…
— И все-таки преодолеем, вышвырнем немчуру, возьмем, что положено взять. Не зря же мы туда едем; не затягивать, а заканчивать будем холодный фронт. Слов нет, враг еще будет драться, и природа мать-мачеха неласкова в Заполярье. Но нас ничто не остановит…
31. Вместо послесловия
В первых числах ноября 1944 года Политическое Управление Карельского фронта выпустило листовку, в которой подводились итоги наших побед на Севере.
«7 октября по приказу Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина началось наступление наших войск на Крайнем Севере. В трудных условиях Заполярья воины Севера прорвали долговременную, глубоко эшелонированную немецкую оборону в горах, нанесли врагу огромные потери в живой силе и технике, вернули в семью наших городов древний русский город — Печенгу. За эту ратную победу великий Сталин объявил благодарность нашим войскам. Части и соединения, наиболее отличившиеся в боях за Петсамо, получили наименование „Печенгских“.
Воодушевленные высокой оценкой Верховного Главнокомандующего, наши войска продолжали стремительное наступление и разгромили группировку немецких войск в районе Сальмиярви — Ахмалахти, вернув нашей Родине богатейшие местонахождения — никелевые рудники. В честь этой победы Москва салютовала отважным войскам Севера.
Продолжая преследовать потрепанные части двадцатой Лапландской армии немцев, наши бойцы пересекли государственную границу Норвегии и, в результате ожесточенных боев и героических переходов по горам Северной Норвегии, двадцать пятого октября овладели городом Киркенес. В третий раз благодарил наши войска великий Сталин…».
Батальон майора Чеботарева в числе других частей участвовал в походах и боях за Советское Заполярье и сражался неплохо.
Вскоре после этого я расстался с Чеботаревым на станции Кола под Мурманском. Разговаривать долго было некогда. Война была еще не кончена — и он и я спешили.
Мы предполагали снова встретиться, но нивесть когда и неизвестно в каком месте, потому что его послали на Запад, меня — на Дальний Восток.


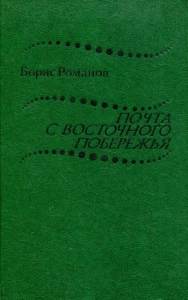

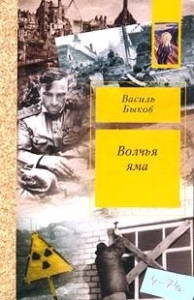

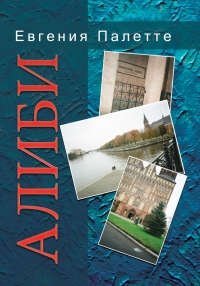





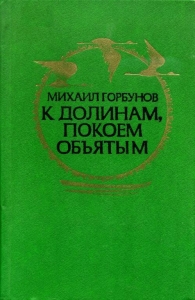
Комментарии к книге «На холодном фронте», Константин Иванович Коничев
Всего 0 комментариев