Василий Милютин ЛАГ ОТСЧИТЫВАЕТ МИЛИ (Рассказы)
Приказ адмирала
Никакие уговоры не помогли. Адмирал отказался лежать в каюте.
— Останусь в центральном посту, — сказал он командиру. — Здесь дышится легче. Не беспокойтесь, вам я постараюсь не мешать…
Из выкрашенных суриком брусьев, заготовленных на случай заделки пробоин, матросы сколотили раму, обтянули ее брезентом и установили наклонно. Получилось что-то вроде шезлонга. На нем-то и полулежит теперь обложенный подушками раненый командир бригады. Стянутая бинтами, судорожно вздымается его грудь. Хриплое дыхание перемежается удушливым кашлем.
Матросы, пробегая по узкому проходу, замедляют шаг и жмутся к переборке, чтобы не задеть постель. Лица удрученные, виноватые: не уберегли!
Над шезлонгом склонился капитан-лейтенант Солодов, командир корабля.
— Товарищ адмирал, разрешите повернуть в базу? Ваше положение очень тяжелое.
Раненый не отвечает. Голова закинута назад. Стиснуты веки. Так не бывает у спящих. Так бывает при страшной боли. Солодов обращает внимание на руки комбрига, большие, грубые — руки рабочего человека. Сжимаются и разжимаются пальцы, комкая сукно одеяла.
— Вы забыли, чего нам стоило дойти сюда… — слышит капитан-лейтенант прерывистый шепот.
— Нет. Но…
— Без всяких «но», командир. Приказываю: вперед!.. Слышите?.. Только вперед!
— Это немыслимо, товарищ адмирал. — В голосе капитан-лейтенанта отчаяние.
— Выполняйте мой приказ, командир… Если даже меня не станет.
Комбриг задохнулся в кашле и затих Подбежал корабельный врач, припал ухом к его забинтованной груди. Определил: обморок. И дрожащими руками открыл коробочку со шприцами.
Лодка по-прежнему идет на запад, экономическим подводным ходом: два с половиной узла — четыре с половиной километра в час. Пешеход шагает быстрее. Томительно текут часы. Безмолвно сменяются матросы на боевых постах. Только командир не знает отдыха. Настороженно вслушиваясь, не отрывая взгляда от приборов, он сидит в кресле у шахты перископа. Неподалеку тяжело, шумно дышит комбриг. Его присутствие чувствуют все, кто находится в отсеке. Даже когда он теряет сознание.
В редкие минуты, когда боль несколько стихает и дает думать, раненый адмирал перебирает в памяти события последних дней. По давней привычке пытается оценить, подытожить сделанное и увиденное.
Что он опять упустил? Неужели правы те, кто отговаривал его отправиться в этот поход? А отговаривали все. Командующий флотом целую неделю не давал согласия. «Пошлите любого командира дивизиона или флагманского специалиста. Разве мало у вас опытных офицеров?» Но ему, контр-адмиралу Градову, надо было идти самому.
Обязательно самому. Почему? Толком он не мог объяснить. Не будешь же докладывать Комфлота, что так велит сердце…
Нынешней весной он одну за другой проводил в море четыре лодки. Три не вернулись. Четвертая пришла изувеченной, с полуживым экипажем. Месяц подводники блуждали среди минных полей, подвергались беспрерывным атакам вражеских кораблей и самолетов. Но так и не прорвались в море.
Недавно на столе начальника политотдела Градов увидел большую стопку партийных билетов. Они принадлежали тем, кто не вернулся. Уходя в море, подводники все документы оставляют в базе. Адмирал открывал красные книжечки, всматривался в фотографии. Родные лица. Он гордился этими людьми. Не было предела их отваге и дерзости. Твердо верил: такие выполнят любую задачу.
И вдруг их не стало. Просто в голове не укладывается. Что случилось с ними? Этого никто не скажет. Подводники, как и разведчики, на войне погибают безыменными. Одно знает комбриг: до последнего вздоха они были коммунистами.
В кармане кителя у комбрига хранится тоже такая вот красная книжечка. Совесть большевика — вот что побудило его выйти в море.
Не размыкая век, адмирал горько усмехается. Если бы он знал, что в самом начале похода так бессмысленно попадет под пулю!..
Как это было?.. На рассвете лодка заряжала аккумуляторы. За перестуком дизелей не расслышали гула авиационных моторов. «Юнкерс» летел на бреющем, и его заметили, когда он был от лодки в каких-нибудь пяти кабельтовых. Враг хорошо освоил этот коварный прием. Может, не впервые он так нападает на наши лодки?
Треск пулеметной очереди комбриг услышал уже после того, как его сильно толкнуло в грудь.
…Тихо в отсеке. Сдерживая стон, морщится от боли адмирал. И от обиды: нелепо все сложилось.
А командир корабля сидит в своем кресле и тоже вспоминает то утро. Внезапное появление самолета ошеломило его. Погрузиться, увернуться от удара — поздно. Вывел из замешательства возглас адмирала:
— Огонь!
Артиллеристы носовой пушки мгновенно выполнили команду. После второго же выстрела «юнкерс» свернул с боевого курса. Сброшенные им бомбы разорвались в стороне от лодки.
Солодов подал сигнал срочного погружения. Адмирал шагнул к открытому люку — и зашатался. По трапу его спустили на руках. А до этого и виду не подал, чтобы не отвлекать внимание людей, занятых боем. «Железный человек», — думает о нем Солодов. В сущности, комбриг второй раз спас лодку от гибели. Первый раз — когда ее нащупали катера и забросали глубинными бомбами. Никакое маневрирование не помогало. Катера вцепились, как гончие. И тогда адмирал подвел Солодова к карте:
— Видите отметку девяносто три? Выходите сюда и ложитесь на грунт. Здесь впадина. Здесь сам черт нас не найдет.
И действительно, отсиделись в этой яме. Катера покружились-покружились и ушли.
Офицер взглянул на адмирала. Настоящий командир! Таким бы стать!
Солодов поднимает перископ. Прижавшись глазами к резиновым воронкам окуляров, поворачивает тугие рукояти.
— Пеленг сто двадцать, шум винтов! — докладывает акустик.
Капитан-лейтенант тотчас опускает перископ, приказывает боцману идти на погружение.
Начинается! Корабли приближаются стремительно.
Клекот их винтов проносится над головой. Лодку бросает так, что командир еле удерживается на ногах. Звенит разбитое стекло, гаснет свет. Все новые и новые взрывы сотрясают корабль. В слабом мерцании аварийного освещения командир отдает приказания рулевым и электрикам. Лодка меняет курсы, глубину погружения, скорость хода. А взрывы все грохочут и справа и слева, порой ужасающе близко. Нет, не уйти!
Командир решается на последнее. Будь что будет! В прошлом году он применил эту уловку. А вдруг и на этот раз поможет? Солодов поворачивает лодку влево и дает такие обороты электромоторам, что корпус начинает вибрировать. Грохот взрывов перемещается за корму и постепенно слабеет. Кажется, оторвались… Солодов облегченно вздыхает и приказывает застопорить электромоторы.
— Командир! — доносится до его слуха слабый голос.
Капитан-лейтенант подходит к адмиралу. Матросы сменили лопнувшие лампочки, и отсек снова залит светом. Комбриг из-под полуопущенных век смотрит на капитан-лейтенанта. Осунувшееся лицо Солодова искрится потом.
— Как вам удалось? — спрашивает комбриг.
— Ушел на минное поле. Сюда не сунутся.
— Не подорвемся?
— Нет. Мины ведь у поверхности. А мы прижимаемся к самому дну. Вот если магнитные попадутся… Но немцы сами их трусят и в своих водах никогда не ставят.
— Спасибо, командир.
Солодов пожал плечами: за что? Наоборот, он боялся, что адмирал отругает за риск. В прошлом году он потому и не сказал никому, что забирался на минное поле.
Заметив, что адмирал закрыл глаза, капитан-лейтенант удалился. Он и не догадывался, какую бурю мыслей вызвали его слова в голове комбрига.
Молодой командир не придавал значения своему открытию. А ведь это единственный выход. Ключ к решению всей задачи!
— Карту! — попросил адмирал.
Солодов взял карту со стола штурмана и развернул ее перед адмиралом. Комбриг всматривается в тонкую красную черту предварительной прокладки. Ее перенесли сюда из боевого задания, подписанного им, адмиралом Градовым. Красная линия извивается путаным зигзагом. Она тянется между минными полями, по узким фарватерам, которыми пользуется враг. С каким трудом добыты сведения об этих проходах! Флот терял людей и самолеты. Разведчики проникали во вражеский тыл, нападали на штабы, чтобы по захваченным документам определить лазейки в минных полях. Командир бригады посылал лодки по этим фарватерам. Считал, что так будет безопаснее: уж здесь не напорешься на мины. И забывал о том, что эти узкие проходы особенно тщательно оберегаются врагом, а наши подводники и уклониться не могут от удара: в узкости их маневр скован до последней степени…
— Где наше место, командир?
Капитан-лейтенант острием карандаша пометил точку на заштрихованном пятне. Такими заштрихованными пятнами— минными полями — покрыт весь залив.
— Какова плотность аккумуляторов?
— Миль девяносто еще сможем пройти.
Комбриг прикинул по карте расстояние.
— Возьмите линейку и проведите прямую в точку, где намечено закончить форсирование.
— Но это нарушение боевого задания!
— А мой приказ не боевое задание? Действуйте, командир!
И вновь лодка двинулась вперед. Два с половиной узла. Скорость пешехода. В отсеке гнетущее безмолвие. Тишину нарушает легкий шорох за бортом. Он начинается в носу и медленно движется все ближе, ближе. Люди замирают.
Это скребется смерть: корпус лодки касается минрепа, тонкого стального троса, на котором держится мина. Зацепится трос за какой-нибудь выступ, мина подтянется к телу корабля — и тогда все… Скрежет обрывается за кормой. Люди переводят дыхание, разминают онемевшие плечи. Пронесло! Но через несколько минут все повторяется…
Отсеки давно уже не вентилировались. Дышать все труднее. Чтобы сберечь остатки кислорода, моряки стараются меньше двигаться.
Раненому становится хуже. Дышит часто, с перебоями. Врач не отходит от него. Похоже, только уколы поддерживают жизнь в ослабевшем теле.
После долгого обморока адмирал с трудом раздирает слипшиеся веки. И первое, что видит, — полдюжины высоких прямоугольных коробок вокруг своего шезлонга. Это «рухты» — аппараты регенерации воздуха. Подозвав командира, он показывает на них:
— Зачем?
— Матросы притащили, товарищ адмирал.
— А сами задыхаются? Убрать!
— Есть!
Но спустя несколько часов, когда раненый вновь открывает глаза, он видит вокруг себя те же коробки.
— Командир, почему они здесь?
— Матросы отказываются от них, товарищ адмирал.
— Да зачем они нам? — поясняет трюмный — широколицый парень в ватнике. — Мы здоровые, что с нами станет?..
— А это? — адмирал показывает глазами на две пышушие жаром электрические печи.
В отсеке горит одна маленькая лампочка — энергию надо беречь: всплывать для зарядки аккумуляторов на минном поле нельзя — подорвешься наверняка. А каждая печь пожирает тока больше, чем полсотни ламп.
— Выключить!
Трюмный послушно выдергивает штепселя. Но адмирал знает: стоит ему закрыть глаза — и печи снова будут включены, хотя борьба идет за каждый ампер-час и люди уже вторые сутки без горячей пищи: не хотят тратить энергию на электрическую плиту.
Что было дальше, адмирал не помнит. Его разбудила качка. Сначала показалось, что это во сне грезится. Палуба тихо кренилась из стороны в сторону. Дышалось легко и свободно. Он открыл глаза. Нет, на самом деле лодку покачивает. Ярко сияют все лампы. Неподалеку гудит вентилятор, нагнетая в отсек влажный прохладный воздух. Ветер из патрубка бьет прямо в лицо.
Рядом стоит капитан-лейтенант. Улыбается.
— Где мы? — спрашивает комбриг.
— В открытом море. Кончаем зарядку аккумуляторов.
— Все благополучно?
— Порядок. Остаток пути мы шли с комфортом. Фашисты нам сами дорогу проложили.
— Как это?
— Два тральщика тралили фарватер. Я и пристроился им в хвост. Так они и провели нас через минное поле.
— Вы отлично справились с делом, командир. А сейчас немедленно передайте в штаб шифровку от моего имени: «Подводным лодкам девятой, тридцать третьей, тридцать восьмой, пятидесятой и пятьдесят четвертой выйти в море. Следовать минными полями на предельной глубине погружения».
— Как бы враг не засек нашу рацию, — выразил опасение Солодов.
— Пусть засекает. Пусть знает, что мы в море. Мы покажем ему, кто здесь настоящий хозяин. Приступайте к «охоте», командир!
— А как вы?
— Что я? Чувствую себя превосходно. У вас на лодке чудесный климат. Курорт! Впереди полтора месяца плавания. За это время от моей раны и следа не останется. Мы еще повоюем!
…Лодка погрузилась. Подводники приступили к привычной работе — поиску и уничтожению вражеских транспортов.
Возвращайтесь с победой!
Снова грохот. Словно лавина громадных камней рушится на лодку, и корпус ее содрогается и звенит так, что мы глохнем. Втянув голову в плечи, съежившись, матрос Касаткин сидит на порожке возле торпедных аппаратов и после каждого взрыва кладет перед собой спичку. Он опорожнил два коробка. Больше спичек нет, и торпедист ломает их пополам. В ожидании очередного взрыва Касаткин забывается и чиркает спичку о коробок. Зашипел фосфор. Испуганно вздрогнул матрос. Но гасить не понадобилось: головка вспыхнула и погасла. В воздухе, который нас окружает, уже ничто не может гореть.
Наша подводная лодка третьи сутки лежит на грунте, а на поверхности моря рыщут вражеские катера, сбрасывают на нее глубинные бомбы.
Матросы лежат или сидят не двигаясь. Остатки сил тратятся на дыхание. Дышим часто-часто, раскрывая рты, как рыбы, выброшенные на песок. Лица кажутся рябыми: пот выступает бисеринами и не стекает.
Я лежу на верхней койке. Перед глазами электрическая лампочка — единственная уцелевшая в отсеке. Раньше ее прикрывал матовый колпак. Он давно разлетелся, и теперь белая подковка раскаленной нити лезет мне в глаза, жжет мозг, мешает дышать. И никуда не денешься от нее: притягивает как магнит. Временами она расплывается, меркнет; я проваливаюсь в темноту, в ужасе пытаюсь удержаться. И когда опять вижу ее, жаркую белую подковку, то уже рад ей: значит, еще живу!
У нас мало надежд на спасение. Если катера и уйдут, все равно мы только чудом сможем добраться до базы. Корабль изувечен. Когда нам в последний раз удалось всплыть, командир послал меня и старшину 2-й статьи Хмару осмотреть вертикальный руль. Мы шли по верхней палубе, и озноб пробегал по телу. В легком корпусе вмятины и рваные дыры. Надстройка в корме разворочена. Стальные листы висят лохмотьями, из них торчат погнутые винты червячной передачи. Отремонтировать руль мы, конечно, не смогли. Кое-как после часа мучений поставили его в нейтральное положение. Потом вражеские катера снова загнали лодку под воду и еще бомбили ее. Мокрые, озябшие, мы с Хмарой отогревались в самом теплом — электромоторном — отсеке, когда свалилась новая напасть. На щите ходовой станции с треском вспыхнула фиолетовая молния, отсек заполнился дымом. Сгорела пластина автомата. Правый электромотор стал. Лодка больше не могла маневрировать под водой. С тех пор она и лежит на дне.
Мы знаем, что и исправному кораблю не просто преодолеть десятки миль, отделяющие нас от родных берегов. Я помню, как мы выходили в море.
— Возвращайтесь с победой! — сказал нам в напутствие адмирал. В гавани было темно, но кровавые всполохи трепетали по всему горизонту. На обоих берегах залива шел бой. На востоке небо тоже озарялось алыми зарницами: враг обстреливал Ленинград. Вскоре и мы попали под огонь. Стреляли батареи на финском берегу. Вцепившись в нас щупальцами прожекторов, они били и били, не жалея снарядов. Я нес вахту на мостике и все видел. Возле борта на черной воде появлялись светло-зеленые пятна, и тотчас на том месте вырастали освещенные изнутри стеклянные столбы. Гром катился по морю. Свистели осколки и щелкали о надстройку. На выручку нам пришли артиллеристы ораниенбаумского «пятачка». Тяжелые орудия Красной Горки и Серой Лошади ударили по финскому берегу. Один за другим слепли прожекторы, замолкали вражеские батареи. Но на смену им появлялись новые. И снаряды по-прежнему падали вокруг лодки и сопровождавших ее кораблей. Клуб пламени взвился над ближайшим к нам тральщиком. Там, где только что был корабль, теперь в лучах прожекторов клокотала вода, и в ней барахтались люди. По приказанию командира я повернул штурвал. Лодка приблизилась к тонущим. Но с воды послышался крик:
— Не останавливайтесь!
И мы прошли мимо: не имели права задерживаться под огнем. Мы должны были выйти в море.
Потом в подводном положении форсировали минные поля. Застревали в противолодочных сетях. Все-таки прорвались. Мы подстерегали вражеские конвои и нападали на них. После каждой атаки нас преследовали фашистские корабли и самолеты. Уйдя от них, мы опять подкрадывались к конвоям. Иссякали запасы. Но ничто не заставило бы нас покинуть позицию, пока на борту имелась хоть одна торпеда. Чтобы сберечь питьевую воду, кок варил концентраты на забортной воде, добавляя в нее сахар (благо, Балтийское море не столь уж соленое). Варево это мы одолевали с трудом, больше из уважения к стараниям нашего кока, а после изрядно маялись животами.
За полтора месяца плавания лодка потопила четыре транспорта. А нам все было мало. Мы хотели вернуться не просто с победой, а с победой большой, чтобы приблизить час окончательного разгрома врага. Согласны были получать полстакана воды и кусочек сухаря в сутки. Но подводники не могут воевать без торпед. А они кончились. Осталась одна. У нее испорчен прибор Обри — устройство, которое удерживает ее на заданном курсе. Стрелять такой торпедой нельзя: кто за нее поручится, возьмет да и повернет на нас. Вон она растянулась у борта, длинная — во весь отсек. Слой автола, покрывший ее бока, испещрен надписями: «За Москву!», «За Ленинград!», «За Украину!», «Получай, Гитлер, балтийский подарок!» Торпеда адресовалась врагу, а лежит бесполезным грузом, мертвым балластом, и матросы косятся на нее со злостью.
Касаткин аккуратно ломает и кладет спички — считает бомбы. Тихий и аккуратный, он делает это добросовестно, как и любое дело. Некоторые думают, что подводники — люди особенные. Глупости! Люди как люди. Простые и разные. И скромный, как девушка, Касаткин, и задиристый весельчак Хмара, и десятки других моих товарищей — все они славные ребята и самые простые. Смелые они, крепкие, но, как и все люди, любят жизнь и хотят жить.
Сейчас нам выпали тяжкие минуты. Мы задыхаемся. Будь я один, давно потерял бы рассудок. Но вместе мы все вынесем.
Что ж, мы свое сделали. Четыре потопленных транспорта с грузами стоят куда дороже нашего корабля. И людей на них было во много раз больше, чем нас. Но когда речь идет о твоей судьбе и судьбе твоих товарищей, гонишь к чертям арифметику. Тут никакие цифры не утешат.
Неужели конец? Неужели наш командир ничего не придумает? У нас вся вера в него. Только он может спасти. Своим умом, своей волей. Есть все же на земле необыкновенные люди. И один из них — наш командир. Мне это видно лучше других. Я рулевой, на вахте всегда рядом с ним. Я первый ловлю его команды, мне кажется, что и мысли его читаю: у него такое выразительное лицо, во всяком случае, я очень часто их угадываю, и потому мне понятен каждый его жест. Потеряй мы командира, нас давным-давно потопили бы.
А мы живем. Пока живем…
Белая подковка лезет в глаза. Всякое терпение лопнет. Поднимаю отяжелевшую, непослушную руку, чтобы вывернуть осточертевшую лампочку.
— Пусть горит, — останавливает меня Касаткин.
Да, пусть горит. Она и так погаснет, когда сядут аккумуляторы. Нас тогда уже не будет. Когда-нибудь, после войны, лодку поднимут. В темное нутро ее спустятся люди и в молчании снимут фуражки. Они не узнают наших имен: все документы мы сдали в базе. У меня в кармане ватника только карточка Симы. Любительская фотография (сам снимал!) и сейчас уже желтая, потрескавшаяся, а к тому времени совсем поблекнет…
Симочка — так ее все зовут — маленькая, смешливая телефонистка. А я зову ее Кубышкой: она сильно располнела в последнее время. Мы ждем ребенка. Неужели я так и не узнаю, кто у нас будет — сын или дочь?
…Нестерпимая боль дергает виски. Это толчки загустевшей без кислорода крови, а мне чудится, что кто-то бьет меня молотком так, что трескаются кости черепа. Заслоняю обеими руками голову, корчусь, кричу.
И вдруг дышать становится легко, словно морским ветром пахнуло в лицо. Глотаю и глотаю этот ветер. Унимается боль в висках. Открываю глаза. Но где же лампочка? Хочу протереть глаза, пальцы натыкаются на резину. Маска кислородного прибора. Ничего не понимая, поворачиваю голову. Передо мной — командир. Глубоко запавшие, утомленные глаза улыбаются.
— Ну что, воскресли? Между прочим, я считал вас покрепче…
Командир жив! Командир улыбается! Это действует лучше кислорода. Я сползаю с койки.
— Пошли, — говорит он мне, — вы можете понадобиться.
Командир идет мимо коек. Скрипят осколки стекла под его валенками (он любит, чтобы ноги были в тепле). Капитан-лейтенант заговаривает с матросами. Тем, кто слаб, дает подышать кислородом. Нам он запретил пользоваться кислородными аппаратами индивидуальных спасательных костюмов, но свой не бережет.
Во втором отсеке одуряюще пахнет хлором. В аккумуляторной яме треснул эбонитовый бак элемента. Кислота вылилась и смешалась с проникшей внутрь корпуса морской водой. Стал выделяться хлор. Электрик Комов, кряжистый, медлительный матрос, надел противогаз, залез в яму и захлопнул за собой крышку люка. Он пробыл там, пока не осушил трюм. Вытащили его без сознания, с разъеденными кислотой руками. Сейчас его привели в себя. Лежит бледный, с запекшимися губами. Врач бинтует ему руки. При виде командира в покрасневших глазах матроса блеснули горделивые искорки.
— Нет больше газу, товарищ командир!
И закашлялся: хлора хоть и не столь много в отсеке, но горло дерет.
— Вы орел, Комов! — говорит командир. — С такими не пропадем!
У вскрытого гирокомпаса копается штурманский электрик Фролов — стройный, на редкость красивый блондин. У нас не сохранилось ни одного компаса: магнитный лопнул, и из его котелка вытек спирт, гироскопический тоже не действует, и Фролов бьется с ним, хотя и сам сомневается, удастся ли исправить.
В центральном посту командир не задержался.
— Сначала обойду весь корабль.
Я было примостился на своем вертящемся стуле у бездействующих манипуляторов рулей, но оглянулся на командира и понял, что отпускать его одного нельзя. Он едва волочит ноги. Ему не хватило сил открыть переборочную дверь. Открываем вдвоем. Я иду с командиром, чтобы поддержать его в случае чего.
Мы побывали в четвертом и пятом отсеках. Заглянули в душный электромоторный отсек. Здесь сидел на разножке матрос и опиливал зажатую в коленях — чтобы шума меньше было — толстую медную пластину. Моряк водил напильником по металлу, и красные опилки смешивались с потом, который падал с его пунцового от удушья лица.
— Ну как, старшина? — спросил командир.
Исцарапанной в кровь ладонью моряк откинул со лба мокрую русую прядь.
— Готово. Сейчас поставим.
Пластину автомата электрики опиливали по очереди: сил у каждого хватало минут на десять. Теперь работа закончена. Лодка получит ход.
Мне стыдно. Пока я предавался горестным раздумьям, созерцая лампочку перед своим носом, товарищи трудились, чтобы спасти корабль. А им было куда хуже, чем мне в прохладном первом отсеке.
— Что ж, рулевой, — трогает меня за рукав командир, — пора и нам на свой пост.
Капитан-лейтенант перешагнул через высокий порог — комингс и пошатнулся. Едва успел уберечь его от падения. Сбежались мотористы (мы были уже в дизельном отсеке).
— Чего ждешь? — накинулись на меня. — Кислород скорее!
Накладываю маску на полуоткрытые губы, открываю вентиль. Командир встряхивается, вырывает у меня аппарат.
— Отставить! Кислород только для самых слабых!
Мы помогаем ему подняться. Опираясь на мое плечо, он ступает по узкому проходу, и опять битое стекло хрустит под подошвами его валенок.
В центральном отсеке нас встречает акустик:
— Ушли!
Только теперь мы замечаем, что взрывов не слышно.
— Подозрительно… — Сдвинулись брови командира. — Не похоже это на гитлеровцев.
— Шторм наверху, — высказывает догадку акустик. — Сдрейфили болтанки.
— Тогда попробуем, — говорит командир. — По местам стоять, к всплытию!
Старшина трюмных, ухватившись за маховик клапана, ждет сигнала.
— Продуть среднюю! — командует капитан-лейтенант.
Слышно, как шипит сжатый воздух. Сейчас лодка оторвется от грунта, вынырнет на поверхность, и мы надышимся вволю. От одного этого ожидания становится веселее. Глаза всех прикованы к глубиномеру. Но стрелка его не движется.
— Стоп!
Командир оглядывает циферблаты манометров. Приказывает продуть цистерну быстрого погружения. Результат тот же самый. В чем дело? Повреждены цистерны? Или лодку так засосало в ил, что ей не оторваться? Командир решается на крайний шаг: воздух подается сразу во все балластные цистерны. Стрелки манометров катастрофически клонятся к нулю. Вот и все замолкло. Баллоны пусты…
Командир устало опускается в кресло.
— Давайте думать, товарищи.
Что тут придумаешь? Офицеры пожимают плечами. А командир свое — приказывает вахтенному:
— Передайте по отсекам: всем думать, как продуть балласт!
Мы молчим. Совестно поднять глаза. Командир к нам обратился за помощью, а мы в эту самую горькую для него минуту ничем не можем пособить ему… Он всегда находил для нас верный совет, всегда мог ободрить, вселить уверенность в успехе. А мы… Как обидно чувствовать себя беспомощным!
В отсеке сейчас много людей. Дышать становится невмоготу.
— В центральном! — слышится из переговорной трубы. Я узнаю голос Касаткина — Воздух есть. В торпеде. Мы подключаем ее к магистрали.
Старшина трюмных в сердцах хлопает себя по темени. И любой из нас готов последовать его примеру. Как мы забыли про нее, горемычную? А ведь в ней добрый центнер воздуха — да, да, воздух тоже имеет вес, тем более если он сжат до двухсот атмосфер!
Через полчаса баллоны наполнены: стрелки манометров на красной черте.
Командир сам подходит к клапанам станции погружения и всплытия. Минуту помедлив, рывком поворачивает маховик сразу на несколько оборотов. Над головой теперь не шипение, не свист, а рев, от которого мы невольно приседаем.
Лодка качнулась. Палуба давит нам на подошвы.
— Пошла! — орем во весь голос.
Стрелка глубиномера движется все быстрее. Нас не смущает, что всплываем с большим дифферентом. Лишь бы вырваться из пучины, а там все выправим!
Внезапно мы валимся с ног, падаем друг на друга. Ничего, это просто качка! Командир взбирается по скоб-трапу, отдраивает рубочный люк. Из шахты на нас низвергается водопад, а вместе с ним холодный ветер. Какой он чудесный — соленый, душистый. Мы хмелеем от него, обнимаемся, хохочем. Надсадно гудят вентиляторы: пусть ветер гуляет во всех отсеках!
Вслед за командиром на мостик поднимаются штурман, сигнальщик и я. Хотя что мне там делать? Ведь руль закреплен неподвижно.
А море бушует, швыряет пеной в лицо. Лодку бросает неистово.
Запущены дизели. Еще сильнее ударил ветер.
— Штурман, курс! — требует командир.
Лейтенант мнется.
— Компасы не работают, — напоминает он.
— По звездам! — сердито торопит командир.
Штурман, запрокинув лицо, смотрит в небо. Хорошо, что оно чистое, все звезды наперечет.
— Мошкин, — говорит мне лейтенант, — становитесь вот сюда. — Он подводит меня к рубочному люку. — Видите на хвосте Малой Медведицы вон ту звездочку, поярче? Это Полярная звезда. Старайтесь, чтобы она приходилась над левым срезом козырька рубки. Понятно?
Чего уж тут не понять?! Но как повернуть на эту звезду, если руля нет?
— Теперь у нас руль — дизеля, — говорит командир. — Куда нам повернуть — вправо? Значит, командуйте… — Он наклонился над открытым люком: — Правый убавь!
— Правый убавь! — эхом откликается внизу вахтенный центрального поста, репетуя команду мотористам.
Черный угол козырька рубки гуляет по небу. Но примечаю: звезда подплывает к нему справа. Вот она минуту колеблется на месте.
— Оба полный! — кричу во весь голос.
— Молодец! — хвалит командир. — Так держать!
И пошло. Смотрю в небо — и, кроме звезд, прыгающих и танцующих над рубкой, нет для меня ничего на свете. Только и знаю, что временами кричу вниз:
— Левый убавь!.. Оба полный!.. Правый убавь!
Слышу, трюмные полезли в надстройку. Выползли мокрые с ног до головы. Докладывают командиру, что пробит трубопровод, потому воздух и не доходил до балластных цистерн. Снова трюмные полезли в грохочущий водоворот— ставить бугель на поврежденную трубу. Значит, сможем и погружаться, и всплывать.
Комендор с добровольными помощниками работает у носовой пушки. Их накрывает волной. У орудия заело замок. Долго не поддается, но наконец открылся: догадываюсь об этом по торжествующему гоготу, который несется из темноты. Хотя и не очень могучее, но оружие у нас есть!
Бывает с солдатом: изранен, изломан весь, но дайте ему передышку — и он встанет и снова будет наводить страх на врага. Так и корабль: как бы ни был истерзан — воспрянет, лишь бы люди на нем были настоящие.
Пришел старшина Хмара:
— Сменяться тебе пора.
Нет, никому не уступлю я своей вахты. Остаюсь на мостике. Чертыхнулся Хмара, но настаивать не стал.
Кок принес еду. Я с аппетитом стоя хлебал сладко-соленую бурду, и растроганный кок чуть не плакал, слушая торопливый звон ложки о дно миски.
Море ревет и грохочет. Штурман измерил силу ветра: десять баллов. Бушуй, родное! Ты всегда было нашим союзником. Загони катера подальше в бухты, открой нам дорогу!
Лодка, то ныряя, то взлетая, мчится по волнам. Мы держим путь по фарватеру среди минных полей. В другое время не рискнули бы идти здесь в надводном положении. А теперь идем: в такой шторм фашисты в море не сунутся.
Мотористы выжимают из двигателей все, что они могут дать. Мы движемся в десять раз быстрее, чем раньше, когда пробивались на позицию: ведь тогда мы ползли под водой самым тихим ходом.
Утром, когда померкли звезды, мы увидели вдали скалистый остров. Лавенсари! Мы почти дома. Тогда-то вылез на мостик штурманский электрик Фролов. Не узнать нашего красавца. Щеки втянулись, заросли рыжей щетиной. Растрепанный и очумелый, выскочил он из люка.
— Гирокомпас работает!
Уши заложило от его крика. Тронулся, похоже. Кому нужен теперь его компас!
А командир горячо жмет ему руку:
— Благодарю, товарищ Фролов! Вы отличный мастер!
И я позавидовал парню. У меня, наверно, не хватило бы упорства столько канителиться с путаницей проводов и колесиков. На это способен только наш Фролов.
…Мы дома. Четырежды ухает наша носовая пушка. Слушай, страна: мы вернулись с победой!
Мы стоим на помятой, искореженной палубе нашего корабля. Похудевшие, грязные, в порванной одежде. Но нет людей счастливее нас. И я ни на какие блага на свете не променяю своего места в шеренге товарищей на заржавевшей, разбитой палубе.
Через месяц-полтора вместе с рабочими мы отремонтируем корабль, и нам снова скажут на прощание:
— Возвращайтесь с победой!..
И мы опять выйдем в море. Навстречу тысячам опасностей и невзгод. Пойдем без колебаний, потому что это наше место в общем строю, потому что без этого мы не мыслим жизни, пока небо Родины не очистится от туч военной грозы.
В уставе записано
Разомкнутым строем тральщики и катера-охотники подошли к невидимой кромке минного поля и застопорили машины. Лейтенант Виталий Левушкин, командир МО-211, огляделся. Его катер крайний на правом фланге. Где командир дивизиона? О, далеко! Значит, нужно прижаться к «Двести десятому». На катере Левушкина в недавнем бою повреждена рация. Поэтому связь по радио он может поддерживать только через соседа. Тот поблизости. Саша Коротков всегда рядом. Вон он беспокойно вертится на мостике — низенький, толстый в своей слишком широкой куртке.
Левушкин тоже не может устоять на месте. Сойдя на палубу, меряет ее медленными тяжелыми шагами. Сигнальщик, матрос Парамошкин, хитровато щурится: знакомая походка. Так ходит командир дивизиона — грузный, молчаливый капитан 2 ранга. Лейтенант, как и все молодые офицеры, старается быть похожим на него. Тонкое худощавое лицо Левушкина серьезно, глаза из-под насупленных, побелевших на солнце бровей глядят строго.
И вдруг лицо лейтенанта расплывается в мальчишеской улыбке. Матрос догадывается, в чем дело. Сегодня командир получил пачку конвертов, надписанных одним и тем же почерком. Почта приходит на остров редко, зато целыми тюками. Такой день для моряков праздник. И каждому хочется растянуть радость. Некоторые даже не распечатывают сразу письма. Обязательно припрячут, чтобы почитать после, на досуге. Парамошкин, задраивая перед походом иллюминатор в командирской каюте, заметил: вся стопка писем лежит на столе нетронутой.
Вечер тихий, теплый. Огромное розовое солнце нехотя погружается в воду, окрашивая напоследок море во все цвета радуги. Трудно поверить, что идет война, что враг совсем близко — на обоих берегах залива. Нашим остался только небольшой остров, где сейчас базируются катера-охотники и тральщики. Этот одинокий, заросший лесом клочок земли для фашистов словно осколок в ране: покоя им не дает. Балтийцы уже третий год держат остров в своих руках. Это наш форпост на Балтике. Он провожает в море подводные лодки и первым встречает их, когда они возвращаются с задания. Нелегкая здесь служба. Часто не хватает самого необходимого. Топливо, боезапас, продовольствие доставляются морем под огнем вражеских батарей, под угрозой ударов фашистских катеров и авиации.
Солнце тонет в море. А светло — хоть читай. Такие они — белые ночи. Левушкин жалеет, что не взял на мостик письма жены — прочитал бы их сейчас. Корабли всё покачиваются на прежнем месте. Бездействие начинает раздражать. Вот так часто бывает с подводными лодками. Выйдешь в точку встречи, ждешь, ждешь… Осторожный народ подводники. Привыкли от врага скрываться, так и от своих прячутся.
Поневоле занервничаешь. Второй час на одном месте. И где? Кто знает, может, уже на минное поле занесло? Никогда лейтенант не считал себя трусом. Недавно, будучи в дозоре, они с Коротковым вдвоем вступили в схватку с пятью вражескими катерами. Ничего, выкрутились. Когда сходишься с неприятелем лицом к лицу — легче. А перед минами всегда озноб пробирает. Дьявольская штука. Сидит себе в воде, проклятая, и ничем знать о себе не дает. А тронь…
— Тральщики пошли! — обрадованно докладывает сигнальщик. Из строя выдвинулись четыре «Ижорца». Приземистые, медлительные, они вползают на минное поле. Затаив дыхание следит за ними со своего тесного мостика Виталий. Ну и отчаянные головы служат на этих суденышках!
Но почему до сих пор нет лодки? Вчера с нее получили радиограмму: командир просил встретить в районе минного заграждения, так как кругом вражеские корабли. Лодка давно уже не всплывала, чтобы подзарядить аккумуляторы. Не удалось даже проветрить отсеки. Люди задыхаются. В случае появления противника лодка не сможет маневрировать: электроэнергии в обрез, запаса сжатого воздуха хватит лишь на то, чтобы один раз продуть балластные цистерны.
Может, уже больше и не существует этой лодки? Вот ведь как бывает: с таким трудом прорваться в море, ценой неимоверных усилий одержать победу, потопить несколько фашистских транспортов — и погибнуть у порога дома…
Левушкин подносит к глазам бинокль. И вдруг, приближенная оптикой, перед ним возникает подводная лодка. Вид у нее жуткий: заржавели ободранные борта, на надстройке стальные листы местами разворочены в клочья. На мостике показался человек в шапке и кожаном реглане, лег грудью на край ограждения рубки. В бинокль видно, как судорожно раскрываются его губы Но вот он поднял лицо и замер. Что там увидел этот полуживой человек?
— Правый борт сорок пять — торпедные катера!
Лейтенант рывком повернулся в сторону, куда показывал матрос-сигнальщик. Три точки с белыми хвостами виднеются на севере. Они быстро растут.
— Передайте на «Двести десятый», чтобы доложил комдиву!
Сигнальщик замигал прожектором. Левушкин выстреливает три зеленые ракеты в сторону противника и нажимает на кнопку звонка, объявляя боевую тревогу. А сам лихорадочно думает: «Что делать? Ведь катера сейчас прорвутся…» Он взглянул на неподвижную подводную лодку, на тихоходные тральщики, которые были все еще далеко от нее. Потянулся к машинному телеграфу. Холодный металл рукояток ожег разгоряченные ладони. Лейтенант вздрогнул. Мгновение, когда нужно принять решение, самое тяжелое для командира. Может, все же подождать, что прикажет комдив? Задумался на секунду лейтенант, только на секунду, и резко толкнул рукоятки обоих телеграфов вперед до упора. И сразу стало легче.
Люди уже стоят у заряженных пушек. Лейтенант подает команду. Маленькие орудия ударили зло, пронзительно. И тотчас, как эхо, резкие хлопки повторяются за спиной. Левушкин оглянулся. Сверкая языками выстрелов, мчится за ним МО-210. Коротков, как всегда, рядом. Саша, ты, мой Саша, бесценный ты человек! Забылось все. И то, что корабль идет по минному полю, и то, что первый шальной выстрел с вражеского катера может убить тебя. Ничто не страшно, когда чувствуешь плечо друга.
Только бы пересечь врагу курс! Виталий подался всем телом вперед, словно понукая, подстегивая свой корабль. В бою у человека сотня глаз. Левушкин замечает, что творится и на носу, и на корме, следит за своим курсом и за катером Короткова. Он видит, что стреляют все корабли, что бой идет и в небе: наши ястребки яростно наскакивают на вражеские бомбардировщики, которые пытаются пробиться к лодке. Обратил внимание лейтенант и на то, что ветер дует в сторону лодки, и приказал на корму: «Дым!» Серые клубы вырываются из подожженных шашек, ползут к лодке, закрывают ее непроницаемым облаком. И в то же время лейтенант ни на мгновение не выпускает из виду все три торпедных катера. Он первым заметил, что один из них свернул в сторону и потерял ход.
— Молодцы! — хвалит комендоров лейтенант, хотя и знает, что в грохоте стрельбы они его не услышат.
Остальные два катера уже близко. Огненные трассы с них тянутся к Левушкину. Скорее, скорее!.. Ага! Не выдержали! Свернул с курса головной катер, за ним и другой. Но что это кричит сигнальщик? Торпеда?
Да, вот тянется прямой, как по линейке вычерченный, след. До боли стиснув зубы, лейтенант следит за его направлением— и вдруг теряет след из виду. Как пройдет торпеда? Не заденет лодку? Нет, взрыва не слышно. Значит, мимо!
Два вражеских катера уносятся прочь, огрызаясь очередями автоматических пушек. Третьего не видно.
— Отправился к рыбам, — спокойно поясняет сигнальщик.
Усталые люди нехотя отходят от дымящихся, раскаленных пушек. Забелели бинты. Перевязывают раненых. Левушкин взглянул на катер Короткова. Саша на мостике радуется, словно ребенок.
— А здорово мы их! — кричит он в мегафон. — Классная работа, правда?
Виталий не успевает ответить. Что-то серое вырастает между кораблями. Грохот оглушает Левушкина. Катер подбрасывает вверх. Потом на палубу и мостик обрушиваются тонны воды и, кажется, вдавливают корабль в море.
Взрывной волной лейтенанта сбило с ног.
Лейтенант пришел в себя от докладов матросов: течь в кормовых отсеках, левый двигатель стал, правый еле тянет. Направляет людей устранять повреждения. Не зря он всегда так боялся мин. Мерзкая штука! Хорошо еще, что взорвалась между кораблями. А если бы под килем…
Катеру Короткова, видно, тоже досталось. Стоит неподвижно, накренился. Команда мечется по палубе. Левушкин подводит свой корабль ближе.
— Саша, держись! — ободряет он товарища.
Коротков торопливо отдает приказания.
— Дойдешь сам? — спрашивает Виталий.
— Дойду. У меня моторы в порядке. Вот только воды хлебнули.
— Тогда я двинусь потихоньку. У меня единственный двигатель еле дышит. И с течью никак не сладим, боюсь, не дотяну до базы.
Недалеко ушел «Двести одиннадцатый». Новый взрыв ахнул поблизости. Лейтенанта отбросило на нактоуз компаса. Вскочив на ноги, он взглянул на корму, и — потемнело в глазах. Кормы нет. Изувеченный катер погружается. Все кончено. Остается одно: спасать людей.
— Все наверх!
Матросы стоят на палубе. Мокрые, в порванных куртках. Не страх, а боль и страдание на их лицах. Гибнет корабль, на котором они столько раз ходили в бой. Гибнет корабль, ставший им родным домом. Матросы знают, что их катер — не обычный. Он построен в Ленинграде во время блокады. Люди, еле державшиеся на ногах от голода, собирали его механизмы. Всю ненависть к врагу, всю свою волю к победе вложили они в этот корабль. Помнят об этом моряки. Сердцем своим они срослись с кораблем. И вот расстаются. Навсегда.
Подошел катер Короткова. Потрясенный, лейтенант чуть не плачет. Когда катера поравнялись, Александр протянул Левушкину руку:
— Виталий, прыгай скорее.
— Подожди. Сначала пусть твои помогут матросам.
Один за другим моряки покидают корабль. Переносят на руках раненых.
А командир все стоит. Он сходит с корабля последним.
Понурив голову, ничего не видя, прижался он к плечу друга.
— Ну, хватит. Не убивайся, — легонько встряхивает его Коротков. — Взгляни, уберегли мы ее все-таки.
В разрыве дымовой завесы показывается подводная лодка. Теперь, когда сумерки скрыли ржавчину бортов и рваные дыры в надстройке, она выглядит совсем иначе. Длинная, устремленная вперед, она уверенно рассекает воду, двигаясь вслед за тральщиками.
На мостик поднимается матрос, протягивает Левушкину что-то завернутое во влажную газету.
— Это я взял в вашей каюте. Больше ничего не удалось вынести.
Развернул Виталий. Пачка писем и портрет в простенькой рамке. Грустно и нежно улыбается жена.
— Спасибо, Парамошкин!
К поврежденному катеру спешит тральщик, за его тралом— корабль командира дивизиона.
— Влетит нам, — вздыхает Коротков. — Без приказа на мины полезли. В уставе такое не записано. А комдив наш строгий насчет устава…
Молчит Левушкин. Коротков пытается успокоить друга:
— А вообще-то в такой передряге про все на свете забудешь. Правда?
Левушкин не сводит глаз с подводной лодки. Он знает, что подводники откажутся от отдыха. Они даже к острову не подойдут, а сразу направятся в Кронштадт. Спешат моряки. Подремонтируют свой корабль — и снова через минные поля, уйму опасностей — в море, топить врага.
— Нет, неверно ты сказал, Саша, — говорит наконец Левушкин. — Не забыли мы про устав. Именно он велел нам так поступить. Читать устав надо и глазами, и сердцем. Мы с тобой так и прочли его…
И сердце может видеть
Днем лес был своим. В зеленой тени укрывались землянки штабов и медсанбата, весело курились кухни, разнося вкусные запахи, от которых и у сытых разгорался аппетит.
Теперь лес чужой. И молчание его зловеще: опасность таится за каждым кустом. Наши ушли. Ныне здесь враг.
Шуршит опавшая листва. Цепочкой, один за другим, пробираются бойцы. Натыкаются в темноте на срезанные снарядами деревья. Обломанные сучья царапают лица.
Впереди — лейтенант-моряк. Он ранен. Случилось это еще в начале пути. На опушке догорал наш танк. Дымное пламя лизало броню и обуглившуюся руку танкиста — она свешивалась из приоткрытого люка. В свете этого страшного костра и заметили их. Тишину распорол треск автоматов. Лейтенант прижал ладонь ко лбу. Товарищи подхватили его под руки, увлекли в чащу. Фашисты строчили вдогонку. Пули срезали ветки, голубыми светлячками отскакивали от стволов. Но преследовать немцы не стали: не любители соваться в ночной лес. Кто-то из бойцов достал перевязочный пакет. Сержант забинтовал на ощупь лейтенанту рану. И снова он зашагал впереди, тяжело опираясь рукой на плечо старшины 1-й статьи Карпова.
Карпов с готовностью принял эту ношу, хотя и сам еле передвигает ноги. Сегодня досталось всем: с утра под огнем, без еды, без воды.
Старшина поворачивает голову, вглядываясь во мрак. Ударяется теменем о низко нависший сук, чертыхается.
— Тихо! — сжимает ему плечо лейтенант.
Неподалеку слышится отрывистый, чужой говор, стук лопат.
Немцы!
Лейтенант берет левее. Здесь заросли гуще, идти становится еще труднее.
Старшина терпеливо идет рядом. Вообще-то немного ворчит про себя. Нет, он не упрекает лейтенанта. Так нужно было. Но никто бы не осудил, если бы они двинулись чуть пораньше. Тогда не пришлось бы брести одним, без дороги, ожидая вражескую очередь.
Сомневается старшина. Кажется ему, что они кружат на одном месте. Вот опять залезли в ольшаник, плотный и цепкий, он окончательно вымотает их. Заблудился, наверное, лейтенант. Здесь и сухопутной душе проще простого сбиться, а нашему брату моряку лучше не соваться. И зачем он пошел головным? Из самолюбия?
Карпов совсем мало знает этого невысокого худенького паренька с лейтенантскими нашивками на рукавах кителя. Даже не может вспомнить фамилии. «Товарищ лейтенант» — и все. Прибыл он к ним на эсминец недели три назад. Карпов — радист, лейтенант — командир группы главного калибра, встречаться приходилось редко. Сегодня впервые вместе оказались в деле.
Болят ноги, все тело ноет от усталости, онемела шея от болтающегося на груди автомата. Сержант-пехотинец, замыкающий цепочку, подгоняет своих бойцов:
— Не отставать!
Вымотавшиеся люди засыпают на ходу.
— Товарищ лейтенант, — спрашивает старшина, — а что там немцы копают?
— Блиндаж. А может, батарею устанавливают.
— Давайте закатим им «полундру»…
— Нет. Слишком дорогой получится фейерверк. Я должен довести вас целыми.
Лейтенант останавливается. Ощупывает ствол дерева, землю под ним.
— Далеко еще? — Карпов не рассчитывает на ответ. Что там гадать? Вот прокрутятся тут до рассвета, а потом их постреляют, как куропаток. Что до него, растянулся бы сейчас на постели из листьев, хоть выспался бы перед концом.
— Километров десять нам еще, — приглушенно говорит лейтенант. — Надо спешить.
— Шире шаг! — шорохом катится по цепочке. Шумно дышат ребята. Но топают. Для них главное, чтобы кто-то шел впереди, чтобы кто-то отвечал за них. И не думают, по силам ли это тому, кто ведет их. Такова уж, видно, судьба командира на войне — делай то, что положено, и не думай, по плечу ли тебе груз, который взвален на тебя. И старшина рад, что с ними лейтенант. Только бы выдержал он. Совсем слаб. Вон как вцепился в него. А другой рукой все время хватается за деревья. Лишь бы не упал. Что они будут делать без него?
— Пройдите вперед, старшина, — слышит Карпов. — Просека тут.
Не бредит ли лейтенант? Какая просека в такой чащобе? Но продирается через заросли. Нога вдруг не находит опоры. Старшина летит вниз. К счастью, неглубоко. Потер ушибленное колено. Водит вокруг руками. Канава. На четвереньках выползает из нее. Ощупывает перед собой землю. Жесткая трава. Глубокие колеи от колес. Дорога! Дальше опять канава. Прислушался — тихо…
Вернувшись, доложил. Лейтенант принял все как должное.
— Хорошо. За просекой сосновый бор. Там пойдем быстрее.
И снова старшина поддерживает лейтенанта. Подхватил за талию, чтобы легче было раненому.
В черной вышине пошумливают кроны сосен. Рядом что-то шепчет лейтенант. Старшина напрягает слух.
— Триста сорок семь… Триста сорок восемь… Триста сорок девять…
— Что это вы? — удивляется старшина.
— Шаги считаю. Не мешайте!
Делать нечего человеку! Может, так идти легче? Старшина тоже пробует считать, но быстро сбивается. А лейтенант все бормочет:
— Две тысячи… Один… Два… Три…
Под ногами начинает путаться густая трава. Она все выше.
— Приближаемся к ручью, — предупреждает лейтенант. — Небольшой, но илистый. Осторожно!
Ботинки погружаются в холодную трясину. Заплескалась вода. Старшина нагибается, черпает фуражкой, с наслаждением пьет пахнущую тиной влагу. Протягивает фуражку лейтенанту.
Выйдя на берег, дождались остальных. После освежающей «ванны» зашагали резвее. Похоже, лейтенант и впрямь дорогу знает.
— Вы уже были тут? — допытывается старшина.
— Нет, не приходилось. По карте запомнил. У меня зрительная память крепкая. Артиллеристу без этого нельзя.
Напрасно, пожалуй, плохо думал о нем. Мужик что надо. И артиллерист — лучше некуда. Сегодня старшина видел его в бою. Они прикрывали отход наших войск. Они — это лейтенант, старшина и два эскадренных миноносца. Эсминцы издалека, с моря, стреляли по врагу, лейтенант корректировал, а Карпов с помощью рации держал связь.
Остановить врага восемь корабельных пушек, конечно, не могли, но спесь ему поубавили. Добрая дюжина фашистских танков без движения застыла на шоссе.
Немцы остервенело долбили артиллерией покинутые нашими войсками окопы. Никак не могли понять, где скрываются так метко стреляющие орудия русских.
Снаряды падали и на холм, где в окопчике пристроились моряки-корректировщики. Комья земли летели им на головы. А лейтенант невозмутимо диктовал поправки в прицел корабельных орудий. Действовал он мастерски. То обрушивал огонь на машины, пытавшиеся проскочить по дороге, то накрывал пехоту на изрытой снарядами пашне.
Вражеские разведчики уже подползали к холму. Тогда-то и открылось, что моряки не одни. Захлопали на склоне высотки ручные гранаты, торопливо защелкали винтовочные выстрелы. Это вступило в бой стрелковое отделение, выделенное для охраны корректировочного поста. Солдаты не покинули боевых друзей!
Корректировочный пост и дольше бы продержался, да шальным осколком разбило рацию. Оставаться больше не имело смысла. В густых сумерках два моряка и восемь пехотинцев подались в лес, вслед за своими…
Тьма вокруг. Открыты ли, закрыты ли глаза — все одно. Бредут, спотыкаются бойцы. Молчат. Лейтенант шепотом считает шаги. А сам задыхается, шатается из стороны в сторону. Остановился, обняв дерево.
— Позовите сержанта.
— Сержанта к командиру! — кидает в темноту Карпов.
Призыв передается по цепочке. И вот уже рядом сдержанный басок:
— Сержант Голубцов явился по вашему приказанию!
— Скоро наши позиции, — говорит ему лейтенант. — Теперь ваше дело, пехота.
— Понятно, — отвечает командир отделения и строго приказывает — Сидоркин и Ротов! Разведать местность и проделать проход!
— Есть! — отзываются два голоса.
Лейтенант опускается на траву.
— Больно? — участливо спрашивает старшина.
— Голова кружится.
Карпову хочется сказать ему что-то хорошее, теплое, но не находит слов.
— Как ваше имя-отчество, товарищ лейтенант? А то воюем вместе — и совсем незнакомые.
— Меня Николаем Ивановичем зовут. А вас, товарищ Карпов, — Степаном Ефимовичем? Нынче вы молодцом работали. Не зря на корабле вас «снайпером эфира» величают. Надеюсь, к вашей медали скоро и орден прибавится.
Поперхнулся старшина. Откуда все известно лейтенанту? И про медаль. Ведь старшина еще не получил ее, только приказ о награждении зачитали.
— Вернемся на корабль, — продолжает лейтенант, — я письмо вашим родителям напишу. Они все еще в Ленинграде? Пусть порадуются старики за сына.
Изумленный, растерянный, старшина лишь вздыхает в темноте да мнет свою мокрую фуражку.
— Проходы готовы! — докладывает возвратившийся пехотинец. — Дайте мне руку, товарищ лейтенант.
— А где ваш напарник?
— Он пропустит нас и снова поставит мины. Нельзя лазейку оставлять — саперы после съедят нас.
Взявшись за руки, все идут за солдатом. Съезжают по песку в какой-то ров, карабкаются на насыпь.
— Стой! Кто идет? — раздается резко, как выстрел.
— Свои! Свои! — хором откликается десяток голосов.
— Это мы еще посмотрим, какие свои! — обещает дозорный и мягче: — Товарищ капитан, тут перебежчики заявились.
— Ах ты, вымболка дубовая! — не стерпел старшина. — Погоди, днем я тебе протру иллюминаторы, увидишь, какие мы перебежчики.
— Ну, ну! Я тебе посудачу! — Дозорный щелкнул для острастки затвором.
— Ведите их на КП, — доносится издали. — Там разберутся.
Дозорный командует:
— Следуй за мной!
Их долго ведут по добротной, в полный рост траншее. Наконец провожатый распахивает дверь. Лейтенант и Карпов первыми спускаются по скрипучим ступенькам. В обширном блиндаже сидят за столом несколько офицеров.
Лейтенант по привычке вскидывает ладонь к виску, хотя на голове давно уже нет фуражки — затерялась еще тогда, у горящего танка, — и ее заменяет потемневшая от крови повязка.
— Лейтенант Туманов, командир корректировочного поста…
— А, морячок наш! — поднимается ему навстречу пожилой офицер. — Мы уже не рассчитывали увидеть вас. Спасибо вам, вы нас сегодня здорово выручили.
Старшина с беспокойством поглядывает на лейтенанта. Лицо серое. И глаза странные, остановившиеся. Ему жмут руку, а он будто и не чувствует.
— Кто со мной говорит? — спрашивает.
— Не узнаете разве? — улыбается хозяин блиндажа. — Я командир полка полковник Громов.
— А почему вы без огня сидите?
Застывает улыбка на губах полковника. И все в землянке цепенеют. В тишине потрескивает фитиль в самодельном светильнике из снарядной гильзы — он стоит на столе, и три язычка пламени трепещут над ним.
Качнулся, валится на бок лейтенант. Старшина и сержант еле успевают поддержать его. Укладывают на скамью.
— Что с ним? — испуганно спрашивает Карпов.
Один из офицеров, по-видимому врач, склоняется над раненым. Снимает с головы бинт. Пальцами раздвигает веки. С профессиональным спокойствием констатирует:
— Ранение легкое: содрало бровь, а кость цела. Но от удара травмированы зрительные нервы. Он слепой…
— Не может быть! — воскликнул сержант.
— Да вы не пугайтесь, через месяц прозреет.
— Никогда не поверю, что он слепой! — разгорячился сержант. — Всю ночь вел нас и ни разу не сбился!
— Если бы не он, амба нам, — вставляет свое слово старшина. — Там и зрячему не разобраться.
Полковник не отрываясь смотрит на лейтенанта.
— Бывает, что и сердце может видеть, — задумчиво говорит он. — А у вашего командира, матрос, большое, настоящее сердце.
Десант
Посадка происходила поздно ночью. На пирсе в морозной темноте скрипел под ногами снег. Пехотинцы шли осторожно. Команды отдавались еле слышно. К капитан-лейтенанту Травину приблизился высокий человек, одетый, как и остальные десантники, в полушубок, перетянутый ремнем.
— Вы командир звена? — спросил он и, получив утвердительный ответ, представился: — Командир роты капитан Семенов.
Он старался говорить тихо, но не получалось. Чувствовалось: привык к приволью, к разговору во весь голос, чтобы слышала вся рота.
Вместе с Травиным он обошел катера. Матросы заботливо размещали пехотинцев. Помещения на торпедных катерах известно какие — не развернешься. Большинство людей пришлось расположить на верхней палубе. Матросы, при всем их гостеприимстве, то и дело предупреждали:
— Тут нельзя: торпедный аппарат, мешать будете.
— От кнехта подальше, а то тросом заденет.
— Проход к пулемету оставьте.
Солдаты послушно отодвигались, вплотную прижимались к надстройке.
— Тоже мне корабль, — проворчал кто-то, — нормальному человеку и усесться негде!
И все же, несмотря на тесноту, место находилось всем — и людям, и грузу, который они несли на себе. А он был внушительным. На спине у каждого бойца — туго набитый вещевой мешок, на груди — автомат, у пояса — лопатка в чехле, сумки с гранатами, фляга. Несли с собой десантники и пулеметы, минометы, катушки с телефонным проводом, ящики с минами и патронами. Тяжелые ноши, казалось, нисколько не мешали им. Двигались расторопно и бесшумно.
Пирс быстро пустел. Вскоре на нем остались только Травин и Семенов.
— Ну а где мне пристроиться? — спросил капитан.
— Прошу на мой катер. Удобнее нам обоим будет.
Они взошли на палубу головного катера. Тотчас во тьме загудели моторы. Матросы торопливо втянули на борт сходни. Тихие отрывистые команды — и вот уже отданы швартовы. Головной катер, а за ним остальные отошли от причала, развернулись и на малом ходу направились к воротам гавани.
Шли без огней. И чем дальше оставался за кормой город, тем, казалось, все более густая тьма окутывала небольшие корабли. Выйдя за боны, катера прибавили ход. Леденящий ветер ударил в лицо.
— Сошли бы вниз, в каюту, — предложил Травин.
— Здесь лучше, — ответил капитан.
Гул моторов заглушал голоса. Летели колкие брызги. Все ощутительнее покачивало. Не выпуская из рук штурвала, Травин через козырек мостика окинул взглядом палубу. Еле различались во тьме фигуры облепивших ее пехотинцев. Подняв воротники полушубков, они, сутулясь, отворачивались от ветра, теснее жались друг к другу.
— Туго им, — проговорил Травин. — И холодно, и качка.
— Ничего! — откликнулся капитан. — Народ привычный. На броне танка куда хуже.
Сдернув рукавицы, он достал портсигар.
— Курить можно?
— Можно. Только спичку прячьте.
Зажав в ладонях огонек, капитан прикурил папиросу и тотчас спрятал ее в рукаве. Командир звена на миг увидел его лицо — округлый подбородок, обветренные, в трещинах губы. Лицо показалось знакомым.
На палубе послышался говор. Капитан-лейтенант распознал голос матроса Гринько. Торпедист убеждал какого-то пехотинца:
— Ты не бойсь. Ты ж не на ялике каком-нибудь, а на корабле. Да еще с таким командиром, как наш. Знаешь, мы в какую погоду ходили. Волны — во! А нам нипочем. Чуешь?
Травин не удержался от улыбки. Гринько всего месяц на корабле. Чуть качка — жалко на него смотреть — позеленеет весь. А сейчас строит из себя просоленного моряка. Между прочим, держится молодцом: стыдно срамиться перед пехотой.
— Да что ты меня уговариваешь? — донесся еще более звонкий, совсем юношеский голос. — И не боюсь я нисколько. Подумаешь! Не в таких переделках бывали. А ты не храбрись. Завяжи шапку — уши поморозишь. Мороз, он не разбирает, кто ты — герой или так себе.
Матрос что-то буркнул, но потянулся руками к подбородку, завязал тесемки.
Летят катера по черному ночному морю. На борту — пехотинцы, люди сугубо сухопутные, но привыкшие ко всему и на обледенелой кренящейся палубе чувствующие себя как дома. Всегда с уважением относился к ним капитан-лейтенант.
Одно воспоминание сменялось другим.
Помнится, когда он был еще рядовым краснофлотцем, такой же морозной ночью шли катера с десантом. Тревожной была та ночь. Неожиданно на горизонте показались вражеские сторожевые катера. Командир медлил. Это был отважный человек, впоследствии известный всей стране Герой Советского Союза. Если бы катера были без десанта, он, не раздумывая, ринулся бы на врага. Но на борту кроме экипажа — десятки людей… Командир тронул за плечо старшину мотористов, приказал убавить обороты моторов. И тогда на мостике прозвучал твердый голос старшего лейтенанта-армейца:
— Не бойтесь. Мои орлы вынесут все. Действуйте как нужно.
Командир молча кивнул головой. Взревели моторы, и наши катера устремились навстречу врагу. Пехотинцы деловито готовились к бою. Укладывались поудобнее, проверяли оружие. Точно не на палубе, а в окопе.
Катера на полном ходу сблизились с противником. Тишину моря распороли очереди автоматов и пулеметов. И враг не выдержал натиска.
Пехотинцы были в большинстве совсем молодые. Но эти безусые парни показали себя настоящими героями. Когда катера прорвались сквозь вражеский дозор, они спокойно перезарядили диски автоматов, закрепили на плечах вещевые мешки. Некоторые забинтовали себе раны: кое-кого все-таки задело.
Катера ворвались во вражеский порт, подлетели к стенке гавани, и тотчас на нее сбежали десантники. Ожили огневые точки на берегу. Страшен бой ночью. Ослепительно полыхало пламя из амбразур дотов, и казалось, что весь этот огонь направлен в тебя. А люди бежали и бежали вперед. Падали, поднимались и снова бежали. Как будто они в броне или из стали. Похоже, что и пули их не берут. И откуда сила такая в этих простых, веселых парнях? Рядом с ними и себя чувствуешь сильнее. Прильнув к пулемету, Травин бил по огневым амбразурам, не замечая визга чужих пуль и осколков вокруг. А катера все подходили, люди с них бросались на берег и сразу вступали в бой…
Пехотинцев, которые сейчас находятся на борту катера, конечно, не было в том десанте: малы были. Но капитан? Может быть, это и есть тот офицер, который возглавлял пехотинцев? Нет, тот уже тогда был человеком средних лет. А этому лет тридцать с небольшим. Но почему его лицо так знакомо?
Удерживая катер на курсе, моряк перебирает в памяти события. Врезался в память бой на реке — большой реке, пересекающей территорию нескольких европейских государств. Катера вошли в нее, когда в низовьях оба берега были нашими. А выше по течению переправ еще не было. Катер, на котором служил Травин, получил приказ произвести разведку. Он прошел уже несколько миль, когда попал под вражеские снаряды. Заглохли моторы, и израненный катер понесло к обрывистому берегу. Там показались гитлеровцы. Моряки отбивались огнем пулеметов и нескольких автоматов. Силы были неравными. Оставалось держаться до последнего патрона, а после взорвать корабль и погибнуть вместе с ним.
И тут на берег вырвался танк с пехотинцами на броне. Развернув башню, он с ходу открыл стрельбу по гитлеровцам, а пехотинцы, соскочив на землю, залегли и окопались. Это была помощь друзей, и моряки воспрянули духом. Мотористы лихорадочно латали покалеченные двигатели.
Не долгой была радость. Страшно вскрикнул боцман у пулемета. Все думали, что ранен боцман, а он, перестав стрелять, протянул руку к берегу:
— Танк! Танк горит!
Да, советский танк пылал. Танкисты выскочили из люка и, прячась за своей машиной, отстреливались.
— На выручку! — приказал морякам командир катера.
Все, кто не был занят ремонтом двигателей, кинулись на берег, взобрались на обрыв и вместе с армейцами стали отбиваться от гитлеровцев.
Не помнит Травин, сколько времени длилась схватка. В дисках совсем не оставалось патронов, когда под обрывом наконец-то заурчал восстановленный двигатель катера. Один из трех. Но звук его показался победной музыкой. Катер получил ход. Значит, есть надежда.
Командир катера, весь черный от копоти, приказал нескольким морякам и пехотинцам держать оборону, а остальным перенести раненых и убитых на корабль. Затем и те, кто держал оборону, спустились к катеру. Дымя, чихая, катер оторвался от берега и пошел вниз по течению.
Рядом с Травиным у пулемета стоял тогда высокий армеец в мокрой от пота гимнастерке. Пулей или осколком ему рассекло щеку. Моряки наскоро перевязали рану. Лицо его в кольце марлевой повязки стало совсем круглым и оттого еще более молодым и задорным.
— Здорово мы их! А вы нас крепко выручили, моряки. Без вас нам бы каюк!
— Нам бы раньше каюк был, если бы вы с танком не подоспели.
— Да, танк жалко, — вздохнул пехотинец. — Но ничего, зато корабль спасли.
На другой день торпедные катера участвовали в переправе. На катере, где служил Травин, вместе с другими пехотинцами шел вчерашний солдат с рассеченной щекой. Он был весел, шутки его вызывали всеобщий хохот. Хотя он нет-нет да и морщился от боли: повязка на щеке заскорузла от крови.
Когда катер ткнулся в берег, этот солдат первым спрыгнул на землю и увлек за собой всех.
— Ну, сейчас зададим им!
Больше Травин не встречал его.
Кто знает, может, он и стоит сейчас рядом с ним. Спросить?.. Но уже нет времени для разговоров.
Травин тронул капитана за рукав и кивнул на экран радиолокатора. Ломаной светящейся полоской на нем обозначался берег.
— Ого! Надо готовиться, — понял пехотинец. — Пойду поговорю со своими хлопцами.
Он покинул мостик.
Забрезжил скупой зимний рассвет. Видны стали огромные пенные валы, несущиеся вдоль бортов катера. Чуть слева по курсу мигали редкие огоньки. Это — берег. Капитан вернулся на мостик и внимательно следил за экраном локатора.
— Подходим, — проговорил Травин. Он по радио отдал распоряжение ведомым катерам. Строй кильватера сменился строем фронта. Смолкли моторы. И вот уже берег рядом, в каком-нибудь десятке метров. Капитан сбежал на палубу. Пехотинцы уже все на ногах, нагруженные своей нелегкой ношей. Офицер поднял руку, чтобы скомандовать «Прыгай», но его остановил Травин:
— Мы вас сухими доставим.
Матрос Гринько, все еще не привыкший к жесткому штормовому костюму, с трудом пробирается между пехотинцами на бак и прыгает в воду. Вслед за ним — боцман. Стоя по грудь в ледяной воде, моряки принимают с катера сходню, перекидывают одним концом на берег. Не достает. Им подают вторую. Теперь, когда соединены обе сходни, образуется дорожка до самого берега. Опора ее посередине— плечи двух моряков.
— Пошел! — хрипло командует боцман.
Пехотинцы один за другим сбегают на берег. Последним уходит капитан. На прощанье он крепко жмет руку Травину.
— Спасибо, моряки!
Командир звена в последний раз пытливо вглядывается в его лицо. Капитан-лейтенант так и не вспомнил, где они встречались. Может быть, это и есть тот пехотинец, который насмерть бился возле горящего танка, чтобы спасти своих друзей моряков?
Но капитан уже на берегу. Отдает распоряжения спокойно, уверенно. И оказывается, он может командовать тихо: его голоса почти не слышно. Часть солдат спешно долбит землю, готовя огневые позиции для минометов и пулеметов. Другие бегут вперед. Тянут провод связисты. Саперы обшаривают берег миноискателями. Послышались выстрелы. Где-то рядом грянули взрывы. Разгорался бой. Учебный, но люди переживают его, как настоящий, и делают все, как положено в бою. Мокрые с ног до головы, синие от холода, боцман и матрос Гринько, выбравшись из воды, занимают свои боевые места.
Катера отходят от берега. Рассекая тяжелую, свинцовую воду, они устремляются в открытое море. А навстречу им — новые корабли. Большие и малые. На палубах — готовые к броску пехотинцы.
«Бой» на побережье принимает полный размах.
Заданный курс
Люди напрягали все силы в схватке с океаном. На максимальных оборотах работали турбины, и корпус корабля трясся нетерпеливой дрожью. Но слишком неистов был ветер. Эскадренный миноносец, то взлетая на гребень волны, то по надстройки погружаясь в пенный водоворот, с трудом пробивал себе путь.
А нужно было спешить. За сотни миль терпело бедствие судно, выброшенное на каменистую гряду. Люди попали в беду, им грозила гибель. И моряки шли к ним сквозь шторм.
Наступила ночь. На ходовом мостике эсминца темно. Лишь циферблаты приборов мерцают зеленоватым светом. Командир корабля капитан-лейтенант Струев стоит у машинных телеграфов, схватившись рукой за прикрепленную к стене скобу: иначе не устоять. Уже много часов он вглядывается через смотровое стекло в ревущую мглу. Чуть поодаль от него в тесном полукруглом кресле сидит капитан 1 ранга Печуров, командир дивизиона эсминцев. Он молчит. Может, задремал? Нет, Струев знает, что капитан 1 ранга все видит и все слышит, оценивает каждое его распоряжение. Это стесняет капитан-лейтенанта. Зачем пошел с ним Печуров? Не доверяет ему? Молодой командир самолюбив, малейшая опека его коробит.
— Где мы идем? — спрашивает Печуров.
— Сейчас покажутся острова.
— Как думаете следовать дальше?
— Прежним курсом. — Капитан-лейтенант отвечает хмуро: к чему такие вопросы?
— А я посоветовал бы вам повернуть и идти под защитой островов.
— Это удлинит путь, — возражает Струев.
— Путь измеряется не только расстоянием, но и временем. Там будут слабее ветер и волны — значит, пойдем быстрее.
Капитан-лейтенант неохотно отдает приказание рулевому. Вообще-то он понимает, что комдив прав. Просто обидно, что эта же мысль к нему, командиру корабля, пришла с опозданием.
«Будто он один торопится, — шепчет про себя капитан-лейтенант. — Я, может, больше спешу. Вера совсем расстроилась, когда увидела посыльного с корабля, а Вовка вцепился ручонками, плачет: „Не пущу! Не пущу, папка!“ А его вот никто дома не ждет. Жена к дочерям в Ленинград улетела, она ведь сюда только наездами заглядывает. Тоже мне, семья!»
На некоторое время корабль подставил свой борт волнам и ветру. Качка еще более усилилась. Палуба под ногами, кажется, вот-вот встанет отвесно. Корабль кренится на правый борт, на секунду застывает в таком положении, потом стремительно переваливается на другой борт.
Печуров, по-прежнему спокойный и сосредоточенный, сидит в кресле. Он думает о тех, кто сейчас внизу, у машин и котлов. Там, в шуме и духоте, всего труднее. Там и Александр Снастев. Тихий веснушчатый паренек. Он недавно появился на эсминце. Печуров впервые увидел его, когда проводил смотр корабля. Обходя строй матросов, он сразу заметил эти до боли знакомые улыбающиеся глаза под густыми сросшимися бровями. Даже оторопел от неожиданности.
— Саша! Откуда ты взялся?
— Да вот, направили сюда.
«Голос, голос — совсем как у отца!»
Почувствовав на себе десятки любопытных глаз, командир дивизиона спохватился: строй — нё место для подобных разговоров.
— Заходи к нам вечером, потолкуем.
— Не могу, товарищ капитан первого ранга, сегодня нет увольнения.
Да, мальчишка, который рос у него на глазах, больше не Сашок, не Саша, и он для него больше не дядя Коля. Теперь матрос Снастев — один из сотен подчиненных командира дивизиона Печурова и обязан повиноваться тем же законам, по которым живут все моряки.
— Хорошо, приходи завтра. Приходи в любое время, как сможешь. Мы всегда тебе рады.
Но Саша так и не пришел ни разу на квартиру комдива. Скромный парень. Ничем не хочет выделяться среди других. Что ж, пожалуй, он прав…
И все же должен бы он почувствовать, как ждет его старый моряк, как тянется к нему своим огрубевшим, тоскующим сердцем.
Сегодня Печуров встретил Снастева перед выходом корабля в море, чумазого, разгоряченного: только что выскочил из котельного отделения, где уже истошно выли форсунки.
— Здравствуй, Саша!
— Здравия желаю, товарищ капитан первого ранга! — Потное лицо осветилось улыбкой. — Вы с нами идете? Это хорошо.
Как ему сейчас там? Наверное, вымотался вконец. Тут и привычным невмоготу.
За рябым от брызг стеклом мелькнула яркая звездочка. Погасла, снова зажглась.
— Маяк на острове, — пояснил Струев. — Пойдем в пяти милях от него. Ближе нельзя: глубины ненадежные.
— Добро! — отозвался Печуров.
Качка несколько уменьшилась. Участились щелчки лага, значит, корабль прибавил скорость.
В это время на мостик поступил доклад: в первом котельном пробило фланец паропровода питательного насоса. Печуров вслушивается в телефонный разговор командира корабля с инженер-механиком. Нервничает, сердится капитан-лейтенант. Понятное дело: молодому командиру хотелось показать свой корабль старшему начальнику с самой лучшей стороны, а тут неполадки…
Тревожная мысль пронеслась в голове: первое котельное — ведь это где Саша…
Комдив поднялся с кресла:
— Командир, я пройду туда. Взгляну, как матросы справляются.
Опустившись по трапу в коридор, Печуров открыл дверь. Ледяные брызги хлестнули в лицо. Горой навалилась волна, покатилась по палубе. Офицер нащупал шторм-леер и, не выпуская из рук туго натянутого каната, побежал вслед за волной.
В первом котельном уже наведен порядок. Когда глаза, привыкшие к темноте, перестало резать от яркого света, офицер увидел Снастева. Матрос весел, возбужден. Перекрывая рев турбовентиляторов и визг форсунок, звенит его голос:
— Ох, здорово получилось, товарищ капитан первого ранга! Как дунуло паром из-под фланца, здесь ничего не видно было. Сплошной туман. И свист такой, что оглохнуть можно. Дышать нечем, жжет. Но ничего. Старшина разом пар выключил. Мы не стали дожидаться, когда труба остынет, разобрали фланец, заменили прокладку. Дружно работали, потому и быстро так.
«Мальчишка мальчишкой, — тепло подумал комдив. — Видно, изрядно напугался вначале, а сейчас счастлив, что преодолел страх и оказался не хуже других».
— Погоди, а что у тебя с лицом? — спросил он, заметив, что у парня огнем пылает одна щека.
— Чепуха! Парком немного прихватило, когда гайки отвинчивал.
— Руки тоже?
— Да совсем малость.
— Ну-ка, живо в лазарет!
— Да что вы…
— Выполняйте приказание! — уже строго оборвал Печуров. Он проследил, как матрос скрылся за стальной дверью, потом подошел к старшине, такому же молодому парню, как и Саша, поблагодарил его за быстрое устранение повреждения.
Когда Печуров выбрался на верхнюю палубу, его накрыло волной. Схватившись за штормлеер, он устоял. Но вот шипящий, пенистый холм унесся в темноту, и тогда в ноги ткнулось что-то мягкое и тяжелое. Офицер едва не упал.
Торопливо ощупал рукой. Под пальцами мокрое сукно. Послышался кашель.
— Кто это?
— Рассыльный, матрос Жестев, — проговорил мокрый ком, подымаясь и продолжая кашлять и отфыркиваться.
— Что вы тут делаете?
— Вас сопровождаю.
— Значит, меня оберегаете? Ну, ладно, герой, хватайтесь за леер и не выпускайте его больше. Сейчас новая волна ударит.
Посмеиваясь про себя, капитан первого ранга весь путь по верхней палубе поддерживал матроса под руку. За этими птенцами только гляди! И все-таки вдвоем куда спокойнее себя чувствуешь среди грохота шторма.
— Кто вас послал?
— Командир корабля. Он приказал никого в одиночку не пускать на верхнюю палубу.
— Правильный приказ, — одобрил Печуров.
«А Сашу я послал одного», — пронеслось в сознании. Вбежав на мостик, Печуров, встревоженный, попросил Струева:
— Проверьте, прибыл Снастев в лазарет?
Матроса там не оказалось. Объявили поиски по всему кораблю. Все свободные от вахты были подняты на ноги. Обшарили каждый уголок. Матрос Снастев исчез.
Не дожидаясь распоряжения командира дивизиона, Струев развернул корабль на сто восемьдесят градусов. Печуров застыл на крыле мостика, сухим, немигающим взглядом уставившись в море. Лучи прожекторов рассекали тьму. В их свете волны казались непрерывно пересыпающимися сугробами снега. Это впечатление усиливалось тем, что ветер срывал гребни волн, и водяная пыль стелилась над морем, как поземка над заснеженной степью. Никогда еще Печуров не видел моря таким жутким.
Вспомнился ему тот страшный летний день сорок первого года, когда подорвался на мине сторожевик, на котором они служили с Ильей Снастевым. Они, молодые лейтенанты, так гордились своим кораблем, который и в то трудное время успел прославиться боевыми делами. И вдруг этот нелепый взрыв. Через минуту на месте стремительного, грозного корабля на поверхности моря расплывалось огромное пятно мазута, в котором плавали люди. Спасательные пояса — вот все, на чем они держались. Илья еще ругался, что на его поясе порвалась лямка. Моряки помогали друг другу. Потом нагрянули вражеские самолеты и, низко кружась, стали поливать свинцом измученных людей. Пуля впилась Печурову в руку. Илья, разорвав свою рубашку, мокрую, черную от мазута, кое-как в воде перевязал ему рану. А потом все пропало — и Илья, и предательски ясное голубое небо с зловещими тенями «юнкерсов». Печуров очнулся, когда над морем уже полыхал закат, и все вокруг было залито его кровавым светом. На воде держалось всего несколько человек. Никогда не забудет Николай их черных, словно обугленных, лиц, на которых, как раны, краснели изъеденные мазутом глаза. Люди по-прежнему поддерживали друг друга. Николай, ослабевший от потери крови, не захлебнулся потому, что на нем оказалось два спасательных пояса. У одного из них не хватало тесемки. Это был пояс Ильи Снастева.
Ночью моряков подобрал наш катер.
Выписавшись из госпиталя, Николай первым долгом отыскал жену Ильи, студентку Лену. Она ожидала ребенка. Помогал ей, а потом и ее сынишке чем мог. В них он видел родных людей. А сколько счастья доставлял ему маленький Сашок! Мальчуган, повзрослев, потянулся к морю; любит он его так же, как любил отец.
И вот теперь он потерял Сашу. Что скажет Лене? Склонив голову, стоит на крыле мостика пожилой капитан 1 ранга. Никто не знает, что переживает он, какая адская боль стиснула его сердце.
Корабль делает галс за галсом. Прожекторы ощупывают поверхность моря. Но разве просто найти человека в этом кипящем месиве?
Дай волю Печурову, он гонял бы здесь корабль час, два, сутки, неделю. Но каким бы ни было горе, военный человек обязан подчиняться приказу. И просто рассудку. Печуров отогнул рукав реглана, посмотрел на часы. Поиски длятся уже тридцать минут. Если человек не захлебнулся сразу, его убил за это время холод: над океаном осень. И еще… Он не может забывать, что корабль ждут люди, которым грозит гибель. Десятки людей ждут помощи.
К капитану 1 ранга приблизился командир корабля.
— Хороший матрос был, — тихо произносит он.
— Для меня он был как сын, — столь же тихо говорит комдив. — Его отец спас мне жизнь.
Оба замолчали. Наконец Струев спросил:
— Что будем дальше делать?
— Ложитесь на заданный курс.
— На заданный курс? — не понял капитан-лейтенант. — А поиски?
— У нас есть приказ. Он должен быть выполнен. Распорядитесь.
Ушел капитан-лейтенант. Печуров остался на крыле мостика один. Совершенно один. Такого безысходного одиночества не знал он прежде. Погасли прожекторы. А старый моряк все смотрит и смотрит в ревущую, стонущую темноту. Что он видит в этой пустоте? Чего он ждет? Чуда?
С жалостью и тревогой поглядывает командир корабля на неподвижный силуэт на крыле мостика…
Уже рассветало, когда Струев, распахнув дверь, крикнул:
— Нашелся Снастев!
Печуров непонимающе взглянул на него. Смысл слов дошел не сразу.
— Мертвый? — с трудом разжал губы комдив.
— Живой! В лазарет отнесли.
— Где нашли? Когда? — сыпал вопросами Печуров, а сам не слушал ответов — торопился вниз.
Капитан 1 ранга всматривается в бледное лицо юноши, лежащего на постели.
— Саша!
Тот открывает глаза. Серые, улыбающиеся глаза под сросшимися бровями. Сейчас он еще больше похож на Илью Снастева.
— Перепугал я вас всех…
Он сбивчиво рассказывает, что произошло. Волна настигла его на шкафуте. Он сильно ударился головой обо что-то, от боли выпустил из рук штормлеер. Еще бы немного— и оказался за бортом. Но, собрав остаток сил, дополз до какой-то двери, открыл ее. Очередная волна ударила в дверь, и его отбросило в глубь помещения. Больше он ничего не помнит.
Моряки обшарили весь корабль, но никому и в голову не пришло заглянуть в хлеборезку. Матроса нашли коки, когда пришли за хлебом к завтраку.
В постели Саше не лежится.
— Скажите доктору, чтобы отпустил меня. Там товарищи без смены вахту несут.
— Ничего. Отдохни, — говорит ему Печуров. — Пока без тебя управятся.
Он не может оторвать глаз от этого мальчишеского лица, ставшего ему еще более родным.
— Ты сегодня настоящее крещение выдержал, сынок. Ты будешь таким же моряком, как отец.
Забинтованной рукой Саша стирает капельки со щек Николая Николаевича. Нет, это не слезы. Не такой человек капитан 1 ранга Печуров. Это просто следы брызг. Ведь реглан на нем весь мокрый. Матрос внимательно вглядывается в лицо комдива. Моложавое оно, но сколько на нем глубоких морщин. Кажется, за эту ночь их еще прибавилось…
Появился рассыльный.
— Товарищ капитан первого ранга, вас приглашают на мостик!
Значит, прибыли к месту назначения. Сейчас командир дивизиона будет руководить спасением людей с разбитого штормом судна. Придется рисковать. На море не обойтись без риска. Но капитан 1 ранга верит: люди выдержат, справятся!
Зорче смотреть!
Тулуп, шлем и валенки еще не просохли. Они тяжелые и пахнут прелым. Особенно противно надевать шлем. Сергей морщится, когда влажный мех касается щек. Но ничего не поделаешь. Нужно снова идти на вахту, на ветер, под ледяные брызги.
Огромный тулуп сковывает движения. Матрос топчется у своего рундука. То не может застегнуть пряжку, то ищет рукавицы, упавшие под ноги. В кубрике тесно. Отдыхающие моряки затеяли шахматный турнир. Болельщики сгрудились вокруг стола, шумно переживают каждый ход. Страстным спорщикам не устоять на месте, они то и дело задевают Сергея.
— Дайте человеку собраться, — урезонивает их старшина 1-й статьи Михайлов. — Ему на вахту пора.
Старшина подходит к Сергею, осматривает со всех сторон, поднимает ему воротник тулупа.
— Теплее одевайтесь, товарищ Сивцов. Наверху как на полюсе.
Голос у Михайлова хриплый. Боцман весь день на морозе. Да и служба у него такая — от одних команд за день горло сдаст. Но сейчас он говорит мягко, обветренное лицо улыбается, и в глазах нет обычного строгого блеска.
Сегодня Сергей впервые заступает на самостоятельную вахту. Днем разговаривал с ним помощник командира. Товарищи замучили своими поучениями. Словно он в командование кораблем вступает. А дело-то у него совсем пустяковое: стой да смотри.
Михайлов провожает матроса до двери тамбура. На прощание жмет руку:
— Надеюсь на вас.
— Не беспокойтесь, — заверяет матрос. — Полный порядок будет.
Захлопнулась за спиной Сергея железная дверь. После яркого света кубрика словно в смолу окунулся. Матрос моргает, чтобы увериться, открыты ли глаза: ничего не видно. Ветер ударяет в грудь, швыряет в лицо пригоршни снега. Ноги скользят по обледеневшей палубе. Низко согнувшись, выставив вперед руки, Сергей бредет наугад.
— Наконец-то! — слышится возглас невидимого напарника. — Давай скорее. Я совсем в сосульку превратился.
Они стоят за небольшим брезентовым обвесом на носу корабля. Глаза Сергея понемногу привыкают к темноте. Теперь он различает припорошенную снегом палубу, а внизу за бортом темно-серую воду, рябую от более светлых полосок — барашков волн.
Доложив на ходовой мостик о смене вахты, матросы расстаются. Сергей остается один.
— Зорче смотреть! — звучит в наушниках голос вахтенного офицера.
— Есть! — откликается матрос. Сам усмехается. Легко сказать — «Зорче смотреть».
Корабль врезается в мутный мрак. Ветер сечет лицо. Слезятся глаза, и кажется, слезы замерзают на щеках. Мороз проникает и под тулуп, и в валенки. Мех шлема стал жестким и колючим.
С завистью думает Сергей о друзьях, оставшихся в кубрике. Им тепло, весело. А ты стой тут снежной бабой, один на один с ветром.
Мысли матроса уже далеко-далеко. Что там делают ребята в родном совхозе? Наверное, в клубе кино смотрят. Хотя нет. В том краю еще день. Его бригада работает в мастерской — тракторы чинит. И Галинка там. Чумазая, смешная, в широких замасленных штанах. И все равно красивая. Взглянет — смеяться от радости хочется. Что-то давно писем нет от нее… Кто в бригаде теперь? Осенью поредела она. С Сергеем из нее еще четверо одногодков служить ушли. Весь поселок провожал. Навсегда Сергею запомнилось, как Галинка, не таясь, пришла к нему, сама уложила его вещевой мешок. И впервые она поцеловала Сергея на глазах заплаканной и изумленной матери…
Вздыхает матрос. А на сердце теплеет. Вспоминает друзей, с которыми расстался на призывном пункте. Где они? Может, водят танки. Может, притаились в пограничном секрете или дежурят у пультов грозных ракет, устремленных в небо. Друзья его, как и он, всматриваются в непроглядную тьму. Их тысячи — настороженных, зорких, готовых ко всему. Они стоят на посту, чтобы могла спокойно трудиться Галинка, ее подруги и товарищи, весь народ наш.
— Зорче смотреть!
Хлопья снега бьют в лицо. Матрос рукавицей трет глаза. Он должен смотреть, должен все видеть. На него надеется командир, направляющий ход корабля, надеются боевые друзья — те, кто обливается потом у жарких котлов и турбин, и те, кто отдыхает после утомительной вахты.
Немеют щеки и губы. Спрятаться бы за обвес. Хотя бы на минутку укрыться от свирепого ветра. Нельзя!
Что-то черное, круглое мелькнуло впереди. Или почудилось? Но онемевшие губы уже произносят в микрофон:
— Прямо по курсу — плавающая мина!
Затряслась под ногами палуба. Это машины пустили враздрай. Накренился корабль — так круто переложили руль. Скорее, скорее! Ну что они там медлят с поворотом?
Черное пятно колышется на воде. Оно все ближе, ближе…
Коснется борта — конец. И первым взлетит на воздух он, Сергей: ведь он стоит на самом носу корабля. Ноги сами срываются с места. С трудом удерживается матрос. Удары сердца заглушают свист ветра.
Пошарив под ногами, он находит футшток — длинный тонкий шест — и целится им в страшное пятно. Он остановит мину, отведет ее от борта. Конечно, она может взорваться от прикосновения шеста. Тогда Сергею не уцелеть. Но корабль будет спасен…
От топота ног гремит стальная палуба. Это товарищи занимают места по тревоге. Сергей не один. Рядом друзья.
Вспыхивает прожектор. Ослепительный голубой луч бежит по воде. Вот он ткнулся в подозрительный предмет, вцепился в него.
Выпуклый лоснящийся холмик вдруг шевельнулся, вскинул круглую кошачью голову. Испуганные глаза уставились на свет.
Нерпа!
Остолбенел матрос. Вот проклятая! Со злостью он замахивается футштоком. Гладко омытая льдина, на которой лежит животное, уже возле самого борта. В этот миг из-под брюха нерпы выползает белый комочек и тоже смотрит на корабль глазками-бусинками.
Дрогнула рука матроса. Задержав занесенный для удара шест, он бросает его на палубу.
Скользнув вперед, гаснет голубой луч. Вновь наступает темнота и воет встречный ветер.
За спиной смех. Это товарищи смеются над Сергеем. Еще бы! Нет чтобы доложить: «Вижу неизвестный предмет», а сразу бухнул такое… Всех всполошил!
И вдруг Сергей слышит глуховатый голос старшины Михайлова:
— Зря хохочете. Молодец Сивцов: в такой темноте увидел…
— Да, но что увидел? Хороша «плавающая мина»!
— А вы думаете, если бы мы на льдину напоролись, весело было? То-то! А что тревогу напрасно сыграли, не такая уж беда. Лишняя тревога матросу не во вред.
Матросы расходятся с полубака. Покашливая, уходит старшина. Сергей пристально вглядывается в темноту. Ему кажется, что ночь посветлела: сейчас он отчетливо все видит. А в наушниках шлема по-прежнему звучит привычное:
— Зорче смотреть!
Рука товарища
Тяжелая выдалась вахта. Лодку валит с борта на борт. А в нашем пятом отсеке изводят не только качка, но и грохот работающих дизелей, жара, приторный запах горелого соляра. Ничего, выдержал. Теперь еще немного — и придет смена… Я уже протер свою половину двигателя, а Соломатин все копается Горе на него смотреть: еле двигается, лицо желто-зеленое, на белесых бровях, на кончике курносого носа, на подбородке висят капли пота. Я поглядываю на него и злорадствую. Это тебе не заметки в боевой листок строчить!
Сколько крови попортили мне соломатинские заметки! Старшина еще не успеет отчитать за то, что койка плохо прибрана или пуговицы на бушлате потемнели, а в боевом листке уже красуется заметка, и под ней карикатура такая ехидная, что после неделю над тобой смеются. А вчера… Ведь надо же такое написать!
«Наша боевая часть действует как часы и давно бы стала отличной, если бы не отсталые элементы, которые мертвым балластом тянут нас вниз. К примеру, матрос Кузьмин, который чуть ли не ежедневно получает замечания, никак не может стать отличником и не хочет устранять дефекты в своем позорном поведении».
Матрос Кузьмин — это я. Поэтому вам понятно, почему я сейчас ликую, видя страдания сочинителя.
— Товарищ Кузьмин! — сквозь шум дизеля доносится до меня голос старшины 2-й статьи Синцова. — Надо помочь Соломатину. Он же еле на ногах стоит.
— Не надо. Я сам. — Это Соломатин голосок подает, страдальческий, жалкий.
— Тут нет ему нянек! — ворчливо кидаю я.
Старшина хмурится.
Соломатин тянется ко мне. Глаза испуганные, большие, как плошки. Шипит в самое ухо:
— Разве так отвечают командиру?
Все же взял я ветошь и начал тереть соломатинскую половину дизеля. Это для того, чтобы предстоящую индивидуальную беседу старшины смягчить хоть немного. Вы не знаете нашего старшину 2-й статьи Синцова? Вот попадете к нему в подчинение, тогда поймете, что такое флотская служба.
Нашу работу прерывает сигнал срочного погружения. В шторм этот сигнал для подводников слаще любой музыки. Сейчас уйдем на глубину. Конец качке. Начнется спокойное житье.
Старшина останавливает двигатель. Я лечу к маховику захлопки газоотвода. Мигом закручиваю его до отказа. Все в порядке. Слышно, как зашумела вода, врываясь в балластные цистерны.
И тут в отсеке начинается дождь. Что такое? Оборачиваюсь и вижу: из открытых индикаторных кранов в крышках цилиндров плещут в подволок тугие фонтаны воды и рассыпаются в мелкие брызги. Взъерошенный Соломатин отталкивает меня от маховика, сам хватается за него.
— Кранец ты дубовый, — кричит. — Ты что, потопить нас хочешь?
Он повисает всем телом на маховике, но тот не поддается: завернут на совесть.
Старшина сообщает о случившемся в центральный пост. Лодка всплывает на поверхность, и вновь ее мотает на волне.
— Ты виноват! — тычет мне в грудь Соломатин. — Не проверил, наверное, захлопку. Не зря из «середнячков» не выходишь.
Я колочу себя в грудь, клянусь, что проверял захлопку в базе. Но чувствую: не верят мне. Вот и смена наша пришла. Но нам не до отдыха. Принимаемся осушать дизель. Помогают напарники. И все на меня косятся.
Отрывает нас от работы команда старшины:
— Смирно!
В переборочную дверь, согнувшись, протискивается командир корабля. С разбухшего реглана струится вода. Лицо усталое, сиреневое от холода. За командиром входит инженер-механик.
— Вольно! — говорит командир. Он стягивает мокрые рукавицы, греет руки о металл двигателя. Пытливым взглядом окидывает нас. Объясняет, что с неисправной захлопкой лодка не может погрузиться. Значит, надо лезть в надстройку. Голос командира временами заглушается ударами волн. Теперь, когда дизели молчат, мы даже сквозь толщу прочного корпуса слышим рев шторма.
Сейчас командир вызовет охотников. Все невольно подаются вперед. Трудно там, наверху, опасно. Но разве струсит кто-нибудь из нас? Вот бы меня послали. Показал бы я этому Соломатину, что за человек Кузьмин и у кого сознательности больше.
Командиру все ясно. Такой уж он у нас: каждого насквозь видит. Говорит нам:
— Знаю, любой пойдет. Но нужно выбрать самых крепких и ловких…
— Меня, товарищ командир!
Ну конечно, Соломатин! Этому всегда вперед надо выскочить.
Командир молчит. Оценивающим взглядом ощупывает каждого из нас. Я вижу красные жилки на белках его исстеганных брызгами глаз, припухшие веки, трещинки на обветренных губах и даже серые крупинки соли, выступившие на обсыхающих щеках.
— Пошлем старшину второй статьи Синцова, — предлагает инженер-механик.
— Согласен, — кивает головой командир. — А помощника пусть он сам себе выберет.
Я разочарованно вздыхаю. Меня-то уж Синцов не возьмет. Сейчас вызовет Соломатина.
— Со мной пойдет матрос Кузьмин, — говорит вдруг старшина.
Я не верю ушам своим. Стою хлопаю глазами.
— Вы готовы, товарищ Кузьмин? — спрашивает командир.
— Так точно! — заявляю во весь голос.
Дай мне волю, я бы сейчас на шею кинулся нашему строгому старшине!
Ушел командир, а мы спешно начали готовиться. Матросы помогли мне и старшине надеть гидрокомбинезоны. Притащили и кислородные аппараты, но старшина сказал, что и без них в надстройке не повернуться. Мне через плечо повесили холщовую сумку с инструментами. Товарищи жали нам руки, желали успеха. А Соломатин и на этот раз не удержался от поучений:
— Помни, какая личная ответственность на тебя возложена. Тебе предстоит важнейший, серьезнейший, так сказать, экзамен. Надеемся, что ты его выдержишь с честью.
Каждое слово прямо в передовицу боевого листка просится!
И вот мы на мостике. Еле брезжит рассвет. Выглянул я за ограждение рубки — и сердце упало. Волны горами ходят, переваливаются через палубу. И шум вокруг какой… Вспомнил слова Соломатина и, признаться, подумал: «Да, экзамен… Слизнет вот волна, словно букашку, и поминай как звали». От размышлений отвлек вопрос командира:
— Может, передумали, товарищ Кузьмин?
— Не передумал, — отвечаю. А самого дрожь пробирает, аж колени ноют.
Боцман опоясал меня и старшину пеньковыми концами для страховки. Командир сам прочность узлов проверил.
Переждав волну, спустились мы на верхнюю палубу и побежали, хватаясь за леер. Палуба мокрая, скользкая.
— Держись! — кричит старшина.
Уцепился я обеими руками за леер. Ревущая гора налетела на нас. Почувствовал, что ноги мои оторвались от палубы, и я повис почти горизонтально. Не успел отдышаться, старшина тянет:
— Быстрее!
Не помню, как мы добежали до люка в надстройке. Синцов склонился над ним, чтобы открыть, и тут опять волна обрушилась. Хорошо, что я догадался ухватить конец, которым был обвязан старшина. Одной рукой за леер держусь, другой — пеньковый конец тяну, на котором старшина висит. Впивается трос в руку, а я, знай, держу. Потом, когда мы уже втиснулись в люк, Синцов сказал мне:
— Спасибо. Если бы не вы, плавать мне за бортом.
И хоть было не до смеху, я улыбнулся: наконец-то заслужил благодарность старшины!
Эх и работенка нам выпала! Через каждые полторы-две минуты надстройка, в которой мы копошились скорчившись в три погибели, становилась похожей на клетку, опущенную в воду. Затаив дыхание, зажмурив глаза, мы пережидали, пока волна схлынет; успевали глотнуть воздуху, и вновь нас давила толща воды. И все же мы работали. Правда, работал в основном старшина, а я лишь подавал ему то молоток, то ключ да снятые детали держал. И как старшина на ощупь, в темноте, в воде смог заменить лопнувшую втулку — уму непостижимо.
Но пришло время, и он сказал:
— Готово. Можно выбираться.
Я вылез из люка и тотчас увидел падающую на меня зеленую, просвечивающую, как стекло, стену. Потянулся к лееру — и не успел. Надавило на грудь, перевернуло через голову. Ослепший, оглохший, я летел куда-то вниз. Трос вокруг пояса больно врезался в тело, а потом вдруг обмяк. Изо всех сил барахтаюсь, от испуга воду глотаю. Ведь раньше плавал неплохо, а тут ничего не получается. Кое-как вынырнул метрах в пяти от корабля.
Теперь у меня одна мысль: до новой волны успеть добраться до борта. Гидрокомбинезон кажется тяжелым-тяжелым. Подплыл все-таки к кораблю, уцепился правой рукой за закраину шпигата. Острый металл впивается в ладонь. И снова накрыло волной. Силы оставляют меня. Я с ужасом чувствую, как разжимаются мои порезанные пальцы, скользят по стальному листу обшивки. Конец!
Но вот что-то крепко мне сжало запястье.
— Руку! Другую руку! — услышал я, как только откатилась волна.
Протягиваю вверх и левую руку. Ее тоже сжимает крепким, надежным обручем. Поднимаю голову. Прямо надо мной свешивается бледное лицо старшины. От напряжения на висках у него вздулись жилы.
— Спокойно! — хрипло прокричал он.
Пытаюсь обо что-нибудь упереться ногами. Но они скользят по покатому борту. А сверху рушится новый вал. Ударяюсь головой об обшивку…
Прихожу в себя, услышав над головой звонкий крик:
— Раз-два, взяли!
Сильные руки вытягивают меня наверх, ставят на ноги. Оборачиваюсь, чтобы поблагодарить своих спасителей. И от удивления рта не раскрою: рядом со старшиной стоит Соломатин! Мокрая парусиновая рубаха и штаны прилипли, обтянули и без того поджарую его фигуру, а курносое в веснушках лицо так и сияет. Он-то как тут оказался?
Расспрашивать некогда. Товарищи подхватывают меня под руки, и мы бежим к рубке.
На мостике старшина совсем по-будничному докладывает командиру:
— Товарищ капитан-лейтенант, ваше приказание выполнено.
И командир так же буднично, привычно отзывается:
— Добро! — Потом строго спрашивает Соломатина: — А вы почему не обвязались концом?
— Некогда было, — оправдывается матрос. — Да и что конец? Он оборваться может.
Я трогаю обрывок троса, висящий у меня на поясе, и думаю: «Прав Ваня Соломатин. Любой трос может не выдержать. А рука товарища…»
Отогнув рукав комбинезона, смотрю на свою руку. На запястье синяк, наверное, будет. И откуда столько силищи взялось у старшины?
— Идите грейтесь, — говорит нам командир.
Вечером в боевом листке я снова увидел свое имя.
Заметка была восторженная. Очень хорошо говорилось в ней о старшине Синцове. Да и мое барахтанье в воде выглядело как настоящий подвиг. Только о Соломатине не было ни слова.
Подводный доктор
Жарко. Даже в носовом отсеке, где обычно прохладно, сейчас как в парилке. Жужжат два переносных вентилятора, но от этого не легче. Свободные от вахты матросы лежат на койках чуть не нагишом и все же исходят потом. Наволочки, простыни — хоть выжимай. Лейтенант медицинской службы Семен Клунин в трусах и майке, сгорбившись, сидит на разножке и лениво теребит баян. Из-под потертой пилотки свесился на глаза мокрый чуб. Пальцы медленно перебирают лады.
«До встречи с тобою в час тихий заката…» — приглушенно поет баян, грустит. И все о ней… Лене. Ее лицо стоит перед глазами. Лейтенант сердито встряхивает головой. Хватит! Больше она для него не существует. Глупец! Так рвался. Столько было хлопот, чтобы получить неделю отпуска. Примчался в Ленинград, влетел к ней помешанный от счастья: «Ленуша, я за тобой!» А она рассеянно отвела его горячие руки, отрезала: «Не могу». Что-то еще говорила. Семен уже не разбирал слов. Через двое суток он докладывал командиру о возвращении из отпуска. Капитан 3 ранга Варенцов спросил:
— А где жену устроили?
— Нет у меня жены!
Покосился на лейтенанта командир, но допытываться не стал.
— Это хорошо, что так быстро возвратились. Послезавтра выходим в море.
Требователен Варенцов, но никогда еще не был так придирчив. Клунин сбивался с ног. У него же уйма обязанностей. «Товарищ доктор, нужно сделать то-то и то-то». Семен, когда слышит такое, горько усмехается. Какой он доктор! На подводной лодке врач — меньше всего врач. Это — интендант, начфин, кладовщик, инспектор по чистоте, методист по физкультуре и в лучшем случае — санинструктор, к которому приходят матросы, чтобы смазать йодом царапинку.
Не знал покоя лейтенант с утра до ночи, тайком поминал лихом командира, что минуты передышки не дает. И не замечал, что на самом деле отдыхает в этих хлопотах: отвлекают они от мрачных мыслей. Вот опять он слышит: «Доктор, в отсеках душно. Плохо следите!», «Доктор, у людей ноги затекают».
Моряки считают, что лейтенант медицинской службы по своей охоте играет на баяне. Не знают они, что командир сказал ему: «Не спят матросы, доктор, надо что-то делать». Врач пожал плечами: понятное дело — не спят, попробуй заснуть в этом пекле.
Но приказано — так думай. И тогда вспомнил лейтенант, что замполит прихватил в поход баян. Музыкант Клунин не ахти какой, знает всего несколько простых вещичек. Но, может, именно потому его робкая игра и действует неотразимо: попиликает Семен немного — засыпают матросы.
Сегодня что-то не получается, ворочается народ с боку на бок. Наверно, потому, что слишком тяжко на душе у музыканта.
— Товарищ доктор, нельзя ли что-нибудь повеселее? — слышится с верхней койки.
Это рулевой-сигнальщик Нефедов. Буйная головушка, всегда у него промашки. Нынче снова нагоняй получил от боцмана: задремал у руля. Бывает так: в постели не уснуть, а на вахте у истомленных людей глаза слипаются. Но за сон на посту по головке не гладят, еще перед товарищами отвечать придется.
Лежит матрос, мучается. Доктор ворчит:
— Спите, Нефедов, а то вовсе уйду.
Все же ожил на минуту баян. Всего на минуту. Потом вновь затосковал.
…Эх, Семен, Семен! На что ты надеялся? Ну зачем маминой дочке, обеспеченной, избалованной, ехать с тобой? Ты радоваться должен, что отказалась она. Да и что в ней? Неженка, модница. Только глаза… Серые, глубокие, с искорками…
Вздыхает Семен, а предатель-баян выбалтывает правду, которую тщетно пытается скрыть от себя лейтенант:
Только у любимой могут быть такие. Необыкновенные глаза…К Клунину обратился вахтенный:
— Товарищ лейтенант, командир приглашает вас во второй отсек.
«Соскучился, — хмурится Семен. — Новое задание подыскал».
Командир жестом приглашает сесть. Варенцов в кителе, застегнутом на все пуговицы. Другим в жару разрешает ходить налегке, сам же всегда в полной форме. На синем полотне кителя белые разводы соли.
— Как матросы, доктор?
Обычный вопрос! Семен докладывает, что все чувствуют себя хорошо. Капитан 3 ранга потер усталые глаза. Высокий лоб прорезала морщинка.
— Беречь нужно людей. Мы с вами, доктор, должны всегда думать о них. А мне все кажется: с холодком вы работаете.
Промолчал лейтенант. Лишь голову ниже склонил, чтобы скрыть обиду. Всегда недоволен командир!
— Ну, ладно, — переменил тему Варенцов. — Мне вестовой сказал, что вы до сих пор не обедали. Давайте вместе закусим. — Он повернулся к вестовому — Наливайте, Воробышкин, доктору и не скупитесь.
Перед Клуниным полная тарелка борща, настоящего флотского — пахучего, густого. А лейтенант сейчас и запаха его перенести не может. Зачерпнул ложку и вылил обратно.
Капитан 3 ранга тоже не притронулся. Из-под насупленных бровей поглядывают на врача строгие спокойные глаза.
— Подайте второе, Воробышкин.
Вестовой кладет шницель, рассыпчатую гречневую кашу, залитую топленым салом… Вкусно пахнет, а есть не хочется.
Командир наблюдает за Клуниным. Наконец говорит:
— Сегодня почти все вот так.
Только теперь дошло до Семена.
Вскочил на ноги.
— Я ему задам!
— Кому?
— Коку. Разрешите идти?
— Идите. Но разберитесь сначала.
В четвертом отсеке как в бане. Зноем пышет стальной настил над аккумуляторной батареей. Чем ближе к камбузу подходит Клунин, тем нестерпимее жара. Но, оказывается, и она может остудить человека. Гнев спадает. Лейтенант видит, как кок Мотовилов, низкий, коренастый, «колдует» над раскаленной плитой. Он в белой куртке и таких же брюках. Коку нельзя работать без спецодежды.
Сколько ему муки с ней! Поработает кок час-другой — куртка насквозь пропитывается потом. Правда, выстирать ее не мудрено. А как сушить? На лодке может все отсыреть, но ничего не высохнет. Мотовилов — парень находчивый: выстирав куртку, слегка отжимает ее и надевает на себя влажной. И чисто и не так жарко.
Кок оборачивается. Мокрое лицо расстроенное, удрученное.
— Не едят! — огорченно говорит матрос. — Стараюсь, стараюсь, а они…
Лейтенант успокаивает его:
— А вы поговорите с людьми, спросите, чего им хочется?
— Спрашивал. Сами не знают. Я вот собираюсь им сладкое готовить. Попробуйте, товарищ лейтенант. — Кок протягивает тарелку и ложку. — Это фруктовый суп. Потом будет пудинг, тоже холодный. На третье — кисель.
Семен сначала с недоверием берется за ложку и как-то незаметно опустошает тарелки и с первым, и со вторым. С наслаждением выпивает кисель — душистый, кисло-сладкий. Матрос не сводит с него зачарованных глаз.
— А здорово, Мотовилов! — восторгается лейтенант. — Вам бы в ресторане работать.
— Что ресторан! — обижается матрос. — Там что ни сделай, под рюмку сойдет. А тут…
— Подождите, — спохватывается Семен, — это вы сами додумались до такого меню?
— Да нет, мы с командиром вместе голову ломали.
«А я прозевал, — расстроился лейтенант. — Всегда позже всех догадываюсь».
Наверху светит солнце, колышется сине-зеленая вода, а ночью сияют над головой огромные яркие звезды. Люди в отсеках не видят этого. Они живут при электрическом свете и смену суток отмечают только по часам. В остальном все по-прежнему. Несмотря на жару и усталость, моряки учатся, тренируются, зачитывают книжки до дыр, беседуют, шутят.
Провели торпедную атаку. Правда, торпед не выпускали, только имитировали стрельбу, выбрасывая из аппаратов пузыри воздуха. Сверху сообщили: позиция выбрана правильно, маневрировали хорошо. В отсеках — праздник!
Клунин встретился с командиром в дизельном отсеке. Здесь грохот, зной, глаза ест солярный пар. Лодку качает, шахту подачи воздуха то и дело захлестывает волной. Тогда срабатывает автоматическая захлопка, и дизели начинают сосать воздух из отсека. Кажется, что вместе с воздухом они и все внутренности вытягивают из тебя. Обнаженные мотористы копошатся у двигателей, переговариваются знаками: слов все равно не услышишь. Командир кивком подозвал врача, вывел в центральный пост. По сравнению с дизельным отсеком здесь — рай. Командир вытирает лицо платком.
— Доктор, выдавайте людям спирт.
— Спирт? — Брови у лейтенанта полезли на лоб.
— Да. Пусть обтираются перед вахтой и после вахты.
Скривился Клунин. Упреком пронеслось в голове:
«Ведь это я должен был… Как это командира на все хватает?»
После обеда Варенцов задержал врача:
— У вас неважный вид, доктор. Отдыхать надо.
— Где там! — отмахнулся лейтенант.
Но с командиром не поспоришь. Уложил в каюте и запер на ключ, чтобы никто не мешал. Сказал на прощание:
— Отоспитесь. А о матросах не беспокойтесь. Вместо вашего баяна им штурман прочтет лекцию по устройству гирокомпаса. Подействует сильнее!
…Снилась Лена. Хохотушка и задира, с мальчишеской прической, тонкая и гибкая как молодой стебелек. Милая-милая, ближе которой нет у него никого на свете… После все удивленно поглядывали на доктора: ходил он рассеянный, задумчивый, и ласковая улыбка не сходила с губ.
Как-то в свободную минуту командир пригласил Клунина в каюту.
— Я давно хотел вас спросить, да случая удачного не было. Что с Еленой Дмитриевной?
Вздрогнул Семен. Это о Лене спрашивает командир.
— Не знаю… Отказалась она ехать со мной.
— Почему?
Семен не ответил. Командир осуждающе покачал головой.
— У вас далеко зашло с ней?
— Как это? — не понял лейтенант.
— Она не ждет ребенка?
«Ребенка?» — молнией пронизало мозг. Вспомнились последние слова Лены: «Иди. Мы и без тебя проживем». А он? Он даже не заметил этого «мы», потонувшего в рыданиях.
Лейтенант поднялся.
— Дурень! — схватился он за голову.
— Эх вы! — укоризненно сказал командир. — Уж врачу-то положено быть сведущим в таких делах.
Ночью всплыли. Наверху бесился шторм. Лодку так зашвыряло, что на ногах не устоять. И тут случилась беда с сигнальщиком Нефедовым. Вот ведь невезучий парень! Стал вылезать из рубочного люка, накрыло волной, бросило в сторону. Не сразу разыскали в темноте. В лодку втащили уже без сознания. Сейчас лежит на столе во втором отсеке. Осмотрел Клунин ногу сигнальщика. Открытый перелом. Кровь ручьем. Чуть растерялся лейтенант. Настоящую операцию надо делать. Командир стоит рядом.
— Спасайте человека, доктор!
Лейтенант перетянул ногу сигнальщика жгутом. Спешно проинструктировал своих помощников — вестового и боцмана, облачился в стерильный халат.
Работы много. Зашил порванные сосуды, чтобы остановить кровь. Бусины пота катятся по лбу. Их торопливо стирает ваткой вестовой Воробышкин. Сигнальщик вскрикивает, открывает глаза.
— Потерпи, — бросает ему врач.
Пот застилает глаза.
— Вы что, заснули? — кричит доктор.
Ему вытирают лоб, но при этом роняют клочок ваты, и тот чуть не попадает в рану.
— Осторожнее, шляпа! — вырывается у Семена. Он гневно косится в сторону и… видит командира. — Простите! — бормочет обескураженный лейтенант.
— Ничего, — успокаивает командир.
— А где Воробышкин?
— Обморок с ним. Вон лежит на диване.
— Трусишка! — И опять смутился Семен, скользнув взглядом по побелевшему лицу командира: даже такой сильный человек, оказывается, сдает при виде крови.
Врач наложил повязку на рану, уложил поврежденную ногу в шину из проволоки, поверх туго замотал бинтами, вымазанными гипсовым тестом.
— Ну вот, — говорит он, разглаживая гипс. — Починили тебя, Нефедов. Теперь поправляйся.
Сменилась вахта. Смывают с себя грязь и пот мотористы, электрики, трюмные, ужинают и укладываются на узкие, близко сдвинутые друг к другу, подвешенные в три яруса койки. И снова поет тоскующий баян: «Услышь меня, хорошая…»
Притих отсек. Покачивается на разножке Семен, медленно разводя мехи баяна. Что она там делает сейчас — Лена? Простила ли она его?
В круглый лаз переборки протискивается заместитель командира. Все вскакивают с коек.
— Что-нибудь нового, товарищ капитан-лейтенант?
— Есть кое-что! — весело отзывается тот. — Новый курс — домой!
…Лодка у пирса. Моряки выходят на верхнюю палубу. Пьянит чистый, напоенный ароматами земли воздух.
Офицеры разошлись по домам. Получило увольнение большинство матросов. Нефедова отправили в госпиталь. А врач все занят: надо подготовить к сдаче на склад остатки продовольствия.
— Товарищ лейтенант, вас вызывают в проходную! — кричит в открытый рубочный люк вахтенный.
Семен выбирается на мостик.
— Кто вызывает?
— Говорят, женщина какая-то.
Лейтенант спешит. Но земля колеблется под ногами, к горлу подступает тошнота. Так всегда бывает, когда сходишь на берег после качающейся палубы.
Кто его может ждать? Неужели… Ему верится и не верится.
Возле будки — Лена. Она бросается к нему, прижимается лицом к его засаленной, пропахшей всеми запахами отсека куртке.
— Сеня!
Лена смотрит на него полными слез счастливыми глазами! Семен целует ее губы, руки, тщательно уложенные волосы.
— Как ты тут очутилась? — наконец спрашивает Семен. Он осматривает ее с головы до ног, отмечает, что даже сквозь пальто заметно, как она пополнела.
— Перестань так смотреть! — залилась она краской.
Потом стала сбивчиво рассказывать. Оказывается, только он уехал, пришло письмо. Командир спрашивал, что случилось: лейтенант приехал сам не свой.
— Ну вот я и постаралась быстрее приехать. Сдала экзамены — и сюда.
Она плотнее прижимается к нему:
— Ты знаешь, как мне страшно было. Приехала, а ты не встречаешь. Стою на перроне и плачу. И вдруг матрос: «Вы к лейтенанту Клунину?» Усадил меня в машину, привез в штаб. Сам адмирал меня принял. «Ваш муж в море, — сказал. — Но вы не беспокойтесь. Его командир предупредил меня, что вы должны приехать. Вашу телеграмму получили, приготовили комнату». — Лена смеется сквозь слезы. — Потом пришла какая-то женщина. Приветливая такая. Затормошила меня. Заставила чемоданы распаковать, помогла прибрать комнату. Это Ольга Сергеевна, жена вашего командира. Ты знаешь, какая она!.. — Лена даже задохнулась, не в силах подобрать нужное слово. — Она мне феей из сказки показалась, честное слово… Так что у нас с тобой и дом уже есть свой.
Семен гладит ее шелковые волосы, не может насладиться их родным теплом.
— Они чудесные люди — и наш командир и все…
Лена удивленно взглянула на него:
— А ты писал, что он сухарь, ходячий устав…
— Я обо всех болтал глупости, даже о тебе.
— Почему?
— Потому что слеп был и голова у меня была пустая, как продутая цистерна.
Они забыли обо всем на свете, прислонясь к стене проходной будки.
— Ну, встретились?
Семен обернулся на знакомый голос. Командир подошел, пожал обоим руки.
— Поздравляю.
— Спасибо вам…
— Пустяки, — мотнул головой командир. — Вот что, не ходите сегодня на корабль. То, что не успели, доделаете завтра.
Командир простился. С тревогой следит лейтенант за его тяжелой медленной походкой. Только сейчас Семен замечает, как бледен, утомлен капитан 3 ранга.
— Что с тобой? — спросила Лена, посмотрев на огорченное лицо Семена.
А тот морщит лоб:
— Ты вышла замуж за круглого идиота, Ленуша. Знаешь, я за всеми в походе следил пуще, чем за чемпионами мира. У командира же ни разу даже пульса не пощупал. А ему в море больше всех достается.
Варенцов уже скрылся из виду, а Семен и Лена все смотрели ему вслед…
Боевой пост
Пока Комаров добрался до машинного отделения, он вымок до нитки. Волны набрасывались во тьме на корабль, перекатывались через палубу. Чтобы не оказаться за бортом, приходилось изо всех сил держаться за штормлеер.
Машинный отсек оглушил шумом. Пронзительно выл над головой вентилятор. Главные турбины работали на полных оборотах, все вокруг дрожало и звенело.
Комаров задержался на минутку у поста управления. Здесь уже занял свое место старшина 2-й статьи Спицын, командир отделения. Он стоял твердо, точно врос ногами в стальное зеркало палубы. Ладони цепко обхватили маховик маневрового клапана и еле заметными движениями поворачивали его. Взгляд устремлен на стрелку указателя оборотов.
Старшина на миг обернулся. На потном лице строго блеснули глаза.
— Принимайте вахту! — приказал он. — Смотрите в оба за новым подшипником.
Матрос обошел пышущую жаром громаду турбины низкого давления и спустился в люк.
Здесь заведование Комарова. В низком длинном коридоре — вереница подшипников. В них вращается отшлифованное до блеска стальное бревно вала. Тут прохладно, тихо. Комарова всегда смущало: уж очень спокойное его заведование. Даже неудобно называть его боевым постом.
Напарник, такой же молодой матрос, как и Комаров, обрадовался его приходу. Вместе обошли всю линию вала. Приняв вахту, Комаров отпустил товарища и вернулся к подшипнику, о котором предупреждал старшина. Подшипник этот поставлен недавно и еще не успел обкататься. Потому и греется. Вот и сейчас он теплее других. Матрос повернул вентиль, чтобы прибавить смазки, хотел перейти к другому подшипнику и вдруг почувствовал, что сейчас упадет. До этого он как-то не обращал внимания на качку, а теперь каждый ее взмах отзывался во всем теле. Кружилась голова, биение сердца отдавалось в мозгу острыми ударами. Перед глазами все плыло, как в тумане. И тошнота. Никак не побороть ее.
«Начинается», — с горечью подумал матрос.
Паренек, выросший в степном колхозе, где и воды-то— крохотный ручеек за селом, с детства зачитывался книжками о море. Мечтал о дальних походах, о подвигах. Мечта казалась несбыточной, но уж так устроена жизнь в нашей стране: любая мечта может стать явью. На призывном пункте, выслушав сбивчивую исповедь паренька, сказали:
— Что ж, по всем статьям подходите. Пойдете на флот.
И вот он в форме военного моряка. В учебном отряде слушал преподавателей — бывалых моряков, думал об одном — скорее на боевой корабль. Свободные вечера просиживал на берегу бухты. Любовался кораблями и гадал: на каком ему плавать? По улицам шел гордый под завистливыми взглядами мальчишек. Тайком гляделся в витрины магазинов: ладно сидят на нем темно-синяя рубаха с голубым воротником и черные флотские брюки, выутюженные так, что складки — как лезвия ножей.
А первые же дни службы на корабле разочаровали. Раньше, в мечтах, видел он себя на ходовом мостике с флажками в руках или наводчиком у грозного орудия, в крайнем случае у штурвала маневрового клапана повелителем машины-богатыря. А оказался глубоко в трюме, куда и шум волн не доносится, и обязанности его до обиды просты: ходи да щупай, не греются ли подшипники.
В колхозе работа куда интереснее. Он был трактористом. Уважение-то какое: чуть ли не самый нужный человек на селе! А здесь…
Сегодняшний поход, первый штормовой поход за всю его жизнь окончательно развеял мечты. Оказывается, вовсе он не моряк, а самое что ни на есть сухопутное существо, которое малейшая качка делает беспомощным и жалким.
Молодой матрос к ужасу своему вдруг понял, что не может больше работать.
Закрыл глаза. И сразу же переборка, на которую он опирался, поплыла куда-то в сторону. Чтобы удержаться, схватился за подшипник и тотчас отдернул руку. Металл жегся, будто его вынули из огня. Матроса бросило в жар. Сел на корточки, осмотрел и ощупал со всех сторон подшипник. Нет, не показалось. Действительно как огонь. Матрос забыл о качке. Надо доложить. А старшина Спицын, известно, крутой человек.
Да, старшина прибежал сразу же. Потрогал подшипник, нахмурился Потянулся к вентилю маслопровода. Повернул его. Исподлобья пронзил матроса сердитым взглядом:
— Это еще что такое? Вы же масло перекрыли!
— Не может быть! — только и вымолвил матрос.
Значит, он во всем виноват. Что теперь с ним будет?
Старшина, конечно, снимет его с вахты. А потом и с корабля спишут. Такое на флоте не прощают.
Но старшина не ругался. Подумал. И заговорил мягко, участливо:
— Укачало? Подержитесь еще чуть-чуть. Я сейчас договорюсь, чтобы заменили вас. А пока следите за подшипником. Прибавьте охлаждение. Смените масло.
Старшина ушел. Комаров понимал, к чему вела его оплошность.
Друзья его стараются изо всех сил. Обливаются потом котельные машинисты у раскаленных топок. Матросы боцманской команды в десятый, двадцатый раз крепят все предметы на верхней палубе. Ледяные волны накрывают их, но люди с отчаянным упорством тянут и связывают неподатливые жесткие тросы. Немеют от напряжения руки рулевого. Трудно, страшно трудно ему на такой волне удержать корабль на курсе. А на ходовом мостике, надвинув на самые брови капюшон плаща, несет свою бессменную вахту командир — человек, который отвечает за корабль, за судьбу Комарова и его товарищей.
Может быть, командиру уже доложили о подшипнике. И среди жалящих соленых брызг, вглядываясь до рези в глазах в грохочущую тьму, командир тревожно прислушивается к шуму машин. Потеря хода грозит срывом задания.
Сколько раз слышал Комаров, что нет на корабле маловажных постов. Не верил. А теперь вот не справился со своим таким пустяковым делом и подвел…
Комаров еще раз сменил масло, убавил подачу смазки на соседние подшипники, чтобы больше ее поступало в греющийся подшипник. Матрос увлекся и не заметил спустившегося в отсек инженер-капитан-лейтенанта Новикова. А тот — широкоплечий, рослый (ему приходится сгибаться, чтобы не задеть головой подволока) — внимательно следил за его действиями. Увидев офицера, матрос совсем растерялся. Новиков пощупал подшипник, с улыбкой окинул взглядом понурившегося машиниста.
— Ну, а мне доложили, что подшипник чуть не плавится и Комаров наш совсем сдал. А, оказывается, он — молодцом.
Матрос еще больше смутился.
— Тяжело? — участливо спросил офицер. — Пожалуй, я все же пришлю вам смену.
Комаров взмолился:
— Прошу вас… не надо. Выдержу. Даю слово, выдержу! — И, отвернувшись, уже упавшим голосом добавил: — А моряк из меня, видно, не получится…
— Получится! — сказал офицер. — Вы думаете, другие сразу привыкают? Я, признаться, тоже в свое время мучился, да еще как!
— Вы?
— И я, и старшина ваш, да почти все. Наша служба такая. Привычки требует.
Уже поднимаясь по трапу, офицер еще раз спросил:
— Выдержим?
— Ясно, выдержим! — убежденно ответил матрос.
Офицер ушел. Но теперь Комаров уже не чувствовал себя одиноким. Ему казалось, что весь экипаж смотрит на него.
Мысли Комарова то и дело возвращались к офицеру. Ведь и он начинал свою службу матросом. Может быть, тоже нес вахту на линии главного вала. Потом стал старшиной турбинистов. Только вчера Комаров читал в книге о подвиге старшины 2-й статьи Новикова. Да, это был тот самый Новиков.
…В бою вражеским снарядом пробило борт, вода хлынула в машинное отделение. Турбинистам нельзя было рассчитывать на чью-либо помощь: все были заняты боем. Тогда Новиков, командовавший турбинистами левой машины, задраил выходной люк.
— Уходить нам некуда. Будем спасать корабль.
Воды было по грудь. Вначале она была ледяной, но вскоре нагрелась от паропроводов и работающей турбины и начала жечь, как кипяток. Густой пар заполнил помещение. Стало трудно дышать. Но моряки не падали духом. Заделывали пробоину, откачивали воду. Новиков не отходил от штурвала маневрового клапана. Корабль продолжал бой, ему нужен был ход. Сильно осевший от принятой воды, эсминец маневрировал, наносил удары. И победил.
Верно говорят: любая специальность на корабле может стать геройской.
…Все так же сильно качало. Но, к своему изумлению, матрос уже не испытывал прежней слабости.
Злополучный подшипник понемногу остывал. Раньше время на вахте текло убийственно медленно. Теперь матрос с тревогой поглядывал на часы: неужели не удастся до смены остудить подшипник? Хотя бы еще полчаса…
Перед самой сменой зашел старшина. Он заметно осунулся, побледнел за эти четыре нелегких часа, но глаза сверкали бодро и весело. Осмотрел заведование Комарова и остался доволен.
— Порядок!
Скуп на слова старшина Спицын. Еще более скуп на похвалу. Но сейчас в одно это слово он смог вложить столько, что матрос почувствовал себя самым счастливым человеком.
Характеристика
Капитан 2 ранга Никитин с улыбкой посмотрел на собеседника. С Матвеем Сомовым они давние друзья, еще с училища. Вместе начинали службу, выросли до командиров лодок. Назначение Сомова командиром бригады не повлияло на дружбу. По-прежнему они рады каждой встрече. Но сейчас капитан 1 ранга Сомов шел с Никитиным в море как начальник. Это уже совсем другое дело. Присутствие на борту начальства, пусть начальством и будет лучший друг, заставляет командира корабля держаться настороже.
Комбриг неспроста нанес визит. Подводная лодка Никитина готовится к выходу в океан, в большое и трудное плавание. Понятно желание Сомова самому убедиться, что на корабле все в порядке. Дружба дружбой, а служба службой. Кстати и повод представился удачный: лодка выполняла очередную учебную задачу.
Офицеры стояли на мостике, облокотясь на край ограждения рубки. Оба в одинаковых походных регланах, крепкие, рослые. Они очень похожи друг на друга. Только у Никитина лицо более худощаво да сеть морщинок у глаз гуще.
Лодка с застопоренными двигателями покачивалась на легкой зыби милях в десяти от берега. Утренний туман стелился над морем. Серо и скучно было кругом. Штаб что-то долго не отзывался на запрос лодки, и комбриг нервничал. Может, потому и возобновил неприятный для него разговор.
— Слушай, Павел Иванович, — начал он, пряча руки поглубже в рукава: от воды тянуло холодом. — Я опять о штурмане. Подведет тебя твой Крутов в океане. Опыта недостает парню. С него какой спрос? А нам с тобой, если что случится, влетит на полную катушку. Взял бы ты с собой моего бригадного штурмана. На него уж можно положиться. Артист!
— Обойдусь без твоих артистов.
— Ну что ты цепляешься за этого юнца?
— Потому что знаю его. А что молод — мы с тобой тоже не стариками родились.
Никитин сказал и поморщился. Не привык он себя в ранг стариков заносить. Но ничего не поделаешь: скоро сорок стукнет — самый пожилой на лодке. Так уж жизнью заведено: подводная служба — удел молодых.
Из рубочного люка выпрыгнул старшина-радист. Лихо отрапортовал:
— Товарищ капитан первого ранга, штаб передал: «Двенадцать ноль-ноль, квадрат восемь».
Сомов взглянул на часы:
— Времени на переход — в обрез. Отправляйся в путь, командир.
— Погоди минутку. — Никитин склонился над люком: — Боцман!
На мостике показался коренастый моряк с эмблемой главного старшины на берете.
— Выбросьте буй, — приказал ему Никитин.
Вскоре у борта лодки заплясал на волне разрисованный белыми и красными полосами поплавок.
— Это еще зачем? — рассердился комбриг. — Лишнее имущество накопил?
— После подберем.
— Да уж, подберешь. Вот прикажу его стоимость из твоего кармана покрыть — будешь ценить казенное добро.
Лодка погрузилась. Спустившись в центральный пост, Сомов и Никитин уселись в креслах возле шахты перископа. В отсеке — тишина. Когда лодка идет под водой, люди неразговорчивы. Словно многометровая морская толща давит не только на корпус корабля, но и на сознание его обитателей.
Неподалеку от Сомова сидят рулевые. Он пригляделся к их работе. Стараются моряки, и выучка чувствуется. Ни одного лишнего движения. Вдруг Сомов уловил еле внятный говор.
— Комбриг нашему штурману экзамен устраивает, — прошептал один из моряков.
Офицер вспомнил: этот матрос стоял у штурвала на мостике.
— Для него, как и для всех нас, каждый поход — экзамен, — столь же тихо отозвался боцман, передвигая манипуляторы горизонтальных рулей. — А вы, чем болтать, ровнее бы курс выдерживали. Это лучшей помощью будет нашему лейтенанту.
От долгого сидения затекли ноги. Комбриг встал, прошелся по отсеку. Остановился за спиной штурмана. Его рабочее место — тесный, загроможденный приборами закуток в углу отсека. На низком столе развернута карта. В бронзовом стаканчике дюжина остро отточенных карандашей. Штурман согнулся над столом. Даже не видя его лица, можно определить, что он очень молод. Тонкая мальчишеская шея, острые плечи. Одет штурман в темно-синий китель. Поеживается от холода, а куртку не надевает. Только лейтенантам свойственно такое щегольство.
Крутов производил какие-то расчеты на листке бумаги. Ошибаясь, стирал цифры резинкой. Одни лишь штурманы пользуются резинкой, работая даже с черновиком. Аккуратнейший народ!
— Товарищ капитан второго ранга, — не оборачиваясь произнес лейтенант ломким высоким голосом, — через десять минут будем в точке.
— Хорошо, штурман, — откликнулся Никитин. — Объявляю боевую тревогу.
«А здорово он доверяет ему, — подумал комбриг. — Прокладку курса так ни разу и не проверил».
— Слышу шум винтов. Пеленг сорок, — доложил гидроакустик.
Нет, на этот раз не ошибся лейтенант. Вывел лодку точно в назначенный район, где ее дожидались надводные корабли, участвующие в учении.
— Итак, товарищ комбриг, с вашего разрешения приступаем. — Никитин сбросил реглан и поплевал на руки, как заправский забияка, вступающий в драку. — Померяемся, приятели, кто кого!
Гидроакустик все докладывал о кораблях, шедших по направлению к лодке. Их было много. Никитин покачал головой:
— Это что же, всех «охотников» против нас бросили?
— Знают, что иначе Никитина не поймать, — засмеялся Сомов.
Шум винтов уже различали все, находившиеся в отсеке. Разноголосый, грозный, он нарастал, приближался.
— Ну что ж, потягаемся! — расправил плечи Никитин. — Право руля! Боцман, на погружение, глубина восемьдесят!
Лодка беспрерывно маневрировала. Возбуждение боя охватило подводников. Общее настроение передалось и комбригу.
— Еще, еще левее! — крикнул он рулевому, когда шелест винтов настигал лодку с кормы.
— Товарищ Сомов, командую кораблем я! — мягко напомнил ему Никитин.
Сомов в сердцах махнул рукой. Действительно, забылся. Встав в сторонке, он больше не вмешивался.
Палуба дернулась. По команде Никитина электрики враз остановили двигатели, а затем дали задний ход. Шум кораблей пронесся над лодкой. Где-то впереди захлопали учебные глубинные бомбы. Взрывы были слабые: бомбы упали далеко по курсу.
— Ловко одурачил ты их, Павел Иванович! — восторженно отметил Сомов.
Но противолодочные корабли все не отставали. Лодка продолжала увертываться от ударов. То и дело бухали взрывы. Все далеко. Так лодку не поймать!
Из любопытства Сомов подошел к штурману. Тот работал с лихорадочной поспешностью. В руках у него карандаш сменялся транспортиром, циркулем, вычислительной линейкой. Ему надо было отразить на карте каждый поворот, каждое изменение хода. Тонкая паутинка курса на карте, ранее прямая, как натянутая струна, превратилась в клубок.
«Да, друг, вряд ли тебе в этой путанице разобраться», — подумал комбриг, и ему немного стало жалко лейтенанта. Испытание слишком тяжелое для начинающего штурмана. Как бы веру в свои силы не потерял. А парень, видать, дельный, настойчивый…
— Все! — громко выдохнул Никитин, вытирая платком вспотевший лоб. Обветренное лицо его сияло задорной радостью. — Вырвались, честное слово, вырвались!
— Кораблей не слышно, — в подтверждение его слов сообщил акустик.
Сомов от души пожал Никитину руку:
— Молодец, Павел!
— Нельзя иначе при начальстве. А то признает еще, что, и командира надо заменить каким-нибудь бригадным артистом!
Никитин повернулся к Крутову:
— Курс домой, штурман. Всплывем там же, где погружались.
— Есть, всплыть в той же точке! — спокойно ответил лейтенант.
В отсеке опять наступила тишина. Только из угла, где сидел штурман, доносились щелчки лага, отсчитывавшего кабельтовы пройденного пути.
— Пойдем закусим, Матвей Тимофеевич, — предложил Никитин. — Видишь, бачки понесли. Обедать время.
За столом кают-компании разговор велся о только что закончившемся учении. Заместитель командира по политической части, старпом, инженер-механик обменивались впечатлениями о действиях моряков на боевых постах, шутили над своими переживаниями. Неожиданно для комбрига штурман оказался интересным собеседником. Он с юмором разбирал ошибки «противника». Наблюдения его были глубокими и меткими.
Сейчас Сомов внимательно рассмотрел его. Не такой уж он хрупкий, как вначале показался. Пышет здоровьем. На щеках завидный румянец и глаза живые, с хитринкой. Комбригу он все больше нравился. Из этого выйдет толк. Только нужно бережнее относиться к нему. Не прав Павел, что сразу наваливает на лейтенанта непосильную ношу. Ну разве справиться ему с прокладкой курса в таком сумасшедшем танце, который закатил Никитин? Тут и у опытного штурмана голова кругом пойдет. И конечно, Крутов и сам сейчас сомневается в своих расчетах, но признаться в этом не хочет.
Так думал командир бригады и решил пособить лейтенанту.
— Павел Иванович, — предложил он Никитину, — может, всплывем на пару минут? Пусть штурман определится по радиомаякам. И ему облегчение, и у тебя на душе будет спокойнее.
Реакция на его слова была совсем не такой, как он ожидал. Смолкли все за столом. Штурман побледнел, и в его глазах комбриг прочел горечь и обиду. Лейтенант что-то собирался сказать, но его опередил командир корабля:
— Нет, всплывать раньше времени не будем. Сомнения в точности прокладки у нас нет.
Штурман попросил разрешения выйти из-за стола и исчез в люке переборки.
«А малый самолюбивый, — проводил его взглядом Сомов. — И горячий. Под стать Никитину».
Лодка всплыла после того, как штурман коротко доложил командиру:
— Пришли!
Сомов и Никитин выбрались на мокрый мостик. Туман рассеялся. Солнце уже клонилось к горизонту, но после электрического освещения отсека все вокруг было настолько ослепительно, что резало глаза.
— Слушай, Павел, — сказал Сомов, — так и быть, бери с собой в поход своего штурмана. Но черкни мне пару строк, что он тебя вполне устраивает. Это так, для успокоения совести. Ведь надо мной тоже начальство есть.
— Значит, письменную характеристику требуешь? Эх, Матвей, Матвей! Обюрократился вконец!
— Лево по курсу — буй! — прозвенел голос сигнальщика.
На малом ходу лодка приблизилась к красно-белому шару. Боцман уже поджидал его, примостившись на откинутом руле глубины.
Будто подстегнул кто-то комбрига. С юношеской ловкостью он сбежал по скоб-трапу и кинулся на нос лодки к боцману. Взяв из рук главного старшины поплавок, Сомов изумленно разглядывал его.
Это был тот самый буй, стоимость которого комбриг грозил вычесть с Никитина. С мокрого пенькового троса, привязанного к поплавку, вода стекала на ботинки Сомова. Но он ничего не замечал. К нему подошел командир корабля.
— Ты специально для меня такой фокус подстроил? — спросил Сомов.
— Вот еще! Это обычная тренировка нашего штурмана.
— Ну и артист!
В глазах Никитина блеснули озорные искорки:
— А характеристику все же писать, товарищ комбриг?
— Пошел ты к черту!
Комбриг нянчил в руках влажный поплавок. Подкинул его на ладонях.
— Вот она, характеристика! Ты думаешь, я не понимаю, что такой характеристике любой штурман позавидует!
Экзамен на классность
В укрытой горами бухте было тихо. В синем небе плыли клочковатые облака. Наступали, закрывали солнце. Но оно, упрямое, жгучее, ускользало из их объятий. И тогда на мостике подводной лодки сразу начинало пахнуть нагретой краской. Сыромятников недоумевал: зачем старшина заставил его надеть штормовой костюм? Говорит, в море восьмибалльный ветер. Шутит, поди. В бухте вода еле морщинится, синяя-синяя. Но старшина 2-й статьи Быстров— человек непреклонный. Вот и пришлось напялить на себя эту негнущуюся куртку, просторную и неуклюжую. И жарко в ней и неудобно. Сыромятникову кажется, что офицеры на мостике — командир корабля, старший помощник и флагманский штурман — потихоньку посмеиваются над его неповоротливостью.
Сыромятников проверил свое заведование, доложил о готовности боевого поста. По привычке достал из кармана ветошь, протер и без того сияющие рукоятки штурвала. Взгляд упал на решетчатую палубу мостика. И невольно залюбовался матрос. Сквозь прорези легкого настила открывалась внутренность надстройки, покрытая свежим суриком. Солнечные лучи, проникая через отверстия шпигатов, пылали на алой краске. Огненные блики играли на прозрачной, как стекло, воде, переливались самыми неожиданными оттенками. Удивительно! Скоро год, как Сыромятников служит на лодке, а только сегодня заметил эту чудесную игру света.
Какой все-таки нескладный этот штормовой костюм! Словно связанный в нем ходишь. Поглядишь сейчас на Сергея и не поверишь, что это лучший ватерполист корабля, гибкий и ловкий, который вчера на соревнованиях забил три мяча в ворота базовой команды.
Матрос поднял глаза и встретился взглядом с флагманским штурманом. Смутился. Почему капитан 3 ранга так пристально следит за ним? Может, оплошал в чем-нибудь? Но думать некогда. Одна за другой стали поступать команды. Отданы швартовы. По приказанию командира Сыромятников перекладывает руль. Лодка бесшумно, под электромоторами, отходит от пирса и направляется к бонам.
Сергей стиснул рукоятки штурвала. Сейчас самое трудное. Длинный корпус подводной лодки втягивается в узкий извилистый коридор между отвесными скалами. Волнуется Сергей. И в то же время не может скрыть гордости. Ведь совсем еще недавно в таких случаях на мостик поднимался Быстров и вставал к штурвалу, а Сергей лишь смотрел, завидуя мастерству старшины. Теперь же ему, рулевому-сигнальщику Сыромятникову, командир доверяет самые трудные вахты. Горд матрос. И потому так звонко звучит его голос, когда он повторяет полученные команды.
Один поворот пройден. Но вот снова впереди каменная стена. Она все ближе. Вглядываясь в смотровое стекло, матрос различает даже трещины в сером граните, из которых пробиваются крохотные зеленые стебельки.
— Право на борт!
— Есть, право на борт! — Сергей быстро вращает штурвал.
Он и сам-то всем телом клонится вправо, словно этим может помочь кораблю быстрее развернуться. А скала надвигается. вплотную к лодке. Затаил дыхание матрос. Не выдержал, на миг обернулся к командиру и сразу успокоился. Капитан-лейтенант, как всегда, уверен и сдержан. Ровным голосом отдает приказания электрикам. Задрожал корпус корабля от работы электромоторов враздрай. И сейчас же нос корабля пошел вправо, удаляясь от каменной стены…
Опасное место позади. Скалы раздвигаются все шире. Корабль выходит в открытое море. И вот уже зло рвет ветер, косматые волны разбиваются о форштевень лодки, заливают узкую длинную палубу.
В корме зарокотали дизели. Корабль прибавляет ходу. Он принимает вызов моря и стремительно бросается навстречу высоким валам.
Все чаще залетают брызги на мостик. Сыромятников уже с благодарностью думает о старшине Быстрове: правильно, что заставил облачиться в штормовой костюм. Матрос натягивает на голову капюшон, туже затягивает шнурок под подбородком.
Качка усиливается. Волны яростно набрасываются на лодку. Приходится беспрерывно вертеть штурвал: корабль все время сбивает с курса. Легко ходит рулевое колесо, и все же у матроса начинают ныть руки и плечи.
Сергей взглянул под ноги. Сейчас в надстройке темно, с шипением и звоном бьется там вода. Иногда она достигает мостика, фонтанами вырывается из прорезей решетки. Ноги скользят по мокрой кренящейся палубе.
А Сыромятникову весело. Такой шторм бушует, а ему — нипочем. Прошло то время, когда малейшая качка делала его больным и беспомощным и старшина ругал его за то, что он не столько выдерживает курс, сколько за штурвал держится, лишь бы на ногах устоять. Знал старшина, что туго молодому матросу, но никогда не освобождал его от вахты. Наоборот, в качку спрашивал с него еще строже. Обижался тогда Сергей. И только потом понял, как помог ему старшина своей требовательностью. Через несколько недель матрос уже нормально чувствовал себя на волне.
Служит он на лодке с прошлой осени. Нелегко было привыкнуть к тесному отсеку, к строгим порядкам, по которым живет экипаж подводного корабля. То из отсека в отсек перейдет, не спросив разрешения у вахтенного центрального поста, то на трапе замешкается, когда дорога каждая секунда. А однажды по команде «Все вниз», спускаясь с мостика, сорвался и упал на стальную палубу отсека. Неделю после ходил с синяками и прихрамывал.
Всяко бывало!
В учебном отряде Сергей Сыромятников считался одним из самых успевающих. Все зачеты сдавал отлично. Там теория требовалась, а у него как-никак десятилетка за плечами. Но на корабле на одной теории не выедешь. Прочные навыки нужны. Долго, настойчиво бился с ним старшина. Учиться нужно было многому. Ведь рулевой на подводной лодке и сигнальщик. Занятия у штурвала сменялись тренировками на сигнальном мостике в любую погоду, в любое время суток. Десять, двадцать, сто раз приходилось порой повторять одно и то же упражнение, пока старшина не заявлял:
— Ну, кажется, мало-мальски ничего. Переходим к следующему…
Зато какой радостью было неделю назад сообщение старшины, как всегда, скупое, немногословное:
— Матрос Сыромятников, вы допущены к экзамену на классность. Готовьтесь.
И все.
Сергей в тот же вечер обошел почти всех классных специалистов экипажа. Как они сдавали экзамен? Все говорили: это очень трудно. Комиссия задает уйму вопросов.
Советовали повторить весь учебник, потренироваться с флажками и сигнальным фонарем, еще раз по винтику ощупать материальную часть.
Последним из классных специалистов, к которому обратился Сергей, был Быстров. Старшина спросил, что другие советуют, потом улыбнулся и сказал:
— А я так смотрю: классный — это такой специалист, которому не нужно лезть в учебник, чтобы знать, как действовать в данный момент. У него все должно крепко держаться и в голове и в руках, и мысль должна быстро работать. Мой совет: не столько над книжками сидеть, сколько тренироваться. С завтрашнего дня займемся.
И занялись… Сергей приходил с тренировок вымотанный вконец. И каждый раз оказывалось: вот это еще недоработано, и это, и это.
— Завтра еще займемся, — говорил старшина. — Тогда, может, получится мало-мальски.
…Корабль все круче клало на борт. Сергей, внимательно следя за мечущейся картушкой компаса, постепенно уловил некоторый ритм. Вот волна ударяет в скулу корабля, нос отклоняется влево, значит, руль нужно слегка переложить вправо. Новый удар волны. Но нос уже меньше рыщет, легче удержать его…
Поступает приказ о перемене курса. И теперь волны бьют прямо в борт. Брызги перелетают через рубку.
— Держись! — слышится предостерегающий возглас вахтенного офицера. Высоченная волна обрушивается на корабль. Ее гребень выше козырька мостика. Рулевой с головой оказывается в воде.
Когда вода сходит, матрос сплевывает попавшую в рот соль, протирает рукавом глаза. Все в порядке. Лодка идет заданным курсом.
— Все целы? — спрашивает командир. Капитан-лейтенант тоже весь вымок. Крупные капли жемчужинами светятся на сухощавом лице.
— Целы! — звонко отвечает за всех матрос Иванов, сосед Сергея по койке. Он сейчас сидит в своем гнезде на самом верху надстройки, выглядывают только плечи да голова в кожаном шлеме. Но и до него достало: тоже трет глаза.
И снова: «Держись!»
Спустя полчаса лодка погрузилась. Сразу прекратилась качка. Даже не верилось, что наверху неистовствует шторм.
Сергей, как и положено рулевому, по команде «Срочное погружение» первым перешел в рубку. Напоследок в шахте его окатило холодным водопадом. И вот он в тепле, сухо кругом. Только под ногами лужи: ручьи льют с его одежды. Булькает вода в сапогах. Не замечает этого матрос, кидается к компасу…
Месяца два назад он допустил ошибку, которую навек запомнит. Так же вот, при срочном погружении, он перешел в рубку, переключил сюда управление рулем. А взглянул на компас — и остолбенел. Оказывается, при переходе с мостика в рубку он оставил руль переложенным на борт. Пока перебирался, лодка продолжала циркуляцию и чуть не легла на обратный курс. Оплошность Сергея тогда едва не сорвала учебную атаку.
Может, и сейчас так? Но нет. На компасе заданный курс. Не зря столько тренировал Сергея старшина: руки автоматически делают что нужно, даже когда голова забывает.
Идти под водой — наслаждение. Лодка плывет, как в масле, тихо и спокойно, без всякого рыскания. Рулем почти не приходится пользоваться.
Уже приближался конец вахты, когда по отсекам прозвучала боевая тревога. Выходили в учебную торпедную атаку.
Сейчас появится старшина. Командир только ему доверяет стоять на руле во время атаки. Но проходила минута за минутой. Командир то и дело приказывал менять курс. Из носового отсека уже доложили, что торпедные аппараты готовы к залпу. А старшины все не было.
— Лево руля! Курс двести восемьдесят пять! — услышал Сергей.
Повторив команду, он повернул штурвал. Но картушка компаса осталась неподвижной. Повернул еще — и по той легкости, с которой ходило колесо, понял: пневматика отказала.
— Рулевое управление вышло из строя! — встревоженно доложил он.
— Перейти на запасное! — последовала спокойная команда.
Сергей одним махом спрыгнул в центральный пост, подбежал к переборочной двери. Крепко задраенная, она не сразу подалась. За ней — новый отсек, новая переборка. А бежать надо в самую корму, сколько еще дверей на пути! Сергею казалось, что он добирался до кормового отсека очень долго. На самом деле — считанные секунды. Вот и запасное рулевое устройство. Запыхавшийся матрос производит переключения, поворачивает штурвал. Действует!
По переговорной трубе Сергей докладывает в центральный пост, что корабль на заданном курсе.
— Так держать!
Когда корабль идет в атаку, эта команда приобретает особое значение. Что бы ни случилось, рулевой обязан удержать лодку на боевом курсе с точностью до долей градуса. Небольшое отклонение в любую сторону — и торпеды пройдут мимо цели. Не мигая, смотрит Сергей на картушку репитера, еле заметными движениями штурвала удерживает корабль от малейшего рыскания.
— Аппараты, товсь! — слышится в переговорной трубе. И затем протяжное: —Пли!
Сергей распрямил плечи, оглянулся. Возбужденные, побледневшие лица товарищей. И увидел вдруг флагманского штурмана. Капитан 3 ранга стоял за его спиной и улыбался.
После отбоя тревоги Сыромятников сменился с вахты. Только тогда почувствовал, что смертельно устал. По пути в носовой отсек задержался у мотористов. Они помогли ему стянуть мокрую верхнюю одежду и разложить ее сушиться на теплых цилиндрах дизелей.
Наконец он у своей койки, висящей по соседству с жирным от смазки телом запасной торпеды. Сергей уже укутался в одеяло, когда к койке подошел старшина Быстров.
— Ну, поздравляю, — сказал он. — Вы сдали экзамен.
— Какой экзамен?
— На классность.
Матрос вскочил, ударившись головой о пружины верхней койки.
— Да что вы! Ведь его комиссия принимает.
— Что ж, комиссия была вся в сборе: флагманский штурман, командир корабля, старпом… В море экзамен — не то что в классе. Потруднее. Но вы молодец. «Отлично» по всем статьям!
В шторм
Капитан Семенов взглянул на часы. Вертолет в воздухе уже третий час. От напряжения ныла спина, затекли ноги. Потянуться, размяться бы! Прислушался. Мотор работал ровно, певуче. Значит, все в порядке. Летчик улыбнулся. Трудная задача им выпала сегодня — доставить грузы на далекий остров. Молодец штурман: молодой, опыта еще маловато, а в ветер, в сплошную облачность вывел точно. Теперь они возвращаются домой.
Внизу расстилалась безбрежная холмистая равнина облаков. Семенов обернулся к штурману:
— Лейтенант, где летим?
Тот оторвался от навигационной карты.
— Подходим к мысу Острому. Через полчаса будем дома, — донесли наушники его звонкий голос.
— Добро!..
Но тут их разговор перебил радист.
— Товарищ капитан, — закричал он, — с базы передали приказание: идти в район бухты Лесной и разыскать шлюпку с людьми! Ее ветром унесло в море!
— Что будем делать, штурман?
Лейтенант помрачнел:
— Над морем шторм, видимости никакой. Трудно…
— Знаю, что трудно. Но там гибнут люди, — сказал Семенов и строго добавил: — Внимание! Идем на снижение. Усилить наблюдение!
— Есть! — отозвались штурман и радист.
Летчик потянул на себя рычаг шаг-газа. Машина, наклонившись вперед, погрузилась в облака. Стекла кабины стали молочными. Капитан не сводил глаз с приборов. Стрелка высотомера медленно ползла влево. Тысяча метров… восемьсот… пятьсот… триста… В кабине все более темнело. Легкие белые облака сменились тучами.
Капитан весь сжался. Двести метров, а по-прежнему не видно ни зги, только серая мгла вокруг.
— Вижу море! — наконец крикнул штурман.
Пилот облегченно вздохнул.
Под ногами бушевало море. Холодное, свинцово-серое, в тесном кольце тумана, которое стискивало его со всех сторон. А ветер вырывал из этого кольца белесые длинные клочья и нес их над самой водой, точно хотел еще плотнее закутать море непроницаемой пеленой.
Ветер был шквалистым, вертолет то вскидывало вверх, то бросало в стороны, вниз.
— Чертово море! — проворчал капитан. — Летишь как слепой. Никаких ориентиров. Точнее ведите прокладку, лейтенант, заблудиться можно в два счета.
— Слева корабль! — послышался голос радиста.
Капитан повернул голову. Внизу виднелись смутные очертания какого-то судна.
— Вы ошиблись, сержант, — сказал он. — Это не корабль, а вспомогательное судно, танкер. Как его швыряет, беднягу!
Танкер тяжело переваливался с волны на волну. Сверху он казался совсем игрушечным, беспомощным, неподвижным. На самом же деле упорно продвигался вперед: позади его оставался узкий след пены, взбитой винтами.
Вертолет повис над палубой танкера. Пилот заметил на мостике судна человека, который размахивал флажками. Флажки бились на ветру, как крылья подстреленной птицы.
— Штурман! Вы знаете флажную азбуку? Попытайтесь прочесть, что они пишут нам.
Штурман читал вслух:
— На осте… в двадцати милях… горы… не разбейтесь. — Он улыбнулся: — За нас беспокоятся, товарищ капитан. Видят, что летим на бреющем вблизи берега.
Качнувшись в знак благодарности, вертолет оставил танкер. Теперь он летел над гребнями волн, то и дело меняя курс. Весь экипаж всматривался в море.
Штурман припал к стеклу кабины.
— Пеленг тридцать — корабль! — доложил он.
И тотчас же послышался крик радиста:
— Товарищ капитан! Корабль включился в нашу волну. Передает: до берега шесть миль, берег скалистый. Предупреждает об опасности.
— И не поверишь, что на море находишься, — рассмеялся капитан. — Как в хорошем городе — регулировщики движения на каждом перекрестке. Передайте спасибо, сержант, и запросите, что за корабль.
— Это тральщик семьсот десять. Ищет шлюпку.
— Хорошо! Сообщите, что мы пришли помочь ему.
Пилот взглянул вниз. Маленький кораблик с трудом боролся с волной. Порой он по самый ходовой мостик скрывался в брызгах.
Вскоре корабль исчез в тумане.
Волнение охватило пилота. Здесь, где-то совсем близко, погибают люди. Он позабыл о болтанке, о ветре, об усталости. Только бы туман не помешал увидеть шлюпку!
Семенов хорошо изучил море. Знал, что здесь, у бухты Лесной, чаще всего случаются несчастья с судами. Массы холодного воздуха внезапно срываются с гор, устремляются по ущелью. Беда кораблю, если, он окажется в это время на рейде. А тут шлюпка, легонькая, ненадежная лодчонка…
— Ничего не видно, штурман?
— Ничего.
Видимость ухудшалась. Черные тучи опускались ниже и ниже, прижимали вертолет к воде.
…Первым заметил шлюпку штурман. Он не мог удержаться на месте, вскочил с сиденья, махал рукой, кричал что-то, как будто люди на шлюпке могли его услышать и увидеть.
— Держитесь, ребята! Сейчас спасем вас! — твердил он. Крик его, усиливаемый ларингофоном, оглушал пилота.
— Успокойтесь, штурман! — остановил его капитан. — Мы напрасно столько переживали за них. Эти люди и не нуждаются в спасении. Смотрите, как уверенно гребут. Вам приходилось видеть гибнущих? Те бы сейчас вскочили, протянули руки к нам. Снизься ниже — за хвост уцепились бы. А эти? Только вон рулевой бескозыркой машет: приветствует. А ветер какой — шлюпку наполовину залило. Храбрецы! Любо смотреть на таких!
Шлюпку кидало, как щепку. А люди в ней, сидя по колено в воде, продолжали дружно работать веслами, и белые кружочки их фуражек двигались все враз вместе со взмахами весел. На корме, на коротком древке, развевался неизменный бело-синий флаг.
Покружив над шлюпкой, вертолет вернулся к тральщику и указал ему направление.
— Командир тральщика благодарит нас, товарищ капитан, — передал радист.
— Я это и без радио вижу, — сказал капитан. — Вон он как радостно забегал по мостику.
Пилот взял курс на свою базу. Оставалось самое трудное— в тумане разыскать аэродром и приземлиться.
Штурман вычерчивал на карте прокладку и качал затянутой в шлем головой.
— Товарищ капитан, — проговорил он наконец, — я все забыть не могу, как нас корабли предупреждали о гористом береге. Сами в таком переплете, а о других заботятся.
— Что же тут удивительного, лейтенант? — ответил пилот. — Это наше море. В любой шторм здесь найдутся друзья, которые предупредят тебя об опасности, помогут всем, чем могут. Чудесное море, лейтенант!
Доверие
В отсеках тишина. Нигде не бывает такого безмолвия, как на подводной лодке, когда «противник» совсем близко. Лодка крадется на большой глубине, всего в десятке метров от морского дна. Здесь ее труднее нащупать гидроакустикам «противника». Эхолот выключен. Командир и штурман впились глазами в карту, следя за отметками глубин: чуть прозеваешь— и корабль врежется в грунт. Переговариваются вполголоса.
Гидроакустик шепотом докладывает обстановку. Еле слышно командир отдает приказания рулевым. Тем достается. Рули переведены на ручное управление— так меньше шума. И матросам приходится изо всех сил налегать на непослушные, туго вращающиеся штурвалы. Работают без курток. От взмокших тельняшек валит пар. А вообще-то в центральном отсеке прохладно: дохнешь — теплый воздух изо рта дымится.
Григорий Пудов весь превратился в слух. Он отчетливо слышит все команды командира и вахтенного офицера. Слышит приглушенное гудение главных электродвигателей и тонкий то усиливающийся, то затихающий писк за бортом: вибрирует легкий корпус. Кажется Пудову, что он различает немолчный звон морской толщи и клекот винтов кораблей «противника». И у матроса замирает сердце, напрягается каждый нерв.
Пудов знает, что сейчас такое чувство испытывает каждый. В любом отсеке люди думают об одном: удастся ли проскочить опасный район?
У трюмного машиниста Пудова есть еще причина для волнения: он впервые несет самостоятельную вахту на станции погружения и всплытия. Который раз оглядывает матрос бесчисленные маховички и рычаги клапанов — свое обширное хозяйство. От блеска металла в глазах рябит. Только бы не перепутать…
Правда, в отсеке старшина 2-й статьи Селиверстов, командир отделения. Но тот все время пропадает в трюме. Когда лодка на большой глубине, за магистралями нужно следить в оба. Старшина еще в начале вахты предупредил Пудова:
— Считайте, что меня в отсеке нет!
Взглянуть на Пудова со стороны, можно подумать, что скучает матрос. Зябко ежится в своем ватнике, круглое лицо равнодушно, бесстрастно. А на самом деле Григорию петь хочется от радости. Ведь месяца два назад он и мечтать не смел, что ему доверят станцию погружения — ответственнейший боевой пост на подводном корабле.
Вот только вахта выдалась чересчур спокойная. Команд ему не поступает. Другие трудятся вовсю, а он только стоит и ждет приказаний. Но они обязательно поступят. И тогда главное — не перепутать клапаны. На всякий случай матрос тренируется. Закрыв глаза, тычет пальцем в маховички и определяет: это — цистерна быстрого погружения, это — главный балласт… Так учит старшина — чтобы и в темноте действовать точно.
Слышится серия распоряжений. Григорий косится влево. Боцман поворачивает оба штурвала горизонтальных рулей на всплытие. Палуба начинает слегка давить на подошвы, — значит, лодка идет вверх. Но почему командир, оторвавшись от карты, с такой тревогой уставился на глубиномер? Наверное, здесь дно круто возвышается. «Вот и мне работенка привалит», — догадывается матрос. Так и есть.
— Дать пузырь в среднюю! — отрывисто бросает капитан 3 ранга.
Григорий тянется к щиту, хватает рычаг манипулятора, но в это время кто-то с силой отрывает его руку и крутит соседний маховик.
Это происходит мгновенно. Старшине Селиверстову, который задержал руку матроса, некогда и слова проронить. Но больше слов говорит матросу поледеневшее лицо и гневный взгляд старшины. Григорию не нужно объяснять, что произошло бы, не подоспей Селиверстов: он чуть было не открыл клапаны вентиляции цистерн. Тогда лодка, приняв лишний балласт, пошла бы камнем вниз, ударилась о грунт. И еще — воздух, вырвавшийся из цистерн на поверхность, выдал бы лодку «противнику». Есть отчего схватиться за голову.
Старшина постепенно успокаивается. Но от станции уже не отходит.
Пудов не помнит, как дождался смены. После он долго ворочался на своей верхней койке и все не мог прийти в себя. Многое переворошил в памяти за эти часы.
Давно ли было собрание в кубрике береговой базы, которое решало судьбу матроса Григория Пудова. В то время о Пудове можно было сказать только плохое. И товарищи прямо говорили об этом — с возмущением, с болью.
Да, он не отличался усердием. Не потому, что лентяй. Просто ему казалось, что морская служба — не его призвание. Сердцем он оставался в родном колхозе. По ночам снились ему золотые поля, тракторы и комбайны, мирные степные закаты. И Вера — задумчивая девушка с фермы, та самая, которой он так много хотел сказать, но так и не осмелился. Написал ей уже с флота. Она ответила, что давным-давно ждала от него сердечного слова, и сейчас счастлива, и пусть он не печалится — она дождется его, один он ей люб.
Мечты о доме не покидали его в учебном отряде и потом, когда пришел на лодку. В ту пору Григорий был под началом другого старшины — Берестова, горячего, крутого. В первый же день старшина отчитал новичка за нерасторопность, а вскоре «всыпал» за плохую приборку. И пошло! Старшина нервничал, наказывал, а матрос не то и впрямь не разумел, чего от него хотят, не то из упрямства делал все наперекор. «Трудный матрос» — эта характеристика накрепко пристала к Пудову. А всем известно: несладко живется таким людям на флоте. От греха подальше, поставили Григория, чтобы меньше глаза мозолил начальству, в кормовой отсек мерить железной линейкой уровень воды в дифферентной цистерне. А тут среди торпедистов попался дружок по учебному отряду — разбитной, хитрющий парень. «Что, с песочком тебя драит старшина? А ты плюй на все, как я. Не пропадешь!»
Комсомольцы пытались пронять Пудова. Беседовали, критиковали на бюро, в стенной газете разрисовали. «Пускай, — успокаивал дружок, — ты, знай, меня держись, не пропадем».
Берестову надоело канителиться с неисправимым матросом, махнул рукой на него, чтобы настроение не портить. Но Григорий все чаще чувствовал на себе пристальный взгляд члена комсомольского бюро Селиверстова. Серьезного разговора между ними пока не получалось. И все-таки догадывался матрос, что интерес члена бюро к нему не случаен.
А Григорий все плелся на поводу у бесшабашного приятеля. И в конце концов сорвался. В тот день они с дружком шатались без дела по набережной. И вдруг дружка осенило. Даже ладонью по щеке себе хлопнул.
— Слушай, Жора! Мировая идея! Ты же в колхоз свой рвешься. Я тебе укажу надежный фарватер. Закати концерт по всем правилам — и в два счета окажешься под родной крышей. Мушкелем[1] мне по черепу, если держать тебя станут!
Видно, совсем ослеп Пудов. Сотворил «концерт». Заявился на корабль навеселе, да еще с опозданием.
Это переполнило терпение товарищей. Поведение Пудова разбиралось на собрании личного состава корабля. Чего только не пришлось выслушать Григорию! Да, друзья говорили, что ему не место в их коллективе, что он позорит их, позорит корабль. Кое-кто требовал и под суд отдать. А дружок сидел в углу и стрелял в Григория косым взглядом, в котором были и панический страх и мольба: «Не выдавай!» Пудову не до него. Сидел понуря голову и проклиная себя на чем свет стоит. На кого променял он товарищей? Чем больше его ругали, тем сильнее он чувствовал, как дороги ему эти люди. Он делил с ними тяготы долгих походов, горести и радости, вместе с ними мерз в холода и изнывал от жары, не спал сутками и уставал так, что едва хватало сил дотащиться до койки. Эти люди ругают его, но сколько раз они выручали в трудную минуту, а разразись беда, они — Григорий убежден в этом — себя не пожалеют, чтобы спасти его. Ведь это подводники, которых сама служба заставляет делиться с товарищем всем, даже последним глотком воздуха. Почему он раньше не ценил их дружбы? Теперь ему не простят.
И когда спросили его, что он сам хочет сказать напоследок, Григорий долго не мог начать. Наконец выдавил со стоном, что ему стыдно, ему тяжело и он просит об одном: чтобы его оставили на корабле. Кубрик гудел:
— Надо было раньше думать!
— Слишком поздно о стыде вспомнил…
— А нам за тебя не стыдно?
Председательствующий поднял руку, взывая к тишине:
— Будем решать, товарищи.
— Дайте мне слово! — раздался спокойный голос. Встал старшина Селиверстов. Пожалуй, упреки его были самыми убийственными. Но потом сказал:
— Я знаю, Пудов попал под дурное влияние. Это не к его чести. Что, у него своей головы нет на плечах? Что, вокруг его настоящих товарищей нет? Тяжелая его вина. Но я уверен, он может исправиться, если захочет. А мы ему должны помочь.
Выступление свое Селиверстов закончил так, как никто не ожидал:
— Прошу перевести Пудова в наше отделение. Попытаемся сообща вывести его на правильный курс.
Это ошеломило всех. Еще бы! Отделение старшины Селиверстова — отличное. Его в образец ставят. И вдруг в такое отделение брать самого недисциплинированного матроса?
Командир корабля поддержал предложение Селиверстова. Так Пудов попал к новому старшине.
Внешне ничего не изменилось в его положении. Селиверстов построже Берестова. Скидок от него не жди. На тренировке по живучести он заставил Григория раз десять заново заделывать пробоину, пока вконец промокший матрос выполнил работу добротно. У него каждый на виду, и оступиться никому не позволит. Но что сразу бросается в глаза: людей здесь водой не разольешь и душа этой дружбы — старшина. Льнут к нему матросы. И он всегда с ними. Чем он завоевал их любовь? Григорий не сразу разгадал.
Как-то в походе понадобилось перебрать помпу. Раньше Григорию ни за что не доверили бы такую работу. А Селиверстов только спросил:
— Справитесь?
Была сильная качка. Матросу было муторно, голова как чугун, но он провозился всю ночь, а утром помпа работала, словно новая. Старшина пожал ему черную от масла руку и в карточке взысканий и поощрений матроса Пудова появилась первая благодарность. За что? Ведь Селиверстов вместе с Григорием трудился в тесном трюме, указывал, поправлял, помогал и тоже не спал до утра.
После возвращения в базу командир перед строем зачитал письма, которые он отправлял на родину отличившихся матросов. Среди них оказалось и письмо родителям Григория Пудова. Было оно деловое, даже суховатое — угадывался стиль старшины Селиверстова. Родителям сообщалось, что сын их ныне служит в отличном отделении, с хорошей стороны проявил себя в походе. Для Григория эти скупые строки были самой дорогой наградой. Их прочтет весь колхоз. Он мысленно увидел сияющие гордостью глаза отца, матери и, конечно, Веры.
Летела неделя за неделей. Пудов учился теперь с жаром, со страстью. Селиверстов все чаще занимался с ним на главной станции погружения и всплытия. Иногда на этих тренировках присутствовал командир боевой части старший инженер-лейтенант Михеев. Стоял в сторонке, подавал внезапные команды и поглядывал на секундомер.
— Попробуем, — сказал он недавно.
…И вот сегодня матрос Пудов правил свою первую самостоятельную вахту в центральном отсеке. Горько вздыхает Григорий. Как он провалился! Называется, оправдал доверие… Какими глазами теперь он будет глядеть на старшину?
Ворочается матрос с боку на бок на своей подвешенной к самому подволоку койке, скрипит под тюфяком железная сетка. Не выдержал, свесил голову вниз, шепчет:
— Товарищ старшина, вы спите?
Селиверстов потягивается, жмурится от неяркого света лампы, которая в отсеке никогда не гасится.
— Сплю, товарищ Пудов. А вы что там крутитесь, как картушка в шторм?
— Я все не могу понять, как это могло получиться?
— Просто волновались сильно. Это бывает. Потому я и стоял поблизости.
— Теперь мне не доверят вахты…
— Вон что вас мучает, — улыбнулся старшина. — Почему же не доверят? Я же знаю, это у вас случайная и, ручаюсь, последняя ошибка. А вообще будьте внимательнее. Больше я у вас за спиной стоять не буду. А теперь спите. Скоро на вахту.
Старшина укрылся простыней. А Пудов еще долго лежал и мысленно беседовал с этим, ставшим ему самым дорогим, человеком и заверял его со всем пылом сердца: может, может он положиться на него, матрос Пудов не подведет!
Кровное родство
До базы было уже рукой подать. Молодые сигнальщики так вглядывались в полоску берега на горизонте, что слезы катились по щекам. Хотелось побыстрее увидеть разрыв в скалистой гряде. Там бухта, окруженная невысокими горами, тихая, зеркальная. Посреди нее застыли три зеленые сопки, словно сошли выкупаться, да так и остались стоять по пояс в прохладной воде. После трудного плавания несказанно мил родной берег. И не верится, что раньше он казался суровым и угрюмым. Всем существом своим рвутся к нему моряки. Тем более, что в походе потрудились на славу и отдых заслужили вполне.
Шумно и жарко в котельном отделении. Ревут турбовентиляторы, нагнетая в отсек воздух, оглушительно вторят им форсунки. Зноем пышет кожух котла. Матросы сбросили рубахи, работают в майках, разгоряченные, мокрые от пота.
Старшина 2-й статьи Степан Игнатов смотрит через глазок на бушующее в топке пламя, осторожно поворачивая вентили форсунок. Палуба под ногами вздымается и опускается, кренится то в одну, то в другую сторону. Но старшина словно врос ногами в листы настила. Регулирует горение, а думает о том, что сегодня, возможно, увидит Наташу. Увидит и расскажет ей, о чем думал в походе. Скажет, что не может жить без нее и после демобилизации навсегда останется здесь, чтобы никогда с ней не разлучаться.
Мысль о Наташе стала привычной. Она никогда не покидает старшину и не мешает работе. Наоборот, никогда еще у Степана так не ладилось дело. В походе командир не раз хвалил старшину и его подчиненных.
Сейчас что-то закапризничала одна из форсунок. Старшина уже минут десять бьется над ней. Видно, нагар скопился на конусе. Полагалось бы отключить форсунку и осмотреть. Но не стоит: до конца похода осталось полчаса.
Снова и снова крутит он маховичок. И вдруг — словно расплавленным свинцом плеснули ему на плечи. Обернулся старшина. И тотчас схватился за лицо.
Матросы, наблюдавшие за показаниями манометров, водомерных стекол и работой насосов, поздно заметили беду: весь фронт котла был уже охвачен пламенем. Из трещины на трубе в раскаленный металл котельного кожуха била струя мазута. Пожар все рос. Матросы на миг оцепенели. Ничего не понимая, смотрели они, как по палубе движется странный факел. Вот он оказался у топливного насоса, потом в углу, где находится клапан, перекрывающий трубопровод. Струя мазута перестала бить в котел, и пожар прекратился.
— Это же старшина! — крикнул матрос Снежков. Моряки кинулись к живому факелу, ладонями, влажными от пота майками сбили со старшины пламя. Обжигая пальцы, содрали с его тела остатки тлеющей одежды.
Игнатов, не отрывая рук от лица, пошатываясь, подошел к двери. Матросы помогли ему подняться по скоб-трапу на верхнюю палубу, довели до лазарета. Корабельный врач, и без того бледный от качки, увидев обожженного старшину, совсем побелел. Уложив на кушетку, стал смазывать его тело мазью. Руки врача дрожали.
Но старшина уже ничего не чувствовал.
Очнулся он от дикой боли. Ею было охвачено все тело. От нее сжималось сердце, спирало дыхание. Каждый вздох был мучением.
— Проснулся? — услышал старшина грубоватый голос. — А мы уже и не рассчитывали разбудить тебя.
Говорившего старшина не видел: голова, глаза были туго забинтованы.
— Вторые сутки кровь в тебя вливаем, лекарствами пичкали, а все мертвец мертвецом. Но раз теперь ожил — веселее дело пойдет.
Врач отошел в сторону и обратился к кому-то:
— Ну как себя чувствуете?
— Хорошо, доктор, — отозвался девичий голос.
— Дайте-ка пульс пощупаю. Э, хватит, голубушка. — И уже тоном приказа бросил — Прекратить переливание.
Степан почувствовал, как из руки его выдернули иглу, смазали ранку. И снова он провалился в гудящий, тяжелый мрак.
Врачи, медсестры и санитарки ни днем, ни ночью не отходили от его постели. Фармацевты изготовляли специальные мази с антибиотиками. Все тело больного было покрыто повязками, пропитанными этими мазями. И все же воспалительный процесс предупредить не удалось. Гной просачивался через марлю. Белье, подушки, матрац то и дело приходилось менять.
Больной был беспомощен. Он не мог двигать забинтованными руками, не мог повернуть головы. Пожилая санитарка, которую все звали тетей Мотрей, безотлучно находилась при нем. Кормила и поила с ложечки, с помощью своих товарок переодевала в сухое белье, перекладывала с мокрой постели на сухую.
Старшине становилось все хуже. Распухли лицо, руки, ноги. Он казался очень толстым, а весил всего сорок три килограмма. Его поддерживало только переливание крови. Ее требовалось много, очень много. Запаса консервированной крови не хватало. Стали брать свежую — у доноров.
Старшина ничего этого не знал.
К его удивлению, у койки все чаще оказывались матросы с корабля. Появился котельный машинист Снежков.
— Как вы сюда попали? — спросил старшина, услышав его волжское окание.
— А я больной.
— Что с вами?
— Да грипп проклятый.
— С гриппом в хирургическом отделении?
Матрос растерянно замолчал, потом нашелся:
— А у меня того, осложнение. Чирьи пошли.
Санитарки прыснули от смеха и поспешили выпроводить болтливого матроса из палаты.
Но моряки всё приходили. У каждого оказывалась своя причина: один палец расшиб молотком, другому мозоль надо вырезать, у третьего вдруг нарыв образовался.
— Да что же это, чуть ли не весь экипаж наш заболел? — удивлялся старшина.
Тонкий, нежный аромат заполнял палату, забивал запахи лекарств.
— Цветы? — догадался Игнатов.
— Да, тут девушка одна приносит, — ответила тетя Мотря. — Все к тебе просится, да мы не пускаем, слаб ты очень.
— Наташа? Не пускайте ее. Не хочу, не могу ее видеть.
Мрачные мысли угнетали старшину. Кому он теперь нужен? Только обуза для всех. Уже скоро месяц в госпитале. Каждый день операции. А толку от них?
Хирург Морозов, обычно грубовато-ласковый, как-то накинулся на него:
— Что же ты, друг? Мы стараемся, покоя с ним не знаем. А он, видите ли, никому не нужен? Коль себя не жалко, так нас всех пожалей. Ведь столько людей для тебя ничего не жалеют!
И тогда старшина все узнал. В первый же день в госпиталь пришел командир корабля. Хирург сказал ему, что спасти Игнатова можно только переливанием крови и пересадкой кожи. Офицеры направились на корабль. Командир собрал моряков в носовом кубрике, объяснил, в чем дело. Хирург предупредил, что снимать кожу — операция не из приятных.
— Можно задать вопрос? — поднял руку Снежков.
— Говорите, — разрешил командир.
— Я хочу спросить уважаемого доктора. Как вы думаете, товарищ подполковник, больно было нашему старшине, когда на нем загорелся горячий мазут?
— Больно.
— А он все-таки остановил насос и перекрыл топливный кран. Не сделай он этого — все бы мы сгорели заживо. Что же вы нас пугаете? — Матрос повернулся к товарищам: — Верно я говорю?
— Верно! — прогремело в кубрике.
Стать донорами захотели все. Но врачи были придирчивы: отобрали самых здоровых, причем только тех, у кого группа крови была такой же, как у Игнатова. Остальные обижались, жаловались начальнику госпиталя. Пришлось прочитать им лекцию о том, к каким неприятностям может привести путаница с группами крови.
Каждый день несколько моряков ложились на операционный стол. Несмотря на обезболивание, им было несладко. Иные несколько ночей не могли уснуть: оперированное место горело и ныло. Приходилось на некоторое время оставлять их в госпитале. Только теперь Игнатов понял, почему так много «больных» оказалось среди его товарищей.
— А ты не ценишь этого, — безжалостно отчитывал его хирург. — Ишь нюни распустил: жить ему неохота. Я вот пойду сейчас и скажу товарищам, как плюешь ты на все их заботы.
— Не надо, доктор, — взмолился старшина.
— То-то. Помогай же нам. Цепляйся за жизнь и руками и зубами. А я тебе обещаю: поставлю на ноги и опять на корабль вернешься.
В палате стало веселее. Теперь моряков пускали к больному без всяких ограничений. Матросы — народ неунывающий, мертвого смеяться заставят. Тетя Мотря стала уж их отчитывать:
— Ну что привязались к человеку? Совести у вас нет. Совсем его затормошили.
— Тетя Мотря, — перешел в контратаку неугомонный Снежков, — что-то вы чересчур о нашем старшине печетесь. Прямо подозрительно.
— Молчи, охальник. Да он же мне что сын. Ведь и моя кровь теперь в нем: четыреста кубиков отдала. Так что мы теперь в кровном родстве, можно сказать. Как же мне не смотреть за ним?
Как-то она вновь завела речь о Наташе.
— Ну позови ее, — уговаривала она старшину. — Совсем извелась девка. Все время в приемной сидит. Придет с работы — и сюда. Я уж по ночам пускаю ее в палату, когда ты спишь. Сидит, все время на тебя, бессердечного, смотрит и плачет.
— Ну к чему это, тетя Мотря? Она такая красивая. Вся жизнь у нее впереди. А я…
— А что это ты за нее все решаешь? Может, ты ей такой еще дороже. Она ведь первая кровь тебе дала. Когда ты еще без чувств лежал.
Вечером Наташа сидела у его постели. Он ощущал ее руки, когда она поправляла ему подушки. Степан не видел их: глаза были по-прежнему забинтованы, но это были ее руки, в ссадинах, трещинах, в которые крепко въелись металлическая пыль и масло. Трудно токарю ухаживать за руками. И все-таки ее руки нежные, красивые, как и вся она.
— Степа, я книжку принесла. Почитать тебе?
— Читай, Наташа.
Он слушал ее голос, готов был слушать без конца, хотя в памяти ничего не оставалось от прочитанного. Он только слушал Наташин голос, наслаждался им.
Хирург Морозов, наклеивая каждый день на его тело все новые и новые квадратики и прямоугольники кожи, одобрительно басил:
— Молодцом! Давно бы так. Ишь как хорошо стали приживаться. Скоро весь будешь как лоскутное одеяло. Ничего, что сплошные заплаты. Залатанное место, говорят, дольше носится. Зато взглянешь на себя в зеркало — и сразу всех друзей своих вспомнишь. Хорошие визитные карточки они оставили тебе на память.
Пришло время, и Степану сняли повязку с лица.
— Открывай глаза, — сказал Морозов, — не бойся.
Старшина медленно открыл глаза. И сразу закрыл их, ослепленный светом. Пожалуй, впервые он понял, как ярок и солнечен мир, пусть он ограничен пока стенами хирургического кабинета.
Степан снова открыл глаза и увидел врача — низенького пожилого человека с добрыми морщинками у улыбающихся глаз. Именно таким он и представлял его себе.
— Видишь, глаза целы, — сказал хирург. — И руки целы. Сегодня и их мы тебе освободим.
Когда его отвели в палату, Степан пристал к санитарке:
— Тетя Мотря, дайте зеркальце.
— Зачем тебе оно? Рано еще на свидание собираться.
— Ну дайте, тетя Мотря.
— Ох, уж эти мальчишки, — проворчала она и принесла ему крохотное круглое зеркальце.
Дождавшись, когда старушка ушла, старшина поднес его к лицу. Да, внешность незавидная. Лицо в красных пятнах и рубцах. Ни бровей, ни ресниц. На голове вместо прически лысина с небольшими островками волос.
В это время в палату влетела Наташа. Раскрасневшаяся, сердитая. Выхватила зеркало.
— Не верь этой стекляшке! Она врет. — Девушка хватила зеркальце о пол, и оно разлетелось на куски. — Смотрись в мои глаза. Видишь, какой ты в них красивый. И всегда таким останешься.
В дверь заглядывали матросы с пакетами и кульками, но вездесущая тетя Мотря набросилась на них коршуном:
— Ну чего уставились? Совсем понятия у людей нет. Тут вопрос жизни решается, а они со своими кульками лезут. Оставьте их мне. Никуда ваши гостинцы не денутся.
И закрыв дверь перед носом улыбающихся матросов, она сама улыбнулась и обрадованно вздохнула:
— Будет жить человек. И хорошо жить будет…
Половина атмосферы
Ключников вывел свое отделение на стенку гавани, построил в одну шеренгу и придирчиво оглядел матросов. Это были новички. Парусиновые рубахи на них еще не успели обмяться и топорщились, как накрахмаленные. Форменные воротнички были не голубыми, а темно-синими: они еще не знали воды и мыла.
В отличие от матросов старшина был в старой рабочей одежде со следами пятен машинного масла, которые не смыть никакой стиркой. Но видавшие виды рубаха и брюки, старательно выутюженные, сидели на нем столь ловко и ладно, что сразу чувствовалось: знает человек службу и гордится ею. Только погончики на плечах были совсем новенькими. Две золотые полоски на них не давали покоя старшине, и он то и дело украдкой косился на них краешком глаза. По возрасту Ключников чуть постарше своих подчиненных. Над верхней губой пробивается нежный пушок, к которому еще не прикасалась бритва. Но лицо необычно серьезно и строго.
Приказав одному из матросов поправить бескозырку, съехавшую на лоб, Ключников приступает к изложению темы занятия. Говорит он медленно, прохаживаясь перед строем и изредка взмахивая кулаком, точно утрамбовывая слова. Старшина растолковывает матросам, что такое живучесть корабля и как за нее нужно бороться. Речь свою он так сдабривает специальными терминами, расчетами и выкладками, что матросам становится грустно. Они терпеливо ждут, когда старшина доскажет свою тщательно подготовленную речь. Хоть Ключников и говорит без бумажки, но бумага эта есть: конспект, выученный назубок, лежит у него в нагрудном кармане.
— Сейчас мы начнем тренировку, — закругляется наконец старшина. — Еще раз обращаю внимание на важность темы. Живучесть корабля — основа основ морского дела. Тут не только умение, но и душа требуется.
Он подводит подчиненных к тренировочному снаряду. Это большой бак метра в два высотой, из толстого железа. Одна сторона его напоминает участок корабельного корпуса: изгибаясь, поднимаются вверх ребра шпангоутов, их пересекают широкие горизонтальные полки стрингеров. В середине — широкое отверстие с вывернутыми наружу рваными краями, острыми, как зубья пилы. Вокруг этой большой «пробоины» — десятки мелких.
Матросы с опаской поглядывают на страшную дыру. По указанию старшины они раскладывают аварийный материал— конические, выкрашенные алым суриком пробки разных размеров, щиты, брусья, ветошь. Здесь же укладывается инструмент — молотки, кувалды, зубило.
Погода выдалась хмурая. С моря дует сырой холодный ветер. Матросы ежатся и от ветра, и от мысли о том, что им сейчас предстоит возиться с ледяной водой. Стручков, самый непоседливый из матросов, хитровато щурясь, обращается к Ключникову:
— Товарищ старшина, а ведь мы вымокнем, и вы нас снова поругаете за внешний вид.
— Правильно, отругаю, — подтверждает тот. — Моряк, что бы он ни делал, обязан всегда образцовый вид иметь. Понятно?
— Понятно, — вздохнул Стручков.
Приготовления закончены. Старшина снова построил подчиненных.
— Внимание! — командует он и, обернувшись к кораблю, взмахивает рукой.
Вахтенный на юте эсминца уже стоит с телефонной трубкой в руке. По сигналу старшины он передает распоряжение в машинное отделение. И тотчас вздрагивает толстый, оплетенный проволокой шланг, протянутый от корабля к тренировочному ящику. Из пробоин веселыми ручейками брызнула вода, потекла по бетонной площадке.
Старшина громогласно объявляет вводную:
— Пробоина ниже ватерлинии в районе пятьдесят третьего шпангоута. Заделать!
Матросы без особого энтузиазма подступают к «пробоине». Подносят пробки, вдвигают их на вытянутых руках, чтобы не замочить одежды, потом легонько стукают по ним молотками. Старшина торопит. Моряки постепенно набирают темп. Суетятся, мешают друг другу.
Командир отделения морщится. Разве так работают! Послужить бы им под началом старшины 1-й статьи Сидорова, который раньше командовал этим отделением и недавно ушел в запас! Занятия Сидоров проводил не здесь, на стенке, а в отсеке, в тесноте, темноте. Наломаешься за милую душу — неделю потом косточки ноют.
Снова и снова старшина повторяет упражнение. Сам все на часы поглядывает. Ребята, видать, с головой — с каждым разом быстрее управляются. Увлекшись часами, старшина не замечает, что на юте эсминца с полчаса уже стоит инженер-лейтенант Морозов. Офицер внимательно наблюдает за ходом тренировки. Вначале она ему нравится. Расторопно действуют новички. И четко. Даже чересчур четко. Матросы безошибочно берут именно ту пробку, которая подходит к соответствующему отверстию. Чтобы меньше было брызг, сначала заделывают малые «пробоины», а потом уже большую, хотя полагалось бы наоборот.
Старшина доволен:
— Молодцы! Норматив перекрыли. Теперь можно и отдохнуть.
Он уже хотел распустить матросов, когда увидел приближающегося офицера. Старшина бежит ему навстречу и по всей форме докладывает, чем занимается его отделение.
— Как успехи? — осведомляется инженер-лейтенант.
— Неплохо, — не без гордости отвечает Ключников. — Норматив перевыполнен на целую минуту.
— Какой норматив? — удивляется офицер.
Старшина немного смутился.
— Это я сам вывел. Среднюю цифру, так сказать. На основе опыта.
— Что ж, средние цифры тоже иногда полезны, — соглашается инженер-лейтенант. Но в тоне его старшина слышит такое, что заставляет его насторожиться.
— Вы хотели объявить перерыв? — спрашивает Морозов. — Так распустите матросов. Пусть отдохнут.
Ключников командует:
— Разойдись!
Обрадованные матросы отходят в сторонку, усаживаются в кружок и закуривают. А офицер в сопровождении старшины приблизился к тренировочному снаряду. Внимательно осмотрел заделанные пробоины. Кажется, все в порядке. Ни малейшей струйки воды не видно. Но вот офицер слегка потянул одну из пробок, и она сразу подалась. Из открывшегося отверстия вода выплеснулась прямо на его начищенный ботинок. Морозов без труда вытащил еще одну пробку, потом третью, четвертую. С любопытством повертел их в руках и вставил обратно.
— Ну как, товарищ старшина?
— Проглядел, товарищ инженер-лейтенант, — упавшим голосом отозвался Ключников, а сам осторожно стрельнул глазом в сторону матросов: не слышат ли?
— Что с них взять? Новички.
— Они не виноваты, товарищ старшина. Это наша вина. Придется продолжить упражнение. Как вы думаете?
— Ясно, продолжим. Разрешите начинать?
— Начинайте. Только посерьезнее к делу подойдите. — Офицер загадочно улыбнулся. — Я со своей стороны тоже кое-что предприму.
Офицер направился на корабль. Старшина проводил его взглядом, потом подошел к матросам. От недавнего смущения и следа не осталось.
— Становись!
Он молча прошелся перед строем. Сердитый вид его не предвещал ничего доброго.
— Это что же такое? — гневно начал он. — Вы боевой подготовкой занимаетесь или в куклы играете? Безобразие!
— Но, товарищ старшина, — робко подал голос Стручков. — Ведь вы же похвалили нас.
— Похвалил за быстроту. А за качество…
Ключников кинулся к ящику и рванул сразу же несколько пробок.
— И это вы называете заделкой пробоин? Сейчас все повторим сызнова. Только предупреждаю: действовать на совесть!
И вот опять матросы хлопочут у ящика. Теперь они стараются изо всех сил. Но странное дело, получается намного хуже, чем раньше. Вставили пробку — ее выбило. Над большой бились несколько минут, кое-как закрепили. Стали мелкие вставлять — они тоже выскакивают. Забили все же. Только кое-где бьют тоненькие фонтанчики. Начали шпаклевать их ветошью. И вдруг, когда работа, казалось, была уже закончена, со свистом выбило самую большую пробку. Сила воды настолько велика, что маленького Стручкова сбило с ног. Отфыркиваясь, матрос вскочил и зло кинулся навстречу потоку. Конический чурбан опять поднесли к пробоине, ударили по нему в две кувалды. Ничего не помогает: вылетает, да и только.
— Да вы что? — не выдержал старшина. — Разучились совсем?
Больше он не скучает, не поглядывает на часы. Он мечется возле ящика, командует, сам берется за кувалду и с аханьем бьет ею с плеча.
А чурбан все выскакивает. Теперь уже никто не боится вымокнуть. Где там! Все мокрые до нитки. Мощный фонтан из «пробоины» сорвал с головы старшины щеголеватую бескозырку. Ее чуть не унесло в бухту. Ключников грудью толкает пробку в пенящийся поток. Вода хлещет ему в лицо, а он, набычась, только головой трясет да кричит:
— Кувалду! Бей скорее!
— Руки уберите, товарищ старшина, опасно, — говорит один из матросов.
— А вы бейте смелее — тогда не промахнетесь. Ну!
Высокий, здоровенный матрос размахивается и с плеча ударяет молотом. Толстенный чурбан разлетается на части.
— Тащи новый! Живо!
Наконец работа закончена. Старшина натягивает на голову мокрую бескозырку и стремглав мчится на корабль. Инженер-лейтенант встречает его на полпути.
— Товарищ инженер-лейтенант, пробоина заделана!
Наверное, с такой радостью докладывают в бою о том, что потоплен корабль противника.
Офицер с улыбкой смотрит на старшину, на его промокшую одежду, на разгоряченное лицо со слипшимися на лбу волосами.
— Вольно, старшина! — произносит он весело и спрашивает: — А как норматив?
Старшина непонимающе моргает.
— Какой норматив?
Он смотрит на часы. Под треснувшим стеклом тонкой пленкой дрожит вода. Старшина вспыхивает, растерянно проводит рукой по мокрому лбу.
— Виноват. Совсем забыл. — В глазах его растерянность. — Разрешите повторить тренировку.
— Зачем? — Офицер рассмеялся. — Вы и ваши подчиненные действовали выше похвал. Вот так и впредь надо. Идемте, я поблагодарю матросов.
Когда моряки вернулись на корабль, старшина не выдержал:
— Я одного не пойму: почему так трудно было унять воду. Ведь раньше мы с этим ящиком в два счета управлялись.
— Очень просто, товарищ старшина, — ответил инженер-лейтенант. — Я приказал увеличить давление воды. Немного. Всего на половину атмосферы.
Неизвестный молчал
Летчики вертолета, патрулируя над морем, заметили человека в легководолазном костюме. До берега три мили. Откуда туг быть водолазу? Радировав о находке в базу, вертолет снизился. Водолаз при его приближении нырнул, но вскоре вновь выплыл. По-видимому, баллоны его дыхательного аппарата были пусты. С вертолета, повисшего метрах в пяти над морем, сбросили шторм-трап. Водолаз послушно вскарабкался по нему в машину.
Сейчас неизвестный, уже без маски и гидрокомбинезона, стоял перед командиром базы. Капитан 1 ранга Створов пытливо рассматривал рослого парня в сером шерстяном свитере, плотно облегавшем его крепкое тело. Уже час длился допрос. Собравшиеся в кабинете офицеры, напрягая память, подбирали слова на языках, которые они когда-то изучали: английском, немецком, французском. Пустили в ход разговорники, имевшиеся в штабе. Заглядывая в них, задавали вопросы на финском, шведском, даже итальянском и испанском языках. Тщетно. Незнакомец молчал. Лицо его было непроницаемо, словно высеченное из камня. Серые глаза под насупленными бровями уставились в одну точку, и только искорки, временами вспыхивавшие в них, доказывали, что человек живет, думает.
Упрямство задержанного выводило из себя. Створов и уговаривал и грозил. Доходило даже до стука кулаком по столу. Но водолаз так и не проронил ни слова.
Может, он немой? Вызвали врача. Тот осмотрел его и признал совершенно нормальным человеком.
— Ничего, — сказал Створов, прерывая допрос. — Заговорит еще. Уведите, — приказал он своему адъютанту, — и обеспечьте надежную охрану.
Два матроса повели задержанного на гауптвахту. Один из них, Сонюшкин, балагур и непоседа, всю дорогу ахал и ворчал:
— Тоже мне допрашивали. Разве так с эдакими типами разговаривать надо? Ни слова из него не вытянули. — Он подтолкнул своего товарища локтем — Знаешь что, я вот сейчас разок угощу его по шее, у него сразу стопор с языка спадет. Смотри…
Сонюшкин замахнулся. Напарник хотел остановить его, но его предупредил сам арестованный. Великан в свитере повернулся к щуплому Сонюшкину, поднес к его веснушчатому носу огромный кулак.
— Но, но, — опешил матрос и невольно попятился.
На гауптвахте водолаза покормили. Ел он с аппетитом. Сонюшкин, наблюдая за ним, сделал глубокомысленный вывод:
— Силен, чертяга. И этому его обучили: рубает по-нашенски.
К вечеру задержанного вновь повели на допрос. Теперь Сонюшкин не спускал с него глаз. Чувствовалось, что он всерьез побаивается загадочного незнакомца. Кто знает, может, матерый шпион или диверсант. С таким ухо держи востро!
До штаба было уже совсем близко, когда произошел случай, после которого Сонюшкин долго не мог опомниться. Задержанный, спокойно шагавший между своими конвоирами, вдруг со всех ног ринулся на мостовую.
— Стой! — гаркнул Сонюшкин, вскидывая автомат. — Стой, стрелять буду!
Арестованный не обращал внимания на его крики. Он подлетел к малышу, семенившему по асфальту, схватил его и побежал с ним назад. Дико взвизгнул тормозами грузовик, кузовом слегка задев парня в свитере. Опоздай незнакомец на миг — мальчонка был бы под колесами. К спасителю ребенка подбежала мать, взяла малыша и залилась благодарными слезами. Арестованный же как ни в чем не бывало подошел к ошеломленным конвойным и зашагал между ними.
Сонюшкин переглянулся с товарищем, потянулся рукой к бескозырке и сдвинул ее еще ниже на лоб.
Допрос снова ничего не дал. Задержанный со скучающим видом стоял перед Створовым. Ни один мускул не шевельнулся на окаменевшем лице.
Ночью Сонюшкин не отходил от дверей камеры. То и дело заглядывал в глазок. Арестованный лежал на жесткой койке, вставал, ходил, вновь ложился, но так и не спал ни минуты.
Прошло двое суток. За все это время никто не слышал голоса странного незнакомца.
Командир базы не находил себе места. В район моря, где был обнаружен водолаз, послали противолодочные корабли и тральщики. Тщательно осматривалась акватория порта. Во все концы полетели тревожные донесения и запросы. Но загадку появления таинственного гостя так и не удавалось решить.
— Ну и птица попалась, — вздохнул Створов, когда очередной допрос, наверное уже десятый по счету, не дал результатов. — Что же нам делать с ним? — спросил он начальника политотдела. — Ведь это же кремень, а не человек.
— Да, — согласился тот. — Вы знаете, о чем я подумал… Страшно будет воевать с противником, если у него окажутся такие люди.
Незнакомец, осунувшийся, побледневший, продолжал молча стоять как изваяние. В эту минуту в кабинет вошел капитан-лейтенант Михайлов, командир подводной лодки, утром прибывшей в базу. При виде его что-то дрогнуло в лице арестанта, в усталых глазах мелькнул живой огонек и тотчас же погас.
— Уведите! — сердито махнул рукой Створов. Конвойные вывели арестанта из кабинета.
Створов и Михайлов остались вдвоем.
— Вот третьи сутки бьюсь с этим истуканом, — пожаловался командир базы. — Ничего не помогает. А вы, Николай Николаевич, по какому делу в наши края пожаловали?
Командир лодки улыбнулся, расправляя складку на брюках. Посмотрел на Створова.
— Получил я вашу радиограмму о неизвестном водолазе. Вот и решил взглянуть на него.
— А почему он вас так интересует?
— Видите ли, я потерял одного своего матроса. Во время учения. Пробирались мы мимо вас к вашему соседу — он тоже нашим «противником» был. Но по пути неисправность обнаружилась: заело кормовые горизонтальные рули. Пришлось всплыть и матроса послать ремонтировать. Снарядился он как следует и забрался в надстройку. А тут самолет показался. Мечусь я на мостике: что делать? Оставаться на поверхности — самолет обнаружит лодку и все пропало. Идти на погружение — а что будет с матросом? Наконец решился: крикнул я матросу, чтобы он выбирался из надстройки. Предупредил, что мы погрузимся, а потом подберем его. Так и сделали. Ушли под воду вовремя, и самолет нас не заметил. Но матроса найти не удалось. Появились корабли, вертолет все время кружил над самой головой. Одним словом, остался матрос. Вообще-то я знал, что он не пропадет. Парень ловкий, сообразительный. Ведь рули-то он все-таки исправил, действовали они теперь отлично. Времени мне оставалось в обрез. Поэтому я направился в назначенный район. Задачу мы выполнили.
— Я уже слышал, — кивнул головой Створов. — Много хлопот вы доставили моему соседу. Вы ведь прямо в гавань проникли. То-то ошеломили их. Ну а с матросом как?
— А вот за ним я к вам и заявился.
— Как, значит, это и есть…
— Он самый. Его вы сейчас допрашивали.
Командир базы схватил телефонную трубку:
— Дежурный? Задержанного ко мне. Немедленно!
Парень в свитере вновь появился в кабинете. По привычке он встал посреди комнаты. Вопросительно взглянул на капитан-лейтенанта.
— Теперь можно, Чибисов, — проговорил офицер. Губы матроса разжались в улыбке.
— Уф, — выдохнул он с облегчением. — Я и не думал, что молчать — это такая пытка.
— Слушайте, товарищ матрос, — набросился на него Створов, — и не стыдно вам было водить меня за нос? Никакого у вас уважения к старшим.
— Товарищ капитан первого ранга, — мягко возразил Чибисов. — Вы для меня были не старший начальник, а «противник». А с противником какие могут быть разговоры?
Створов только головой изумленно покачал:
— Ну ладно. Садитесь. Поговорим теперь по-товарищески.
— Есть, товарищ капитан первого ранга.
Матрос опустился на диван. А командир базы стал рассказывать Михайлову, сколько мучились с этим молчальником.
— Сталь, а не человек. — Створов с любопытством повернулся к матросу и вдруг испуганно вскочил:
— Товарищ Чибисов, что с вами?
Матрос не отозвался. Глаза его были закрыты, голова склонилась на плечо.
— Не беспокойтесь, — успокоил Створова командир лодки. — Он спит. Я догадываюсь, в чем дело. У нашего Чибисова дурная привычка разговаривать во сне. Вот почему он, наверное, ни минуты не спал это время.
— Эх ты, аника-воин, — отечески ласково улыбнулся капитан 1 ранга. Он подошел к спящему, удобнее уложил его и долго всматривался в безмятежно улыбающееся во сне скуластое лицо. Не верилось, что еще полчаса назад оно выглядело столь упрямо и сурово.
Старшина
Матросы расположились на краю обрыва. Прохладный ветер ласкает разгоряченные лица. Усталость берет свое, и все молчат. Матрос Смолин хмуро оглядывает окрестность. Огромной чашей раскинулась внизу бухта. Солнце светит, а вода в ней, как обычно, серая, без единой блестки. Стадом обступили ее сопки. Пустынно, тоскливо. Ни строения, ни дымка. Только дорога, вырвавшись из объятий двух сопок, устремляется глубоко в море узким деревянным пирсом. Тут стоят подводные лодки. Издали они маленькие и совсем негрозные.
— Матрос Смолин! А где наша лодка?
Это спрашивает старшина. Виктор приподымается, долго всматривается. И не может ответить. Корабли, когда они собираются вместе, — как матросы в строю: со стороны выглядят одноликими.
— Вы еще не стали моряком, Смолин, — говорит старшина. Отогнув рукав, он взглядывает на часы, приказывает — Кончай перерыв. Становись!
Отряхиваясь на бегу, матросы занимают места в строю. Старшина придирчиво оглядывает их. Одетые в полотняное рабочее платье, они мало чем отличаются друг от друга. Вот разве левофланговый. Он бросается в глаза не только низким ростом и круглым веснушчатым лицом, на котором под реденькими бровями щурятся беспокойные, с хитринкой глаза. Вся внешность его вызывает улыбку. Бескозырка вздернулась на затылок, тельняшка из отворота рубахи выбилась комом. И без того длинноватые брюки сползли и складками спадают на ботинки.
— Матрос Ганюшкин, приведите себя в порядок!
Ганюшкин подтягивает ремень, поправляет бескозырку.
Матросы начинают маршировать по пологому склону.
Место для строевых занятий, прямо скажем, неудобное. И когда кто-нибудь больно задевает ногой о камень, на миг забывается запрет насчет разговоров в строю. Матрос поминает лихом проклятую сопку. Но старшина одергивает:
— Выше голову! У матроса и ноги должны видеть.
Удивительный человек старшина 2-й статьи Поторочин.
Командует громко, зычно. Подумаешь, целый батальон ведет, а в строю всего десять человек. Смолин с любопытством поглядывает на старшину. Служака. Не зря строевые занятия с молодыми поручают только ему. А вообще-то зачем подводникам эта шагистика?
Старшина словно подслушал его мысли. Остановил строй и произнес целую речь:
— Некоторые считают, что строевая подготовка подводнику ни к чему. Глупо рассуждают. Нам эти занятия во как нужны. — Старшина провел рукой по горлу. — Почему? Да потому, что на лодке выправки не получишь: тесно, повернуться негде. А матрос без выправки что дизель заржавленный— срам один. А теперь слушай мою команду: ряды-ы… вздвой! Отставить! Матрос Смолин, команда и вас касается. Потому и строевые занятия, чтобы четкость, быструю реакцию выработать.
Улыбаются тайком матросы. Кому-кому, а им уже известна слабость Поторочина к поучениям. Всё старается пояснить, обосновать, даже самое очевидное. Командует:
«Принять вправо!» — и тут же добавит, чтобы все знали: «Потому что столб…» — «Короче шаг!» — и сразу же пояснение: «Потому что в гору идем».
Смотрит Смолин на коренастую, подтянутую фигуру старшины, слушает его властный голос и невольно думает: «Хлебнешь ты горя, Виктор!»
Придирчивость Поторочина всех изводит. Он и на берегу остановит любого незнакомого матроса и отчитает, почему тот не отдает честь или почему пряжка ремня плохо надраена.
А вчерашний случай? Проводя очередной смотр имущества своих подчиненных, старшина приказал Ганюшкину открыть тумбочку. А тот сначала полез в карман и вытащил перочинный ножик.
— Это зачем?
Ганюшкин виновато заморгал:
— А так не открыть: ручка оторвалась.
— Давно?
— Да вчера еще.
Старшина тут же объявил Ганюшкину наряд вне очереди, а затем провел с ним двадцатиминутную индивидуальную беседу, после которой тот ходил красный, как из бани вышел. Но и этим не ограничился старшина. Поговорил с редактором, и вечером наш Ганюшкин уже красовался в сатирической газете, как изобретатель самого оригинального способа открывать тумбочку. Смеху было на всю казарму. До самого отбоя Сашу осаждали друзья. Один просил показать знаменитый ножик. Другой вытаскивал из кармана и подавал громадный скрюченный гвоздь: ведь надо же человеку чем-то прибить злополучную ручку к дверце.
До сих пор Ганюшкин в расстроенных чувствах. Виктор, даже печатая строевой шаг, слышит за спиной его обиженное сопение.
В назначенный час старшина прекращает занятия и ведет матросов на корабль. Предстоят тренировки на боевых постах. Здесь уж старшина и вовсе неумолим. То и дело слышится:
— Не так!
Подробно разберет ошибки каждого и в заключение скажет:
— Повторим еще раз!
А заставляет и раз, и два, и десять раз, пока не добьется своего. После тренировки — приборка. Стараются матросы изо всех сил. Но старшине все мало. Тут обнаружит потек масла, там мусоринку.
Посмеивались на лодке: у старшины Поторочина одна привязанность — дизель. Заведите с ним разговор на любую тему, все равно в конце концов речь сведется к дизелю. В кубрике на базе у него целая библиотека — и учебники, и какие-то мудреные технические книги, и папки с вырезками из газет и журналов. Если он в романе найдет хоть несколько страниц о дизелях и дизелистах, то постарается и эту книгу приобрести.
Ганюшкин, чтобы задобрить старшину, зачастил к нему за книгами. Выбирал все посерьезнее. Затея кончилась конфузом. Стал старшина расспрашивать о прочитанном, а матрос понес такое, что самому стало не по себе. Покачал головой Поторочин:
— Эх, какой вы еще зеленый, Ганюшкин! Что правый отличительный огонь. Кого вы хотели обмануть?
После ужина моряки не вернулись на лодку. Сегодня — день увольнения. Матросы прихорашивались, как женихи. Поторочин особенно придирчиво осматривал каждого. Даже свежесть носовых платков проверил.
Угрюмый Ганюшкин — ему сегодня во время приборки снова влетело от старшины за небрежно протертые цилиндровые крышки — потянул Виктора за рукав и шепнул:
— Не могу больше. Знаешь, и напьюсь я сегодня!
— Да ты что?
— Эх! — только и ответил матрос, отчаянно махнув рукой.
Уже у ворот городка их нагнал озабоченный старшина.
— Товарищ Ганюшкин! — остановил он матроса. — Скажите, у вас нет свободных денег? Решил спиннинг купить, а денег не хватает. Одолжите. Завтра верну.
Разве откажешь старшине? Полез Ганюшкин в карман, достал деньги.
— Вот, у меня все тут.
— Хорошо. Давайте рассчитаем. В кино собираетесь? С девушкой, наверное. Значит, рубль. Ну еще полтинник на прочие расходы. Хватит? Вот держите. А остальные шесть рублей — за мной. Большое спасибо, что выручили.
Ганюшкину ничего не оставалось, как буркнуть: «Ничего не стоит». А старшина уже отводил в сторону Смолина.
— У меня просьба к вам. Не оставляйте Ганюшкина. Вы знаете, что у него в голове часто шарики из обоймы выпадают. Жалко, если на неприятность налетит.
Угрюмый, неразговорчивый шел Ганюшкин. А Виктор поглядывал на него и думал о Поторочине. И впервые проскользнула мысль: а ведь он, пожалуй, и не такой уж сухарь.
Друзья побродили по парку, посмотрели фильм. Ганюшкин понемногу повеселел. На обратном пути в казарму он предложил:
— Слушай, время еще есть, пойдем к морю.
Было уже поздно, но солнце в этих краях летом долго держится на небе. В его бледном, негреющем свете рябила гладь бухты. У небольшого причала стоял рыбачий вельбот. В разговорах матросы не заметили, как подошли к самому причалу.
— Ганюшкин! Смолин! — неожиданно услышали они знакомый голос. Они увидели старшину. В полосатой, с закатанными выше локтя рукавами тельняшке, он стоял в вельботе, вытирая ветошью запачканные руки. Рядом склонилась над двигателем девушка в ватнике и синем платочке. Выбившийся локон падал ей на лицо, и она то и дело откидывала его локтем, так как ладони были вымазаны маслом.
— Ну, Зина, — теперь старшина обращался уже к ней, — в порядке твоя машина.
Девушка подняла глаза на старшину. Большие, серые, они так и лучились радостью.
— Спасибо, Коля!
«Коля» — как это не подходит для сурового старшины Поторочина. А почему не подходит? Только сейчас Виктор подумал о том, что ведь старшина совсем молод, всего года на полтора старше его.
А Ганюшкин — ох уж этот Ганюшкин! — стоит, ухмыляется:
— Что-то у вас, Зинаида Ивановна, мотор стал часто киснуть.
Старый рыбак, сидевший на носу вельбота, вступился за девушку:
— Это ты зря, сынок. В море теперь у нашей Зинуши мотор как часы работает. Председатель поговаривает, что не мешало бы премировать вашего Николая Иваныча. Ведь он всех наших мотористов подтянул. А еще поговаривает Исидор Трофимыч, — старик подмигнул девушке и пригладил седые прокуренные усы, — не мешало бы такого молодца навсегда заполучить в наш колхоз. Ты уж постарайся, Зинуша.
— Да будет тебе, Савельич! — вспыхнула девушка.
И старшина покраснел. Может быть, потому и поспешил запрятать свое лицо, натягивая на плечи аккуратно выутюженную фланелевку.
По пути в казарму Поторочин протянул Ганюшкину деньги:
— Возьмите мой долг. Не понадобились. Не попал я сегодня в магазин. А вам советую деньги в сберкассе хранить. Глядишь, к отпуску порядочная сумма накопится, родным подарки привезете.
Через несколько дней лодка вышла в море. Шумом и дрожью заполнился дизельный отсек. Воздух стал сизым и горьковатым от паров масла. Смолин тяжело переносил тесноту и духоту отсека. Терялось ощущение времени: не видя солнца, трудно определить, день ли сейчас или ночь. Вахта, отдых, снова вахта. Старшина был, как всегда, требовательным и строгим, придирчивым к каждой мелочи.
— Плохо вы любите свой корабль, — сказал он как-то Ганюшкину, когда тот опять допустил ошибку. — Да и себя мало уважаете. А нужно так служить, чтобы память о себе оставить, чтобы не прошла бесследно ваша служба на корабле.
— Ох, тяжело с таким, — сетовал Ганюшкин. — Никогда на него не угодишь.
Ночью всплыли, чтобы подзарядить батареи. Кончилось спокойное житье. В океане бушевал шторм. Все сильнее раскачивало корабль. Смолин сидел на корточках один в своем трюме, уцепившись обеими руками за выступ картера дизеля, чтобы не упасть. Его все больше укачивало. Мутилось в глазах, не хватало воздуха.
В это время на миг остановили двигатели, и матрос над самой своей головой услышал хрипловатый голос старшины:
— Ганюшкин, а почему вы здесь? Ведь до вашей вахты еще полтора часа.
— Товарищ старшина. — Ганюшкин переминался с ноги на ногу, отчего звенели листы настила. — Надо подменить Смолина. Он качки не выносит.
Смолин задохнулся от душевной теплоты, которую разбудили в нем эти слова. Вот какой, оказывается, человек этот, егоза Сашка! Но тут, как водой из пробоины, стеганули слова старшины:
— Идите отдыхайте, Ганюшкин. Вы не знаете Смолина. Он гордый. Все перенесет. Неужели вы думаете, что он слабее вас?
Вновь загрохотали дизели, и Смолин не слышал, чем закончился разговор. А спустя несколько минут Поторочин спустился в трюм. Осмотрел все хозяйство, наклонился к уху Смолина, чтобы перекрыть шум двигателя:
— Держитесь? Молодец! Я знал, что вы крепкий.
Качка не унималась. Но Виктору почему-то стало легче. Вахту он выстоял. Уже укладываясь на койку, матрос с удовлетворением отметил: все-таки выдержал!
…Виктор медленно идет по знакомому каменистому склону. Захотелось побыть одному. Он оглядывается вокруг. Те же пустынные сопки. Но почему они стали вдруг такими красивыми? Какой простор, как легко дышится здесь! После похода особенно мила родная земля. Вон у пирса корабли. Там его лодка. Теперь он узнает ее из тысячи. Даже не глядя, почует сердцем.
Над обрывом стоит моряк. Заслышав шаги, он оборачивается.
— Смолин! — окликает старшина Поторочин. — Тоже пришли полюбоваться? Хорошо, правда?
Много хотел сказать в ответ матрос. А сказал только:
— Да, хорошо!
Но Поторочин и так все понял. Старшина любит пояснять подчас очень знакомые вещи, но сам понимает людей с полуслова.
Черточка на карте
Марина бесшумно бегала по комнате, накрывая стол к вечернему чаю. Лицо ее так и сияло радостью. Муж дома! С приходом Николая все вокруг будто меняется, светлеет. Даже не обескураживает его снисходительно — покровительственный тон, — так брат разговаривает со своей младшей сестрой…
Она украдкой взглянула на мужа. За несколько месяцев совместной жизни она еще не сумела до конца разгадать его. Он любит ее. Сомневаться в этом — значит сомневаться и в своем чувстве. А оно так огромно, что, кажется, кроме него, ничего в тебе не осталось.
А все-таки трудно примириться с его службой. Случается, корабль отнимает у нее мужа на целые недели. Не только во время походов: даже когда корабль у стенки, Николай не каждый вечер вырывается домой. Да и дома он живет интересами своего корабля. Придет веселый, ласковый, скажет, что крепко скучал по ней, а потом, глядишь, опять за книги. И не тронь его: до глубокой ночи будет читать, покусывая кончик карандаша.
Вот и сейчас. Только что с ним по путеводителю гадали, где будут отдыхать в отпуске, а отошла от него— уставился в раскрытую карту морского побережья, а думает вовсе не о курортах. Что-то вымеривает, чертит карандашом, отточенным, как иголка.
— Все правильно, Маринка! — воскликнул он, отвечая на какие-то свои, не высказанные вслух мысли.
Поднялся. Могучий, ладный. Она своей головой еле достает узел его галстука.
— А теперь угощай, хозяйка!
И сразу исчезли недоумение и тревога. Вот всегда так. Да разве можно на него сердиться!
За чаем Николай похвалился:
— Задача мне досталась с дюжиной неизвестных. Неделю голову ломал, а все же решил!
— Ты же такой — не отступишь!
— Сейчас еще раз проверю и пойду докладывать.
— Снова уйдешь? — встрепенулась она.
— Да на часок всего. Пока ты просмотришь тетрадки своих учеников, я вернусь.
…На следующий день она провожала его в дорогу. Появился он под вечер, разгоряченный быстрой ходьбой.
— Маринка! Собери мои пожитки. Спешу.
— Надолго?
— Да нет, скоро вернемся.
— Прошу — береги себя.
Он сжал ее руку:
— Ничего со мной не случится. И почему ты так моря боишься?
— Злое оно — нас с тобой разлучает.
…Отряд кораблей должен был подойти к отдаленной базе «противника» и нанести по ней «удар». Задача усложнялась тем, что весь путь предстояло пройти скрытно от «противника» — от его кораблей и авиации. Над этим и бился штурман Николай Ветров. Предложенный им план вызвал много споров. Еще бы! В несколько раз удлинялся путь. Десятки часов корабли должны были идти на север, в сторону от цели, а ночью изменить курс и, прижимаясь к гористому берегу, на повышенной скорости проскочить огромное расстояние. Такое решение мог выдвинуть только превосходный моряк, знающий бесчисленные извилины береговой черты и все разнообразие глубин у побережья. Командиру соединения понравилась смелость и оригинальность решения.
…Вторые сутки продолжался поход. Черно-синяя ночь — такие бывают только на юге — окутала море. Корабли шли с погашенными огнями. Поднявшись из штурманской рубки на ходовой мостик, старший лейтенант Ветров всматривался в смутные очертания берега. Во тьме мерцали редкие огни селений. До цели оставалось около сорока миль. Офицеры на мостике то и дело поглядывали на небо. Оно начинало светлеть. Но это было не страшно: тень гор укроет корабли от первых лучей солнца.
Ветров внимательно следил за движением кораблей. Казалось, курс был рассчитан им до мельчайших подробностей, и все же в душе не утихала тревога.
Ветров вспомнил тот вечер, когда после чая, придирчивый к самому себе, он в сотый раз проверял свои расчеты. Марина сидела рядом и все удивлялась: «И как это вы плаваете по морю? На сотни километров вокруг вода и вода! Страшно!» Николай улыбнулся: «Эх ты, учительница!» Но наивность ее показалась ему тогда особенно милой.
А как заботливо она собрала его в дорогу! В чемодане Николай нашел все необходимое в длительном походе: несколько пар белья, носовые платки, бритвенный прибор, мыло, одеколон, папиросы… Сам он не смог бы так тщательно все предусмотреть.
На душе стало теплее. Какое это счастье знать, что тебя ждет на берегу родной, самый дорогой тебе человек!
— Прямо по курсу маяк! — доложил сигнальщик.
Значит, база «противника» совсем близко. Послышался приглушенный топот ног. Матросы занимали места у ракетных установок и орудий. Люди замерли в напряженном ожидании. Только гул машин и плеск волн за бортом нарушали предрассветный покой моря.
И в этой тревожной тишине, когда отчетливо слышишь биение собственного сердца, вдруг необычно громко прозвучал возглас:
— Левый борт, курсовой шестьдесят, торпеды!
Все обернулись в сторону берега. Едва различимые белые нити тянулись по черно-серой глади воды, быстро приближаясь к кораблю. Тень от гор, на которую такие надежды возлагали моряки, на этот раз подвела их. Торпеды были замечены слишком поздно. Вот их пенные дорожки у самого борта. Все знали: торпеды учебные, взорваться не могут. И все же каждый похолодел, когда они прошли под килем корабля.
В замешательстве стояли офицеры, все еще не веря в случившееся.
— Двадцать шестой, двадцать шестой! Говорит пятый, говорит пятый. Доложите о результатах торпедной атаки, — прозвучал до неузнаваемости искаженный радиотелефоном голос командира соединения.
— Потеряли два корабля, — доложил командир отряда, — остальные продолжают выполнять задание.
— Отставить! — прогремел сердитый голос в динамике. — Вы все на дне и кормите рыб: уже четверть часа идете по минному полю.
Офицеры растерянно переглянулись. Командир отряда хотел что-то сказать, но, видимо, не подобрал слов и только безнадежно махнул рукой.
После возвращения в главную базу никто из офицеров «потопленных» кораблей не сошел на берег. Ждали подведения итогов учений. Все понимали, что итоги будут для них самыми плачевными.
Командир корабля пришел с совещания у командующего мрачный и раздраженный и прежде всего вызвал к себе штурмана. Не приглашая офицера сесть, он нервно расхаживал по каюте, видно не зная, с чего начать разговор. Наконец сказал:
— Товарищ старший лейтенант! Командующий высоко оценил ваше решение задачи и точность работы штурманской части в походе. Он назвал вас способным офицером, человеком творческой мысли.
Командир подошел к столу и ткнул в пепельницу давно погасшую папироску.
— Но на совещании мне пришлось краснеть за вас.
— Простите, не понимаю, — опешил Ветров.
— Выяснилось, что «противник» был осведомлен о нашем плане. И выдал ему этот план не кто другой, как вы!
От изумления штурман с минуту не мог вымолвить ни слова. Потом вспыхнул:
— Это неправда!
Командир испытующим взглядом окинул ошеломленного штурмана.
— Сядем и спокойно поговорим.
Долго беседовали в этот вечер молодой офицер и капитан 3 ранга. На прощание командир сказал Ветрову:
— Только прошу, Николай Васильевич, жену не ругайте.
Разноречивые чувства обуревали старшего лейтенанта, когда он подходил к своему дому. Время было позднее, но в окне их комнаты еще горел свет. «Не спит. Может быть, уже поняла, что мы натворили».
Марина сидела за столом, проверяя тетради учеников. Завидев мужа, кинулась к нему.
— Наконец-то. А я заждалась тебя!
Защебетала, заметалась по комнате. Подвела мужа к столу:
— Это я для тебя приготовила. Видишь, виноград, яблоки. Садись скорее и расскажи, как ты там, без меня?
Николай осторожно отвел от себя ее руки.
— Подожди, Марина, нам с тобой серьезно потолковать надо.
Удивленно взметнулись тонкие брови.
— Что-нибудь страшное случилось? Да?
— Я тебе очень мало рассказываю о своей службе. А ты должна иметь о ней представление. Вот слушай, что произошло с нами в этом походе.
И он рассказал ей о том, как сотни людей в течение многих дней проверяли технику, беспрерывно тренировались, о том, с каким трудом нашли решение задачи — самое верное, самое удачное. Это ничего не значит, что поход учебный. Все в нем должно было происходить так, как было бы и в боевом походе. Та же огромная выдержка требовалась от людей, неимоверное напряжение всех духовных и физических сил, смелость, готовность идти на разумный риск.
Слушая мужа, Марина мысленно видела, как несутся в полной темноте корабли у подножия скал, где малейшая неточность может привести к беде. Она восхищалась мужеством людей, которые шли на кораблях по трудному и опасному пути. Гордилась мужем: ведь это была его идея, это он, ее Николай, прокладывал курс кораблям.
— Ну а дальше что? — заторопила она мужа, когда он замолк на минуту.
— А дальше все пошло кувырком. У самого входа в базу нас «потопили».
— Как потопили? — ужаснулась она.
— Условно, конечно. Учебными торпедами и минами. Они без взрывчатки. Но положение наше от этого нисколько не легче. Если бы это случилось в боевой обстановке, погибли бы корабли, сотни людей, и мы с тобой уже не встретились бы. «Противнику» стал известен план нашего похода. А выдала этот план жена одного из наших офицеров.
— Как она могла! — с негодованием воскликнула Марина.
Муж опустил голову:
— Речь идет о тебе.
Она вскочила, схватила его за руку.
— Опомнись! Что ты говоришь!
— Вспомни, ты ни о чем не говорила с женой подводника Иванова?
— С Ниной Ефимовной? Так ведь мы с ней только насчет отпуска договаривались.
— И ты дала ей путеводитель.
— Ну да. Она взяла на минутку, чтобы посоветоваться с мужем.
Марина ничего не понимала. Да и откуда ей было догадаться, когда он и сам не обратил внимания на этот пустяк…
— Где путеводитель?
— Вот он.
Муж раскрыл карту.
— Понимаешь теперь? Ведь муж Нины Ефимовны, капитан второго ранга Иванов, командовал на учениях подводными лодками нашего «противника». Эта карта натолкнула его на раздумье. И он решил выставить часть лодок вот тут…
Марина стремительно встала:
— Слушай, я сейчас иду к твоему командиру. Не удерживай меня! Я расскажу все, объясню, что ты не виноват, что это все я… Ой, какая же я глупая!
— Успокойся. Незачем ходить. Командир уже все знает. Знает и то, что ты не столь уж виновата. Мне непростительно было допускать такой промах.
Они вдвоем смотрели на карту, обычную карту из курортного путеводителя, на которой тонкой паутинкой различалась черточка, оставленная острым, как игла, штурманским карандашом…
Море и берег Офицеры эскадренного миноносца «Стойкий» — друзья неразлучные. Они отвыкли и на берегу отдыхать порознь. Когда корабль стоит в базе, редкий свободный вечер не соберутся моряки с женами в Доме офицеров или на квартире у командира. Всегда найдется повод поговорить, поспорить, просто повеселиться в приятельском кругу.
И, конечно, Новый год друзья и подруги договорились встречать вместе. Приказ о выходе корабля в море тридцатого декабря не смутил моряков. Они рассчитывали вернуться пораньше.
Но вот и день праздника наступил, а корабля все нет. Вечером жена командира Анна Сергеевна и ее гости накрыли стол. На белой скатерти появилось все, чему положено быть по случаю торжества. Двенадцать обеденных приборов ждали своих хозяев.
А людей вместе с хозяйкой пока было только пятеро. И приуныли подруги. В хлопотах как-то не обращали внимания на погоду, а теперь тревожно прислушиваются к вою ветра за окном.
— Ой, боюсь я за своего Михаила, — не выдержала жена минера Соколова — круглолицая, чернобровая красавица. — Уж очень неугомонный он у меня. Помните, сорвало волной вьюшку на палубе. Мой первым кинулся, пытался удержать, да и сам угодил за борт. Ладно, матросы подоспели. Николай Никитич крепкую головомойку ему тогда закатил. Да разве на него что действует…
— Подействует! — убежденно заключила всегда спокойная, рассудительная жена старпома. — Командир наш строгий. Два раза повторять одно и то же не любит.
Беседу прервал звонок в прихожей. Хозяйка побежала открывать. Все обрадованно повскакали с мест. Но вместо знакомого баритона Николая Никитича послышался нежный девичий голос:
— Антоновы здесь живут? Меня просил прийти Анатолий Степанович…
В двери в сопровождении Анны Сергеевны показалась разрумянившаяся с мороза девушка, стройная, тонкая. Рядом с высокой, слегка полнеющей хозяйкой она выглядела подростком. Обежав взглядом комнату, девушка испуганно обернулась к хозяйке:
— А где же?..
— В море, — пояснила та, поняв невысказанный вопрос. — Скоро вернутся. Проходите, Ира, знакомьтесь.
Удивленно раскрылись синие лучистые глаза под густыми ресницами.
— Вы меня знаете?
— Как же, — улыбнулась Анна Сергеевна. — Анатолий Степанович столько говорил о вас.
Девушка в нерешительности теребила спадающую с плеча тугую русую косу.
— Неудобно как… Вы здесь все свои. А я…
— Вы — невеста нашего общего друга. Значит, тоже родной нам человек. Чувствуйте себя, как в своей семье.
Появление неожиданной гостьи обрадовало подруг. Посыпались бесчисленные вопросы. Все еще не оправившись от смущения, девушка пояснила, что она из Москвы, вместе училась с Анатолием в десятилетке, недавно окончила институт. Летом Анатолий проводил отпуск в столице. Тогда-то и упросил он ее после окончания института добиться назначения сюда. Мать отговаривала. Жалко бросать московскую квартиру. Не послушалась. Сейчас работает учительницей в местной школе.
— Правильно сделали, — сказала Анна Сергеевна. — Подруга моряка, как чайка, должна вить гнездо ближе к морю. Не берите пример с тех, кто, словно ракушки, прирастают к квартире и оторваться не могут. Живут на два дома: она там, муж здесь. Оба мучаются, злятся. Для таких столичная квартира дороже семьи.
И как-то сам собой зашел разговор о жизни, о доле жены моряка. Все наболевшее, продуманное в дни томительных разлук с мужьями выкладывали женщины перед юной собеседницей.
Трудно, да и невозможно привыкнуть к постоянным разлукам. Но уж такая служба у военного моряка. Беспокойная, тяжелая служба. Так пусть те немногие часы, что ему удается провести дома, будут особенно радостными. Ни ласки, ни тепла, ни забот не пожалеет жена, лишь бы муж получше отдохнул в семье, почувствовал себя еще более счастливым. Тогда и в море ему будет теплее и спокойнее, и всякое дело покажется легче. Много, очень много для моряка значит берег.
Анна Сергеевна взглянула на часы. Уже поздно.
— Так и придется, пожалуй, нам одним праздновать, — вздохнула она и обняла Ирину. — Даже праздник редко удается провести с мужем. Видите, какая у нас жизнь.
Девушка доверчиво, как к матери, прижалась к ней:
— Меня не пугает это. Лишь бы он любил.
На письменном столе зазвонил телефон. Анна Сергеевна сняла трубку. И расцвела вся.
— Большое спасибо, товарищ адмирал. Примите и наши сердечные поздравления.
Положив трубку, Анна Сергеевна оглядела подруг помолодевшими глазами.
— Адмирал поздравил нас с Новым годом. И мужья наши сейчас придут. Корабль уже в бухте… Только одного я не поняла: адмирал предупредил, что гостей у нас прибавится. Заготовьте, говорит, на всякий случай еще десяток мест за столом. Что бы это значило?
Женщины недоуменно переглянулись…
Они бы поняли все, если бы сквозь ночную тьму и расстояние смогли хоть краешком глаза взглянуть на работу своих мужей.
Выходя вчера на поиск подводной лодки, капитан 3 ранга Антонов и остальные офицеры эсминца думали, что выполнение задачи займет максимум пять-шесть часов. Поиск подводной лодки они осуществляют не впервые. Опыт некоторый есть, к тому же и задача будет решаться в районе, хорошо изученном моряками миноносца. Штурман еще на совещании у командира, пока тот знакомил офицеров с задачей, смог на память набросать карту глубин этого участка моря. Глубины были небольшие, это затруднит маневрирование подводной лодки.
Но все получилось иначе. Эсминец долго бороздил море, пока акустики не услышали шум винтов. Корабль устремился в атаку, сбросил серию глубинных бомб. Но лодка увернулась от удара и… исчезла. Сколько лейтенант Самсонов и его гидроакустики и радиометристы ни прослушивали и ни пронизывали ультразвуковыми импульсами водную толщу — ни малейших признаков лодки. По-видимому, она легла на грунт, притаилась в какой-нибудь впадине. Уже утром гидроакустики услышали в отдалении шум винтов. Уверяли: подводная лодка всплыла на поверхность и идет под дизелями. Самсонов направил корабль в ту сторону. Около часа шло преследование. А после выяснилось, что это тральщик. Лейтенант Самсонов стоял перед командиром красный, словно щеки ему кирпичным порошком драили. Ожидал разноса. А Антонов, отдирая льдинки с усов, ограничился шутливым замечанием:
— Скажу Ирине. Пусть подумает, стоит ли идти за такого…
Когда корабль вернулся в район поиска, радиометристы обнаружили «противника». Подводная лодка стояла в позиционном положении и заряжала аккумуляторы. Эсминец пошел на сближение. Но у подводной лодки радиолокаторы и шумопеленгаторы нисколько не хуже. Она вовремя заметила опасность. К подходу корабля она успела погрузиться и опять лечь на грунт. Антонов несколько раз пробомбил наугад место ее погружения. Снова безрезультатно.
Ветер усиливался. Морозный, жгучий, бросал он на мостик жесткие, замерзающие на лету брызги. На палубе, надстройках, орудийных башнях нарастали глыбы льда. Моряки, окатываемые по пояс волной, балансировали на скользкой, как каток, палубе, не успевая скалывать лед. И как всегда, больше всех суетился минер Соколов. Приземистый, юркий, он поспевал повсюду, следя за тем, чтобы на торпедных аппаратах, на стеллажах глубинных бомб и бомбометах не было ни крошки льда.
— Осторожнее, лейтенант! — крикнул в мегафон командир. — Опять за борт сорветесь!
Ответа лейтенанта не было слышно за свистом ветра, но, судя по жестам, он давал очередную клятву, что больше никогда такого случая не повторится.
Вечерело. Все более крепчал мороз.
— Хоть чайком, что ли, погреться, — проговорил Антонов и позвонил вестовому.
— Эх, — махнул рукой старпом, чувствуя, как коченеют в валенках ноги. — Чай тут не поможет. Сейчас бы погорячей чего-нибудь.
Командир погрозил рукавицей.
— Знаю, — вздохнул капитан-лейтенант. — А я бы в такую погоду разрешил.
На мостик вбежал вестовой. Несмотря на качку, он искусно, как жонглер, в одной руке держал поднос со стаканами, в другой — термос.
— Вахтенный, штурман! — пригласил командир. — Погрейтесь и вы.
Вестовой разлил содержимое термоса. Офицеры с наслаждением держали в озябших руках горячие стаканы.
Командир отхлебнул глоток и строго взглянул на вестового:
— Откуда у вас появилось это?
— Анна Сергеевна прислала. Будет холодно, говорит, давайте командиру вместо чая.
— Молодец ваша супруга, — одобрил старпом, аппетитно отхлебывая душистое какао. — Моя бы не додумалась. Вот попилить тупой пилой — мастерица. Так мне достается…
Забавно звучала эта жалоба в устах никогда не унывающего старпома. Все невольно рассмеялись.
И в этот момент сигнальщики и акустики в один голос доложили о торпедах. Стремительно тянулись к кораблю пенные дорожки, еле различимые в сумерках. Антонов бросился к машинному телеграфу, толкнул обе рукоятки вперед и отдал распоряжение рулевому. Только быстрота и точность маневра могли спасти положение. Но не напрасно столько труда вложили моряки в тренировки. Послушный воле командира эсминец успел развернуться и выйти в интервал между торпедами. Одна из них прошла всего в двух-трех метрах от борта.
Командир, не теряя ни секунды, начал преследование подводной лодки.
— Теперь не уйдешь!
За кормой эсминца раскатисто рвались учебные глубинные бомбы.
— С подводной лодки передают: «Прямое попадание», — крикнул возбужденный, сияющий лейтенант Соколов.
Самсонов отогнул заиндевевший воротник реглана.
Оставалось еще одно дело, тоже нелегкое: выловить торпеды. В темноте среди волн с трудом разыскали их. В облаках ледяных брызг матросы бережно подняли из воды, уложили и закрепили на обледенелой палубе те самые торпеды, которые только что грозили им такими неприятностями.
На ходовом мостике эсминца затрещал динамик радиотелефона. Послышался искаженный расстоянием голос командира соединения. Адмирал поздравлял моряков эсминца с праздником и благодарил за отличное выполнение задачи.
— Ну. как подводники действовали? — спросил адмирал.
— Молодцы! — восхищенно отозвался Антонов. — Здорово нас помучили.
— Да, у такого «противника» есть чему поучиться. Как вы думаете, не стоит вам поближе познакомиться с ними? Кстати, командир подводной лодки капитан второго ранга Карасев ваш сосед — вы живете в одном доме.
— Спасибо за совет, товарищ адмирал.
Эсминец шел курсом на базу. В кильватер ему следовала всплывшая подводная лодка. Силуэт ее еле различался в темноте. Антонов вызвал на мостик лейтенанта Самсонова:
— Свяжитесь с командиром подводной лодки, передайте ему наше спасибо…
— За что? — не сдержался лейтенант.
— Хотя бы за то, что они так умело водили за нос вас и ваших радиометристов. Не перебивайте и слушайте: передайте спасибо и просьбу ко всем офицерам подводной лодки прийти сегодня с женами к нам на встречу Нового года.
Злился, ревел в снастях морозный ветер. Но морякам обоих кораблей было тепло и радостно. Их ждал родной берег.
Волшебный приз
Впервые Кравцовы встречали Новый год врозь. Как ни уговаривал Сидор Федорович дочь — отказалась девчонка пойти с ним в клуб рыбокомбината. Старик понимающе вздохнул:
— Закружили тебе голову матросы…
Матросами отец называл всех военных моряков, но дочь-то знала, что он имеет в виду только одного из них — лейтенанта Юрия Вешкина. Старый мастер уже все разведал о нем: хороший парень, скромный, серьезный. Но от того отцу не легче. После смерти жены всю свою любовь старик перенес на Свету. А свяжет она свою судьбу с офицером, отцу грозит разлука: известно ведь, моряки — народ непоседливый. Переведут лейтенанта в другое место — и прощайся отец со Светланкой.
— Папка, не смей дуться! Слышишь! — дочь обняла его, поцеловала в жесткую щеку. — А теперь скажи, что я хорошая, — чуть картавя, как в детстве, сказала она. — И ты будь хорошим, слышишь? Не очень вертись там у буфета.
— Ладно, стрекоза!
В Доме офицеров уже царило веселье. В большом зале вокруг клумбы из бумажных цветов танцевали. Светлана разглядывала гостей. Почти все знакомые. Она уже больше года работает на почте. Сюда заглядывают все жители приморского поселка. И с Юрием они здесь, на почте, впервые встретились. Пришел как-то лейтенант узнать, нет ли письма ему, увидел Светлану да и зачастил.
Смешной! Глаз с нее не сводит. Слушает она лекцию в университете культуры, оглянется — он неподалеку. Сидит она в читальном зале — и он за соседним столом, делает вид, что книжкой увлекся. И давно уже так. А разговорятся — все о постороннем. Ну как он не догадается, что ей хочется слышать от него не только мнение о прочитанной книжке? Просто обидно. Терпела, терпела и решила проучить. Стала делать вид, что ей скучно с ним, а однажды, когда он, как всегда, подошел к ее окошку на почте, спросила насмешливо:
— Ну что вы ходите сюда? Знаете, что до востребования вам никто не пишет, и все же отрываете человека от работы.
Побледнел лейтенант и молча шагнул к двери. А на Светлану накинулась Зинаида Ивановна, заведующая почтой: разве можно так грубить посетителям!
Ничего-то не понимает Зинаида Ивановна… Не знает она, что Светлана в ту минуту хотела бежать за Юрием, просить у него прощения. Удержалась. А теперь вот мучается. Целых две недели он не показывался. Похудела Светлана, осунулась. Даже Зинаида Ивановна заметила и сказала сотрудницам:
— Вот учтите, девушки: нашей сестре и в гляделки играть опасно.
И сейчас нет Юрия. Люди веселятся. Гремит музыка. А Светлана, того и гляди, расплачется.
Где же Юрий? Неужели все кончено? А может, он в море… Когда она шла по заснеженной улице на вечер, она видела, как бушует это страшное, непонятное море. Ей кажется, что и сюда, в теплый праздничный зал, доносится его гневный голос: «Хо-ро-нись! Со-тру-у!..»
Озноб пробегает по спине. Как он там, Юра? Друзья говорят, в походах он себя не жалеет, упорный, бесстрашный. Вот только с ней робок, как школьник. Может, это и хорошо? Может, настоящая любовь всегда такая?
И вдруг она задохнулась от радости. Он! Вон, тоже стоит у стены и ищет глазами. Ее ищет! Еле сдержала рвущийся из груди крик: «Да вот, вот я!» Но к Юрию подошел Дед Мороз. И зачем он всюду вмешивается?
А Дед Мороз с окладистой ватной бородой, в сверкающем инеем-блестками тулупе отчитывал лейтенанта:
— Почему не танцуете?
Вешкин сразу же узнал голос: это же Гвоздев, штурман с соседней лодки!
— Не умею, — отбивался лейтенант.
— Бросьте дымзавесу ставить. А кто самый прилежный ученик в нашей школе танцев?
— Юрий свет Степанович! — подлетела к нему и Снегурочка. — Если вы и дальше будете скучать и другим портить настроение, мы вас оштрафуем.
Обиженно запорхали длинные ресницы на милом личике Снегурочки. Ба, да это же заведующая почтой, жена инженер-механика Дроздова.
— Зинаида Ивановна, — взмолился лейтенант, — не буду больше. Видите, уже улыбаюсь.
— То-то же! — погрозила пальчиком Снегурочка. А через минуту она уже была возле смущенной Светланы. Похоже, тоже отчитывала или наставляла ее. И тут же, неугомонная, задорная, вспорхнула на сцену и, воспользовавшись паузой в музыке, громко возвестила:
— Дамский вальс! Дамы приглашают кавалеров!
Нежная мелодия заполнила зал. Юрий увидел приближающуюся Светлану. Потупясь, медленно, словно во сне, двигалась она. Скромное белое платье подчеркивало ее юную красоту. «Вот она, настоящая Снегурочка», — пронеслось в голове лейтенанта. Он поспешил навстречу, бережно взял ее за руку, и они влились в толпу танцующих.
— Вы обиделись на меня? — еле слышно спросила она.
— Что вы! Это я во всем виноват.
Она благодарно посмотрела на него. И сразу встревожилась:
— Что у вас с лицом?
— Пустяки, — улыбнулся он. — Здешняя морская царевна расцеловала в обе щеки, когда на вахте стоял. Она в это время года жарко целует.
— Вы смазали бы чем-нибудь, а то волдыри будут.
— Да нашему доктору только скажи — разукрасит так, что и на люди не покажешься.
Она слушала его, а сама думала: неужели и сегодня он не скажет ей самого главного?
Неожиданно погас свет. В темноте послышались удивленные возгласы. Девушка испуганно прильнула к Юрию. Он услышал, как бьется ее сердце — часто, часто.
В зале посветлело, и все изумленно ахнули: на месте клумбы выросла елка, большая — до самого потолка. И от подножия до вершины сияла она разноцветными огнями. Гости восторженно зааплодировали.
— Откуда такое громадное дерево в нашей тундре? — удивилась Светлана.
— А это не дерево. Взгляните: вместо ствола трос, к нему прикреплены ветки. Моряки сотню километров прошли на лыжах, пока набрали их. Это Дроздов придумал, наш механик. Здорово, правда?
Они снова кружились в вальсе, тихо беседуя и не в силах оторвать глаз друг от друга. Они ничего не замечали вокруг. Не замечали, что остальные танцующие любуются ими и отходят в сторонку, чтобы не мешать.
И вскоре Светлана и Юрий оказались на виду у всех. Со сцены наблюдали за ними Дед Мороз и Снегурочка.
— Даже завидно, — вздохнула Снегурочка.
— Пожалуй, завоюют приз. Какой бы им выбрать?
Снегурочка встрепенулась:
— А я придумала!
Она сбежала вниз, бесцеремонно разлучила какую-то пару и зашептала на ухо удивленному офицеру — своему мужу. Тот пожал плечами и направился к выходу.
Танец сменялся танцем, и все так же самозабвенно кружились лейтенант и девушка. Когда музыка смолкла, они недовольно оглянулись: почему?
— Друзья! — возгласил Дед Мороз, поглаживая свою пышную бороду. — Мы со Снегурочкой считаем, что лучше всех танцевали они, — и кивнул в сторону Светланы и Юрия.
— Правильно! — дружно прогремело в ответ.
— Сейчас мы вручим им приз, — продолжал Дед Мороз.
И в это время на сцену не торопясь вышел… Кто бы вы думали? Гусь! Ослепительно белый в лучах прожекторов, он чинно, строевым шагом промаршировал к самой рампе, остановился, взмахнул крыльями и во весь голос представился:
— Га, га, га!
Растерявшихся Юрия и Светлану буквально на руках подняли на сцену. Дед Мороз подхватил птицу и торжественно вручил ее лейтенанту.
— Поздравляю вас, молодые наши друзья. Получайте красавца. И помните: не простой это гусь, а волшебный. Он принесет вам счастье.
Раскрасневшиеся Светлана и Юрий не знали, что отвечать. Да и не смогли бы: от рукоплесканий и восторженных криков дрожали стены.
Неловко подхватив гуся, лейтенант, не выпуская руки Светланы, стал протискиваться через толпу. Это было нелегко: каждому хотелось потрогать, погладить красивую птицу. Сыпались советы, чем ее кормить, где держать, как лучше приготовить жаркое. Наконец они пробились в фойе.
— Куда же мы его денем? — спросил Юрий. — Весь вечер нам испортили этим подарком. Не пойдем же с ним танцевать?
— Га, га, — с самым серьезным видом подтвердил гусь.
Светлана засмеялась и погладила его круглую гладкую голову.
— Знаете что? Отнесем его ко мне. Я же близко живу. А потом вернемся.
Но они не вернулись.
Когда Сидор Федорович пришел из клуба и подозрительно долго топтался в прихожей, вытирая ноги, дочь встретила его известием:
— Папа! А у нас новый жилец!
— Да я уж догадался, почему ты меня так старательно выпроваживала сегодня, — угрюмо отозвался старик. Войдя в комнату, он холодно поздоровался с лейтенантом.
— Папка! — вспыхнула дочь. — Как тебе не стыдно! Я вот о каком жильце говорю, — и показала на гуся, с аппетитом клевавшего из миски кусочки хлеба.
— Эге! — проворчал старик. И не понять, чего больше было в его возгласе — облегчения или изумления. Пожалуй, брало верх второе. Даже глаза протер: не приснилось ли?
— Откуда залетело сюда такое чудо?..
Спустя несколько недель этот же вопрос возник и на свадьбе, когда жареного гуся подали на стол. Счастливые молодожены Юрий и Светлана Вешкины пристали к бывшим Деду Морозу и Снегурочке:
— Где вы раздобыли такой приз?
— Всю жизнь здесь прожил, — добавил старик Кравцов, — и ни разу не видел, чтобы в наших краях зимой живые гуси водились.
Супруги Дроздовы переглянулись.
— Мы его из отпуска на самолете привезли, — сказала наконец Зинаида Ивановна. — Ох и хлопот доставил!
— И не жалко вам было расставаться с ним? — спросил Кравцов.
— Жалко, — призналась недавняя Снегурочка. — Но сейчас не жалею. Он же помог нашим друзьям…
— А что, прав ведь был Дед Мороз? — вступил в разговор штурман Гвоздев, теперь уже без пышной ватной бороды. — Действительно, это был волшебный гусь. Видите, сколько счастья он принес вам.
Тесно прижавшись плечом к плечу, сидели за столом молодожены. В наступившей тишине отчетливо донесся шум моря — рокочущий, немолчный.
— Люблю его слушать, — проговорил штурман. — Мне кажется, что море иногда разговаривает человеческим голосом.
— Да! — оживленно подхватила Светлана. — Вот так! — И она, по-детски надув щеки, выдохнула, подражая ударам волн и шороху гальки:
— Уф-ф… Хо-ро-шо-о!
Ключик
Матросы остановились на улице и заспорили: куда пойти? Большинство склонилось к тому, чтобы отправиться в клуб завода. Там сегодня концерт, танцы.
— Ты с нами, Митрохин? Высокий угрюмый моряк, который стоял в сторонке и не принимал участия в споре, покачал головой.
— Нет. Я поброжу по городу — и на корабль.
Он проводил взглядом весело переговаривающихся товарищей и уже повернулся, чтобы пойти в другую сторону, когда заметил неподалеку от себя мальчугана. В меховой шубке и такой же шапочке, он был похож на медвежонка. Черные, как спелые вишни, глаза на румяном личике с любопытством смотрели на матроса.
— Дядя, а дядя!
— Что, герой?
— А я вас знаю. — Мальчуган лукаво поджал губы, на пухлых щеках появились ямочки. — Вы мой брат.
Удивленный матрос присел на корточки, чтобы внимательнее рассмотреть мальчишку.
— Кто это тебе сказал, что мы с тобой такие близкие родственники?
— Папа. Вы, говорит, с матросом Митрохиным родные братья: с ним тоже никакого сладу нет.
— Так, так, — протянул матрос. — Аттестация исчерпывающая. Тогда и я, пожалуй, определю, кто ты. Твой папа капитан-лейтенант Буранов?
— Ага! — обрадованно подтвердил мальчуган.
— Сердитый у тебя папаша.
— Да нет. Он добрый. А ругает, только когда мама нажалуется. Она такая…
— Плохая?
— Нет, она хорошая. Но все: это нельзя, это нельзя, это нельзя. И чуть что: «Я вот папе скажу…»
— Неважные, вижу, у нас дела, — вздохнул матрос.
— Дядя, а вы тоже тру…
— Что такое? — не понял тот.
— Тру… Ну как это… Меня мама все так зовет.
— Трудновоспитуемый? — догадался матрос.
— Вот, вот! Вы тоже труднопитуемый ребенок?
— Пожалуй, что так, — грустно согласился собеседник.
А мальчик все осматривал его, даже потрогал пальчиком шершавое сукно шинели.
— Ты что меня проверяешь, как старшина перед увольнением?
— Дядя, а где у вас замочек?
— Какой замочек?
— Да папа все говорит: никак не подберу ключик к матросу Митрохину. Я уж ему давал ключи от заводного клоуна, грузовика. Нет, говорит, особый ключик нужен.
Матрос захохотал, схватил говоруна в охапку.
— Прав твой папа. У людей особый замочек. И он у них глубоко запрятан, не увидеть. А вообще, я смотрю, ты толковый парень. Как тебя зовут?
— Костей.
— Ну, а меня Иваном.
— Дядя Ваня? Как и мой папа? Вот здорово! А вы будете со мной играть?
— А как же! Давай что-нибудь придумаем.
…Вечером Нина Сергеевна Буранова, увидев сына, ахнула:
— В каком ты виде! Весь мокрый. Где это ты вывалялся так?
— Мам! А мы с дядей Ваней слона сделали из снега. Вот такого! Нам все ребята во дворе помогали. Ты знаешь, какой он хороший, дядя Ваня.
— Это еще кто такой?
— Да ты же знаешь его. Он мой брат.
— Брат? — мать засмеялась, прижалась щекой к мокрой шапке сына. — Глупенький. У тебя пока еще нет брата.
— Нет, есть. Его дядей Ваней Митрохиным зовут. Он матрос. Ты знаешь, он все-все умеет. А меня дядя Ваня похвалил: я со… соблазнительный.
— Сообразительный, — поправила мать.
— Во, во. Мы теперь все время вместе играть будем. А то он говорит, ему скучно.
— Ох и болтушка ты. Ну хватит, мой руки. Проголодался небось. Суп наливать?
— Ага. Я теперь все буду. Дядя Ваня говорит: кто плохо ест, тот плохой матрос.
За столом сын уплетал за обе щеки. Мать глазам не верила. Никогда еще у него не было такого аппетита.
Когда пришел отец, малыш уже спал. Нина Сергеевна рассказала о новом Костином знакомстве. Лепету мальчугана она, конечно, не придала никакого значения, но муж слушал очень внимательно. Он подошел к кроватке, посмотрел на разметавшегося во сне сынишку. Усталое лицо осветилось улыбкой.
— А ты знаешь, я и не думал, что Митрохин так детей любит. Шефы просят выделить им руководителя школьного радиокружка. Предложу Митрохина. А то совсем приуныл парень. Заругали мы его.
Жена умоляюще сложила руки:
— Ты хоть дома-то позабудь о службе. Горе мне с вами обоими.
…В дни увольнений, когда матросы сходили на берег, Костя стал надолго пропадать из дому.
— Ты где все носишься? — возмущалась мать.
— В школе.
— В школе? И что ты там делаешь, коротулька?
— В кружке работаю. Меня хотели прогнать, а Иван Васильевич — так теперь дядю Ваню все зовут — сказал: пусть остается, он человек сознательный. Иван Васильевич строгий. При нем никто не шалит. Он говорит, что без ди… без дисциплины никак нельзя.
— И что же ты там делаешь?
— Я? — сын даже обиделся. — Я провода зачищаю. Иван Васильевич сказал, что я молодец, очень старательный. Во! Мам, — понизил голос сын, — а дядя Ваня совсем теперь другой. Раньше скучный был. Теперь веселый, смеется.
…Накануне праздника капитан-лейтенант пришел домой необычно рано. Сын кинулся к нему:
— У тебя порядок, папа?
— Порядок, малыш. Можешь поздравить: наша боевая часть теперь лучшая на корабле. Даже Митрохин отличником стал.
Сын запрыгал:
— Мама! Я же говорил, говорил, что Иван Васильевич— замечательный дядя. А ты… — И вдруг сын обиженно взглянул на отца — Папа, а зачем ты обманывал, что Иван Васильевич мой брат?
Отец засмеялся, взял сына на руки.
— Нет, дружок, не обманывал. Подрастешь, узнаешь, что матросы для командира — те же сыновья. Вот и получается, что вы с Митрохиным братья.
Мальчуган задумался. Слова отца были туманны для детского ума. И сразу же переключился на другое:
— Папа, а ты ключик к дяде Ване подобрал?
— Подобрал, сынок.
— Да? — встрепенулся мальчуган. — Покажи!
Отец пощекотал мальчугана под подбородком.
— Не один понадобился ключик. Тебе пока не понять этого. Но на один ключик ты можешь взглянуть.
Он поднес сына к зеркалу.
— Погляди, видишь, какой он маленький и забавный.
Сын удивленно смотрел на свое отражение. Состроил ему рожицу. Он так ничего и не понял. Догадывался только, что отец в хорошем настроении. И малыш смеялся и прыгал от радости.
Ремень
Ешё на улице капитан 3 ранга Гребнев понял, что дома творится неладное. Из открытого окна доносился сердитый голос жены, топот ног, грохот сдвигаемой мебели. Обеспокоенный офицер взбежал по лестнице, распахнул дверь — и замер на пороге комнаты. Вокруг стола, размахивая свернутым в жгут полотенцем, бегала жена. Полы ее халата хлопали, как крылья. Она гонялась за сыном — быстрым, вертким, как угорь.
— Я тебя научу слушаться, негодник!
Егорка, увертываясь от полотенца, упрямо твердил в ответ:
— Все равно не надену! Все равно не надену!
Завидев мужа, Полина Ивановна, набросилась на него:
— Любуйся! Это все твое воспитание.
— Да уж, вы меня воспитываете! — отозвался Егорка, уцепившись в край стола и готовый в любую секунду принять новый старт.
Жена только руками развела. Тяжело опустилась на диван.
— Ты слышишь, слышишь, как он разговаривает! — запричитала она, приложив к глазам душистый платочек. — Хороший отец давно выпорол бы его как следует, чтобы дурь поубавилась.
— Придется, — многозначительно вздохнул отец и снял ремень. Схватив Егорку за руку, он затащил его в спальню, прикрыл дверь.
— Драться будешь? — угрюмо спросил сын.
— Не драться, а наказывать. Ты совсем от рук отбился.
— Ну и пожалуйста. И никто тебя не боится! — А глаза с опаской устремлены на ремень. — Я вот пойду в политотдел и расскажу, как вы деретесь. Жить мне не даете.
Теперь и у отца всерьез руки зачесались. Замахнулся ремнем:
— Ах, ты… грозить вздумал!.. Камса ты, комар несчастный.
— И вовсе я не комар! — взвизгнул сын. — Я человек!
— Осьмушка человека, вот кто ты.
— Her, целый человек! Думаете, я ничего не понимаю, да?
До этого сухие глаза мальчугана вдруг наполнились слезами. Обеими руками он обхватил отца, ткнулся лицом в его китель. Худенькие плечи сотрясались от рыданий. Всхлипывая, захлебываясь, Егорка все крепче прижимался к отцу. Тот с трудом разбирал его бормотание:
— Наша учительница говорит: «Вы уже большие… в четвертом классе… умейте уважать и себя и других». Велит даже к малышам и девчонкам по-человечески относиться. Я и отношусь. А дома? На меня кричат только. И мамка, и бабка, и Наташка. Будто я ничего не понимаю…
Отец медленно опустил ремень. Потрепал шелковистый вихор на голове сына, погладил вздрагивающие плечи.
— Ну успокойся. Ты мне расскажи толком, что произошло.
— Да! На улице вон как тепло, а мамка куртку заставляет надеть. Зачем? Париться, да?
— А куда ты собрался?
— Иа рыбалку.
— Слушай, — отец повернул к себе мокрое лицо сына. — Мама-то ведь права: рыбаки всегда потеплей одеваются. Мало ли что может случиться. Я бы на твоем месте спасибо за совет сказал. Жарко — снял куртку и постелил ее на камни — сидеть будет мягче.
Отец достал платок, вытер сыну щеки.
— Иди, рыбачь. Ты где, на молу будешь? Захвати и мои удочки.
— Придешь? — встрепенулся сын. Глаза его засияли.
— Приду.
От слез и следа не осталось. Мальчуган завороженно взглянул на отца и вихрем выскочил из комнаты.
Вошла жена.
— Вот что значит отцовская рука, — сказала она с глубоким вздохом. — Безо всякого куртку надел. И еду захватил. А ведь два часа с ним билась. Уперся как баран: «Ничего не возьму!» Ты с ним чаще построже разговаривай.
— Да, построже… — задумчиво проговорил муж. Он обнял жену и усадил ее в кресло. — Поля, а ты объяснила ему, зачем куртка нужна?
— Ясно, объяснила. Сказала: «Раз мама велит — значит, делай».
Муж помолчал. Затем заговорил вполголоса, словно думая вслух:
— Раз велят, так делай… Сегодня матрос ко мне пришел: «Товарищ командир, вы приказали рубку покрасить, а там краска еще совсем хорошая». И кто говорит — мальчишка, на корабле без году неделю служит. Я отругал его и взыскание всыпал.
Жена обиженно покосилась на мужа:
— При чем тут матрос, Степа? Мы же о сыне…
— Мы о воспитании говорим с тобой, Поля.
Полина Ивановна пожала плечами. К чему клонит муж?
А тот уже был целиком поглощен своими мыслями. Подошел к телефону, снял трубку, набрал номер.
— Петр Корнеевич? К покраске рубки еще не приступили?.. И не начинайте. Да вот еще что: в карточку Иванова взыскание не вписывайте. Да, да, отменяю. Скажите ему, а после я сам извинюсь перед ним… Удобно ли? Куда удобнее, чем наказывать без вины.
Капитан 3 ранга положил трубку и только теперь заметил, что до сих пор держит в руке ремень. Поморщившись, словно от ожога, он кинул его в угол.
Примечания
1
Мушкель — деревянный молот.
(обратно)

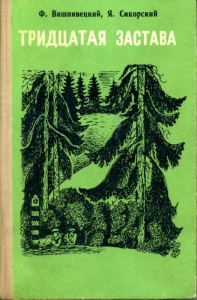

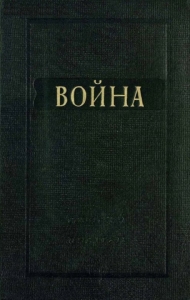

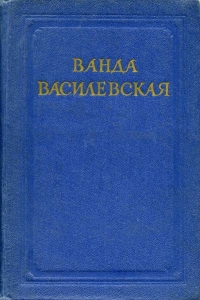

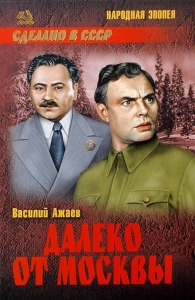



Комментарии к книге «Лаг отсчитывает мили (Рассказы)», Василий Ильич Милютин
Всего 0 комментариев