Мария Рольникайте Свадебный подарок, или На черный день
На «симпозиум будущих родственников», как назвала это Юлька, я немного опоздала, и она взглянула на меня с укором, — не могла раз в жизни явиться вовремя, она-то ведь смогла. Упрек справедливый, особенно если принять во внимание его вторую часть. Потому что приходить даже к поезду в самую последнюю минуту Юлька умеет еще лучше меня. Представлюсь так, как меня представляет своим друзьям Юлька: «Лина Викторовна, моя единоутробная тетка». Хотя другой, «не единоутробной», у нее нет, она называет меня только так. Удобно. Перед другими, даже родителями можно оправдывать свои недостатки «косвенной наследственностью», а от меня — с легкостью принимать естественное при таком близком родстве заступничество. Заступаюсь я за нее только перед еще более близкими ей людьми — отцом и матерью, то есть моим братом Яшей и его женой Любой.
Дело в том, что Юлька у них очень поздний ребенок, и пока они готовились к ее появлению, успели изучить всю литературу по воспитанию детей. Но извлекли, кажется, только одно: немолодые родители часто слишком балуют свое долгожданное дитя. Боясь совершить такую ошибку, они проявляли излишнюю строгость. Я не очень верю в готовые рецепты воспитания, но, зная Юлькину живость и стремление к самостоятельности, почти уверена, что многие ее «конфликты» с родителями вызваны именно излишними запретами и ограничениями.
Кроме «единоутробной тетки» я еще являюсь «Скорой помощью». Правда, в этот ранг я была возведена недавно, когда Юлька объявила, что собирается замуж. И то я стала этой «помощью» не сразу. Сперва тоже считала, что замуж ей рано, что она еще вряд ли способна отличить увлечение от настоящего чувства, что к избраннику надо присмотреться получше, и так далее. Приводила цитаты из классиков: что-де иногда потребность в любви принимается за саму любовь и что чем позже это произойдет, тем меньше времени останется жалеть. Но цитат и примеров из литературы у нее, студентки филфака, было намного больше, чем у меня. А моих уверений, что к избраннику надо присмотреться, хитрюга не стала оспаривать. Только очень зачастила ко мне. И обязательно с Володей. Словом, потребовалось не так уж много времени, чтобы я поняла ее… А поняв, стала той самой «Скорой помощью».
В отличие от настоящей, которую вызывают в момент острой необходимости, меня Юлька вызывала заблаговременно, примерно за час до разговора с родителями. Расчет был точен — я прибывала к самому накалу страстей. Еще меня отличало от подлинной «Скорой» отсутствие медикаментов — валерьянка, валидол и прочий набор лекарств, необходимых, чтобы припугнуть Юльку и успокоить себя, у Любы был.
Но теперь борьба за родительское согласие осталась позади, они наконец уступили (а что им еще оставалось делать?..), Люба перестала вздыхать, и вот все собрались — родственники со стороны жениха и невесты, — чтобы обсудить уже чисто организационные вопросы.
Юлька, когда звала, заявила: «Вас соберем, а сами смотаемся». Однако не смотались. Сидели неестественно серьезные, вытянувшись в струнку и даже почему-то отгородившись друг от друга диванной подушкой.
Поскольку проблемы застолья меня никогда не занимали, а не слышать того, чего слышать не хочу, уже давно научилась, я решила заняться более важным делом — попробовать понять, какие они, Юлькины будущие родственники.
Честно говоря, в первое мгновенье, когда вошла, я удивилась, что их так много. Со слов Юльки я уже знала, что у Володи кроме родителей есть еще «целая ассамблея тетушек и дядюшек», которых она делит на хороших, терпимых и никаких. Но это деление — от дурной привычки, даже впервые увидев человека, сразу давать ему характеристику. На самом деле ей нравится, что семья у Володи большая. Это может показаться странным для ее возраста и довольно беспечного характера, но Юлька очень переживает, что у нее нет родственников. Между прочим, как и я. Часто расспрашивает о них. Яша этих расспросов не любит. Он вообще считает, что Юльке необязательно знать о всех ужасах того времени, и был очень недоволен, что Юлька давно, еще в шестом классе, тайком от всех завела альбом «Мои родственники — погибшие на фронте и расстрелянные гитлеровцами». Каждому члену семьи отвела отдельную страницу. Слева вклеила фотографию, справа записала, кто это. Например: «Моя бабушка Соня, мамина мать. Она непохожа на настоящую бабушку, потому что ее расстреляли, когда она была еще совсем молодой». Дальше следовал пересказ того, что урывками узнавала. О тех, кого расстреляли, когда им было почти столько лет, сколько ей, записывала особенно старательно и красным карандашом. Очень жалела, что многие страницы в альбоме без снимков. «Даже не знаю, на кого я похожа». Но место для снимка оставляла и обводила рамочкой.
Наверно, потому Юлька теперь и не ушла, осталась, чтобы мы не были в таком обидном меньшинстве.
Меня, как я уже сказала, вопрос свадебного застолья не волновал, и я стала незаметно разглядывать Володину родню, вернее, угадывать — кто есть кто. Для начала установила, что «ассамблея» явно не в полном составе, мужскую его часть кроме Володиного отца представлял всего один, сидевший под торшером лысый толстяк. Поскольку перед ним стояла шахматная доска и он, то и дело сверяясь с газетой, разбирал какую-то шахматную партию, нетрудно было догадаться, что это и есть их «семейный Капабланка». Между прочим, Юлькина привычка наделять людей прозвищами так заразительна, что часто напрочь вытесняет имя-отчество. И приходится быть в постоянном напряжении, чтобы самой кого-нибудь, да еще в глаза, не назвать услышанным от Юльки прозвищем. Этот «Капабланка», видно, муж одной из четырех Володиных теть. Но которой? Та, что сидит рядом с Володиной матерью, исключается: судя по торчащим из сумки нотам — «их соловей», то есть Володина незамужняя тетя, та, что поет в хоре. По его словам, иногда ей даже доверяют небольшие сольные партии. Но в семейном ансамбле она вряд ли солирует, ни разу рта не раскрыла. Тут явно задает тон эта полная дама в ярко-красном платье. Юлька, оказывается, не преувеличивала, прозвав ее «ходящим ювелирторгом». Она на самом деле вся в золоте. Надо же столько нацепить на себя — и серьги, и браслет, и кулон, и полдюжины колец. Интересно, она носит все сразу потому, что боится оставить дома, или для того, чтобы ей завидовали?
Юлька заерзала, и я включила слух.
— Кофе с молоком пьют дома, — оповестила полная дама. — В гостях, тем более на свадьбах, положено черный.
Остальные сестры, к счастью, менее похожие на витрину ювелирторга, — согласно закивали.
— Или с мороженым — кофе-гляссе, — и она вопросительно посмотрела на нас: доступно ли нашему пониманию такое заграничное слово.
Юлька меня явно гипнотизировала. Я тоже кивнула.
— А теперь, — красное платье чуть не лопнуло в швах оттого, что его хозяйка развернулась к ребятам, — вы свободны. Остальное мы обсудим сами.
Этим «остальным» оказалась проблема свадебного подарка. Она так и сказала — проблема. И сразу сообщила собственное решение:
— Подарок должен быть общим, и, конечно, ценным. Чтобы нас породнила не только женитьба Володина Юлии, но и общие затраты на них.
Я еще не успела осмыслить пользу общих расходов, а она уже уточняла, что именно должно нас породнить.
— Золотые запонки, золотой зажим для галстука и японские часы Володе. Конечно, модные, со счетным устройством и музыкой. А Юлии надо подарить комплект, именно полный комплект украшений. Коралловых, например. Бусы, серьги и кольцо.
Я вдруг представила себе Юльку в ее вечных джинсах, футболке, с «конским хвостиком», перехваченным обыкновенной черной резинкой, и с кораллами на шее. Но мадам продолжала объяснять:
— Это и красиво, и всегда в цене. Пусть у них что-то будет на черный день.
Мой внезапный уход Люба назвала слишком явной демонстрацией своего несогласия. Яша пытался меня защитить, я же объяснила («промямлила», уточнила Люба), что у меня срочное дело. Наоборот, хорошо, что я ушла и не затеяла спор с этой чересчур практичной дамой. Только напрасно так болезненно восприняла ее слова о возможных черных днях в Юлиной жизни. Она безусловно имела в виду обычные житейские затруднения. Это уж я в них узрела другой смысл. Оттого, что все еще не оторвалась от прошлого.
Может быть. Честно говоря, потом, на улице, я о своем бегстве и сама немного пожалела. Только огорчила Юльку. Пусть они дарят, что хотят. И пусть гости пьют не просто кофе, а кофе-гляссе. И бог с ней, с этой теткой. И с ее золотыми запонками, и с кораллами. Главное, что Юлька выходит за хорошего парня.
И вдруг… Я словно только теперь поняла, что Юлька выросла, что она выходит замуж, у нее начинается новая жизнь…
Она должна, обязательно должна в начале этой новой жизни почувствовать живую связь с теми, кто мог быть ей ближе всех.
Но их нет…
А я есть. И только я могу рассказать ей о том времени, о том, что такое черные дни и что тогда становится главным.
Я отдам ей свои записи. Все, что мне рассказала наша мама, и не только она. То, о чем так и не смог рассказать ей отец. Пусть они с Володей прочтут.
Пусть прочтут… Правда, для этого им придется перенестись — как хорошо, что только воображением, — в прошлое. В то время, которое называется Великой Отечественной войной. Вернее, в оккупированный гитлеровцами город. А еще точнее, в подвал разрушенного бомбами дома.
I
Их там было восемь человек — семеро взрослых и один ребенок — в тесном, полутемном подвале, под заснеженными обломками стен, битого кирпича и ржавых железных балок. Но эти люди не были заживо погребены во время бомбежки. Дом рухнул еще в первый день войны. Они там скрывались. Живые — под землей…
Первым в подвал пробрался — таково было условие женщины, которая им подсказала, где это спасительное убежище, — старый Зив. Собственно, он не был еще стар. И до того как старший сын, Виктор, окончил университет и стал его коллегой, он был просто доктор Зив, известный всем мамам города детский врач. Но когда в их больнице появился «молодой доктор Зив», он, как сам тогда шутил, «автоматически перешел в старики». Правда, с тех пор, как в город пришли фашисты и Зива; всю жизнь лечившего детей, объявили, как всех евреев, «недочеловеком», «виновником войны» и бог знает еще кем, приказали носить желтые звезды, ходить только по мостовой и жить в гетто — он в самом деле постарел. Даже будто ниже ростом стал. И голова совсем побелела. И глаза, раньше улыбавшиеся, погрустнели… И не отправлялся он больше по утрам в больницу к своим детям, а плелся из гетто в большой колонне помеченных, как и он, желтыми звездами людей на фабрику. Теперь доктор Зив работал на мебельной фабрике, в сушилке. Жену свою, Аннушку, он уверял, что своей работой вполне доволен. Что под протекторатом Гитлера лучшей и не бывает: поскольку доскам чтобы они высохли, нужно тепло, ему при них тоже не холодно. А то, что их приходится переворачивать, тоже к лучшему, — это вносит разнообразие в его работу. Правда, не рассказывал, как бригадир — «фольксдойче»,[1] которого они прозвали Обезьяной, «разнообразит» его рабочий день командой встать к электрической пиле, а это значит — таскать такие бревна, которые и двоим-то поднять трудно; или приказом сбрасывать снег с крыши. Обязательно в ритме польки. Сам стоит в окне противоположного здания и дирижирует.
Жена, которая оставалась в гетто с внуком, потому что невестке не работать было опаснее, конечно, хотела бы ему верить. Но он приходил такой усталый, что ей еще больше хотелось спросить: «Даня, Даня, кого ты стараешься убедить, что тебе не тяжело?» Правда, сама она тоже и ему и детям рассказывала далеко не все. Только о том, как они с Яником стояли в очереди за хлебом, что там говорили о фронте, особенно когда кто-нибудь уверял, что немцы где-то потерпели поражение. Если же ничего такого не говорили, она рассказывала о Янике: какое он потешное слово сказал, о чем спросил. И, конечно же, умалчивала о главном… Например, о том, что утром, как только все работающие ушли, в гетто въехали два грузовика с эсэсовцами и она как всегда спрятала Яника в сундук.
Странно, а ведь она уже почти забыла, что сундук этот, и стол, и каждый стул — чужие. Людей, которые здесь жили раньше, уже нет… Видно, их увели в какую-нибудь из самых первых акций. Тогда никто еще не знал куда, и непривычным было, что убийство людей называют акцией… Теперь уже и куда гонят, все знают, и что «акция» значит только одно…
Людей нет, а сундук… Древняя это истина, что вещь долговечней человека. Теперь сундук им служит. Ночью Яник на нем спит, а во время акций его туда прячут. Поначалу нелегко было приучить его лежать там скрючившись, в полной темноте и совсем тихо. Чтобы он, бедное дитя, не задохнулся, Виктор просверлил в задней стенке дырки.
Вот и на этот раз, как только послышался рев моторов, Яник сам пошел к сундуку. Привычно улегся. Она закрыла крышку. Сверху, как обычно, набросала одежду, тряпки, даже перевернутый стул поставила. Сама вместе с соседкой притаилась у окна, и они видели, как солдаты погнали совсем раздетых стариков и старушек. Опять из приюта, самых беззащитных… Не рассказывала, как в другой раз днем вдруг стали всех загонять в подворотни, — в гетто явились два офицера из гебитскомиссариата. Они прошли в комендатуру и оставались там долго. Очень долго. Люди напряженно вслушивались, — не входят ли в гетто отряды солдат, не начинается ли акция. А когда те двое наконец ушли, стало еще тревожнее: зачем эти городские «фюреры» приходили? Может, ночью будет акция? Но об этом они ведь заранее не предупреждают. Или вводят опять новые удостоверения, на работе их выдадут теперь уже только самым необходимым «юден». А тех, в ком такой необходимости не окажется, вместе с семьями угонят на расстрел. Как в прошлые разы… Находились оптимисты:
— Зачем сразу думать о плохом?
— Ничего другого от теперешних немцев ждать не приходится.
— Но говорят, Красный Крест уже взялся за них.
— Пустые надежды, — сколько раз уже говорили; Красный Крест, наверное, и понятия не имеет, что они тут творят.
— Не может этого быть.
— Может, еще как может…
Нет, ни о своих дневных страхах, ни даже об этих разговорах Аннушка не рассказывала…
Но и в те дни, когда никого не уводили и никакие посланцы смерти в гетто не являлись, ей все равно было неспокойно. За них, ушедших на работу. За каждого… Что бы ни делала, думает все о том же — как там Даня? В его годы, с его сердцем ворочать доски… Мало ли что он говорит. «Не тяжело». Очень даже тяжело. Это у Виктора по нынешним временам работа совсем неплохая. И к тому, что он теперь стекольщик, вроде притерпелся. А вот к тому, что ведут на работу и с работы под конвоем и по мостовой, — не может… Сам, конечно, не признается, даже Алине. Господи, дай им до конца прожить жизнь вместе… Бедный сын! Еще, как нарочно, их колонна мимо больницы проходит. Недавние коллеги навстречу попадаются. И, к сожалению, не все от неловкости отворачиваются…
За Бореньку другие волнения — как бы он там, на фабрике, своему вредному мастеру не наговорил лишнего. Ведь теперь чуть слово скажешь — большевистская агитация, не так повернешься — саботаж. Работает Боренька хорошо, руки у него золотые, только вспыльчивый очень. Можно понять, в девятнадцать лет трудно сдерживаться, когда тебя унижают. Но что поделаешь, если теперь такое время, а мастер — из тех, которые рады, что евреев загнали в гетто, что их расстреливают…
Кто умеет сдержаться — так это Нойма. И промолчать, и проглотить обиду умеет. Не только сейчас. И не только на работе. Дома тоже… Правда, пока не вышла за своего Марка, никто и не обижал. Но опять-таки ничего не поделаешь. Пусть уж он будет такой, какой есть, только бы они были живы и вместе. Видит бог, за Марка она переживала не меньше, чем за своих детей. Алина ведь ей тоже как дочь. И за Даню.
Уже с полудня она начинала их ждать. А под вечер, оставив Яника соседке, — если у ворот стоят эсэсовцы, пусть им лучше не попадается на глаза маленький «бесполезный для рейха» ребенок, — бежала встречать входящие в гетто бригады. Расспрашивала, кто стоит в охране, не очень ли придирчиво обыскивают? Потому что Даня, может быть, — она и надеялась и боялась этого — что-нибудь несет… Остальные — только усталость свою могут принести… Разве что кто-то из работающих вместе с ними литовцев или поляков поделится своим завтраком. Но у них и у самих не густо… Или если удастся выменять что-нибудь из вещей. Так ведь и менять особенно нечего, — когда выгоняли из дому, очень торопили, и они схватили, что под руки попало. Да и сколько можно унести на себе…
А вот Даня, если повезло, что-нибудь заработал. Потому что, как он говорит: «Сушилка для досок, конечно, не кабинет, но свои болезни люди и туда приносят». Когда на фабрике узнали, что он врач, к нему стали приходить за советами. Особенно женщины. Сколько ни объяснял, что детский он врач, детей лечил, — это их не смущало: все равно доктор. Конечно, доктор. И даже трубка для выслушивания — единственное, что он успел схватить, когда конвоир выгонял из кабинета, — у него была. А руки, хотя шершавые, со следами смолы и в царапинах, свое дело — выстукивать, искать недуг — не забыли. Наоборот, словно оживают, радуются, что вместо тяжелых сырых досок снова касаются живой человеческой плоти.
Так он, и раньше не умевший никому отказывать, опять ненадолго становился старым доктором Зивом. Только, по его собственному определению, «сильно прибавившего в возрасте контингента». А после ухода пациентки обнаруживал на подоконнике деликатно оставленный там гонорар: несколько картофелин или брюквин; иногда ломоть хлеба; небольшой, величиною с кисет, мешочек с мукой; а то две-три луковицы. Им он особенно радовался, — у Яника уже начали шататься зубки.
Этот, увы, далеко не каждодневный, заработок он и нес в гетто. Но поскольку не давать семье умереть с голода тоже было запрещено, проносить свое богатство приходилось уже изобретенным кем-то способом. Картофелины или брюкву, например, разрезал на ломтики и аккуратно раскладывал в шапке под подкладкой. Аннушка даже ячейки для них пошила. Поверх белья носил специальную, пустую стеганку, вроде безрукавки. И если гонораром оказывалась мука, он ее засыпал в промежутки между швами; она там ложилась тонким слоем, и при обыске у ворот эта стеганка вполне могла сойти за ватный жилет.
Но вскоре охранники все эти старания обмануть их бдительность разгадали. Теперь можно было рассчитывать только на то, что их колонна попадет к не очень вредному полицейскому или как раз в такой момент, когда ему надоест обыскивать и он не станет слишком усердствовать. А если и найдет эту великую «контрабанду», то, может, только надает тумаков и заставит все выбросить, — говорят, отобранное идет к ним в котел. Хуже, если попадешь к подлецу не только по должности, но и по сути. Такой, когда обыскивает, на самом деле держит твою жизнь в своих руках: то ли сам, так сказать, собственнокулачно накажет, но все же отпустит, то ли после этого еще и отправит в геттовскую тюрьму. А оттуда… Могут, конечно, утром выпустить на работу, но только если… Если именно в ту ночь немцы не ворвутся в гетто. Тогда первыми заберут их, «нарушителей». И все-таки самое главное — если что-нибудь несешь, не нарваться у ворот на эсэсовца, который вдруг решит проверить, достаточно ли старательно полицейские обыскивают. Тогда десять ли картофелин нес, или одну… Только и постоишь невдалеке от своих — всего ворота и кусок улочки разделяют, — пока соберут побольше «преступников» да вызовут конвоиров.
Оттого-то Аннушка каждый вечер так волновалась, так ждала.
А сам старый Зив? Какая разница, волновался — не волновался, если все равно, было бы только что нести, — нес. Потому что в гетто его ждал, уже с самого утра начинал ждать, Яник. Бледный, худенький. Он напряженно следил, как дед раздевается, смотрел на руки — не достанет ли чего-нибудь…
И в той, прежней жизни самым трудным было видеть страдания детей. Но тогда он мог им помочь. Теперь страдал от голода собственный внук.
Поняв, что дед ничего не принес, Яник сразу отворачивался, уходил в свой угол за сундуком и садился на пол. Сидел и молчал… А их, взрослых, это молчание пугало. Лучше бы хныкал, просил.
Стыдно было ему, врачу, думать, что, может быть, завтра кто-нибудь занеможет. Но ничего не поделаешь, думал…
Правда, не только ради «гонорара» ждал он пациенток. Была еще одна, более серьезная, даже главная причина: с каждым днем он все яснее понимал, что из гетто необходимо вырваться. Всем, конечно, не удастся. Но хотя бы Яника спасти… И как можно скорее, пока эти звери не придумали очередного повода для акции.
Предыдущие акции их семью, слава богу, миновали. И в самые первые дни, когда расстрел множества людей назывался «взять заложников». И когда это же называлось «за покушение на немецкого солдата». И когда никак не называлось: просто в гетто всех евреев города было не уместить, и поэтому многих угнали прямо в т о т лес с готовыми ямами. И во время последних акций, когда угоняли вместе с семьями тех, у кого не было удостоверений специалистов, ремесленников.
Да, до сих пор везло. К счастью, у всех четверых эти удостоверения есть. Ничего, что Виктор теперь больше не врач, а стекольщик, Борис — не студент, а токарь, Марк стал маляром. И сам он, Зив, записан столяром. Зря Аннушка боится, что фабричное начальство вздумает проверять, какой из него столяр, — ведь, наверно, давно забыл, с какой стороны подходить к верстаку и как держать рубанок. Нет, не забыл. Руки хоть и отвыкли, но то, что знали в молодости, помнят и в старости.
А помнить есть что. Отец его был столяр, и мальчишкой он часто ему помогал. Пока все-таки не упросил, чтобы его отправили в настоящий город, где есть гимназия.
Отправить-то отправили, но дать с собою могли, как мать это назвала, «половину своей бедности». Правда, сшили, вернее, перешили из дедушкиного сюртука и брюк костюм. Первый в жизни настоящий костюм. Черный. Хорошо, что и галстук к нему был черный, когда брюки протерлись, этот галстук пригодился на заплаты. Потому что родительской помощи и собственного заработка за уроки тупому сынку бакалейщика хватало только на четвертинку хлеба и соленый огурец на целый день.
К сожалению, и в студенческие годы в Берлине довольно часто приходилось доказывать себе, что вовсе не обязательно каждый день обедать.
Смешно вспомнить, но судьбу его решила… почтовая марка.
В университет его не приняли, и он решил пойти к неприступному, как все уверяли, профессору Фанзену просить, чтобы тот разрешил посещать лекции на правах вольнослушателя. От профессора действительно веяло холодной строгостью. Но, узнав, что стоящий перед ним проситель приехал из Литвы, неожиданно оживился. Оказывается, как раз накануне он поспорил со своим коллегой: тот утверждал, будто Литва и Латвия — одно государство, только его название произносится неодинаково. А он, профессор Фанзен, уверен, что это — отдельные государства. Так ли это?
Так. К счастью, в кармане (все тех же заплатанных брюк) было письмо из дома. Маленькая почтовая марка на конверте помогла профессору доказать свою правоту, а ему стать вольнослушателем Берлинского университета. В студенты он был переведен уже без посредничества почтовой марки. Зато времени, чтобы подрабатывать уроками, оставалось совсем мало…
Когда он на каникулы приезжал домой, мать безошибочно угадывала:
— Опять сидел на одном хлебе с огурцом?
А отец, если только у самого была работа — что случалось не так уж часто, звал к верстаку:
— Ну как, без пяти минут доктор, еще не разучился держать рубанок?
Правда, с тех пор прошло много лет… Но если какой-нибудь фабричный блюститель интересов фюрера вдруг вздумает проверить, не зря ли ему выдали спасительное удостоверение, — справится. Рубанок сам будет делать то, что надо. Хоть и кусок дерева, а поймет, что речь идет о жизни. И не только его…
Если бы грозили лишь проверки. Но ведь не угадаешь, что еще они могут придумать. А могут и вовсе больше не придумывать. Просто ликвидировать гетто, то есть всех расстрелять, чтобы освободить жизненное пространство для своей, высшей расы.
Кажется, нет человека, который, узнав, что он учился в Германии, не спросил бы:
— Как могло случиться, что целый народ стал убийцей?
А что он может ответить? Что все-таки не весь. Он надеется, что не весь…
Но много их, очень много. И эсэсовцев, и гестаповцев, и всяких других. Высокие чины приказывают, средние — рады стараться, а низшие исполняют — ведут, дают автоматные очереди. Даже по детям…
И Яника могут…
Раньше, в больнице, он и возле самого тяжелого, почти, казалось, безнадежного ребенка ни на мгновенье не позволял себе допустить мысль о летальном исходе. Спасет, должен спасти! Теперь мысль, что Яник обречен, не оставляла и во сне.
Но как спасти? Как? Для этого его надо вынести из гетто. А куда? К кому? Кто его спрячет?
Почти с каждой пациенткой, после того как выслушивал ее жалобы, осматривал, объяснял, что делать, заводил все тот же разговор… Что из гетто опять угоняли. Что у него внук. Мальчик послушный, смышленый: когда во время акций его прячут в сундук, он лежит там тихо, даже не поскребется. А фашисты и маленьких детей не жалеют…
Женщины ему сочувствовали. Но… Чтобы предложить то, чего он так ждал от них, они должны рисковать жизнью собственных детей. И он это понимал. Даже спешил уверить, что понимает. Все равно объясняли. Опять кого-то повесили за то, что прятал на чердаке то ли раненого русского, то ли убежавшего из гетто еврея. Да и держать ребенка негде — даже чулана подходящего нет. А как втолковать своим малолеткам, чтобы молчали? Если же не прятать, чтобы играл и спал вместе со своими, — соседи начнут расспрашивать: кто да откуда? Всякие люди есть. И очень напуганы теперь — карают ведь и за то, что не донес. А если увезти внука куда-нибудь в деревню, на хутор?
Аннушка знала о его стараниях. Но не очень верила в удачу. Да и у него самого не было оснований надеяться. А все равно с каждой приходившей к нему женщиной — мужчины редко заглядывали — заводил все тот же разговор. Потому что… Надо ли объяснять, почему, если он видит в глазах Яника постоянную мольбу: «Деда, спаси меня…»
В то утро, когда в сушилку вошла Моника — как ее зовут, он уже потом узнал, а тогда просто вошла немолодая, в черном халате и с явно базедовой болезнью женщина, — он как раз думал о том, что уже два дня никого не было…
— Проходите, пожалуйста. Я сейчас.
Но она стояла в дверях и то ли удивленно, то ли с недоверием смотрела, как он в одиночку ворочает свои «подопечные» доски. И чтобы она не ушла, повторил:
— Я сейчас.
Она вдруг шагнула, взялась за другой конец доски и стала помогать ему.
— Не беспокойтесь. Я вполне справляюсь. Сейчас кончу, и к вашим услугам. Правда, врач я детский…
— Знаю. Потому и пришла посмотреть, правду ли говорят, что в сушилке работает наш пан доктор Зив.
— Как видите, правду.
— Помните, как дочку мою спасли? Воспалением легких болела. Тересе, беленькая такая. — Женщина взялась за следующую доску. — Теперь бы, наверное, и не узнали. Уже у самой ребенок. Дочка.
— Это хорошо, что есть ребенок. Очень хорошо…
Вдвоем работа пошла быстрее.
— А я думала — не может быть, что такой уважаемый человек, такой хороший доктор, вместо того чтобы лечить, к доскам приставлен.
— Это еще не самое большое зло, которое творят нацисты.
— Немцы, что ли?
Он кивнул. Не объяснять же ей, что когда-то, в годы студенчества, он знал другую Германию. И другими в той Германии были немцы. Правда, когда он туда во второй раз приезжал, почти десять лет спустя, и как раз все начиналось, увидел уже и других… А все равно, ни вакханалии штурмовиков тогда, ни то, что творится теперь здесь, не вытеснили из памяти давней Германии. Пока еще не вытеснило…
— …за что они ваших убивают?
Расовой теории фюрера он не стал ей объяснять. Заговорил о Янике. Повторил то, что говорил каждый раз. Что их в любую ночь могут повести на расстрел. Внука тоже. И ребенок это понимает. К сожалению, он все понимает… Когда во время акции его прячут, он лежит тихо. И еще… Хотя он постоянно голодный, не жалуется, ничего не просит. Что очень ласковый. Он умолк — больше нечего сказать… А эта женщина сейчас вздохнет, скажет, что на днях немцы опять кого-то повесили. И что некуда ей спрятать Яника…
Но она молчала.
Может быть, и лучше, что молчит. По крайней мере, нет неловкости, что человек перед тобою оправдывается. Помогает переворачивать доски, и на том спасибо…
Только, видно, эта тишина и хлопанье досок ей были в тягость. Она заговорила. Но совсем о другом… Стала рассказывать, как в самые первые дни, немцы еще и флагов по поводу своего прихода снимать не разрешили, кто-то пустил слух, что подвал под соседним домом, в котором была бакалейная лавка, наверно, уцелел. Что потолок и стены у того подвала были такие толстые, что бомба их вряд ли пробила. А товара всякого там, похоже, было немало. Люди, прослышав об этом, конечно, бросились откапывать. Кто со стороны двери, которая была под лестницей черного хода, кто с другого конца, где окошко. Оно тоже выходило во двор. Сперва работали дружно, споро. Но когда откопали кусок лестницы — подумать только, — верхние этажи рухнули, а кусок стены с лестницей, которая как раз над дверью подвала, целехонькие остались — будто нарочно, чтобы эту дверь уберечь. Так вот, как только люди сообразили, что скоро уже доберутся до этой самой двери в подвал, началось! Каждый норовил быть поближе, чтобы первым пробраться туда, внутрь. Но вход-то расчистили узенький. Даже не вход, а лаз. В три погибели надо согнуться, чтобы под эту лестницу подползти. Из-за нее и лаза не видно. Ну и намяли ей там бока! А уж в самом подвале! Господи Иисусе и Юзеф святой! Каждый хватал, что мог, чуть не из рук друг у друга вырывали. Кому один сахар достался, кому только крахмал. Молодуха из дома напротив орет: «Дайте к крупе подойти, у меня малые дети!» Ее свекровь мыло по карманам и за пазуху запихивает. А уж теснота такая, что некоторые аж на полки полезли. Все равно в дверь все новые норовят втиснуться. Кричат: «Выходите, кто уже взял, всем есть надо!» А как выйти, если сами в дверях и ни на шаг назад. Но на них тоже напирают… О, господи! Оказывается, уже и с других улиц бегут — с корзинами, мешками, наволочками, чтобы как можно больше набрать. Те, кто за окошком — откопать-то они его откопали, а решетку не выломать, — воют: «Передавайте все сюда, делить будем, чтобы по справедливости». Какая там справедливость, кто отдаст то, что уже взял? Словом, грех такое говорить, но хорошо, что какой-то немец увидел, ведь уже и на улице народ толпился. Сразу в крик — почему так много «швайнов» набралось. Это они людей, которые не ихние, свиньями называют. И как больше трех вместе увидят, так беспорядком, большевистским митингом считают. Разогнал этот немец всех. А те, кто в подвале, еще немного подождали, потом уже тихо, осторожно и, главное, по одному разошлись… Она на мгновенье умолкла, перевела дух и продолжила. Что под вечер еще раз сходила, лучше сказать — слазила. Только зря, — за день народ все подчистую подобрал. Одни стены да полки остались. Всего-то и увидела, что когда пустой, то не такой он уж тесный, этот подвал. И свет через окошко вполне проникает. И полки — только одна с краю обломана, а остальные все целые. Видно, крепкие, раз мешки на них стояли, да еще люди в давке туда забрались. А теперь уже, наверное, все давно забыли и про эти лавки, и про сам подвал. На что он им теперь?
Только когда она сказала: «На что он теперь?» — Зив начал… кажется, начал понимать. Будто сразу сбежались вместе все главные ее слова. Что есть пустой подвал. Кусок уцелевшей лестницы скрывает лаз. Полки выдержали людей. В окошко проникает свет…
Хотел переспросить. Но не успел, — она вдруг заторопилась:
— Побегу, пан доктор. Меня ждут.
Он смотрел, как она закрывает дверь, и повторял ее слова: «Побегу, пан доктор». «Побегу, пан доктор». «Побегу».
Но ведь она не только это сказала… Главное, что есть пустой подвал, о котором все забыли… Уцелевшие над лазом ступеньки скрывают вход в него… А окошко можно замаскировать. Например, куском рваной жести. На развалинах такой жести, наверное, полно. Надо только, чтобы эта жесть как бы валялась около окошка, тогда и заслонит его. Но пусть лежит не очень близко: немножко света все-таки нужно… «Не такой уж он тесный, этот подвал». А если бы и тесный…
И так весь день — никак не унять было волнения. Уж он и напоминал себе немецкую поговорку: это слишком хорошо, чтобы быть правдой, и уговаривал себя не строить воздушные замки. Но что поделаешь — строил. Мысли не так-то легко прогнать. Особенно, если еще и не слишком стараешься…
Вечером, когда их колонну вели обратно в гетто, он смотрел на каждый разрушенный дом, на каждую груду развалин, — может быть, именно под ними тот подвал? Но лучше, чтобы он был где-нибудь подальше, на окраине… А когда у ворот полицейский усердно его обыскивал, про себя улыбался: ищи, ищи, то, что сегодня при мне, — все равно не найдешь.
Съев свою похлебку из ржаной муки, он почти до самого комендантского часа протоптался в соседней подворотне, — когда в одной комнате живут двадцать шесть человек, наедине не поговорить. А не наедине говорить о таком и вовсе нельзя. Потому и приходили к нему в эту подворотню по одному — сперва Аннушка, потом Виктор с Алиной. Младшим — Нойме и Борису — Аннушка пересказала. Зятя, чтобы не обиделся, сам посвятил.
Весь следующий день он нетерпеливо ждал Монику. Поглядывал на дверь. То и дело приоткрывал ее. Смотрел в окно, — не идет ли. Но она не шла. Он думал о подвале. О том, как будет всех своих — теперь уже всех — переправлять туда.
Яника Виктор вынесет в рюкзаке. Будто инструменты. Конечно, придется малыша усыпить. Хоть и все понимает, а лежать скрючившись в такой тесноте… Да в мало ли что может по дороге напугать его, и ребенок не выдержит. Только чем усыпить? То есть не чем, а где достать? Может, у Зелинскиса? Их колонна на работу и обратно в гетто как раз проходит мимо его аптеки. Хорошо, что на углу, — не так заметно будет, если на самом повороте сорвать желтые звезды и шагнуть на тротуар. В аптеку надо войти спокойно, будто ничего особенного в этом нет. Как входил когда-то. (А ведь это было совсем еще недавно!..) Может быть, повезет, и никого из посторонних, кто мог бы его узнать, не будет. Только сам «музейный Зелинскис». В самом деле «музейный», — человеку за восемьдесят, а работает. Зря молодые врачи на него обижаются, ничего нет плохого в том, что он проверяет рецепты. Особенно дозировку. Да, Зелинскис, наверно, не откажет в снотворном для Яника, — старые мозги не так легко забить бредовыми расовыми теориями… Усыпить Яника надо часа на полтора. И уже спящего уложить в рюкзак. А Виктору лучше всего выйти с теми, кто идет в ночную смену, — в темноте не так будет бросаться в глаза рюкзак. Да и выходящих не особенно проверяют, — вынести из гетто, кроме своих бед, нечего…
После Виктора с Яником, на следующий день, туда проберется Нойма или Алина. Нойма, конечно, будет настаивать, чтобы сперва вышла Алина. Хорошо, пусть Алина. В темноте, как поведут с работы, она улучит момент, когда конвоир отвлечется или будет где-то впереди, сорвет звезды и… Надо ее предупредить, чтобы заранее высмотрела подходящее место. Хорошо бы проходной двор. Правда, для этого она должна знать, куда идти. Хотя бы в какую сторону…
Как только Виктор вынесет Яника, Аннушке сразу надо записаться в арбайтсамте, чтобы послали на работу. Говорят, теперь каждый день набирают бригады — временные, для уборки снега. Это неплохо, что временные, — люди меняются, не заметят ее исчезновения. Да… Не думал он, что придет такое время, когда для своей хрупкой жены он сочтет за благо убирать снег. Не думал… Целый день Аннушка должна будет работать на морозе. Она, конечно, скажет, что ей это вовсе не трудно и что не так уж холодно. Но он знает, что и трудно, и холодно… А еще она будет объяснять, что работа на улице к лучшему: никому не покажется подозрительным, что так много всего на себя надела. Да, не только ей, всем надо будет в день ухода надеть на себя как можно больше, — и в подвале будет совсем не тепло, и надо же что-то выменивать на еду. Только тут уж без помощи этой доброй женщины никак не обойтись…
И опять, в который раз подумал, что она не идет…
Вечером он объяснил Аннушке, до мельчайших подробностей объяснил, как каждый должен выйти из гетто, как пробраться в подвал. А там они опять будут все вместе. Далеко от этих оград, в укрытии, где никому и в голову не придет их искать… И вдруг он даже в здешнем полумраке увидел — света вечером не давали, и каждая семья жгла в своем углу маленький фитилек, а ради экономии чередовались, жгли один или два на всю комнату, — он увидел, как в глазах Аннушки мелькнуло что-то прежнее. Ее знакомое, похожее на детское, удивление. Ему очень хотелось поцеловать эти родные глаза и удержать в них, хотя бы еще немножко удержать так внезапно вернувшуюся радость. Но не решился. И радость погасла… — Даня, а это — не воздушный замок? Он пытался отшутиться:
— Какой замок? Подвал под развалинами.
Но потом, когда все уже спали, и он — в который раз — перебирал в уме свои сегодняшние мысли, пришлось самому себе признаться, что слишком увлекся, уже и окошко маскировал рваной жестью. А если это на самом деле воздушный замок?
Моника и на второй день не пришла. Весь третий он тоже прождал напрасно… Теперь уже и сам почти не сомневался, что воздушным был его замок… Зря только всех обнадежил. Ведь ничего особенного она не рассказала, лишь о том, как разграбили какой-то подвал. Впрочем, это раньше считалось грабежом, теперь подобное называется «организовать». Люди «организовывали» себе какие-то дополнительные продукты. Только и всего…
И все-таки… Все-таки не мог он теперь, когда в воображении уже почти вывел всех своих из гетто, пусть в темный, промерзший подвал, но по ту сторону оград, не мог по-прежнему оставаться здесь и снова понимать, что их ждет только одно — лес и огромные, на всю поляну, ямы…
Но ведь есть же этот подвал! Есть! И лаз в него скрывают обломки ступенек. И никому, наверно, в голову не придет, что там, глубоко под развалинами, прячутся люди. А в еде они будут довольствоваться совсем-совсем малым. Этой женщине только изредка надо будет выменивать что-нибудь из их одежды на хлеб или кормовую брюкву. На то, что будет легче достать и что можно есть сырым. Ей, боже упаси, не придется заходить в подвал. Спасибо, если оставит то, что выменяла, в безопасном для себя тайнике. А уж ночью он выйдет и заберет. Чтобы она как можно меньше рисковала. Но если их, не дай бог, обнаружат, он, и в этом она может не сомневаться, не скажет, от кого узнал о подвале. Сам знал. Давно. До войны был постоянным покупателем в этой бакалейной лавке.
Он обязательно должен все это объяснить. Спросить, где этот подвал. Заверить, что они ее не выдадут. Он даже своим не скажет, как ее зовут.
Но как ее найти, если он не имеет права самовольно выходить из своей сушилки. Всем им, геттовским, запрещено покидать свои рабочие места. Только грузчики, у которых «ввиду специфики работы» постоянного места нет, бывают и в цехах, и на складах, и даже на заднем дворе, где тоже есть какие-то помещения.
Значит, надо стать грузчиком… Еще вчера надо было самому найти ее.
Когда Обезьяна утром пришел его «инспектировать», он и попросил, пока в сушилку не завезли новой партии досок и работы меньше обычного, разрешить ему помогать грузчикам. Обезьяна, конечно, разрешил. Даже хмыкнул от удовольствия, — вот как вымуштровал своих «юден», сами просят работу.
Пусть думает, что вымуштровал…
Грузчики (хотя какие они грузчики — Михлис до войны был учителем математики, Капит — часовщиком, да и остальные…) даже не удивились, что его привели к ним на подмогу. Подумали, что это очередная выходка Обезьяны. А скорей всего, ничего не подумали, не до того было, — их сразу послали переносить из цеха на склад готовые шкафы.
Шкафы оказались большие, трехстворчатые. И очень тяжелые. А склад — в другом конце двора. «Лучше бы гробы для немцев делали», — заворчал под тяжестью его напарник. А он и согласиться не успел, — в дверях склада увидел эту женщину! Так вот где она работает! Принимает шкафы. На каждый, который проносят мимо нее, мелом ставит крестик и считает.
Она увидела его, только когда он был уже совсем близко. От неожиданности, кажется, забыла поставить на их шкаф крестик. Хотя он на нее не смотрел. Нарочно. И поздороваться при всех нельзя. Потом… Главное, что он ее нашел. Как повезло, — почти сразу. Аннушка сказала бы — хорошее предзнаменование.
Может быть, на самом деле хорошее? И что шкафов еще много — хорошо. Она за это время успокоится, привыкнет к тому, что он ее разыскал. По тому, как растерялась, видно, поняла, почему он стал грузчиком. Значит, не случайно сказала о подвале. А почему больше не пришла, тоже можно понять, — страшно решиться. Ведь когда они там будут прятаться… Сколько бы ни уверял, что если их, не дай бог, обнаружат, он ее не назовет, все равно она будет себя чувствовать связанной с ними. Хотя бы тем, что знает — там, под развалинами, прячутся евреи.
Их могут поймать по дороге. И потом, когда они уже будут в подвале, могут обнаружить. Но у них другого выхода нет. А она, соглашаясь им помочь, подвергает свою семью опасности разделить их участь…
Пока ей ничто не грозит. Вряд ли она при советской власти была, как немцы это называют, «коммунистической активисткой». А вот за укрывательство сбежавших из гетто ей грозит смерть.
И все же он должен, обязательно должен с нею поговорить…
Вечером, когда он плелся в колонне с работы — такой усталый, что и скрыть это, наверно, не хватит сил, — он решил ни Аннушке, ни сыновьям их разговора не пересказывать. Только обнадежить, что она обещала подумать, посоветоваться с мужем. А сам разговор… Не такой уж он был простой, чтобы его повторить. Потому что совсем нелегко это — свою беду взвалить на другого человека. Как ни оправдывайся перед самим собой, что не ты повинен в этой беде… Хорошо хоть, что она сразу не отказалась. Что обещала подумать.
II
А что ей было делать?
Болесловас только и знает, что ворчать. Буркнул: «Кто дергал за язык?» — и храпит себе спокойно. А она уже полночи без сна.
Никто не дергал. Но не камень же у нее вместо сердца, чтобы слушать, как такой человек — сколько детей он за свою жизнь вылечил — убивается, что эти изверги расстреляют его маленького внука, и не сказать, что есть заброшенный подвал. Больше ничего она не говорила. И в сушилку больше не пошла. Доктор сам ее разыскал. Даже в грузчики, в его-то годы, напросился, чтобы найти ее. Потому что в этом подвале единственная его надежда на спасение. А как говорил… «Понимаю, пани Моника, что подвергаю вас опасности. И если бы речь шла только о моей жизни…»
Не могла она, когда у человека такое положение… И ведь ничего еще не обещала. Только подумать.
Но думай — не думай… Тут как на весах — на какую сторону положишь, та и перетянет. А она уже который раз перекладывает.
…Если эти люди будут тут рядом, в подвале, она изведется от страха, что немцы их найдут. А когда найдут, то не поверят доктору, будто он сам догадался, что подвал уцелел. Тем более не мог он узнать, что вход туда откопали. Значит, кто-то ему рассказал. А кто? Сразу заподозрят ее: живет в соседнем доме, из окна кухни даже виден кусок той лестницы, под которым вход; работают они теперь с доктором на одной фабрике. А если еще кто-нибудь видел, как они разговаривали? Немцы не посмотрят на то, что она католичка. Раз помогала евреям — погонят в лес вместе с ними.
Спаси меня, Господи! Спаси, Господи! Она быстро перекрестилась. И дверь перекрестила. И окно. И печь. Как покойница мать, — чтобы нечистая сила через порог не вошла, в трубу не влетела, в окно не заглянула. Отец, бывало, смеется над ней: «Ты столько молишься, что черти тебя давно боятся, сами не заглянут». А мать серьезно так объясняла: «В лунную ночь, может, и не заглянут, а в темную могут перепутать окно».
Наверно, поэтому Моника еще с детства не любит темноты. Хорошо, что Болесловас перед сном раздвигает эти черные шторы затемнения. Правда, одно название, что шторы, — старое крашеное покрывало. Но когда они закрывают все окно, кажется, что и от света Божьего, и от всего живого отгородились. А видеть, хоть и ночью, надо. И свои стены, и небо за окном. И луну. При ней на самом деле не так страшно.
Так все-таки сказать доктору, чтобы привел своих, или нет?.. Почему это немцам должно прийти в голову, что под развалинами, тем более, их уже и снегом занесло, прячутся люди?.. В голову, может, и не придет, но вдруг кто-нибудь из соседей увидит, что она туда ходит, да еще что-то носит. Особенно эта новая жиличка сверху. От такой только и жди беды. Муж служит у немцев, он у них даже почти начальник. За это ему и отдали квартиру Марковичей. Самих загнали в гетто, а их убийцам — и квартира, и все добро. Щеголяет теперь эта рыжая стерва, бесстыдница, в платьях молодой Марковичовой. Даже шляпу ее напялила. Все равно видно, что морда как сковорода. И чего, паскуда, целыми днями торчит в окне? Что высматривает? Делом бы каким-нибудь занялась! А то и не работает, и прислугу держит. Как же, важная пани.
Разве что ночью носить им еду? Все равно могут увидеть. Встал человек, случайно посмотрел в окно, а ночь такая вот лунная. Или с вечера выпал снег, и остались свежие следы. Теперь люди все примечают. Наверно, оттого, что ничего нельзя. А уж если эта стерва или ее муженек увидят, сразу начнут допытываться — зачем к развалинам ходила, что там есть такого? Ничего, скажет она, там нет, по нужде ходила, уборная в квартире испортилась.
Но так соврать можно только раз. И то дай Бог, чтобы поверили. А если опять увидят? Не заколотить же на самом деле уборную. Правда, можно для вида заколотить, а самим, когда нужно, отгибать гвоздь. В молодости, когда еще с родителями в бабкиной хибаре жила, бегала же во двор. И теперь не барыня! Иначе как же людям какой-нибудь еды принести? Не в самый подвал, конечно, но хоть рядом оставить. Есть-то им надо! Как доктор сказал: «Хотя бы изредка…»
О Господи, ну что это теперь за власть? Одних людей мучают, других убивают. А посмеешь им чем-нибудь помочь… На прошлой неделе опять двоих повесили. За то, что русских пленных прятали.
Правильно Болесловас сказал: «У тебя что, две головы? Думаешь, одну сунешь в петлю, вторая останется?»
Нет, не думает… И не хочет в петлю… Моника опять вспомнила тех двух на виселице. Царствие небесное даруй им, Господи! Она быстро перекрестилась. Целый день бедняги висели. Немцы не давали их снять. Уж как и жены и матери плакали, как просили. Но разве их слезами прошибешь?.. А Болесловас, наверно, и плакать не будет, — мужики стесняются. Только дочь, Тересе. И маленькая Агнуте… Нет, не хочет она, чтобы они плакали. Да и самой зачем помирать? Не старая еще. А что базедова привязалась, так ведь у каждого человека какая-нибудь хворь да есть. Еще живот иногда болит, так это от теперешней еды. Говорят, и маргарин, который по карточкам дают, и мармелад, что вместо сахара отоваривают, не настоящие, а какой-то эрзац. Век бы его не знать. И самих немцев бы не знать… На фабрике рассказывали, что в Германии из крапивы борщ варят. Как бы и самой летом не пришлось крапиву собирать. Только не будет Болесловас ее есть!
Монике стало совестно. Сама вот уже о лете загадывает, а доктор, когда она сказала, что должна подумать до завтра, вздохнул: «Надеюсь, что это „завтра“ у нас еще будет». Значит, все время человек думает о смерти. Ложится спать и понимает, что эта ночь, может быть, последняя…
Вдруг ее словно по сердцу стукнуло: а что, если… если как раз сейчас конвоиры там, в гетто, выгоняют людей из домов. Доктора тоже. С внучонком. И она увидит, как они проходят мимо ее окон, ведь как раз по их улице поведут. Сколько раз ночью просыпалась, заслышав, что опять ведут. Сколько простаивала у окна и плакала. Болесловас сердится: «Чего смотреть? Легче им, что ли, от твоих слез? Они даже не знают, что ты торчишь здесь». Знают, не знают, только не может она лежать, когда людей на смерть гонят.
Идут и старые, и малые. Еще пожитки на себе тащат. Понимают ведь, что зря, а тащат. Трудно свое бросать… Неужели все-таки надеются, что не расстреливать ведут, а вправду в какой-то лагерь, на работу.
Зря надеются. И вещи тащат зря. Забирают у них все. Догола раздеться велят. Вокруг ямы целые горы всякой одежды… А те, кто расстреливают, даже землей бедняг как следует не засыпав, бросаются к этой горе. Ищут в карманах, нет ли денег, часов. И одежду — за то, что расстреливают, — им брать дозволено. Вот и выискивают, бандюги, что получше. Кралям в подарок тащат, сами пропивают.
Господи, что это делается? Была же раньше у них другая работа, пусть бы и делали ее. И вообще, пусть бы люди жили каждый со своим Богом, и все.
А может, больше не будут расстреливать? Говорят, в гетто уже остались только те, кто может работать. Нужно же немцам, чтобы кто-то гнул на них спину. Да еще почти задаром…
Тихо. Она даже голову приподняла, чтобы услышать. Очень тихо. Значит, спят они там, в гетто. И завтра утром их — доктора, и тех, что работают в цеху, и грузчиков — опять приведут на фабрику.
Слава Богу, что приведут. Хоть такая, а все же жизнь…
Но что она доктору скажет? Он ведь ждет ответа.
Надо разбудить Болесловаса. Пусть раз в жизни по-людски поговорит.
Дождешься. Буркнет, как за ужином, что не две у нее головы, чтобы одну сунуть в петлю, и все.
Ох, уж это вечное его молчание. Сколько в молодости из-за него слез пролила. И никто, даже покойница мать, не понимала — чего плакать? Мужик — не баба, чтобы языком молоть. А так — и собой видный, и ремесло в руках хорошее. Работяга.
Это правда. И что видный был, статный — тоже правда. Бывало, в костеле еще издали заметен. До чего она, тогда еще совсем девчонка, хотела, чтобы он обратил на нее внимание! И встать недалеко от него норовила. И в костельном хоре петь стала. И при выходе нарочно на паперти задерживалась, чтобы прошел мимо. И в затылок ему смотрела, — подружка объяснила: если человеку смотреть в затылок, он обязательно обернется. А когда крестная их познакомила — Болесловас с ее Игнасом дружил, — свечку святой Марии поставила. Если выходили от крестной вместе, до самого своего дома она шла рядом с ним. Тогда он не казался молчуном. Наоборот, ей даже нравилось, что слушает, а она ему и про себя, и про своих подруг рассказывает. Это уж потом, когда обвенчались… И то не сразу — только когда перестала удивляться, что он на самом деле ее муж, и к статности его привыкла, и не выходили они больше от крестной, а сидели вдвоем дома, да и все она ему уже рассказала, — тогда только заметила, что молчун. За целый вечер может ни одного слова не сказать. Иногда не выдерживала, даже просила: «Балис, поговорил бы ты со мной». А он удивлялся: «Давно не виделись, что ли?» — «Разве люди только если редко видятся разговаривают?» Не понимал. «Делать нечего, вот и болтают».
Правда, с годами она к его молчаливости привыкла. Что делать — пришлось.
Вдруг она вздрогнула: стреляют!
Опять выстрелили! Кажется, где-то близко…
— Отец, слышишь? — Она толкнула его в бок. — Стреляют. Не на нашей улице?
Недоволен, конечно, что разбудила.
— Оттого, что на соседней, тебе легче?
— Может, в воздух? Показалось патрулю, что кто-то идет, и пугают.
— Пугают ворон. А они ночью спят.
— Слышишь, это оттуда, где гетто. Неужели опять ведут? А я обещала доктору завтра дать ответ. Вот уже полночи лежу без сна.
— Думаешь, когда их пустишь в подвал, спокойней спать будешь?
— Но хоть мучиться не буду, что доктора и его внучонка расстреляли оттого, что я их не пустила… — Она опять толкнула его: — Отец, не спи. Что завтра ответить?
Вздохнул. Тоже, конечно, их жалеет.
— Все равно не выдержат они там. Холодно.
— Говорила я доктору. А он, не поверишь: «Пока человек чувствует холод, еще ничего. Значит, живой…»
И все-таки Болесловас уснул.
— Что делать?
Господи, не дай душе очерстветь. И жизнь убереги. Нашу, детей наших. И всех несчастных в гетто. Научи, что делать!
Пока человек чувствует…
Ничего…
III
Вход, вернее, то, что Моника назвала входом, к счастью, не был завален. И дверь, наверно, оттого, что неплотно закрытая, не примерзла, подалась довольно легко. Зив так и оставил ее неприкрытой, — скоро Виктор должен принести Яника, пусть сразу увидит щель.
Он оглянулся. Подвал как подвал. И окошко, как Моника говорила, есть. Тогда его, очевидно, не до конца откопали, снаружи за ним что-то торчит. Но это как раз к лучшему, по крайней мере, нельзя к нему подойти. Правда, света маловато. Только и хватает, чтобы разглядеть иней на стенах. А насчет полок Моника была права, они на самом деле широкие. И много их, хватит на всех. Выходит, еще одно преимущество перед гетто, — не надо будет лежать на полу. Зачем искать еще одно, когда есть главное — они вышли из гетто. Вернее, когда все благополучно доберутся сюда, можно будет сказать, что появилась надежда выжить. К сожалению, очень хрупкая: еще надо, чтобы их тут не нашли… И чтобы у Моники хватило не только жалости к ним, желания помочь, но… Даже неизвестно, какими словами это назвать, то, что нужно человеку, который прячет евреев.
Вдруг он спохватился, что все еще стоит у двери. А Виктор уже, наверно, скоро принесет Яника. И надо будет его сразу положить на полку, распрямить ножки. Помассировать. Они, наверно, онемели. Все-таки долго ребенку пришлось лежать скрючившись. Тесно ему в рюкзаке.
Он стал расстегивать пальто. Хорошо, что он похудел. Столько на себя надел, а оно все-таки сошлось. Правда, пиджак сразу оставил на фабрике, чтобы Моника выменяла на хлеб. Хорошо, что под свитером замотался байковым одеяльцем Яника. Будет чем накрывать. А взрослым придется довольствоваться своими пальто. Но это ничего. Ничего…
Он положил одеяльце на полку. Яник здесь будет спать. Тут светлее, а он боится темноты. Когда был меньше, не боялся, а с тех пор как ввели затемнение, стал бояться. Честно говоря, и ему самому, пока не привык, было не по себе от сплошной черноты на окнах. Зато это окошко они занавешивать не будут — и нечем, и ни к чему. Коптилка остается в гетто. Но если бы даже могли взять ее с собой, все равно не стали бы зажигать, нельзя, чтобы под развалинами был заметен даже признак жизни.
А что Янику подложить под голову? Он оглянулся, словно ища что-нибудь подходящее. Ничего, кроме темной пустоты, не было. Придется рюкзак. Тот самый рюкзак, в котором Виктор его принесет.
Вдруг стало неспокойно. Почему их так долго нет?
Виктор, наверно, еще не вышел из гетто. В ночную смену бригады выходят поздно, только чтобы успеть до комендантского часа. А усыпят они Яника перед самым выходом.
Зив разглаживал закоченевшими руками одеяльце. Скорее бы малыш уже был здесь. Спящий. Конечно, спящий. Этой дозы люминала должно хватить. Зелинскис даже переспросил, не ослышался ли он, на самом деле такая маленькая доза? А вообще старик — кремень. Даже виду не подал, что удивлен его появлением. Будто ничего особенного в этом нет. Правда, к счастью, в это время в аптеке никого не было. Только когда подал порошок и забормотал, что платить не надо, такой пустяк, — немного смущался. И то сразу перешел на деловой тон: не нужно ли еще чего-нибудь. От простуды, или, может, желудок беспокоит? Нет, спасибо. (От голодных спазмов, кажется, лекарств нет.) И не простужаются они теперь почему-то. Но здесь… Зив опять посмотрел на заиндевевшую стену. Надо надеяться, что когда они тут будут все, от их дыхания иней оттает… Если они сами не заиндевеют…
Скорее бы все были тут… Сколько еще вечеров придется так ждать. Сегодня — Виктора с Яником. Завтра — Алину. Именно Алину. Так решила Аннушка. «У Яника должна быть мама». Конечно, должна, кто спорит. После Алины из гетто выйдет Нойма. Марк, конечно, ждал, что она предложит сначала выйти ему. Но сам попросить все-таки постеснялся.
Да, виноваты они с Аннушкой, очень виноваты перед дочерью, что не отговорили ее выходить за него. Видели же, что за человек, а не решились. Извечный родительский страх, чтобы дочь «не засиделась». Тем более что Нойме на самом деле уже было пора замуж. Потому и сама так потянулась к Марку: когда сердце готово полюбить, глаза не все видят… И при ее умении сочувствовать, понимать, оправдывать любого, а тут человек столько пережил. Бежал из захваченной Гитлером Польши, скитался. Да еще один, — родители не смогли уйти вместе с ним.
Многие в ту осень приютили у себя беженцев из Польши. Аннушка с Ноймой очень старались, чтобы Марк не чувствовал себя ни одиноким, ни чужим, ни, тем более, в тягость. Видно, перестарались… Что уж теперь думать об этом. Нойма его любит. Именно поэтому может предложить ему выйти из гетто до нее. Ей и в большом и в малом — только бы другому было хорошо. В маму пошла. Сколько он Аннушку ни умолял прийти сюда вслед за Ноймой, а мужчины — Марк и Борис — пусть после нее, заупрямилась. Он даже пробовал шутить: «Не знал я, что ты у нас капитан. Он тоже покидает тонущий корабль последним». Правда, если бы Моника не поставила условие, чтобы первым пришел он, то сам был бы этим капитаном. Но он — другое дело…
А все-таки Виктору уже пора быть здесь. Ведь договорились, что не с самой последней бригадой выйдет.
Он опять стал разглаживать одеяльце. Виктор принесет Яника. Принесет. Они его сюда положат, накроют этим одеяльцем… А страшные мысли лезут в голову оттого, что он один. Без Аннушки и детей ему всегда не по себе. Даже когда был молодым, когда то, что творится сейчас, и присниться не могло бы, он все равно без Аннушки и детей «тускнел».
За всю их жизнь только однажды разлучились надолго. Когда он во второй раз ездил в Германию. Профессор Фанзен пригласил временно поработать в его клинике. А это значило, что, несмотря на собственный опыт, он сможет поработать в одной из лучших в Европе клиник. Аннушка ехать не соглашалась. Понимала, что одному ему там будет пусто, но не с кем оставить детей. Не доверяла их, уже почти взрослых, даже собственной матери. Правда, была еще одна причина, из-за которой он особенно и уговаривать не мог, — жизнь там вдвоем была бы не по карману…
Очень он тогда тосковал по ним — по Аннушке, детям. Казалось, то, что тогда творилось, вернее, начинало в Германии твориться, должно было вытеснить все остальное. А получилось наоборот — беспокойство только усиливало тоску по дому.
Да, тревожно тогда было на душе. Хотя в те первые дни он еще не представлял себе, к чему приведет вакханалия штурмовиков, что Гитлер настолько окрепнет, захватит пол-Европы и придет сюда. Волновала только судьба Германии. И казалось странным, что ни коллеги в клинике, ни прежние знакомые по университету словно не придают значения тому, что происходит. Губерт, с которым он поделился своим беспокойством, махнул рукой: «Кватш!» — ерунда. Просто кучка излишне энергичных индивидуумов дает выход избытку своей активности. Микаэль пожал плечами — не до государственных проблем: четверо детей, безработный тесть, и сам каждый день может остаться без работы… Да, слишком многим тогда было не до «государственных проблем»… Зато Иоахим, этот когда-то корректный и, казалось, дружелюбный Иоахим, довольно резко спросил, отчего это он, иностранец, так печется о судьбе чужой ему Германии? И с того дня перестал здороваться. Единственный, кто искренне переживал и даже вызвался «побыть гидом в лабиринте нынешней ситуации», был Руди. Но однажды утром он в клинику не пришел. И странно, никто, по крайней мере, вслух, не удивился. «Тактично» не заметили и говорили друг с другом только по делу.
С того дня он тоже перестал делиться своей тревогой. Вне клиники вообще ни с кем не общался. Вечерами бродил по улицам. Не по респектабельной Унтер ден Линден, а по обычным, даже по окраинам. Заходил в кафе, в пивные, чтобы услышать разговоры, понять настроения. Но оттого, что слышал, становилось еще беспокойнее. Он уходил и снова бродил по улицам. Очень хотелось вернуть себе прежний город, Берлин студенческих лет, нелегких, полуголодных, зато во всем остальном безмятежных…
Но город он себе не вернул. Наоборот. За одну страшную ночь окончательно потерял его. А ведь по сравнению с тем, что творится теперь, в ту ночь ничего особенно страшного не происходило. Просто на улицах было очень многолюдно, словно никто в городе не спал. Куда-то спешили возбужденные юнцы с факелами, и строем, и небольшими группками. Что-то выкрикивали. Где-то звонили в колокола. Но самое удивительное, что бурную радость проявляли и степенные немолодые бюргеры в котелках и с тросточками. Забыв свою обычную чопорность, они поздравляли друг друга, даже обнимались. Наконец в Германии будет настоящий канцлер! Теперь их дела пойдут отлично! Превосходно!
Правда, какой-то стоявший рядом человек в пенсне, из тех, кто, как и он, молча наблюдал этот необычный взрыв ликования, сердито бросил: «Маскарад! Хорошо организованный маскарад!» Сосед ему возразил: «К сожалению, ошибаетесь. Это результат нашей политической недальновидности и внутренних раздоров, начало трагедии». На него стали оглядываться, он умолк и почти сразу ретировался. Сам он, Зив, хотел его догнать, сказать: «Вы правы». Но остался. Что толку? Какая польза от правильного диагноза, поставленного слишком поздно…
А назавтра, да, сразу назавтра он сказал профессору Фанзену, что не сможет пользоваться его гостеприимством так долго, как предполагал. Что искренне об этом сожалеет, так как работал в его превосходной клинике с большим удовольствием и несомненной пользой. Однако некоторые обстоятельства…
Профессор явно поспешил избавить его от необходимости объяснять эти обстоятельства, стал уверять, что тоже об этом искренне сожалеет и ни в коем случае не осмеливается влиять на его решение. Но все же позволит себе спросить, не слишком ли оно импульсивно? Было бы благоразумнее подвергнуть его хотя бы краткой проверке временем.
Пришлось согласиться. Правда, только чтобы не обидеть искренне расположенного к нему профессора. И все же Аннушке написал, что, возможно, скоро вернется домой.
А после пожара рейхстага и потрясшей всех «недели пробудившегося народа», когда штурмовики убивали людей прямо на улицах, — тогда это еще казалось невероятным, — врывались в дома и безо всяких объяснений арестовывали, решение уехать больше не надо было проверять временем. Прощаясь, профессор Фанзен вздохнул:
— Возможно, и мне надо было бы последовать вашему примеру. Но покинуть родину труднее, чем временный причал. Да и, может быть, этот шторм ненадолго… (В молодости Фанзен, чтобы заработать денег на учебу, плавал матросом и любил употреблять слова или сравнения из морского обихода.)
Вернувшись домой, он только нескольким близким друзьям рассказал о том, что видел. Но они не то чтобы не поверили, а не разделили его опасений. Мало ли где что творится… Они, кажется, даже подозревали, что он немного преувеличивает, — у страха, как известно, глаза велики.
Его же самого зародившаяся там тревога не отпускала. Внешне он жил как прежде. Ходил в больницу, возвращался домой. Помогал Виктору, тогда еще студенту, разбираться в премудростях латыни. Подтрунивал над Аннушкой, что она слишком рано стала готовить приданое для Ноймы, может быть, будущему зятю такая вышивка на пододеяльнике не понравится. Гордился Бориной тягой к самостоятельности. Но втайне и сокрушался — самый младший, а наверно, первым покинет родительский дом.
Да, внешне жизнь еще шла своим чередом. Все же целыми вечерами просиживал он у радиоприемника. Слушал Берлин. Двигался по шкале от одной столицы мира к другой. Ловил каждое слово о Германии. Но то, что узнавал, только усиливало беспокойство. Гитлер за одну ночь расправился со своими недавними сообщниками. Это еще можно было объяснить примерами из истории. Но после «хрустальной ночи» — погромов одновременно по всей Германии — было уже не до аналогий… А когда этот крикливый ефрейтор захватил Австрию, потом Чехословакию, когда забрал у Литвы Клайпеду, не надо было быть пророком, чтобы понять — он пойдет дальше. Значит — война!
Вдруг Зив вздрогнул — идут! За ним! Но сразу опомнился, — наверно, Виктор. Быстро, без скрипа, открыл дверь. Слава богу, пришли. Он бросился снимать с сына рюкзак. Осторожно положил его на полку. Стал развязывать. Почему узел так туго затянут? Нет, узел ни при чем — руки дрожат…
Яник спит. Лежит скрючившись, как в утробе матери. Инстинкт… Они его осторожно вынули. Стали легонько массировать и расправлять ножки. Ничего, что еще не проснулся. Пусть поспит.
Зив шепнул Виктору, чтобы он тоже лег, на соседнюю полку. Сам он посидит возле Яника, пока ребенок не проснется. Чтобы не испугался. А еще лучше ляжет рядом, Янику будет теплее…
IV
Алина хотела дойти с Виктором до самого шлагбаума перед воротами. Но он показал, чтобы дальше не шла, — там уже строилась колонна, с которой он выйдет.
Она притаилась в тени дома. Аннушка с Ноймой стояли на той стороне улочки, — никто не должен догадаться, что Виктора провожают. Могут заподозрить, что он не на работу выходит.
Виктор встал в строй. Но Алина смотрела только на рюкзак… Вдруг ей показалось, что кто-то задел его. Нет. Это Виктор сам повернулся. Почему он встал не в середину ряда? Ведь договорились, что обязательно в середину. И немножко боком, чтобы рюкзак так не бросался в глаза. А еще эта палка. Сунул ее для маскировки — пусть думают, что в рюкзаке инструменты, но палка только привлекает внимание. О Господи, как не вовремя взошла луна!
Почему их не выпускают? Ведь колонна уже построилась. И полицейские о чем-то шепчутся. Один идет… к Виктору? Нет, прошел мимо… открывают ворота… Наконец!
Тронулись. Только бы полицейские, когда Виктор будет проходить мимо них… Вдруг она поняла, что рюкзак уже за воротами, даже не виден, его заслонили идущие сзади. Но Яник уже, слава Богу, т а м, за воротами! Он больше не в гетто!
Она смотрела, как полицейский снова закрывает ворота. Здесь пусто, никого нет.
Колонна, в которой Виктор, наверно, уже свернула направо. Идет по Гончарному переулку. Ее не задержат. Идущих на работу не проверяют. А Яник в рюкзаке спит. Скрючился, бедненький, и холодно. Но иначе нельзя было. Зато он больше не в гетто.
— Алина, нельзя тут больше стоять. — Она даже не заметила, когда Нойма с матерью подошли.
— Да, да, иду.
Она шла мимо тех же чернеющих слепыми окнами домов. И высокая каменная ограда там, в конце улочки, та же. Все гетто огорожено такими стенами. И если бы Яник остался здесь, его бы тоже… Вместе со взрослыми… в тот лес… Выстрелили бы в затылочек…
Ее трясло.
Мама с Ноймой вели ее под руки, она шла, дрожала и плакала. Виктор вынес Яника… в него не выстрелят… он будет жить. Яник будет жить…
— …Какие мы, женщины, странные… — Мама хочет ее успокоить, а у самой голос дрожит. — И плохо — плачем, и когда радоваться надо, тоже плачем.
Перед домом они остановились. Нойме мама велела подняться наверх.
— А мы еще немного постоим. Не надо, чтобы нас видели такими взволнованными.
Да, да, не надо! Она сейчас успокоится. Должна успокоиться. Они всем будут говорить, что Яник заболел. Дед подозревает корь, и, чтобы не заразить других детей, они перебрались с ним к друзьям. Те живут в другом конце гетто в крохотной мансарде, зато только своей семьей, и там нет маленьких детей.
Она опять чуть не расплакалась оттого, что у них такой золотой дед. Это он придумал про корь. И серьезно объяснил, почему соседям, по крайней мере пока, нельзя сказать правду. Во-первых, чтобы их не напугать, — ведь за любое бегство из гетто ответят те, кто знал об этом и не донес. Во-вторых, а может быть, даже во-первых, — чтобы не причинять людям лишней боли. Как бы человек ни желал другому добра, как бы ни радовался, что хоть кто-то спасется, а все же, когда речь заходит о жизни собственных детей…
Алине вдруг стало стыдно. За свои слезы, за эту дрожь. Она ведь тоже уйдет отсюда. Мама ее успокаивает, а сама каждый вечер будет так вот провожать…
— Мама, — голос все-таки дрогнул, и она повторила тверже: — Мама, завтра выйду не я, а вы.
— Ну, раз ты делаешь такие предложения, значит, пришла в себя.
Не пришла. Но понимает, как трудно будет маме провожать. Нойму, Борю, ее.
— Сейчас поднимемся, ляжем и подождем, пока все уснут. Тогда начнешь тихонько надевать на себя все, что завтра должна вынести. Хорошо, если бы налезли все три платья. И теплая кофта. Ты меня слушаешь?
— Слушаю. Но, пожалуйста, завтра выходите вы.
— Со свекровью не спорят. Под серое платье я тебе подшила свитерок Яника. Хорошо бы и вторые брючки ему, но некуда. Тебе ведь еще целый день во всем этом работать.
Алине казалось, что мама не о ней говорит. Не она должна будет, надев на себя все, что только влезет, завтра отсюда уйти насовсем. И целый день в мастерской ничем себя не выдать, казаться совершенно спокойной. А вечером, когда поведут с работы, встать с левого края. И спокойно идти вместе со всеми до поворота. Только когда колонна начнет сворачивать за угол, когда первые ряды уже свернут и конвоир будет справа — быстро сорвать желтые звезды, шагнуть на тротуар и сразу пойти в противоположную сторону. Дом, в подвале которого Яник с Виктором и дедом, она помнит. То есть помнит бывший дом. Теперь вместо него увидит развалины. Но соседние уцелели, надо ориентироваться по ним. Она должна войти во двор дома, который справа, и сразу по левую руку, под остатками лестницы…
Они поднялись наверх. Мама тихо приоткрыла дверь. В комнате было совсем темно, уже не горела ни одна коптилка. На цыпочках через чьи-то ноги перешагивали, чьи-то обходили. Пробрались в свой угол. Борис и Нойма с Марком уже спали.
Алина сняла боты, помогла снять маме, и они наконец опустились на подстилку. Теперь тут было просторно, — место Виктора и деда между ними пустовало. Обе смотрели на эту пустоту, и обе, конечно, думали об одном — как Виктор дошел? Там ли он уже? На сундук, куда она каждый вечер укладывала Яника, Алина старалась не смотреть…
Дед особенно напирал на то, что в подвале есть полки, и там не придется лежать на полу. Почему-то лежание на полу его особенно смущает. Каждый раз, укладываясь, он пытался скрыть неловкость за шутливой просьбой к Виктору и Аннушке даже во сне не посягать на его «территорию»; уверял, что ее границы и в темноте видны — справа проходит по голубой полоске, слева — по черной. А этих разноцветных полосок и лоскутков здесь столько… Когда Нойма стала приносить с работы по одной-две тряпочки — ветошь, которую им дают для вытирания машин, — мама Аннушка принялась их тщательно сшивать. Каждый день надставляла, и получилась большая, общесемейная подстилка. Жаль, что ее нельзя вынести с собой. Даже если снова распороть на лоскутки. Но ничего, останется другим.
Аннушка протянула ей «гардеробную» — наволочку с одеждой. Дед так назвал наволочки, потому что теперь в них не подушки, а одежда. Ночью каждый кладет свою «гардеробную» под голову. И мягко, и «все мое при мне». Чтобы, если немцы вдруг ворвутся и начнут выгонять, не хватать в панике что попало. Правда, об этом вслух не говорится. Просто больше негде держать… И на самом деле негде, — шкаф, который тут оставался от прежних хозяев, давно сожгли. Старались растянуть, жгли не больше одной дверцы или одного ящика в вечер, но его хватило ненадолго. Да и все равно комната не нагревалась. Только вода в общем чайнике закипала.
Наволочку придется оставить. Но хорошо бы пустую…
Алина прислушалась. Кажется, все спят. Она осторожно вытащила платье. На ощупь проверила — серое, под которое подшит свитерок Яника. Надела и сразу легла. Надо переждать — если кто-нибудь заметил, пусть подумает, что надела, потому что холодно. И верно, стало теплей. Она даже чуть не уснула, но мама тихонько растормошила. Показала, чтобы надела второе платье. И кофту. Да, да, кофту обязательно надо вынести. Она еще почти новая, и той доброй женщине легче будет выменять ее на еду.
Вдруг они застыли, — в том углу, у Шрайберов, кто-то зашевелился. Выждали, пока снова станет тихо. Мама развязала на шее платок. Тот самый платок, в угол которого зашит маленький медальон с первыми волосиками Яника. Подарок Виктора. Когда немцы, как только пришли, приказали сдать все изделия из золота и серебра и пригрозили, что за невыполнение — смертная казнь, дед отнес все, до последней серебряной ложечки. Даже обручальные кольца отнес. А этот медальон мама не отдала. Запекла его тогда в кусок теста. Так и сюда, в гетто, его принесла. Но здесь зачерствевший рогалик, который никто почему-то не съедает, вызвал бы подозрение. И мама зашила медальон в платок. Днем сама его носила на шее — все-таки ей не проходить через ворота, ее не обыскивают, а на ночь отдавала Алине. «Тебе с ним нельзя расставаться». Теперь, наверно, в знак того, что возвращает насовсем, его сама ей повязала. И Алине вдруг захотелось поцеловать эти руки, сказать маме какие-то особенные слова. Но удержалась, — ведь раньше никогда этого не делала. Получится, что она не верит в их встречу и прощается…
V
Как только Марк вошел в комнату, он сразу понял, что Алины нет: ее наволочка лежала сплюснутая. Правда, для вида под нее было что-то положено, но все равно заметно, что плоская. И тещи нет. Значит, устроилась на работу. Это хорошо. Пока все идет хорошо.
Он прошел в их угол, сел на подстилку и стал раздеваться.
— Добрый вечер, сосед, — притворно любезно поздоровалась мадам Ревекка.
— Здравствуйте.
Больше всего его тут раздражало то, что он постоянно у всех на виду, что нечем отгородиться. Сколько раз говорил Нойме, чтобы принесла с работы побольше этих тряпок и сшила занавеску. Так нет. Вместо того чтобы принести, объясняет, что давно им ветоши не давали, даже машины нечем вытирать. А если и приносит, теща забирает. «Сошью Янику полотенчико», «Поставлю Янику заплаточку». Когда живешь вот так, не отделившись, всякий и заговорит и подойдет. Ну что этой мадам Ревекке от него нужно? Подошла, уселась.
— Как здоровье вашего племянника?
— Спасибо, лучше.
— Слава богу. Хороший он у вас мальчик, очень хороший. И воспитанный.
Марк нетерпеливо кивнул и стал расшнуровывать ботинки. Пусть видит, что он не собирается пускаться в разговоры. Он устал и хочет спать.
Но мадам Ревекка, кажется, не замечала этого.
— Слава богу, что лучше. Правда, нечему удивляться, если в семье два доктора. — И добавила совсем тихо: — Да еще оба при больном.
Что она имеет в виду? Впрочем, ему все равно. Придет Нойма, пусть с нею и объясняется.
— А сами вы его навестили?
— Нет. — Он уже не скрывал своего раздражения и желания прекратить разговор. — Спокойной ночи.
— Что вы так торопитесь спать? Еще не все пришли с работы. Даже жены вашей нет, и тещи. Они что, тоже с Яником?
Вынюхивает, ведьма. Явно вынюхивает.
— Нет. Они сейчас придут. — Но вдруг подумал, что лучше ее не злить, и объяснил почти дружелюбно: — Они сейчас должны прийти. С минуты на минуту.
— И вы не будете ждать жену? А у ворот спокойно?
— Сегодня не очень обыскивают. Я же только что прошел.
— Я вашей жене, боже упаси, ничего плохого не желаю. И вам, и всей вашей уважаемой семье. Как говорила всем нам на долгие годы моя покойная мама: «Дай бог мне того, что желаю другим». Но сами знаете, как теперь бывает. То тихо, то через минуту начинается такое…
— Надеюсь, что не начнется. Да и не несет моя жена ничего. — Он опять заставил себя скрыть раздражение. — Извините, но я очень устал. Тяжело работать, почти ничего не есть, а еще и не спать — никаких сил не хватит.
— Конечно.
А все-таки не уходит. Вздохнула:
— Вы правы. Силы нужны. Особенно, если надеяться, что еще будешь жить.
Неужели догадывается?!
— …Да, все хотят жить. Это мы раньше, чуть что, говорили: «Ах, полжизни бы за это отдала!» И ведь за мелочь какую-нибудь, за пустяковое желание… А оказывается, трудно ее, жизнь, отдать. Даже один день отдать трудно, и даже такой, теперешней нашей жизни… Может, потому, что все-таки есть надежда? Думаешь, хоть бы сегодняшний день прожить. Назавтра опять думаешь — еще и этот. А когда целую неделю спокойно, начинаешь надеяться, что и следующая будет такая. Или бог все-таки пришлет случай спастись.
Мадам Ревекка снова вздохнула, и Марк подумал, что не такая уж она ведьма…
— …Да, теперь мы не говорим, что отдали бы за что-то полжизни. Наоборот, теперь все бы отдал, лишь бы остаться жить. Вы согласны?
Он нехотя кивнул.
И тут мадам Ревекка почти требовательно зашептала:
— Но кому? Скажите, пожалуйста, кому отдать?
Все-таки ведьма… Он пожал плечами.
Она оглянулась, не слышат ли их остальные. Марк почему-то тоже встревожился. Но место Шрайберов еще пустовало, Якубовичи уже спали, семья сапожника — он даже не знает, как их всех зовут, — занята своим делом: отцу, видно, посчастливилось пронести кусок хлеба, и теперь он при свете коптилки его делит. А все пятеро детей нетерпеливо смотрят, поторапливают голодными глазами. И зачем бедняки обязательно рожают много детей? Ведь и до войны он, наверно, был бедняком. Сколько можно заработать на каблуках и набойках? А детей вот нарожал… Но шепот мадам Ревекки заставил снова повернуться к ней.
— Я же не просто так спрашиваю.
— О чем?
Она испытующе посмотрела на него.
— Скажите, я что, очень похожа на дуру? Нет? И вы, должна я вам сказать, тоже не выглядите как обиженный богом. Поэтому не надо…
— Но я на самом деле не понимаю…
— Понимаете. Еще как понимаете, что я догадываюсь, где ваш Яник. Он «в малине». Что вы так смотрите? Думаете, не знаю, что раньше только воры так называли свои тайники. А теперь даже ваш тесть, очень интеллигентный человек, дай ему бог здоровья, тоже так называет место, где можно спрятаться. Ну, не будем ссориться. Вам не нравится слово «в малине», хорошо — Яник в укрытии. И, между прочим, не один… — Она кивнула в сторону пустой Алининой наволочки. Только теперь Марк заметил, что наволочек тестя и Виктора вообще нет. — И еще хочу вам сказать, что хорошо знаю доктора Зива. Не такой он человек, чтобы уйти в город, а кого-нибудь из семьи, особенно жену, оставить здесь. Значит, он нашел «малину», извините, убежище для всех. И для вас тоже.
— Вы так складно все это… придумали, что, как говорится, ваши слова да в божьи уши.
Но она и внимания не обратила на его иронию.
— А там, где спасаются восемь человек — вместе или врозь, — может спастись и девятый.
Марк нетерпеливо посмотрел на дверь. Куда запропастилась Нойма? И теща. На худой конец, пришел бы хоть Борис.
— …И ведь не прошу, чтобы даром. У меня есть чем заплатить за свою жизнь. — Она опять глянула, не смотрят ли на них, и разжала кулак. На ладони лежали две сережки. Маленькие, но с камушками.
— Как вы понимаете, я стекляшек не носила. — Она снова сжала кулак и презрительно хмыкнула. — А то теперь все норовят похвастать, что были богаты. Каждая голодранка теперь уверяет, будто муж по субботам выходил из дому одетый как лорд. А спросите у нее, кто это такой — лорд? Или хочет меня убедить, что у нее была каракулевая шуба, хотя она эту шубу, ручаюсь, только в витрине магазина видала. И то не каждый день, — даже на улице, где есть такие магазины, наверно, бывала раз в месяц, когда ходила к кому-нибудь стирать белье… Эх, господин Марк, господин Марк… — Мадам Ревекка погладила свой кулак, в котором лежали сережки с бриллиантиками. — Иметь бы мне теперь хоть десятую долю того, что у меня забрали…
— Но при чем тут…
— При том, что кое-что, как видите, осталось.
— Я вам повторяю…
— А вы не повторяйте. Только скажите, куда идти.
Ну уж нет! Этого она от него не дождется.
— Я вам еще раз говорю…
— Вы, кажется, рассердились? Напрасно, совсем напрасно. Я же с вами, как видите, откровенна.
— Зачем? Не надо излишней откровенностью обременять постороннего человека.
— Почему постороннего? Мы теперь почти свои. Связаны одной тайной.
— Какой… тайной? — И, спохватившись, кивнул в сторону ее ненавистного кулака. — Я готов забыть. Считайте, что уже забыл.
— Я не об этом. И вы, конечно, понимаете, что не об этом. О вас.
— Но я не давал вам никакого повода…
— Правильно. Не давали. Даже стараетесь отрицать. Я сама догадалась. — Она неожиданно улыбнулась. — Не зря, выходит, меня еще в юности называли «внучка Соломона». Умный человек был мой дедушка. И очень справедливый.
— Возможно. Весьма возможно.
— Правда, то, что я вам сейчас скажу, ему бы, наверно, не понравилось. Но он ведь не мог предвидеть, что придут такие времена. И, видит бог, я тоже не думала, что у нас с вами дойдет до этого…
— До чего?
— Скажите, вашего дедушку разве не звали Соломоном?
— Нет. Исааком.
— Хорошее имя. И знаете, что оно означает? «Смеющийся». Правда, сейчас тем, кого так зовут, совсем не до смеха. И тем, у кого другие имена, тоже… Да… Все-таки я не ожидала, что вы меня вынудите напомнить…
Он хотел сказать, что не вынуждает, что вообще не хочет больше ничего слушать, но она уже говорила:
— Вы, как видно, забыли, а я, к сожалению, помню приказ гебитскомиссариата: если человеку известно, что кто-то собирается уйти из гетто, и он молчит, его самого…
Шантажирует? Все равно он не поддастся. Она укоризненно покачала головой:
— Не думайте обо мне так плохо. Сама я никуда не побегу. Но если вас по дороге, не дай бог, задержат в городе или бригадир догадается, почему вас нет, — ведь акции накануне вашего исчезновения не было, — тут мадам Ревекка кивнула в сторону семьи сапожника, — а они видят, как мы с вами сейчас шепчемся, кто ж мне поверит, что я ничего не знала? Значит, меня заберут… А я не хочу! — Вдруг ее лицо исказила ярость. — Понимаете? Не хочу из-за вас умирать! Поэтому не думайте, что я промолчу. Скажу! Обязательно скажу!.. Разве можно за это на меня обижаться?
Зря она старается. Не напугает. Это шантаж. И пусть не думает…
Но мадам Ревекка опять заговорила своим обычным «галантерейно-любезным» тоном:
— Так что, дорогой сосед, уж придется вам…
Ничего не придется. Но злить ее нельзя. Надо пообещать. А Нойму предупредить, что он завтра тоже не вернется в гетто. Тесть с Виктором ведь пришли в подвал в один вечер.
— Придумываете, как от меня избавиться?
Все-таки она ведьма!
— …А я на вас не в обиде. Я понимаю. Сама на вашем месте тоже хотела бы избавиться от такой. Или отделаться обещанием. Но у вас, дорогой сосед, нет другого выхода. Вам придется взять меня с собой. Понимаете? Придется!
VI
Старому Зиву стало стыдно, что он, кажется, немножко завидует сыну. Нет, он не завидует. Он рад, очень рад, что Алина уже здесь, что они опять вместе. Когда Яник проснулся после люминала и не понял, где находится, он так плакал, так звал маму, что, хотя сердце разрывалось от жалости, пришлось припугнуть — на улице немцы, и если они услышат его плач… Ребенок мгновенно затих. Привычно, уже привычно поджал под себя ножки, — когда в гетто во время акций его прятали в сундук, там было очень тесно…
Как ни любит он деда, а все-таки не отпускал руку отца. Тоже понятно. Теперь Виктор лег рядом. Стал ему что-то нашептывать. Наверно, что мама придет завтра. Что надо спать, тогда это завтра скорее наступит. А послезавтра придет тетя Нойма. Потом дядя Боря. И баба Аннушка придет. Непременно придет…
Под успокоительный шепот отца Яник опять заснул. Но днем то и дело спрашивал, когда уже будет «завтра», — в здешнем полумраке не понял, что давно день, что еще остается ждать до вечера. Виктор все время играл с ним. Не только, чтобы занять. Главное — ребенок должен двигаться, быть активным. Они ходили на цыпочках то «петушком», то «уточкой»; «понарошке» пилили дрова; шепотом считали, сколько в оконной решетке длинных прутиков и сколько коротких. Это — чтобы Яник смотрел на свет. Пусть такой, тусклый, а свет глазам нужен… Да… Нужен-то нужен, но что делать, если днем лучше не двигаться, не перешептываться, а лежать на этих полках, каждый на своей и, насколько позволит холод, дремать; и только ночью, когда в домах вокруг будут спать и по улице, почти рядом, никто не будет проходить, немножко ожить… Да, трудно будет сберечь ребенку зрение.
Но его дедовское сердце не выдержало. Наконец дождавшись сумерек, он шепнул Янику, что теперь мама уже совсем скоро придет. Хотел обрадовать, а вышло, что встревожил. Яник перестал играть с отцом, сидел на полке, вжавшись в самый уголок, и неотрывно смотрел на дверь. Не отвлек даже кусочек тминного сыра. Тоже нельзя было так раскошеливаться — это ж завтрашняя норма. Подарок Моники. Она сказала, что, пока не придут все и она не убедится, что их не выследили, к подвалу даже приближаться не будет, и дала на первые дни полбуханки своего хлеба. Потом еще сунула ему в руку сушеный тминный сырок. «Для ребенка». Конечно, для кого же еще?.. Сам решил давать Янику каждое утро по маленькому кусочку, а вот, не выдержал… Яник, конечно, обрадовался, но все равно, и жуя, смотрел на дверь.
Когда Алина наконец пришла, он так бросился к ней… Обхватил колени и долго не отпускал, словно боялся, что она опять уйдет. Даже Виктор, сдержанный Виктор, крепко обнял жену и тоже не отпускал…
Зив лег на свою полку. Отвернулся к стене. Пусть побудут одни.
…Почему это мужчина не должен проявлять своих чувств? Зачем лишать жену и себя такой радости? Они с Аннушкой уже сколько лет женаты, а ему до сих приятно, уходя на работу, ткнуться губами в ее щеку. А вечером, уже приближаясь к дому, он заранее радовался, что, открыв дверь, не только увидит ее, но снова коснется ее лба или волос. Ничего, что седых, сам тоже не молодеет. Раньше, желая спокойной ночи, целовал ее. Теперь, в гетто, только находил под пальто, которое, увы, выполняло обязанности и одеяла, ее руку. Легонько поглаживал. Аннушка понимала, что это значит: «Спи, друг мой. Спи. Во сне теперь намного лучше, чем наяву…»
Здесь он еще не скоро сможет ей пожелать спокойной ночи. Но ничего. Ничего. Надо только набраться терпения и ждать. Хорошо, что есть кого ждать… Алина вот уже пришла. Завтра придет Нойменька. Потом Боря. Тоже, между прочим, очень сдержанный. Не любит, когда Аннушка его называет Боренькой или сыночком. «Мама, я уже не маленький». Аннушка виновато улыбается: «Правда, большой. А я и не заметила, как ты вырос». Заметила, конечно… И еще больше убедится в том, что уже не маленький, когда узнает — ее Боренька собирается сразу уйти отсюда.
Наверно, боялся, что он, отец, будет против — уж очень горячился: «Не старайся меня удержать, не поможет! Я все равно уйду! Мы организуем…» — И, видно, забыв, что не он один, а его отец тоже немножко знаком с историей, стал приводить примеры: и в прошлую войну, и во время нашествия Наполеона, и даже в древние века люди, которых враг хотел превратить в своих рабов… Словом, прочел целую лекцию… Но что правда, то правда — историю он знает. И в школе знал лучше своих сверстников, и в учительской семинарии.
Если бы не Гитлер, он бы уже через три года стал учителем.
Если бы не Гитлер…
Но Гитлер есть. И это уже не рвущийся к власти истеричный ефрейтор, а захвативший власть грозный фюрер. И немцы, сколько ни надеяться, что не все, ему фанатично преданы. А Боря, их Боренька, как он говорит, будет с теми, кто возьмется за оружие. Видно, уже нашел товарищей и в самом гетто. Иначе откуда он узнал, что на той неделе где-то за городом под рельсы была подложена мина, и поезд с солдатами фюрера, слава Богу, благополучно взорвался. А до этого кто-то поджег военный склад.
Да, мальчик уже на самом деле вырос… Но все-таки предупредить маму о своем решении попросил его. А что Аннушке объяснять? Ведь и сам, будь он хоть немного моложе, да было бы на кого их оставить…
Ночью он выходил. Если можно так назвать те два шага, которые он сделал от двери, чтобы набрать в кастрюлю чистого снега — все же питье…
Сперва долго прислушивался. Было тихо. Совсем тихо. Все равно он еще выждал — не послышатся ли на улице шаги… И он стал осторожно снимать с ближайших глыб по горсточке снега. Всего по одной горсточке, чтобы было незаметно.
Дошел до самого выступа, который скрывает лаз. Дальше нельзя. И хотя он понимал, что этого тоже нельзя, осторожно высунулся. Правда, совсем немного, только чтобы чуть оглянуться, представить себе, где они. Когда шел сюда, было не до этого…
Оказывается, они здесь на самом деле как в колодце. Не совсем, конечно, похоже — всего три стены торчат. Да и в них зияют дыры бывших окон. Но этот угол, где подвал, снаружи не должен быть виден. А значит, и этот выступ, за которым лаз, скрыт, и главный их спаситель — обломок лестницы над дверью в подвал, и сама дверь. Одним только звездам сверху все видно. Но они не выдадут.
Звезды молчат.
И он засмотрелся на них. До того ли… А он стоял и смотрел на небо, на звезды. Как на старых добрых знакомых. И оттого, что они здесь, прежние, что небо над ним — просто зимнее небо, ему вдруг стало не так тревожно.
Это странное чувство покоя от встречи с небом еще долго не проходило — и когда он снова вернулся в подвал, и когда улегся на свою полку.
Днем Зиву даже казалось странным, что это было. Могло быть. И отчего? Оттого, что небо и звезды не изменились… Почему они должны меняться? Потому что здесь, на земле, одни люди убивают других?
И все-таки он хотел, очень хотел вернуть ночное свое состояние. Легче было бы ждать вечера, когда придет Нойма. День тянется бесконечно долго.
Яник все еще не отпускает от себя Алину. Немного поиграет с отцом, ненадолго заберется к нему, деду, на полку и снова карабкается к матери. Сидит тихонько, прижавшись к ней. Удивительно, как быстро Яник привык к новым запретам. И говорит шепотом, и ходит на цыпочках. Родители сказали, чтобы не расспрашивал, когда же придет бабушка, и он молчит. Только в глазах вопрос…
Алина с Виктором, конечно, тоже волнуются. Что там, в гетто? Не было ли акции? Да и прийти сюда — тоже не прогулка. Но догадаться о том, что они волнуются, можно только по тому, что не говорят об этом. Когда ночью перешептывались, Виктор почему-то вспомнил о своем коллеге Кристопайтисе, который откопал в родословной не то немецкую бабку, не то прабабку и теперь считается «фольксдойче». Сделает на этом карьеру, хотя мог бы и без такой подпорки, — очень способный хирург.
Зив слушал, кивал, даже старался сделать вид, что этот рассказ его занимает. Но думал совсем о другом.
Когда стало темно, он снова попробовал — пусть уже не почувствовать то, ночное, пусть только вспомнить, как смотрел на звезды. Но здесь, в подвале, то состояние не возникало. И с закрытыми глазами он видел только эту полку над головой, заиндевевшие стены… Когда-то бабушка пела: «Кричит душа — не закрывайте меня в человеческое тело, там очень темно». А их души еще и в промерзший подвал затворили.
Вдруг скрипнула дверь. Чуть-чуть приоткрылась. Еще немного…
На пороге стояла мадам Ревекка.
Зив хотел спросить, где… почему… Но мадам Ревекка его опередила:
— Не волнуйтесь, все ваши живы и здоровы.
— А почему?..
— …я? Потому что тоже хочу жить.
— Тише… — Он вдруг спохватился, что она говорит слишком громко. — Здесь надо только шепотом…
— Конечно, конечно, вы правы.
— И дверь, пожалуйста, закройте.
Мадам Ревекка с готовностью закрыла и снова повернулась к ним.
— Не беспокойтесь, доктор, все ваши живы и здоровы. И я не вместо вашей Нойменьки. Она тоже придет. Ведь можно и двоим в один вечер, не правда ли?
— А когда придет бабушка? — все-таки не выдержал Яник.
— Придет, сыночек, твоя бабушка. И дядя Марк придет, и Борис. А дедушка ведь позволит мне тут остаться, правда? И папа с мамой позволят.
— Садитесь, — привычно, будто пациентке, сказал Зив. И пояснил: — Займите какую-нибудь полку.
— Эту можно? — Она показала на угловую, самую дальнюю от двери.
— Какую хотите.
— Спасибо, доктор. И вам, Виктор, спасибо. И вам, Алина. Даже тебе, сынок. — И, неуверенно ступая — еще не привыкла к здешней темноте, — двинулась в угол. Проходя мимо доктора, шепнула: — Я в долгу не останусь.
Но он не расслышал. Говорил себе, что теперь это все равно неизбежно. Мадам Ревекка уже здесь. К этому надо привыкнуть. Всем. И лучше всего — сразу. А от Моники придется скрыть. Ведь обещал, что будет только своя семья. Как это ни плохо ее обманывать, к сожалению, вынужден. Правда, если бы даже хотел повиниться, все равно не смог бы. Ведь договорились, что не должны видеться. Что он время от времени будет оставлять в тайнике что-нибудь из одежды для обмена на еду, а она — то, что получила, выменяв, но не все сразу, а каждые две-три ночи понемногу. Именно понемногу. Значит, придется привыкнуть не только к тому, что мадам Ревекка здесь, еду надо будет делить уже на девять частей.
Но что теперь делать, если она уже здесь? А у кого выведала, что они здесь, нетрудно догадаться. Совсем нетрудно. С другой стороны, ее тоже можно понять…
Зив вздохнул. Считается, что понять — наполовину простить. А что, собственно, прощать?
VII
Аннушка едва удерживала лом. Давно стемнело, улица была совсем пустынна. Только они, темные фигуры, расставленные на мостовой через равные промежутки, скалывали лед. Еще долго будут скалывать. Конвоир объявил, что их не вернут в гетто до тех пор, пока не очистят всю улицу и две соседних. Сил уже совсем нет… Мгновеньями Аннушке казалось, что все — больше ей этот тяжеленный лом не поднять. А если лишь немного приподнять его, лед не откалывается, даже не крошится, и приходится долбить несколько раз по одному и тому же месту. Это еще хуже, — плечи одеревенели и очень болят. Но она все-таки поднимает его. Опускает и снова должна поднять…
Главное — удержать его в руках. Без него она, наверно, тоже упадет. А может быть, самой… Уже в который раз мелькнуло искушение разжать пальцы. Лом упадет, и она тоже… Отползет в сторонку и ляжет на тротуаре, у стены какого-нибудь дома. Так хочется полежать…
Нельзя. В того, кто на работе падает, конвоир стреляет. Прямо в голову. А она должна, она обязательно должна дожить до послезавтра и доплестись до того подвала, где Даня, Яник, дети…
Почему-то кажется, что это будет очень нескоро. Что еще целую вечность придется так вот поднимать и опускать этот невыносимо тяжелый лом. А ночью спать на опустевшей подстилке.
Где взять силы? Даня сказал бы — в надежде. И был бы прав. Ведь уже послезавтра, как раз в это время, нет, немного позже, когда их поведут с работы, она сорвет с пальто звезды…
Все равно, и без звезд могут узнать.
Она не должна выглядеть усталой, чтобы ничем не отличаться от других, городских, женщин, которые не кололи целый день лед, ходят по тротуару, а главное, идут домой.
Сегодня надо отрепетировать эту походку. На обратном пути. Кончится же когда-нибудь это туканье ломом — она попробует не шаркать ногами, а поднимать их. Обязательно поднимать. И так до самого гетто. Там она сразу ляжет. Не только, чтобы набраться сил, но и чтобы никто не завел разговора о том, где Даня, Яник, его родители. Марк говорил, что мадам Ревекка ему угрожала. Может быть. Все теперь может быть…
Якубовичи угрожать не будут. И Шустеры не будут. Но попросить, чтобы она взяла с собой хотя бы одного их ребенка, могут.
Господи, да будь это возможно, она бы сама им предложила. Но Даня же обещал той доброй женщине, что придет только одна их семья.
Кто мог подумать, что мадам Ревекка так напугает Марка. Места там, наверно, хватит, к тесноте уже привыкли, но еще один рот… И так их ждет голод. Такой голод, что геттовская норма покажется изобилием.
Нет, Шустеры тоже просить не будут. Не могут родители выбрать, которого именно из пятерых детей спасать. Не могут. Дай Бог здоровья и долгих лет жизни их спасительнице за то, что разрешила прийти в подвал всем. Если там на самом деле относительно надежно и их не обнаружат, Яник не останется сиротой. Когда Даня рассказывал, как он на фабрике заговаривает с женщинами насчет Яника, и ей очень хотелось, чтобы какая-нибудь добрая душа согласилась взять его, неотступно была и тревога — как же он, совсем еще маленький, будет один? И потом, после войны — один. Всю жизнь сирота. Дане она этого не говорила. Все-таки хоть и сиротой, а будет жить. А чтобы всем спастись… Об этом только в самые первые дни мечтала. Что Даня, когда их ведут на работу, увидит кого-нибудь из своих старых берлинских знакомых. И что тот, даже если в офицерской форме, не отвернется. Наоборот, спросит, где Даня работает, и придет к нему на фабрику. Скажет бригадиру, чтобы давал Дане только легкую работу. А узнав, что творится в гетто, пообещает им помочь. Правда, когда она рассказала об этом Дане, он только покачал головой: «Нереально».
На самом деле нереально. Если здесь и оказался бы кто-нибудь из его давних знакомых, кто знает, кем он стал? А вот малознакомая женщина… Честно говоря, пока Даня туда не ушел, не верилось… Но теперь она верит. Должна верить, что он там. И Яник там. И Виктор с Алиной, и Нойменька. Сегодня, Бог даст, Боря пойдет. Может быть, как раз сейчас он туда идет.
Она даже оглянулась. Хотя знала — он не должен тут проходить, ему совсем в другую сторону. Оказывается, на улице — ни одного прохожего. Скоро комендантский час, и люди заранее поспешили домой.
Понимают ли они, как хорошо, что им есть куда спешить?
Она снова оглянулась. На тротуарах до самой Ратуши — никого.
Значит, и там, где теперь идет Боренька, — никого. А когда на совсем пустой улице всего один человек, это особенно бросается в глаза. И патруль может его остановить. Боренька, конечно, объяснит — немецкий он, спасибо Дане, знает, — что документы забыл дома. Но ему не поверят. Начнут обыскивать. Найдут в кармане геттовский «аусвайс». И желтые звезды, которые сорвал с пальто. Не догадался выбросить. Только бы не велели еще и пальто снять. На свитере-то звезды остались… Как же она не подумала об этом, не предупредила, чтобы их тоже отпорол. Мог бы перед самым концом работы надрезать, а когда будет надевать пальто, сорвать. И главное, чтобы сразу выбросил. Господи, почему она его не предупредила? Пусть был бы недоволен. «Мама, ты все забываешь, что я уже давно не маленький». Но все-таки послушался бы.
Она опять незаметно оглянулась по сторонам. Пусто…
Знать бы, по какой он теперь улице идет. Мысленно идти с ним рядом, вдвоем со старой матерью не так опасно.
Но она здесь, а он идет один. На всей пустой улице один. Высокий, стройный. Идет спокойно, будто ему не грозит никакой опасности, и не боится он их. Даже презирает. Потому что «с исторической точки зрения»…
Он прав. Со всех точек зрения. Беда только в том, что эти нелюди с историческими примерами, видно, не очень знакомы. Зато презрение к себе сразу почувствуют. И совсем озвереют.
Господи, пусть Боренька их не встретит! Пусть они идут по другой улице!
Когда Виктор уносил Яника, у нее не было такого страха. И вчера, когда Нойменька ушла, ни о чем плохом не думала. Почему же сегодня?..
Конвоир ее стукнул, и она спохватилась, что отстала от соседок. На целый островок неотбитого льда отстала. Она принялась их догонять.
Она стерпит. И что еще раз ударил — стерпит. Лишь бы с Боренькой ничего не случилось. Только бы его не задержали…
VIII
Тактику своего поведения Борис разработал заранее и до самых мельчайших подробностей. Во-первых, на работе он не должен ничем себя выдать, быть предельно спокойным. Во-вторых, стружку вокруг станка не убирать, чтобы к вечеру ее было как можно больше. В-третьих, начать уборку позже остальных, следовательно, торопиться, чтобы стало жарко и пришлось снять свитер. Вполне естественно будет сунуть его в шкаф для инструментов. В-четвертых, под видом наведения порядка в шкафу и обязательно заслонившись от остальной части цеха открытой дверцей, быстро спороть со свитера обе звезды. Надеть его только в самый последний момент и сразу же — пальто. Тем не менее свитер должен быть вывернут наизнанку — если кто-нибудь все же успеет заметить, что он без звезд, можно «спохватиться» и объяснить: их не видно оттого, что свитер в спешке напялил на левую сторону. В-пятых или лучше даже в-четвертых, при укладывании инструментов в шкаф сунуть за пояс заранее приготовленный гаечный ключ. В-шестых, по дороге с работы проявлять лишь обычное беспокойство: что делается у ворот гетто, очень ли там обыскивают, не принесло бы туда кого-нибудь из «господ». В-седьмых и главных: как только колонна свернет в Скобяной переулок, сорвать с пальто переднюю звезду, ступить на тротуар и в три шага оказаться в подворотне, оттуда бегом во двор, встать в тень дома, быстро снять пальто и сорвать вторую звезду, со спины. Сорвать именно самому, уже во дворе, а не предварительно в колонне с чьей-то помощью, чтобы никого нельзя было обвинить в соучастии. После этого подождать, пока колонна завернет за угол, сразу выйти на улицу и, ни в коем случае не оглядываясь, спокойно и уверенно зашагать в противоположном направлении, то есть туда, где находится указанный отцом бункер.
Борис так ясно представлял себе этот план действий, что, закончив работу, он словно повторял давно знакомое. Торопливо убрал стружку. Снял свитер и пихнул его в шкаф. Смазал станок. Сложил на полку в шкафу инструменты, содрал со свитера звезды. Сунул за пояс гаечный ключ. Пальто надел, когда кругом уже никого не было, а значит, никто не видел, что под ним нет звезд.
Повели тоже обычной дорогой. И плелись как всегда — медленно, устало. Он умышленно не думал о дальнейшем. Чтобы быть таким же, как каждый вечер, когда возвращается с бригадой в гетто. И на самом деле думал о гетто. Как там, у ворот? Не очень обыскивают? Хотя маме нести нечего… Вчера пришла такая измученная, что только и хватило сил виновато улыбнуться: «Оказывается, растить детей легче, чем колоть лед». И все равно он не смог ее уговорить, чтобы она ушла в бункер уже сегодня, вместо него. Никакие доводы не помогли, даже то, что отец там очень волнуется за нее. «Не больше, чем за тебя». Решил не спорить, хватит ей переживаний, когда узнает, что он не собирается в этом бункере засиживаться.
Вдруг он спохватился, что колонна уже приближается к е г о переулку. Сейчас свернет. Но срывать звезду еще рано. Даже руку к ней поднять нельзя. Только когда он будет почти у подворотни. Когда поравняется с нею…
Но… Там кто-то стоит! У самой его подворотни стоит мужчина. Что делать?
Ничего. Пройти мимо.
Прошел. И мимо второй подворотни прошел. И мимо третьей.
Скоро передние ряды начнут сворачивать направо. До угла остались всего два дома. Он глянул назад. Мужчины не было.
Все! Уже все, он в подъезде. Один.
Борис прислушался. Тихо. Колонна отдаляется. Значит, конвоир не заметил.
Он здесь один. Никто за ним не погнался. Один в полной тишине.
Он быстро скинул пальто. Содрал со спины звезду. Стал поспешно разрывать ее. И ту, первую, которую, оказывается, сжимает в руке. Он их раздирал на мелкие полоски, лоскутки, нитки. Но все равно, даже комочки ветоши могли выдать его. Он поспешно запихивал эти ненавистные обрывки в какие-то дыры, щели под лестницей. Здесь их не найдут. Никому и в голову не придет тут искать.
Все! Борис застегнул пальто и вышел из подъезда. На мгновенье замер, — показалось, что переулок какой-то другой, незнакомый. Нет, тот же, только непривычно пустой.
Он двинулся вперед. Но почему-то не влево, как собирался, а в ту сторону, куда ушла колонна. Свернул за угол. На улице, во всю ширь мостовой, чернела большая колонна людей. Желтые звезды на спинах виднелись издали.
Борис шел, уставившись на последний ряд. С краю, кажется, идет Веня. А рядом с ним, судя по росту, Изя Горелик.
Он понимал, что не должен идти за ними. И на таком расстоянии не должен. Тем более всматриваться, узнавать не надо. Какой-нибудь прохожий может это заметить, что-то заподозрить. Идущему по тротуару не должно быть никакого дела до тех, кого ведут по мостовой.
И все равно смотрел. Шел и смотрел. Только когда они стали сворачивать к гетто, он словно очнулся. Повернул обратно и быстро зашагал прочь. Мелькнула мысль, что слишком резко повернул, внезапность тоже может показаться подозрительной. Но сразу одернул себя — только не паниковать. Никто не обратил внимания. Да и с какой стати на него должны обращать внимание? Он просто идет по улице. Как все. Как сам ходил прошлой зимой. Всего только прошлой зимой. Да и весной тоже. Он мог ходить по всему городу. Домой. Из дому. На лекции. К Владику. К Винценту.
Отец их называет петухами. «Как поживают твои петухи?» И на самом деле, когда они спорят, становятся похожими на сердитых петухов. Еще хорошо, что спорят редко и только об одном — о корнях зла, породивших конфликты между Литвой и Польшей. Владик уверяет, что во всем виноват литовский князь Ягела. Женившись на польской королевне Ядвиге и став одновременно королем Польши, он роздал литовцам польские земли, чем, естественно, вызвал недовольство поляков. А Винцент доказывает, что все было как раз наоборот — это польские феодалы стали притеснять литовцев. И не столько в Йогайле (даже называют его каждый на свой лад) главная причина, сколько в Люблинской унии. Польше это объединение с могущественной — от Балтийского до Черного моря — Литвой было выгодно, а вот для Литвы оно явилось началом упадка. Тут Владик и начинает петушиться: зато Литва стала частью Речи посполиты, а литовцы — шляхтичами; обвиняет Винцента в необъективности. Тогда тот недоволен: «Обвиняешь, потому что не можешь убедить. Обвинение — оружие слабых». Приводит новые доводы. И так — пока не переворошат до мельчайших подробностей всю историю обоих государств.
Вдруг Борис спохватился, что он, оказывается, идет к Владику! И правильно. В бункер он еще успеет. Ведь собирался к Владику. И к Винценту. Они уже, наверно, что-то предпринимают. Давно надо было дать им знать, что он готов к ним присоединиться. Чертовы геттовские стены. Не только отгородили от всего и всех, но еще чуть не превратили в какого-то… какого-то… Так можно дойти до того, что на самом деле ничего, кроме страха, не будешь испытывать. Молодец папка, что не поддался. Правда, он хочет только спасти семью. Но что еще он может? Уже слишком стар для активного сопротивления. А они с Виктором должны. Марка тоже надо будет вытащить. Нечего ему там сидеть с женщинами. И если у Владика уже что-то налажено…
Увидев выступ Владикиного дома, он ускорил шаг. По лестнице взбежал. На двери белеет какая-то бумажка. Он нетерпеливо дернул ручку звонка. Там, внутри, звякнуло.
Почему никто не открывает? Он дернул еще раз. Опять звякнуло, громче.
Все равно не открывают. Неужели никого нет дома?
А ведь бумажка… Она наклеена снаружи, на обе створки. Только теперь он разглядел печать.
Значит, квартира опечатана! А опечатывают, когда… когда из нее выгоняют всех, кто там жил. Значит, не только Владика забрали. Родителей тоже. И Эльжуню. В гимназии он ее называл «хвостиком». «Пошли, хвостик». Оттого, что их родители требовали, чтобы он после уроков обязательно шел домой вместе с нею.
Квартира опечатана…
Он смотрел на эту белую полоску бумаги…
Куда их увели? Когда? Спросить бы у кого-нибудь. Он повернулся было позвонить в соседнюю дверь, но сразу спохватился, — а если откроет немец?
Он стал медленно спускаться по лестнице. Еще раз оглянулся. Бумажка все так же белеет…
Вышел на улицу.
Борис понимал, что должен идти бодро, так же, как шел сюда. Но почему-то еле плелся. Даже шаркал ногами, как отец в последнее время…
Отцу он о Владике не расскажет. Да и что рассказать?..
Винцент должен что-нибудь знать. Он опять зашагал быстрее. Не боялся бы вызвать подозрение, побежал бы. Но нельзя.
Если они уже что-то предприняли, то, конечно, вместе. И Винцент в курсе. А в бункер он успеет, комендантский час еще не скоро. В городе он начинается позже, чем в гетто. Кажется, на целый час позже.
Вдруг он вздрогнул. Немцы! Прямо на него идут два офицера. Бежать нельзя. И бояться нельзя, — страх притягивает. Надо казаться спокойным. Совершенно спокойным.
Прошли. И не посмотрели на него. Это естественно. Не могут, да еще офицеры, останавливать каждого прохожего. А он прохожий. Такой, как все.
Дом Винцента совсем недалеко. Когда-то Владик шутил: «Винцент очень удобный друг. К нему и в дождь можно не промокнув добежать».
Перед парадной Борис привычно глянул на крайнее окно — дома ли Винцент — и сразу разозлился на себя: это раньше можно было по свету в окне определить, дома ли человек. А теперь все окна одинаково черны. Затемнение.
По лестнице поднимался медленно. Не решался глянуть на дверь. Лишь когда уже подошел…
Бумажки нет! Только почтовый ящик и звонок.
Он тихонько позвонил. Еще раз, чуть дольше. К двери, кажется, кто-то подошел, но не открывает. Он опять потянул ручку звонка.
— Кто там?
Отец Винцента, старый Сонгайла.
— Откройте, пожалуйста. Я… — Но в последнее мгновенье решил своего имени вслух не называть.
— Я к Винценту.
— Его нет.
— Тоже… нет?!
За дверью тихо.
— А… где он?
— Кто спрашивает?
— Его товарищ. — Неужели старик не узнает его по голосу? — Мы вместе учились.
Наконец защелкал засов. Еще один. Еще.
— Добрый вечер.
В передней светло. Вешалка та же. И оленьи рога. И подставка для зонтов. Только старый Сонгайла какой-то другой. Растерянный.
— У нас теперь условный знак. И когда звонят иначе, — пугаемся, что чужие. — Он стал задвигать засовы. Верхний. Средний. Нижний. А раньше был всего один.
— Извините, я не знал. Винцента действительно нет?
Но старик будто не расслышал. И, кажется, недоволен его приходом.
— Вы не беспокойтесь, никто не видел, как я сюда шел.
— И хорошо, что не видел. А то напротив живет такой…
— Кроме того, я ненадолго, — поспешил успокоить его Борис. — Хочу только кое-что спросить у Винцента.
— Обрадуется Винцент, что ты живой. Мы с женой тоже рады. А родители твои живы?
— Да.
— Слава Богу! — И повторил: — Слава Богу… Да, кто мог подумать, что доживем до такого. Эти злодеи ко всем свирепы, а к людям твоей национальности особенно. Даже за помощь вам карают. — Старик еще раз проверил все три засова. — А Винцент дома. Сейчас выйдет. Мы тут для него, на случай непрошеных гостей, кое-что устроили. Несмотря на то, что он работает, у него есть «аусвайс», и его не должны вывезти в Германию. Но у сына наших знакомых во время облавы этот «аусвайс» прямо на глазах порвали и все. Забрали парня.
Цену их «аусвайсам» и гарантиям он тоже знает.
— …Поэтому у нас тут для Винцента… Но ты проходи. Он сейчас…
Борис привычно двинулся к комнате друга.
— Нет, нет, лучше в спальню. Оттуда, если что, можно через кухню и черный ход…
В первое мгновенье Борису показалось, что он вошел в спальню родителей. Тоже сдвоенная кровать и тоже тумбочки по сторонам. Шкаф с зеркалом.
— Подожди тут. Сейчас вызволю Винцента.
Борис ждал. Нет, не похожа эта спальня на родительскую. Здесь покрывало другое, розовое. И ночники на тумбочках высокие. И такой картины с амурами отец не повесил бы. И… — Он не успел додумать — вошел Винцент. Но тоже, кажется, другой. Мрачный.
— Салют. — И обычное их приветствие получилось неестественным.
— Салют… — Винцент поискал глазами, куда бы его усадить. Пододвинул пуфик. — Садись. — Сам по привычке уселся на подоконник. Он любит сидеть высоко — на столе, на подоконнике — и болтать ногами.
Оба почему-то не знали, с чего начать разговор. Наконец Винцент сказал:
— Я рад, что ты… Что они тебя не…
— Да, пока…
Борису стало неловко, что он пришел сюда, что всех смутил. Даже напугал. Что подверг их риску. Но он ведь не просто так явился.
— Я был у Владика.
Винцент помрачнел.
— Нет его. Забрали.
— Я понял. Квартира опечатана. А ты не знаешь, куда?
— Господа завоеватели не имеют привычки сообщать, куда они девают людей.
— Это я знаю. Но, может быть, только вывезли на работы?
— Хорошенькое «только». — Винцент насупился. — Кто-то нафискалил, что Владькин отец радовался приходу Советов и что сразу стал преподавать конституцию, а сам Владька вступил в комсомол.
— На меня, наверно, тоже донесли, что был комсомольцем.
— Наверно.
— А не удостоили чести личного ареста, потому что из гетто та же дорога. Не всаживать же в меня две пули — одну за то, что еврей, вторую — за то, что комсомолец.
Винцент молчал.
— Ладно. — Борис привычно отогнал от себя мысль о расстреле. — Больше никого не забрали?
— Не знаю.
— Не встречаетесь?
— Повилас иногда заглядывает.
— Как он?
— По теперешним временам неплохо, — дед из деревни сала подкидывает.
— Я не в этом смысле…
— …вот друг и приходит выменять его на папиросы.
— К тебе?!
Винцент хмыкнул:
— Я теперь в завидном месте работаю. На табачной фабрике.
— А остальные? И… не с такой целью? Сам разве ни у кого не бываешь? Тебе ведь можно ходить по городу.
— Можно. Только дома меньше шансов попасть в облаву. Или… — Наконец его прорвало: — …показаться какому-нибудь гаду в форме — подозрительным. Например, похожим на убежавшего из гетто еврея, на скрывающегося большевика, на одного из тех, кто им подкладывает под рельсы отнюдь не рождественские подарки.
Наконец!
— Так это же хорошо, что подкладывают!
Но Винцент уже снова сник.
— …Неужели ты не понимаешь, что именно это и надо делать! Чтобы как можно меньше оружия и солдат доехали до фронта!
— Как видишь, их все равно хватает — и оружия, и солдат.
Борису хотелось потрясти его за плечи, согнать эту угрюмость.
— И тем не менее надо… необходимо… Во все времена и во все войны на захваченных землях врагу оказывали сопротивление.
— Винцент! — позвал его из-за двери отец. Теперь, когда настоящий разговор только начинался.
Винцент с готовностью соскочил с подоконника.
— Извини, — и поспешно вышел.
Борис смотрел на закрытую дверь. Странно, что он сидит в этой чужой спальне. Что Винцент теперь совсем другой. А старому Сонгайле и его жене, наверно, страшно, что кто-нибудь может нагрянуть и застать его у них.
Дверь медленно открылась, и Винцент вошел, держа поднос. Очень похожий на тот, который был дома. Тоже с высокими ручками. Мама на нем приносила из кухни чай сразу для всех. А на этом, который держит Винцент, стоит тарелка супа и блюдце с ломтем хлеба.
— Моя мама просит, чтобы ты это съел. — Винцент смущенно поставил ему поднос на колени и — Борис даже не успел сказать, что не ради этого пришел, — опять закрыл за собою дверь.
Суп густой. И очень вкусно пахнет. Совсем, как прежний, довоенный. И хлеб настоящий. В гетто добавляют отрубей.
Он откусил. Еще откусил. Зачерпнул полную ложку супа. Снова откусил. Зачерпнул. Он откусывал, черпал, откусывал. После такой еды можно сутки совсем ничего не есть. Свою порцию хлеба он отдаст Янику.
И вдруг он вспомнил, что сегодня порции не будет. Он же не вернется в гетто, пойдет в бункер. Яник там. И отец там. Они голодные, уже три дня ничего не ели, а он… он один съел столько… Борис смотрел на оставшийся маленький кусочек хлеба, на недоеденный суп. Сейчас выловит из него гущу, соберет ее на блюдце, потом во что-нибудь завернет… Он стал торопливо выуживать ложкой кусочки картошки, вермишелины. Они не поддавались, соскальзывали обратно в тарелку. В нетерпении он их подхватывал пальцами, выуживал руками. Только бы собрать все!
Вдруг его обожгло! Он уже видел такое. Кто-то тоже вылавливал из супа… руками…
Их сумасшедший! Да, да, он. Никто даже не знал, как его зовут, говорили: «наш сумасшедший». И кормили. В какой дом ни зайдет, там ему ставят тарелку супа. Только супа, другого он ничего не ел. Но сперва выгребал руками гущу…
Борис схватил ложку, — от таких сравнений можно на самом деле сойти с ума. Он же так делал только для того, чтобы ничего не пропало. И чтобы успеть, пока не вернулся Винцент.
Но Винцент, оказывается, стоит в дверях. Правда, смотрит не на него, а себе под ноги. От неловкости, что видел…
— Это я… — Борис смущенно показал на блюдце с расплывшейся суповой гущей и остатком хлеба, — для Яника. Он очень тяжело переносит голод. Правда, не жалуется, но… — Борис не знал, как еще объяснить. — У тебя найдется во что завернуть?
— Сейчас. — Винцент опять обрадовался поводу выйти. А может быть, тому, что понял — его опасный гость собирается уходить.
Он на самом деле собирается…
— Вот. — Винцент протянул на вырванном из атласа листе еще один ломоть хлеба. Тоже большой, но тоньше первого. В другую руку смущенно сунул несколько папирос. — И это возьми. Выменяешь.
— Спасибо.
Они не смотрели друг на друга.
— Извини, но больше ничем не могу… По карточкам тоже получаем мало. Только если маме удается в деревне что-нибудь выменять.
— Спасибо. И маме твоей спасибо. — Наконец Борис вспомнил, что должен делать. Он стал ложкой укладывать на хлеб суповую гущу для Яника.
— Может, тебя не тронут. Ты же работаешь, приносишь пользу. А немцам нужна рабочая сила.
В гетто многие тоже надеются на это.
— …и не обижайся, пойми…
Надо сказать: «Понимаю». Или хотя бы кивнуть. Но он не мог. Заворачивал в лист с изображением Пиренейского полуострова еду для Яника.
— Я говорил родителям, чтобы тебя… в мое укрытие… Но они очень боятся. А у мамы больное сердце.
— Я не прятаться к тебе пришел.
— Спущусь вместе с тобой. — Винцент явно не хочет, чтобы он объяснил, зачем пришел. Не станет он объяснять. Все равно бесполезно. — Парадная на ночь запирается, но в каждой квартире есть ключ.
— Спасибо.
— Только не ходи по Горной. Там их комендатура. Лучше иди к бывшему садику. Сразу за углом в его ограде есть дыра. Спрячешься там и подождешь, пока проведут колонну ваших.
— Хорошо. — Ни к чему Винценту объяснять, что не будет он ждать колонну и не пойдет в гетто.
Борис понимал, что теперь должен сказать: «Ладно, я пошел» — и пойти к двери. Но стоял. Здесь обычная спальня. Кровати, на которые можно ночью лечь, зажечь эти ночники на тумбочках и перед сном почитать. Ничего удивительного, что родителям Винцента да и ему самому страшно лишиться этого. Но, может быть, другие не так напуганы. Повилас, например. И он спросил:
— Повилас все еще живет у тети?
— Да. Только к нему подселили немецкого офицера.
— Значит, к Повиласу нельзя.
— А к Адаму никого не подселили?
— Не знаю. Кажется, нет.
К Адаму он пойдет уже из бункера. А отсюда надо уходить. Скоро, наверно, комендантский час. И он шагнул к двери.
Родители Винцента явно ждали его ухода, стояли в передней. Сонгайлене, оказывается, поседела. И в черном платье. Носит по ком-нибудь траур или просто считает, что теперь черный — самый подходящий цвет?
— Ты не держи на нас зла, — смущенно попросил старик и завозился со своими засовами. — Сам видишь, что творится.
Сонгайлене грустно кивала. Винцент смотрел куда-то в угол. А он хотел только одного — скорей избавить их от себя.
Винцент вышел вместе с ним. За дверью остановился. Прислушался. Было тихо.
Они стали осторожно спускаться по лестнице. Но через каждые несколько ступенек Винцент останавливался. Проверял тишину. Внизу неслышно вставил ключ. Так же беззвучно приоткрыл дверь и выглянул на улицу. Но почему-то медлил, не подавал знака.
— Что там?
— Никого нет.
И хорошо, что нет! Он рывком распахнул дверь и вышел. Винцент, кажется, шепнул в спину:
— Помни, к садику.
Но он уже шел. Опять шел по улице. Только совсем пустой. Неужели?.. — Он смотрел сразу на обе стороны. И вдаль всматривался. На всей улице, до самого конца — никого. Неужели комендантский час?!
Ускорил шаг. Только без паники. Еще не комендантский час. Он же был у Винцента совсем недолго. Просто люди заранее попрятались в домах. «Там меньше шансов попасть в облаву». Все-таки Винцент, кажется, остался стоять в парадной. Правда, это не очень опасно.
А когда он завернет за угол, Винцент поднимется наверх, запрет дверь на все засовы. Отец еще, наверно, проверит, хорошо ли запер, и они лягут спать. Каждый перед сном зажжет свой ночничок и будет читать. Впрочем, у Винцента в комнате не ночник, а настольная лампа.
Как он ни старался думать о другом, пустота на улице пугала. Не лучше ли на самом деле вернуться в гетто, а завтра… завтра пусть выходит мама. Он будет на этом настаивать. Скажет, что нарочно вернулся, чтобы вышла она.
На ходу глянул назад. На мостовой тоже пусто. Все уже, наверно, в гетто. Не с кем вернуться. Значит, надо идти вперед. Нормальным шагом идти. Потому что бегущий по пустой улице человек сразу вызовет подозрение. Не исключено, что из окон тоже следят. Погасили свет, раздвинули шторы и следят. Обязательно надо выглядеть спокойным. Совершенно спокойным. Будто всего-навсего засиделся в гостях и теперь спешит домой.
Вдруг из переулка появились… двое… с автоматами. Один засветил фонариком прямо в глаза.
— Ausweis![2]
Он побежал. Скорее туда, к садику! За углом дыра в заборе. Он спрячется. Спрячется!
Что-то стукнуло в спину. Все равно надо бежать. Еще стукнуло.
…Почему он лежит? Ведь должен… он должен доползти… до ограды…
— Lass ihn, er ist tot.[3]
Nein, bewegt sich noch.[4]
He мертвый он… сейчас доползет. Зачем?.. Ведь…
IX
Винцент смотрел, как Борис спешит. Про себя даже поторапливал его. Скорей бы дошел до поворота. А там сразу ограда и дыра. Сможет за нею спрятаться, подождать своих. Только бы скорей дошел!
Все-таки надо было уговорить родителей оставить его до утра. Не каждую же ночь бывают проверки.
Чего он оглянулся? Боится идти по пустой улице и хочет вернуться? Нет, пошел. Даже прибавил шагу. Конечно, страшно. Это только на словах или там, в гетто, им кажется, что здесь все не так опасно. Теперь везде опасно.
Борису даже полезно немного перетрусить. Остынет. А то, видите ли: «Во все времена и все войны врагу оказывали сопротивление». Мало ли что было когда-то. Никакой Наполеон и никакой Вильгельм не был, так страшен, как Гитлер. Перед ним уже спасовало столько государств. И русские. Пели: «Если завтра война», а тоже пока не очень справляются. Можно подумать, что когда им возьмется помогать Борис Зив…
Вдруг Винцент увидел, как из-за угла вышли двое. Патруль! Вспыхнул фонарик…
Что он делает? Бежать нельзя! Они же будут стрелять!.. Так и есть…
Упал!
Подошли… в лежащего… трижды…
Все… Оставили его и пошли дальше. Как ни в чем не бывало…
Идут сюда! Он быстро закрыл дверь. Повернул ключ.
Дверь заперта. Заперта.
— Что ты тут стоишь? — Он даже не слышал, как отец спустился. — Мама волнуется. Стреляют где-то совсем близко.
— Больше не будут стрелять.
— Хорошо бы. Но кто знает…
— Я знаю. Они стреляли в Бориса.
— Почему ты… так… думаешь?
— Я видел…
— Но он же был без звезд!
— Все равно. Уже комендантский час. А ты не позволил его оставить.
— Тише! Ради Бога, тише.
— Правильно. При мертвом говорят шепотом. Даже когда он далеко, на улице. Но этот мертвый — Борька…
— Может, он не…
— Пришел ко мне как к другу. А я откупился ломтем хлеба.
— Но, может быть, он только ранен.
— Он — как к другу. А я — ломоть хлеба…
— Господи, да не говори ты так!
— Как я должен говорить? Борьку убили. Понимаешь, убили!
Отец не ответил. Прислушивается.
— Не беспокойся, папа. Они уже прошли.
— Кто?
— Патруль. Те двое, что его убили. И я сейчас выйду.
— Куда?
— Туда, к Борису.
— Нет, лучше я.
— Я сам должен…
— Но я скажу тебе правду. Честное слово, правду.
— Я сам должен… И если он живой, приведу. Мама его перевяжет. Спрячем в моем укрытии. Я сам должен.
Но открыть дверь и двинуться с места было трудно. Очень трудно…
X
Аннушка вздохнула. Знал бы Даня, как она хочет поверить в его объяснения. Боренька потому не пришел сюда, что не хотел лишний раз рисковать ни собой, ни ими. И правильно сделал: какой смысл приходить, если все равно не собирался здесь оставаться, как он говорил, отсиживаться. И Даня опять, в который уже раз за эти дни, принимался пересказывать ей их разговоры.
Аннушка слушала. Она уже знала их наизусть. Но Даня повторял Боренькины слова, некоторые почти его голосом. Поэтому она старалась не замечать, что иногда в этих пересказах появляются новые подробности. А еще потому она готова была бесконечно их слушать, что чувствовала — успокаивая ее, Даня успокаивал и себя.
Она очень хотела верить. И хотела, чтобы Виктор с Алиной и Нойма тоже поверили. Но на душе было… Ох, как было на душе…
В первые ночи она все ждала. Прислушивалась. Если бы не боялась выдать свое беспокойство, стояла бы у двери. Потому что не может такого быть, чтобы Боренька не пришел, хотя бы совсем ненадолго, только попрощаться. Понимает ведь, что теперь, когда расстаются…
А может быть, не пришел именно для того, чтобы не прощаться? Это раньше, когда выходил из дому ненадолго — на лекции, к товарищу или в кино, — не страшно было бросить матери: «Я пошел», сказать, когда вернется. А теперь… Теперь не получилось бы прежнее: «Я пошел!» Тем более, что не может он сказать, когда вернется.
Когда она поняла, пришлось понять, что он не придет, оказалось, что прислушиваться и ждать его было легче, чем представить себе, что у Бореньки в руках оружие. Когда он был маленький, у него даже игрушечного пистолетика не было. И у Виктора не было, — Даня говорил, что у детей не должно быть игрушек, которые могут пробудить жестокость.
А теперь…
Она же ничего не говорит. И понимает Бореньку. Не может молодой парень сидеть здесь, с ними, когда кругом такое. А что маме страшно… Так ведь и у тех ребят, которые на фронте, и у Боренькиных товарищей, с которыми он теперь, тоже есть матери. Если он не пришел попрощаться, опасаясь, что она будет отговаривать, то зря. Не стала бы она его отговаривать. Понимает.
Господи, ну что это за время, когда и отпускать от себя страшно и удерживать нельзя.
Надо радоваться, что остальные дети — Яник с родителями и Нойменька — здесь, пусть в этом темном заиндевевшем подвале, а все-таки не в гетто. Но радоваться трудно. Тревога за Бореньку не дает… И плакать нельзя. Получится, что она его уже оплакивает.
Только один раз не выдержала. Яник сидел между нею и дедом. Виктор часто подсаживает его к ним. Грех говорить, но и это не помогает.
Что теперь может быть лучше, чем прижать к себе Яника. Укутанный поверх шубки еще и в одеяльце, в двух шапках, иногда еще ножки обмотаны рюкзаком, сидит он между ними, и они с Даней — то один, то другой — шепчут ему сказки. Раньше, даже в гетто, оттого, что там все-таки еще было где двигаться, побегать, он не очень любил длинные сказки, не хватало терпения дослушать до конца. Теперь только успевай их вспоминать. Или придумывать. Особенно он любит сказки про хорошего мальчика, которого тоже звали Яником. И вот, когда она рассказывала, как тот Яник поскакал на своей деревянной лошадке, малыш очень удивился: «Как же лошадка скакала, если она деревянная?»
В одно мгновенье время унеслось вспять, когда Боренька был такой же маленький. Он плохо ел, без сказки не накормить было. Сколько она их тогда напридумывала! О птицах, зверюшках, а когда вот эту, про деревянную лошадку, придумала, Боренька серьезно так сказал: «Деревянные лошадки не могут скакать. Они не настоящие». Вспомнила и не выдержала… Яник, доброе сердечко, тоже заплакал. Всех переполошил. На расспросы, почему он плачет, где болит, он только мотал головой: «Не болит. Но бабушка плачет». Она, конечно, сразу перестала, Виктор взял его к себе, принялся играть с ним в его любимые «отгадайки», но Яник еще долго всхлипывал.
С тех пор она остерегается лишний раз вздохнуть. Разве что когда делает дыхательную гимнастику. Честно говоря, она ее и делает только, чтобы не огорчать Даню и хоть немного повздыхать.
Он и разную другую заставляет делать. Главное — ходить. Но только ночью, когда это не так опасно. Правда, и заставлять не приходится. От сидения и лежания целый день все так затекает, что каждый уже ждет своей очереди походить. Жаль, что ходят мало, чередуясь и только по двое. Один идет от окошка к двери, другой — от двери к окошку. Хорошо, что иногда Даня сам нарушает этот порядок и идет рядом с нею. Даже под руку ведет, как когда-то. Особенно, если вьюжная ночь. От ветра жесть за окошком обо что-то бьется, и можно себе позволить немножко поговорить. Шепотом, но все-таки… В остальное время, если не считать перешептываний с Яником, они молчат.
Оказывается, не так легко это — все время молчать. Даже Даня признался, что «быть самому себе собеседником порядком надоело». Ей не то чтобы надоело. Просто хочется по привычке что-нибудь сказать, о чем-нибудь спросить. А уж как тянет поговорить с детьми…
Но она, боже упаси, не жалуется, — все-таки они не в гетто, живы, вместе. Знать бы еще, где Боренька…
Нет, она ни на что не жалуется. Это мадам Ревекка, кажется, не очень довольна. Думала, что Даня нашел что-нибудь получше? Спросила бы у Марка, прежде чем грозить ему. Правда, там, в гетто, и для нее главным было — вырваться. А уж куда — казалось неважным. Это теперь, когда страх немножко отпустил, сильнее мучает холод и голод. Снега они едят больше, чем хлеба… Правда, и снега Даня дает мало, чтобы окончательно не замерзли. А у мадам Ревекки к тому же застарелый ревматизм. Что и говорить, плохо ей.
Даню перед войной тоже мучил ревматизм. Теперь, говорит, забыл о нем. А что другое он может сказать?
Между прочим, в том, что здесь нельзя разговаривать, есть и польза, — Виктор не отчитал Марка за мадам Ревекку. Наговорили бы друг другу бог знает что. А вообще Марк, если уж на самом деле никак было от нее не отвязаться, мог бы ей все рассказать на два дня позже, когда Нойма уже была здесь.
Но что толку сердиться? Марка все равно не переделаешь. Никого не переделаешь, особенно если человек сам этого не хочет. Был бы немного ласковей с Нойменькой, они с Даней на остальное закрыли бы глаза.
И на мадам Ревекку не надо сердиться. Чего человек не сделает, чтобы спастись. Может, она только пугала Марка?
Даня говорит, что за ее порядочность он бы не поручился. К сожалению, он прав. Видела же, что они с себя последнее снимают. Виктор остался без теплого свитера, Алина отдала вязаную юбку, Нойменька отпорола меховой воротник от пальто. Хорошо, что за него и хлеба дали, и два больших куска гречишника, и восемь брюквин.
Дай Бог их спасительнице здоровья. Добрая она, эта женщина. Очень добрая. Не всякая бы стала из-за них, совсем ей чужих людей, так рисковать. Увидеть бы ее, сказать, что если у каждого из них еще осталось что-то в исстрадавшейся душе, так это благодарность. И что они понимают, как ей страшно.
А ведь даже не знают, как ее зовут. Даня не говорит. В самый первый вечер, еще в гетто, когда он рассказал, что, кажется, нашел женщину, которая, может быть, поможет им спрятаться, не назвал ее имени. И потом, когда волновались, что она так долго не дает ответа, и даже когда наконец пришел с доброй вестью, что она согласилась, и повторял ее объяснения, как найти этот почти заваленный лаз, все равно говорил только: «Эта женщина предупредила» или: «Наша спасительница сказала».
Он прав. Зачем им знать, как ее зовут? Если немцы, не дай Бог, их здесь обнаружат и начнут допытываться, кто их сюда пустил, кто приносил еду, и еще хуже — если у нее на глазах будут избивать Яника, Нойму, Даню, а она будет знать имя, то может не выдержать.
Не надо думать, что их найдут. Подвал под развалинами. Жильцы соседних домов, которые его тогда разграбили, давно о нем забыли, а немцам и в голову не придет, что под горой руин могут быть живые люди.
Все-таки надо было вчера уговорить Даню, чтобы вынес в тайник ее кофту. Пусть бы мало за нее, старенькую, дали, но что-нибудь ведь лучше, чем совсем ничего…
Обидно, что за медальон Алины так мало получили. Ладно, хлеба три буханки, но на горох-то могли бы побольше расщедриться. Эта женщина, пусть Бог ее вознаградит за ее доброе сердце, горох отваривает и еще в тряпку укутывает, чтобы не замерз. И если его было бы побольше… Даня очень расстроился, когда внес узелок с горохом и увидел, что он перевязан крест-накрест, значит — все, она принесла последнее. Виктор тут же снял теплый свитер, чтобы Даня его сразу отнес.
А пальто ведь летнее. Когда выгоняли из дому, до того торопили, что Виктор схватил с вешалки первое попавшееся. К несчастью, попалось самое тонкое.
Считается, что родители заботятся даже о взрослых детях больше, чем дети о них. О своих она этого сказать не может. Когда Даня разделил последние, полученные за свитер Виктора, картофелины и она хотела снять с себя кофточку, а сам он — шерстяную безрукавку, дети не дали. Нойменька стала отпарывать с пальто меховой воротник.
Нехорошо это — быть рядом с человеком, разговаривать с ним и думать о нем плохо. Но как мадам Ревекка могла смотреть, что они на этом морозе снимают с себя теплые вещи, и пожалеть побрякушку, эту сережку, такую ненужную, особенно здесь. Ведь сама тоже мать. И не знает, что с собственной дочкой и внуками. Уехали перед самой войной погостить у другой бабушки, матери зятя, и застряли у нее. А там тоже немцы.
Марк, видно, знал, что у мадам Ревекки есть эта сережка. Уж очень сердито он тогда, поняв, что Даня раздает уже последние брюквины, что-то шептал ей. Чуть ли не шипел. Зато, когда мадам Ревекка гордо протянула Дане сережку, был очень доволен. Всем своим видом показывал, что это его заслуга.
Выходит, и плохой характер может пригодиться.
Жаль только, что сережка одна, труднее выменять, уже третью ночь в тайнике ничего нет. Но если раньше, в гетто, мадам Ревекка выменяла одну, надо надеяться, что и на эту найдется охотник. Из этой сережки можно сделать колечко. Камушек, конечно, настоящий.
Нет, не только потому трудно выменять эту сережку, что она одна, а потому, что и литовцам и полякам теперь не до украшений. Правда, они еще живут в своих домах и спят на своих кроватях, но все равно не очень спокойно: и в Германию могут вывезти, и просто так забрать, бог знает в чем обвинить. Много разных опасностей теперь подстерегает людей. Единственные, кому, должно быть, не страшно, это те, кто служит у немцев и сам наводит на других страх. Но им и покупать не надо, — сами берут. Сколько всего награбили. В первые дни под видом обысков. А сколько осталось в еврейских домах, когда людей угнали в гетто. И даже самое последнее им достается. Уже там, в лесу…
Да, нелегко выменять сережку. Все-таки надо было вчера уговорить Даню вынести ее кофту. Теплую вещь легче выменять — она всем нужна.
Потому он и не взял, что нужна. Правда, еще и надеялся, что этих картофельных очисток, которые он нашел около тайника, хватит на два раза. Сначала, когда он их принес, на самом деле казалось, что много. А когда они оттаяли и особенно, когда их протерли снегом и нарезали, вышло, что и на один раз мало.
Вообще им с этими очистками повезло. Хорошо, что кому-то лень было далеко нести и высыпали как раз недалеко от тайника. Но она не уверена, что очистки на самом деле лежали близко и Даня за ними не вышел на самый двор.
Сколько лет уже женаты, а он все не перестает ее удивлять. Принес эти очистки с таким видом, будто не скукоженная, кем-то выброшенная картофельная шелуха у него в кастрюльке, а самая привычная еда. Высыпал на «стол» — доску под оконцем — и принялся каждую полоску тщательно обтирать. Виктор, настоящий сын своего отца, и виду не подал, что его смущает такое занятие. Слез с полки и стал ему помогать. Только тогда они, женщины, спохватились, что их это дело.
В ту ночь Даня четырежды выходил, решил воспользоваться тем, что метель, и набрать побольше снега, — не так заметно, что взял, и следы сразу засыпает. Сделал в бочке большой запас.
Картофельную шелуху они в двух снегах протерли и нарезали мелко. К счастью, там были четыре целые картофелины, даже почему-то вареные, так что Янику не пришлось есть шелуху. А они ели. Оттого, что бочка все еще пахнет селедкой, и снег, когда там полежит, тоже пропитывается этим запахом, получилась, как сказал Даня, «картошка с селедкой, а если еще напрячь фантазию, то с рубленой». Если напрячь фантазию, еще можно, уткнувшись на их полке в самый угол, вдохнуть слабый запах кофе. Видно, он там много лет стоял.
В первое время Виктор к ее уверениям насчет запаха кофе относился с иронией. Но теперь зачастил на их полку. Правда, не для того, чтобы вспомнить старые ароматы. С отцом о чем-то все шепчется. Но раз Даня не говорит, о чем, то и спрашивать нечего.
К сожалению, она догадывается. И, к своему горю, понимает. Не может молодой мужчина в такое время сидеть с женщинами и стариками-родителями под землей. Особенно, когда младший брат уже что-то делает, чтобы помочь тем, кто на фронте.
Знать бы, что Боренька на самом деле там. И надеяться, что Виктор благополучно дойдет, что встретит его и они будут вместе.
Нехорошо так думать, но что они могут сделать против такого множества немцев, против их танков, самолетов с бомбами, пушек?
Правда, они не одни. И когда поезд, который идет на фронт, сходит с рельсов, то танки уже не танки и пушки — не пушки.
Зря ты, Виктор, сынок, думаешь, что не пойму тебя. Как мне ни горько, а понимаю. И Бореньку понимаю. Я только буду, пока ты здесь, смотреть на тебя. Чтобы наглядеться. А когда уйдешь, буду благодарить судьбу, что Яник так похож на тебя, маленького.
XI
Моника схватила бутылочку с уксусом и стала его брызгать на полотенце. Ничего, что остаток, что теперь уксус ни за какие деньги не купишь. Больше ей ничего не жалко. Пусть Болесловас ест невкусный борщ.
Она свернула полотенце и повязала им голову. Так она когда-то повязывала старой пани Яблоньской, когда та жаловалась на головную боль. Грешна, думала тогда — прикидывается барыня, чтобы муж пожалел. Чтобы подал в кровать порошок от этой ее мигрени, чтобы задернул в спальне шторы и чтобы все в доме разговаривали шепотом и ходили на цыпочках.
У нее порошка нет, шторы затемнения и так за ночь надоедают. Ложиться тоже некогда, — белье вторые сутки замочено. А ходить на цыпочках некому, — Болесловаса опять нет дома. Да и когда придет… Скорей камень разжалобишь, чем его. На все разговоры один ответ: «Ты своих евреев в подвале жалеешь, а я — Юстину».
Известно, как мужик молодую женщину жалеет. И вообще, нашел что сравнивать. Тем людям смерть уготована, а Юстининого Антона только на работы вывезли. И почему это именно Болесловас должен ее жалеть?
Врет он, что помогает. Не каждый же вечер надо чинить дверь или пилить дрова. А воду может и сама принести, не велика барыня. Была бы порядочная, не позволяла бы женатому человеку, уже деду, засиживаться. У него, слава Богу, есть свой дом, где тепло, чисто, где он и накормлен и обстиран. А те, что в подвале, ему не мешают. Он и не знает, когда она туда ходит, не слышит, как она встает. Храпит себе спокойно, пока она тихо одевается, дрожа от страха, бежит к развалинам, сует в ямку еду и спешит обратно. Еще долго потом лежит без сна и прислушивается — не идут ли за ней. А перед той ночью, когда надо им что-нибудь нести, еще на работе все валится из рук.
Но что делать? Дать людей убить?
Моника вздохнула. Раньше, бывало, чем руки заняты, о том и голова думает. А теперь — руки стирают, а на сердце такое беспокойство.
Мало ей горя с Болесловасом, так еще мучайся, что они там, в подвале, без еды. Даже шелуху, которую она, прости Господи, нарочно выбросила поближе к их двери, съели. Но ведь нечего им нести, нечего! Для ребенка несколько вареных картофелин подложила. Должен же доктор понимать, что она эту сережку даже предложить никому не может. Как объяснит, откуда у нее такая вещь? Да еще одна. Когда меняла пиджак старого доктора, говорила, что это — Болесловаса. Тряслась, чтобы не заметили — пиджак-то невысокого мужчины. И насчет медальона врала. Даже на исповеди не покаялась, что врала, будто он ее, будто старая пани Яблоньска перед смертью подарила за то, что хорошо за ней ухаживала. А ведь отродясь такой вещи и в руках не держала. Хорошо еще, что недолго пришлось врать, бригадирова краля сразу схватила. Как же ей без таких цацек обойтись, если к начальству в гости шляется. Только и слышишь: «Мы с бригадиром были у знакомого капитана», «Нас пригласила на крестины племянница бургомистра». Пригласил бы их кто-нибудь на кладбище, да там и оставил. Господи, прости меня, грешную, за такие слова.
Когда таких вот паскуд ругают, так хоть понятно. А ее за что? Уж тот мужской свитер, видно, докторова сына, на другой конец фабрики, в политурный цех понесла и то, пока выменяла, натерпелась. Одному мал, другому велик, третьему вообще не до свитера, голодных ртов дома больше, чем хлеба. Ладно бы только так отвечали. Так нет, еще зубоскалят:
«Моника, откуда у тебя лишний свитер?»
Или:
«Так отдавай, ведь и самой, наверно, даром достался».
А змей Жемгулис и вовсе словно кипятком ошпарил:
«Ты этот свитер с живого еврея сняла или с мертвого?»
Она и не видела, что на свитере следы от желтых звезд остались…
Сказала бы ему, чей это свитер. И что не она его сняла, а сами, бедняги, в таком холоде должны с себя теплые вещи снимать. Только нельзя этого говорить. Никому нельзя. Хорошо, что старик Диргела выручил:
«Давай! Покрашу и буду носить».
Зато насчет цены уже и заикаться не смела. Что дал, за то и спасибо.
Потому этот женский меховой воротник оставила себе, хоть не надо никому объяснять, откуда он. Даст Бог, будет после войны справлять Тересе пальто, а воротник уже есть. И не обидела она их. Отдала за него не меньше, чем кто-нибудь другой дал бы. Две буханки хлеба, большой, на весь противень, гречишник и целую кошелку брюквы.
А сережка ей ни к чему. И расплачиваться за нее нечем. Предложить, даже бригадировой крале, страшно, — уж она обязательно спросит, откуда.
Но докторова семья, кроме картофельной шелухи, уже три дня ничего не ела.
Сказать, что сережку нашла?
Никто не поверит. Такие вещи не валяются на улице.
Разве что… Ведь позапрошлой ночью опять гнали из гетто. На фабрике знают, что мимо ее дома. Могла же какая-нибудь женщина ее выкинуть, чтобы не досталась немцам. Моника быстро бросила недостиранную рубашку обратно в корыто и зажмурилась, — так придумывать легче. Скажет, что утром вышла из дома, а боты, оказывается, забыла застегнуть. Нагнулась и тут увидела…
Не поверят.
Она снова принялась стирать. Будут зубоскалить — никто почему-то таких вещей не находит, а перед тобой прямо на улице валяются. Вконец завралась. И правда, завралась…
Хоть бы Болесловас ее скорее пришел. Не будет она ему ничего выговаривать. И не спросит, почему опять так поздно. Молча нальет супа. Каша, наверно, тоже еще теплая, кастрюля в два одеяла завернута и под периной стоит. Она ему все подаст, а сама выйдет, чтобы с языка не сорвалось про Юстину. Только придумает себе работу, будто не нарочно, а по делу вышла. Вынесет половик во двор вытряхивать. Подметет лестницу. И только потом, когда Болесловас будет сыт, спросит, что делать с этой сережкой.
А если ему взбредет в голову подарить ее Юстине? Скажет: «Дай, предложу кому-нибудь на работе», а сам…
Нет, шиш ей! И нечего с Болесловасом советоваться. Вернет она доктору эту сережку. Положит обратно в тайник, а для них выменяет свое коричневое платье. Его все на фабрике видели, поверят, что свое меняет, и перестанут языками молоть.
А если Тересе спросит, почему она и в воскресенье в старом? Как ей объяснить, зачем выменяла коричневое? Знает же, что отец подрабатывает, еще и им от этих приработков перепадает. Война войной, а пока человек жив, ему и дверь, если перекосило, починить надо, и оконную раму вставить. Правда, в последнее время, как стал пропадать у Юстины, ничего не приносит. Говорит, заказчиков нет.
Дочери этого не объяснишь. Да и про докторову семью в подвале она ничего не знает. Болесловас за претил ей говорить. Сама бы тоже не стала, — зачем еще и Тересе не спать по ночам? И про Юстину ничего не рассказала. Пока ее собственный Зенонас на других не заглядывается, пусть не знает, какая это боль.
Господи, ниспошли покой! Пусть будет, что Болесловас и правда к Юстине просто так заходит. Ведь с мужем ее, Антоном, вместе работали, а Юстина осталась с тремя маленькими детьми.
Просто так он к ней заходит. Просто так. Уже стар он для таких забав.
Кто их знает, мужиков? Для старой жены и сам дед. А при молодой женщине… Правда, Юстина не такая уж молодая. Только вертлявая очень. И волосы на бумажки накручивает, и вечно с голой шеей ходит. А уж вырез на платье! Да еще при мужчинах — что при своем, что при чужом — норовит так нагнуться, чтобы они за пазуху глазами зыркнули. Оттого каждый год по ребенку и рожала.
Но сама ведь тоже рожала бы. Что делать, если второго, мальчика, Бог призвал, когда дитя еще в ней было. Мертвенький родился. И третьего не доносила. Доктор объяснил — слишком тяжелая работа. И правда, тяжелая… Но другой работы не было. Это потом уже перевели на склад, только она больше ни разу не понесла.
Сколько лет прошло, а сердце все еще болит по ним — мертвому сыночку и неродившейся девочке. Акушерка сказала — девочка была бы…
Нельзя Бога гневить. Зато Тересе какая выросла. И красивая, и статная. Внученьку хорошую родила. А после войны и внука родит. Только, говорят, война еще долго протянется.
Моника вздохнула. Выжала последнюю наволочку и вытерла руки, — пора задергивать черную штору и зажигать свет. И так уж почти дотемна досумерничалась.
Она подошла к окну, взялась за край шторы, привычно глянула на развалины, туда, где лаз в подвал, и…
По лазу пробирался человек… Остановился. Опять двинулся.
Не доктор, этот крупнее. Сын? Но доктор же обещал, что никто, кроме него, выходить не будет. И что сам будет добираться только до того места, где она оставляет еду. А этот… Его же могут увидеть!
Если не сын? Чужой? Заподозрил что-то или увидел, как она туда ходила, и решил проверить. Сейчас распрямится, выйдет на улицу и — прямо в немецкий комиссариат.
Она рывком задернула штору. Человек остался там.
А может, все-таки сын? Доктор же говорил, что у него два сына.
Но почему он вышел? И в такое время, когда никто еще не спит. Его же из любого окна могут увидеть. А уж если эта рыжая паскуда сверху или ее муженек теперь стоят у окна…
Они рано опускают шторы. Первыми зажигают свет. Дворничиха говорила, во всех комнатах сразу. Как же, богачами стали, могут себе позволить.
Если это все-таки сын доктора, то почему он вышел? Неужели… — она даже дышать перестала от такой мысли, — неужели он поднимется сюда, чтобы спросить, почему она не оставляет им еды?
Моника прислушалась. На лестнице тихо. И за дверью, кажется, никто не стоит…
Не может он к ней прийти. Не говорила она доктору, в каком доме живет. Только — что по соседству. А стучать в каждую дверь и искать ее не станет. Неизвестно, кто откроет…
Но если это, не дай Бог, чужой человек?..
Надо несколько ночей не ходить туда. Все равно нечего нести. Только чтобы они совсем не оголодали, опять выбросит шелуху. И пару целых морковин для ребенка. Хлеба нельзя, — соседи удивятся, у кого это теперь лишний хлеб?
Она чуть отодвинула штору. Никого не было.
XII
Виктор не предполагал, что ноги до такой степени отвыкли по-настоящему ходить. Сердила неприятная подколенная дрожь и слабость атрофированных мышц. А он должен выглядеть уверенным в своей безопасности и вполне благополучным человеком. Ничего жалкого, ничего вызывающего подозрение. Увидев его, Феликс должен понять, что он абсолютно тот же, товарищ студенческих лет, коллега. Расовые предрассудки не могут разделить их — Феликса Будрайтиса и его, Виктора Зива. Если бы в таких условиях, в каких теперь находится Яник, оказались бы его Генуте и Кастите, они с отцом, да и вся семья спрятали бы и Марию и девочек. В маленькой комнате. Дверь в нее замаскировали бы книжным шкафом, в нижнем ящике выпилили бы заднюю стенку для передачи пищи и все.
У Феликса вход в детскую тоже можно закрыть. Буфетом. Девочки еще маленькие, не поймут, почему их кроватки вынесли в спальню родителей. А Яника надо будет туда привести, когда они уже будут спать.
Феликс не откажется их принять — Алину с ребенком. Наверно, и просить не придется, он сам предложит, когда узнает, в каких Яник условиях. Там не только ребенку, взрослым больше не выдержать.
Ноги, кажется, уже привыкают к ходьбе, не так дрожат. А боль, к счастью, не видна. Да и никто не обращает на него внимания. С какой стати должны обращать? Мало ли какое на человеке пальто. И, может быть, оно даже не такое уж мятое, — мать с Алиной его и снегом протирали, и руками разглаживали. Прямо на нем.
Отец не понял, отчего это обе женщины так долго разглаживают на нем пальто. А ведь мать вообще всю жизнь, то под предлогом, что снимает пушок с рукава, то без всякого предлога, старалась прикоснуться к нему, погладить. Алина тоже…
Нашел время для лирики! Главное, чтобы Феликс оказался прежним, чтобы принял Алину с Яником.
Феликс не мог измениться. Друзья не меняются. То есть такие люди, как Феликс, не меняются. А свое отношение к гитлеровскому национал-социализму, тем более к этой маниакальной теории уничтожения целого народа, давно определил.
Отец с мамой еще надеются, что Феликс поможет найти убежище и для Ноймы. Она светловолосая, не похожа на еврейку… Сами попытаются пойти к старому аптекарю, Зелинскасу, который дал снотворное для Яника. Но дать полграмма люминала безопасней, чем прятать у себя двух обреченных стариков.
Кажется, он уже сам начинает думать, как Алина.
Однажды, еще в гетто, Алина призналась, что, когда их ведут на работу, она все время смотрит на дома. Их же в городе так много! Если в каждом кто-нибудь спрятал бы хоть одного ребенка, сколько детей осталось бы жить. Тогда он ей ответил: «За это, к сожалению, могут убить не только спасаемых, но и их спасителей». Алина вздохнула: «Их только могут убить. Если найдут. А детей, которые в гетто, убьют наверняка». Теперь он сам ждет, что Феликс, у которого две девочки, спрячет у себя Яника. Да еще с Алиной.
Вдруг он почувствовал, что за ним кто-то идет. Шаг в шаг. Но оборачиваться нельзя. Надо идти, как шел. Если тот, сзади, обыкновенный пешеход, обгонит.
Не обгоняет. А до парадной Феликса осталось всего пять, нет, уже четыре дома.
Значит, придется пройти мимо. Будто вовсе не сюда шел. Дойти до костела и, если он еще не закрыт, войти туда. Встать в тень колонны и сделать вид, что молится. Там его не решатся задержать. Храмы пользуются правом экстерриториальности. Но тот, который идет за ним, может с этим не посчитаться. Нацисты вообще ни с чем не считаются.
Внезапно, в какое-то мгновенье он почувствовал, что сзади никого нет. Он снова идет один. Не совсем, конечно, один. Навстречу идут двое мужчин с портфелями. По той стороне улицы женщина везет на саночках ребенка. Понимает ли она, как это хорошо, что она может везти ребенка открыто, что он дышит свежим морозным воздухом.
Сзади никого нет. Это мог быть просто человек, живущий в одном из здешних домов.
Не похоже. Он явно шел за ним. Теперь нарочно отстал или свернул в какую-нибудь парадную и следит, что он будет делать.
Какой смысл следить? Если на самом деле что-то заподозрил, мог сразу догнать и потребовать документы.
И все же обернуться Виктор не решался. Шагал подчеркнуто выпрямившись. Даже затылок заболел от напряжения.
Наконец поравнялся с костелом. Оттуда доносились звуки органа. Значит, идет служба и горят все люстры. Слишком светло.
Он прошел мимо. Дошел до угла и неожиданно повернул обратно. Нельзя бояться, что из каждой парадной следят.
Он идет слишком быстро. Ничего, лучше так, чем плестись. Тем более что дом Феликса уже совсем близко.
Дверь он, кажется, тоже рванул чересчур резко. Зато теперь все, он уже внутри. Осталось только подняться по лестнице.
На подоконнике сидит мужчина! Значит, все-таки…
— Здравствуй, Виктор.
— Феликс?! — Он остановился, но дверную ручку не отпустил.
— Извини, что напугал тебя. Там, на улице, я не мог понять — ты это или не ты?
Он должен немедленно успокоиться.
— Значит, это ты изучал мою спину? А я, признаться, думал, что совсем другая личность.
— Я это понял, когда ты прошел мимо нашей парадной, демонстративно отвернувшись.
А он и не почувствовал, что отвернулся.
— Поэтому и решил тут подождать. Если это все-таки ты, то ведь не ради прогулки по нашей ничем не примечательной улице рискнул выйти из гетто.
— Я не совсем оттуда.
Феликс не обратил на эти слова внимания. Но почему-то молчал, опустив голову. Наконец заговорил:
— Мария, сам знаешь, очень впечатлительна. А теперь особенно. И жизнь такая, и она… видишь ли, мы ждем прибавления семейства.
Надо сказать, что он понимает…
— Время для этого, конечно, не самое подходящее.
Но раз уж так получилось. — Феликс поднял голову. — А вдруг будет сын.
— От души желаю.
— Тесть, правда, не доволен. Говорит, что даже сын теперь некстати.
— Рождение ребенка всегда кстати. А вот убийство…
— Извини, я не спросил…
— Пока мы еще живы.
— Надеюсь, все?
— Все.
— Слава богу. — Он опять уставился в пол. А раньше никогда не смущался.
— Виктор… Ты не обижайся, но сперва я поднимусь один. Подготовлю Марию. Я быстро, сразу вернусь за тобой. Не обижайся, пожалуйста.
— Да что ты! Иди. Он не обижается.
Виктор слышал, как Феликс поднимается по лестнице. Как открывает дверь. Закрывает. Теперь здесь совсем тихо. Будто наверху, ни за одной дверью, никого нет. Люди научились даже в своих квартирах жить беззвучно.
Что Феликс говорит Марии, как объясняет, зачем он пришел? Надо было сразу сказать.
Но ведь неожиданный приход объясняют только чужому человеку. А Феликсу не надо.
Не в неожиданности дело, а в том, почему он пришел. Это тот, давний приходил сюда просто так. Поднимался по лестнице, этой же, только освещенной, звонил в дверь. Ее сразу открывали, были ему рады. А теперешний он, который тут стоит в темноте и ждет… Нет, нет, он тот же! Виктор напрягся, заставил себя почувствовать это: он — тот же. Ничто его не изменило!
Он неожиданно шагнул вверх. Одна ступенька. Две. Три. Вот ведь поднимается по лестнице, как обычно.
Дверь приоткрылась, когда он был уже почти возле нее.
— Входи. — В передней Феликс привычно протянул ему руку. Значит, он тоже прежний. — Раздевайся, Мария укладывает девочек, сейчас выйдет.
Только здесь, на свету, Виктор увидел, до чего грязное и мятое у него пальто. И ему стало неловко. Правда, Феликс делает вид, что это его не смущает. Открыл дверь на кухню.
— Извини, что веду сюда. — И стал поспешно убирать со стола детские чашечки, тарелки. На одной н е доеденный кусок хлеба. — В столовой теперь спят девочки. В их комнату вселили…
А он как раз рассчитывал на то, что детскую можно замаскировать шкафом…
— …к счастью, наш штурмбанфюрер укатил в свой «фатерланд». Отпуск получил за какие-то особые заслуги. Да черт с ним!
Значит, здесь им нельзя…
— Хочешь, пока ждем Марию, принять ванну? — Феликс распахнул дверь в ванную, зажег свет. — Вода в колонке еще теплая, Мария недавно топила.
— Спасибо.
Он уже давно не мылся. Все они давно не мылись и не раздевались. Но ведь не ради этого он пришел…
Феликс открыл кран, и из него знакомо полилась вода.
— Сейчас принесу другие брюки. Мыло, извини, только такое, жидкое. — Он показал на баночку с темно-зеленой жижей.
Виктор смотрел, как наполняется ванна, как пузырится вокруг струи вода. Кивнул Феликсу — спасибо, — когда тот принес свои брюки и рубашку. Впрочем, кивнул, уже когда закрылась дверь.
Потом он лежал в ванне, и его мягко обволакивало тепло. Все тело чувствовало это забытое тепло. Мгновеньями он спохватывался, что дремлет. Заставлял себя разодрать веки, шевелить пальцами рук, ног, чтобы на самом деле не заснуть. Не хватало только такой бессмыслицы — утонуть в ванне.
И все-таки он, кажется, на миг заснул, даже приснилось что-то хорошее — летний день, озеро, солнце. Когда услышал голос Феликса, не сразу сообразил, где он.
— Профессор, чего не отвечаешь?
Это они еще на первом курсе так прозвали друг друга.
— Я сейчас. Сейчас выйду.
— А Мария уже решила, что ты утонул. Посылает меня спасать.
Он окончательно вернулся в явь. Хотел сказать, что не его и не из ванны надо спасать. Но об этом потом. Сейчас надо быстро выпустить воду…
Яник уже столько времени немытый…
Вытираясь, он случайно глянул в зеркало и… почти не узнал этого заросшего щетиной человека. Он, конечно, знал, что давно не брит, сокрушался, что отец из-за окаймляющей лицо седины окончательно постарел. И Марка борода не украшает. Но что сам он так выглядит… Даже странно, что Феликс узнал его.
— Профессор, ты уже готов? — Феликс опять постучал в дверь.
— Готов. — Надо было сказать, что еще хотел бы побриться.
Он снова глянул в зеркало. К тому же эта щетина слишком подчеркивает его не арийский вид.
— А борода тебе идет, — улыбнулась Мария, скрывая свое смущение.
— Только непонятно, откуда в ней рыжие волосы, — Феликс тоже улыбался. — Какая-нибудь бабка случайно не согрешила, а?
— У тебя одни грехи на уме, — махнула рукой Мария. Рожать ей, пожалуй, через две-три недели.
— Почему одни грехи? Виктор может подтвердить, что вне дома я вполне серьезный человек.
Он может подтвердить только старание обоих делать вид, что его приход их ничуть не взволновал. Но они встревожены. Сильно встревожены. Поэтому надо не откладывать разговора.
— Я бы ни в коем случае не решился подвергнуть вас опасности и прийти, если бы не безвыходность нашего положения.
Феликс опять — что за привычка у него появилась! — опустил голову. А Мария, наоборот, смотрела на него так, будто именно глазами, удивленно-испуганными глазами, вбирает каждое его слово. И он объяснил, откуда пришел, сколько времени они уже там, что больше им не выдержать, особенно Янику. Поэтому он решил найти какое-нибудь другое, относительно безопасное и не такое холодное место.
Феликс по-прежнему смотрел в пол. Теперь и Мария опустила глаза. И ему не оставалось ничего другого, как объяснить:
— Я не знал, что к вам вселили немецкого офицера. И что ждете ребенка. — Виктор понимал, что сам подсказывает им основание для отказа, но все равно повторил: — Я… мы с Алиной не думали, что могут быть, так сказать, дополнительные сложности.
Он умолк. Теперь на кухне было очень тихо…
— Мы не могли… — Наконец Феликс заговорил, — воспротивиться его вселению.
— К соседям напротив тоже вселили, — поддержала его Мария.
— Понимаю…
Снова стало тихо.
— Твоих бы надо в такое место, где не будет свидетелей.
Это он и сам понимает.
— Ой! — воскликнула Мария и положила руку на живот. Третья беременность, а все еще умиляется каждому движению ребенка. Но нет, она, кажется, не потому. — Я придумала! Надо поговорить со Стефой, она ведь живет одна.
— Вы ее хорошо знаете?
— Алина ее хорошо знает. Когда-то они были лучшими подругами. Стефа из их дома просто не вылезала.
— Алина что-то рассказывала. Но потом они, кажется, перестали общаться.
— Это когда Стефа вышла за своего старика.
— Допустим, не за него, — уточнил Феликс, — а за его деньги.
— Он… — Мария запнулась, — не очень любил людей вашей национальности.
«Людей вашей национальности…»
— …но теперь, когда его нет…
— Старое сердце не выдержало радости, когда немцы вернули национализированный Советами особняк, — опять внес ясность Феликс.
О Стефе сказали все. Казалось, они не знают, о чем еще говорить. Молчание становилось всем троим в тягость.
Неожиданно Феликс поднялся.
— Пожалуй, схожу за ней.
— Не поздно? — Виктор спохватился, что скоро комендантский час. Здесь, в этой такой знакомой кухне, он забыл о времени.
— Ничего, я проходными дворами. Она живет близко, через три дома от нас. — У порога он остановился. — Хочешь побриться?
— Да, да, конечно! — Он не только хочет, ему обязательно надо побриться. Если эта Стефа видела его когда-то с Алиной, она не должна заметить никаких перемен.
— Бритва в ванной, на полочке. И кисточка там. А мыло — сам видел, какое.
— Спасибо, найду.
Он вернулся в ванную. На табуретке лежат его грязные и мятые брюки. Рубашка. В таком виде он сюда пришел. А Стефа не должна его видеть таким, заросшим.
Он развел мыло, макнул кисточку. В зеркале по-прежнему отражался незнакомец, похожий на него. Только когда из-под щетины стало появляться лицо, он начал узнавать себя. Оказывается, он сильно похудел. Но это для Алининой подруги не имеет значения.
Когда он побрился и вернулся в кухню, Мария обрадовалась его виду:
— Все-таки без бороды привычнее!
Он и сам после ванны и бритья почувствовал себя другим. Словно к нему вернулось что-то прежнее. Вдруг он вздрогнул — звонят!
— Не пугайся, это Феликс. Вечно забывает взять ключи. — Мария пошла открывать.
— Так у тебя еще нет схваток? — Голос звонкий, веселого человека. — Феликс меня так торопил, что я думала — под окном уже стоит извозчик и надо помочь отвезти тебя в больницу.
— Как видишь, еще не надо.
— Даже нос напудрить не дал. — Она появилась на пороге — улыбающаяся, веселая. — О! У вас, оказывается, гость!
— Вы разве не знакомы? — спросила Мария. — Это Виктор Зив, муж Алины.
Стефа, кажется, вздрогнула.
— Что с нею?
— Ничего. Пока ничего…
— Слава богу! Я ее часто вспоминаю. — И добавила зачем-то игриво: — Правда, говорят, что молодость начинаешь вспоминать на пороге старости.
Надо было бы возразить, что к ней это не относится, но он еле выдавил из себя:
— Юность всегда приятно вспоминать.
— Ты ведь и родителей Алины знаешь, — опять пришла на помощь Мария.
— Как же! Ее мать решала за меня задачки по алгебре.
— А теперь? — спросил Феликс.
— Что теперь?
— Самостоятельно решаешь задачи?
Стефа недоуменно посмотрела на него. На Марию.
— При чем тут?..
— Алгебра, конечно, ни при чем. Я имею в виду другие задачи.
Стефа все так же непонимающе смотрела на него, и он пояснил:
— Те, которые ставит жизнь, особенно сегодняшняя жизнь.
Стефу эта загадочность только напугала. С лица исчезла улыбка.
— Вы же знаете, что я за Зигмасом была, как за каменной стеной. Теперь, когда его нет, я это особенно чувствую.
— Пасынок донимает?
— Совсем обнаглел. Уже требует не половину доходов от дома, а три четверти, их, видишь ли, стало трое.
— Кто у них родился?
— Мальчик. Как пасынок заявил: «Вы, наверно, самая молодая бабушка на свете. Ничего, что не родной, все равно внук». Наверно, вырастет таким же вымогателем, как его отец. Тот еще при жизни Зигмаса требовал наследство. Теперь подавай ему три четверти доходов от дома.
Мария с Феликсом ее слушали, и Виктору стало казаться, что они забыли о нем. Переживания Стефы им проще разделить…
Нет, Мария не только сочувствует. Она явно озабочена.
— Не стоит с ним ссориться. По крайней мере, пока тут хозяйничают эти «хайльгитлеры». Он, кажется, с ними в хороших отношениях.
— А кто ссорится? Я даже предложила ему переписать половину дома на него, пусть подавится. Не хочет. Смеется, змей. «А если вернутся Советы, опять национализируют дом, объявят буржуем и вывезут в Сибирь? Пусть уж лучше тебя вывозят. Ведь тебе папочка оставил дом, ты и считайся его владелицей. Только вот денежками, которые получаешь от жильцов, поделись. По-родственному, конечно».
— И все-таки не ссорься с ним, — повторила Мария. — Но я… мы… хотели тебя попросить…
— Дело в том, — Феликс, видно, решил объяснить прямо, — что Алине с ребенком некуда деваться. Из гетто вырвались, но сидят в каком-то насквозь промерзшем подвале. Считай, почти на улице.
Стефа вздохнула.
— Мы бы не стали тебя беспокоить, — снова заговорила Мария. — Но у нас, сама знаешь, живет немецкий офицер. И в квартире напротив живет.
Стефа испуганно смотрела на них.
— Ко мне ведь тоже могут вселить. Или к кому-нибудь из моих жильцов.
Феликс пожал плечами.
— Вряд ли, если до сих пор не вселили. Зачем стеснять господ, живущих в таком респектабельном доме? С ними надо, по крайней мере, до поры до времени, заигрывать.
— Да и… некуда.
— Можно в самую маленькую комнатку, — решился встрять Виктор. — Даже в каморку. Только замаскировать вход шкафом.
Стефа молчала. А Мария то загибала край клеенки на столе, то распрямляла его.
— С едой мы, конечно, поможем.
— Не в еде дело. Запрещено ведь. И если кто-нибудь, даже прислуга, донесет…
— Вероника?! Она не только не донесет…
Стефа прервала ее:
— Я Веронику уволила. Поверила, дуреха, какому-то сердцееду, что женится. — Она умолкла, явно ожидая сочувствия. Не дождавшись, принялась оправдываться: — Не могу же я устраивать в своем доме приют для обманутых девиц. Да и какая из прислуги с ребенком работница? Я уже наняла другую. Старую деву, по крайней мере, на свидания бегать не будет.
Мария по-прежнему загибала и распрямляла край клеенки. Феликс о чем-то думал.
Вдруг за дверью закашлял ребенок. Виктор вздрогнул, но сразу спохватился — здесь можно кашлять, это в подвале нельзя.
— А если некоторое время обойтись без прислуги? — неожиданно спросил Феликс.
— Как это… без прислуги?
— Живешь одна.
— Все равно. Алину все равно не могу. Как же я объясню знакомым, которые приходят, отчего это я вдруг заслонила шкафом дверь в бывшую мамину комнату? А не заслонить, чтобы она просто так там жила… Теперь такие строгости!
Феликс молчал, и она это приняла за согласие. Заговорила более уверенно:
— Придут ночью проверять, нет ли посторонних, а у Алины никаких документов нет, волосы и глаза черные. Сразу поймут, кто она.
Сейчас ему, наверно, надо подняться, чтобы избавить Феликса с Марией от необходимости унижаться перед Стефой. Да и саму Стефу освободить от этих объяснений. Но тогда он должен будет вернуться в подвал ни с чем…
Нет, ему нельзя подняться и уйти. Но и оставаться, ставить людей в такое трудное положение — тоже нельзя.
— А если… — Феликс умолк, словно что-то обдумывая. — Если у Алины будет какой-нибудь документ?
— Откуда?! — Даже Мария удивилась.
Он не ответил. Только более спокойно повторил:
— И все-таки допустим, что у Алины будет какой-то документ.
— Так ведь… наверно, фальшивый.
— Во всяком случае, не на имя мадам Зив.
— А фотография? — ухватилась Стефа. — Даже на временном удостоверении должна быть фотография.
— И отпечаток пальца, — уточнил Феликс.
— Отпечаток — это неважно. А вот то, что Алина черноволосая…
— У меня есть перекись, — поспешила успокоить ее Мария. — От перекиси волосы, сама знаешь, как светлеют.
Феликс опять что-то обдумывал.
— Откажи той, которую хотела нанять, и сможешь всем говорить, что Алина — вместо уволенной Вероники.
— Что ты? Как же… Как же я могу… чтобы Алина…вместо… Нет, нет! И… и я же потому уволила Веронику, что не хочу с ребенком.
Не возьмет она их. Не возьмет.
— А… — Феликс опять уставился в пол, — …а без ребенка?
— Исключено! — Виктор понимал, что крикнул слишком громко, и повторил тише: — Это совершенно исключено.
— Не бурли. И ты, — Феликс снова смотрел на Стефу, — не торопись отказывать. От того, что мы с тобой сейчас решим, зависит — давай все называть своими словами — расстреляют ли Алину с ребенком или нет. Можно, конечно, успокаивать себя надеждой, что их в том погребе не обнаружат. Но они там замерзнут. Понимаешь, замерзнут! Я не представляю себе, как они до сих пор живы. Особенно Яник.
Виктор не выдержал.
— Я понимаю, что хочу от вас… от всех вас непосильного…
— Оставь свое благородство на потом, — прервал его Феликс.
Стефа молчала.
— Видишь ли… — Феликсу этот разговор тоже дается все с большим трудом. — Если только бояться, только думать о том, что они могут найти, покарать, то ведь и теперь, уже через минуту на лестнице может раздаться топот, трезвон и стук прикладами в дверь.
Женщины вздрогнули.
— Но пока я не напомнил, ты же не думала об этом. А у Виктора, насколько я понимаю, никакого документа нет. И, как видишь, он не блондин.
— Но он у вас. И если немцы нагрянут, ты… вы с Марией что-нибудь придумаете. Или я успею уйти через черный ход. А дома отвечаю я. И совсем не умею ничего придумывать.
— Можно заранее сочинить подходящую версию. — Феликс задумался. — Например, что прежде ты этой женщины не знала. И это будет почти правда, ты же на самом деле не знала какой-то Марцелины, Вероники, или еще как там по документам будет называться Алина. Станешь божиться, что пришла эта Марцелина или Вероника с рекомендательным письмом от госпожи…Придумаем какую-нибудь госпожу с громкой, желательно смахивающей на немецкую, фамилией. Для большей верности и само письмо настрочим.
Он опять говорит только об Алине. И Виктор напомнил:
— Одна, без Яника, Алина не сможет…
Но Феликс на эти слова не обратил внимания.
— Подумать тебе, конечно, надо. И решать только самой, без советчиков. Ни мы с Марией, ни сам благородный джентльмен Виктор не будем тебя неволить. Словом… Сейчас я тебя провожу домой. Так сказать, откуда привел, туда доставлю. А завтра, с любым решением, приходи пораньше. Виктор остается ночевать у нас.
В столовой опять пробили часы. Уже два.
Надо было остаться на кухне. Раз все равно не лег, лучше бы сидел там. По крайней мере, не лезли бы в голову эти неврастенические мысли. Впрочем, не такие уж они неврастенические. Вполне возможно, что живущий в этой комнате эсэсовский офицер руководит расстрелами. И может быть, это он определяет, сколько человек в эту ночь расстрелять — тысячу, три тысячи или просто столько, сколько успеют «ликвидировать» до рассвета. А там, в лесу, в окружении свиты лично следит, как солдаты расстреливают. Потом приходит сюда, ложится на этот диван и отдыхает.
Но хватит! Он не должен думать об этом. Здесь детская. У той стены стояли две кроватки. И никакого ему нет дела до того, чьи в шкафу вещи. Шинель и шапку Феликс вынес отсюда и повесил в передней. На случай непрошеных гостей. Так и объяснил:
— Если заявятся проверять документы, не станут же они беспокоить «спящего в крайней комнате господина штурмбанфюрера».
Да, в изобретательности Феликсу не откажешь.
Но для Яника он ничего, кроме приюта для сирот, придумать не смог.
В первое мгновенье мысль отдать ребенка в приют и ему самому показалась спасительной. Но, увы, только в первое мгновенье. А когда Феликс убеждал, что приют теперь, пожалуй, единственное относительно безопасное место, что заведующий, какой-то Унтулис, их земляк, неплохой человек и, хочется верить, не откажет, а чтобы избавить его от лишнего риска, можно Яника оставить в условленное время на крыльце, пусть его там «случайно» обнаружат как подкидыша, он уже думал совсем о другом. Как объяснить Янику, почему он там должен быть один и никому не проговориться, что у него есть мама с папой, бабушка, дедушка? Как внушить, чтобы не рассказывал, откуда его сюда привели? Как втолковать, что даже когда очень захочется нельзя сходить по малой нужде при другом мальчике? Не может ребенок выдержать столько запретов, выдаст он себя.
Это и пришлось им сказать. Мария сразу согласилась. А Феликсу труднее было отказаться от своей идеи, которая казалась единственным выходом из безвыходного положения. Но и он, подумав, признал:
— Ты прав. — И повторил: — К сожалению, прав.
Больше Феликс ничего предложить не мог.
— Попробуй поговорить с Домиником, — неуверенно посоветовала Мария.
— Не согласится. Ты же знаешь его теорию: «Когда петля на шее, не шевелись — авось не затянется».
— А если попросить Роберта? — вспомнил он их общего друга студенческих лет. Правда, их пути разошлись.
— Бесполезно. Даже опасно.
— Настолько он изменился?
— Особенно и меняться не надо было. Он же давно откололся.
— Тогда я думал, что это не всерьез.
— Очень даже всерьез.
— И Генрик отпадает, — поспешила вернуть их к главному Мария.
— Он тоже изменился?
Феликс пожал плечами.
— По-моему, он меняется вместе с обстоятельствами. Ты же помнишь, пока считалось, что здесь Польша, он был поляком Томашевским, а когда край вернули Литве, стал литовцем Томашаускасом и жаловался на притеснения. Теперь фамилию менять вроде ни к чему, зато усердно и во всеуслышание восторгается силой немцев.
— А Норейка? — И сразу почувствовал, что огорчил их.
— Тот не отказал бы. Но дай бог, чтобы самого не забрали.
— Кто-то донес, — пояснила Мария, — что его брат при Советах был директором национализированной фабрики. Значит, большевик.
Вот кого ему надо будет найти. Только потом, когда устроит своих. Но он не утерпел:
— А где этот брат теперь?
— Кто знает…
Феликс нахмурился.
— Лучше таких вопросов не задавать.
— Ты прав. Просто… мы были немного знакомы.
В прежние годы Феликс спросил бы, откуда. Но теперь не только советует не задавать вопросов, но и сам вопросов не задает.
— Может быть, Алекс?
Побоится. В чем, в чем, а в умении запугивать нашим «освободителям» не откажешь.
— Значит, Станиславу и вовсе не имеет смысла просить… — Она была последней его надеждой.
— Станиславу как раз можно было бы, — вздохнула Мария. — Но она сама ютится у родственников. Их дом разбомбили.
Да, в подвале, когда он думал об этом их разговоре, все выглядело иначе. Выходит, утопия… Или, как мама говорит, «воздушный замок».
Феликс молчал. И Мария больше ничего предложить не могла.
В столовой забили часы. Он стал считать. Одиннадцать. Там, в подвале, сейчас греются ходьбой. И Алина шепчет Янику, что, когда папа вернется, он их уведет отсюда. В настоящую комнатку, только с закрытой дверью. Там тоже надо будет сидеть совсем тихо. Зато будет тепло.
— А ты еще раз подумай о приюте, — неожиданно напомнил Феликс.
Мария тоже оживилась.
— Сам видишь, другого выхода нет. Единственное, что можно попробовать, — и она вопросительно посмотрела на мужа, — попросить Унтулиса взять туда Нойму, чтобы Яник не был совсем один. Поварихой или хотя бы нянечкой. — Она угадала мелькнувшую у него мысль и поспешила объяснить: — Ты не обижайся, но Алину туда нельзя. Потому что Нойму Яник привык называть тетей, а маму так называть не сумеет.
Да, к сожалению, она права…
— Но чтобы Унтулис мог взять ее на работу, — напомнил Феликс, — ей тоже нужен документ.
Мария сникла.
— Ты же сказал Стефе, что для Алины документ раздобудешь. Попробуй достать еще один.
— Пока и одного нет, а ты уже про второй.
— …Мы с тобой у двух разных ксендзов попросим выписки из костельной книги о крещении. Объясним, что человек потерял метрику, а для того, чтобы получить другую, нужна выписка. Правда, надо знать, на какую фамилию, чтобы такая запись в книге все-таки была. И чтобы возраст подходил.
Феликс сидел, уже знакомо уставившись в пол.
— Но если ты придумал что-нибудь лучшее…
И тут он сказал:
— Для Алины тоже надо искать другое место. Стефа отказалась.
Феликс повторил всю ее, как он выразился, речь. Оказывается, Стефа заговорила с ним сразу же, как только они спустились по лестнице. Начала с того, что при муже Алины не решилась все объяснить, но они с Марией должны ее понять — не может она прятать у себя Алину. Это ведь то же самое, что шагнуть в толпу евреев, которых ведут на расстрел. Искренне вздохнула. Очень ей жалко Алину и вообще несправедливо это — убивать невинных людей. Но раз уж немцы вбили себе в голову такое — как пойти против? Они же такие страшные, тем более что все равно не поможет это, — ведь документы у Алины будут ненастоящие; да и кто поверит, что такого интеллигентного вида женщина — прислуга. А главное, что и с крашеными волосами ее узнают — тут Феликс немного запнулся, — …глаза слишком еврейские.
Вдруг мелькнуло в памяти, как его поразили, когда он впервые увидел Алину, ее глаза. Огромные, бархатистые, и он долго не мог определить, что в них такое необычное, почему так тянет смотреть в эти глаза. До сих пор тянет…
— Профессор, ты нас слышишь?
— Слышу.
— А по-моему, ты сейчас далековато отсюда.
— Извините.
— Мария подала хорошую мысль — поговорить с женой Норейки, со Станиславой, словом, с теми, кто сам не может помочь, но остался нормальным человеком. Вдруг они кого-нибудь найдут.
— Спасибо…
Оттого, что опять забрезжила надежда, он острей почувствовал томившее весь вечер чувство вины за то, что взвалил на них такое опасное, непосильное бремя. Стал им объяснять, что не имел права к ним приходить, но другого выхода у него, к сожалению, не было. В подвале больше оставаться нельзя. Холодно. Да и неизвестно, что случилось с женщиной, которая им оставляла в условленном месте еду. Они уже несколько дней ничего, кроме снега… — О картофельной шелухе он говорить не стал. Он чувствовал, что не надо ничего объяснять, они все понимают. Но говорил. Только когда увидел в глазах Марии слезы, умолк.
Мария быстро вытерла глаза.
— Пойду постелю тебе в детской.
Так и сказала: «В детской».
Лучше бы не стелила. Он остался бы на кухне. Здесь, как только лег, словно уплыл куда-то. Но всего на мгновенье. Сразу ворвалась мысль: на этом самом месте после «праведных трудов» отдыхает немецкий офицер.
Он пересел в кресло.
Надо уснуть. Вот так, сидя. Он же в тепле. Оно должно расслаблять, клонить ко сну. И мягкое кресло, и настоящее одеяло.
Дома, хотя кровати были широкие, Алина всегда засыпала, уткнувшись ему в плечо. И в гетто так засыпала. Правда, оттого что они были у всех на виду, стеснялась. Лишь когда все в комнате засыпали и становилось по-ночному тихо, она осторожно поворачивалась на бок, легонько, словно виновато, утыкалась ему в плечо, и по ее дыханию он чувствовал, как она погружается в сон. Сам он тоже ждал этого — ее голову у плеча. Даже в подвале, где между ними лежит Яник, — Алина через него протягивает руку и кончиками пальцев касается его плеча.
В столовой снова забили часы. Половина. Третьего или четвертого? Он все еще не спит, а завтра нужна ясная голова и силы. Если кто-нибудь из друзей Норейки или Станиславы согласится принять Яника и Алину, он немедленно, то есть как только начнет темнеть, вернется в подвал, чтобы сразу же вывести их оттуда.
Внезапно его поразило, что он думает только о Янике и Алине. А родители? Нойма?
Нет, о них он тоже думает. Все время думает. И завтра, когда Феликс будет уходить к Норейке, еще раз напомнит.
Неужели действительно в целом городе не найдутся всего три прибежища для ребенка с матерью, двух стариков и молодой женщины?
Но ведь того же, чего и он, хочет каждый узник гетто. А немцы держат жителей города в постоянном страхе. «Кто будет помогать еврею, тот и сам будет приравнен к еврею».
А в самом гетто спрятаться тем более негде. Все эти тайники, так называемые «малины», солдаты давно научились обнаруживать. Всего-то и надо отодвинуть от стены какой-нибудь шкаф или буфет, и окажется, что за ним дверь в комнатку, битком набитую перепуганными людьми. Остается только «Heraus, schneller!», кого-то для наглядности стукнуть прикладом, кого-то пнуть ногой и все. А в той кладовке, где они во время последней акции сидели… Если бы кто-то не окликнул солдата, который уже сбивал замок, то сейчас их бы не было на свете.
Самое странное, что после каждой акции опять начинаются разговоры, что теперь — все, больше не будут угонять. Кто-то от кого-то слышал, а тому сказал какой-то хороший немец, что им нужна рабочая сила и, если будем честно работать… Отец это называет «колыбельной для легковерных», правда, не при женщинах, — при них отец делает вид, что верит. А сам он, Виктор, и при женщинах не делает вида. Мать даже как-то вздохнула:
— Виктор, какой ты безжалостно трезвый человек.
Возможно. Зато он не строит пустых иллюзий. Для того немцы и обнадеживают, чтобы эти глупые «Juden» поверили, не паниковали, не сопротивлялись. Человек, которому обещают сохранить жизнь, послушен.
В столовой опять забили часы. Уже четыре. Надо заставить себя уснуть. Заставить.
Когда Борька был маленький, он все спрашивал: «Как можно заставить себя?»
Что с ним?..
Мать надеется, что они встретятся. Когда он выходил, шепнула:
— Разыщи Бореньку.
Разыщи. А где?
XIII
Алина осеклась на полуслове: опять чуть не назвала Пранукаса Яником. Хорошо, что он не расслышал, — занят своей кашей.
— Ешь, Пранук. — Она погладила его по головке.
Малыш не виноват. Ведь и ночью, когда она в своей каморке одна, тоже тоскует по Янику. Еще больше, чем днем, когда рядом хотя и чужой, а все-таки ребенок. И по Виктору тоскует. И по маме, по папе Дане. И по своим родителям. Что с ними?.. Говорят, в небольших городках сразу, в первые же дни, всех расстреляли.
Она едва сдержала вздох. Не получается, как Виктор наставлял, «не вспоминать прошлого и чувствовать себя Мартой Шиховской». Не может она не тосковать по Янику. И откладывать эту тоску до ночи, когда останется одна, тоже не может… Уже дважды оговорилась при хозяйке, назвала Пранукаса Яником.
В тот, первый раз хозяйка была только очень недовольна. Но поверила в придуманное на ходу объяснение, что там, где она раньше служила, тоже был мальчик и его звали Яником. Зато когда во второй раз оговорилась, мадам так посмотрела на нее… С того вечера стала бояться, что она что-то подозревает, о чем-то догадывается.
Не надо думать об этом! Если бы хозяйка заподозрила что-нибудь, она не стала бы ее держать ни одного часа. А что вчера опять рылась в каморке, так это обычное дело, все они проверяют вещи своих прислуг, — не украла ли что-нибудь.
Правда, у нее рыться не в чем. И все равно прислуга, которая пришла наниматься без вещей, у любой хозяйки вызвала бы недоверие. Поэтому и «рекомендательное письмо», которое сочинил Феликс, она прочитала так внимательно и два раза.
Но в то, что дом, в котором она, Марта Шиховска, служила до войны, разбомбили и поэтому она осталась в чем была, поверила. Даже буркнула, что, если будет довольна ее работой, посмотрит, нет ли на чердаке среди старых вещей покойной свекрови чего-нибудь подходящего.
Но почему с такой поспешностью спросила:
— А у кого ты тогда, до войны, служила?
И теперь, при воспоминании, бросало в жар. Надо ж было от неожиданности ляпнуть, что у доктора Зива! Зачем назвала собственную семью? Ведь дом их не разбомбили. И если хозяйка решит проверить… Но своего испуга, кажется, не выдала. И довольно спокойно отвечала на все остальные вопросы — любит ли детей, что умеет готовить, знает ли, что белье должна будет не только стирать и гладить, но и чинить. Не удивилась, когда хозяйка предупредила, что за разбитую посуду будет вычтено из жалованья. И искренне обещала в дом никого не приводить, не сплетничать о хозяевах и каждое воскресенье ходить в костел.
Нет, в тот, первый день она допустила только один промах, сказав, что до войны служила в собственной семье. Когда хозяйка потребовала документы, подала их спокойно, будто на самом деле свои. И очень старалась делать вид, что ее совсем не волнует, почему нанимательница так долго смотрит на удостоверение. Нарочно и, кажется, естественно, уставилась в полку с кастрюлями, хотя было очень страшно — вдруг эта угрюмая женщина заметит, что раньше в удостоверении была другая фотография? И что заподозрит, почему.
Но она не заметила. Феликс на самом деле очень искусно подклеил. И печать с той фотографии, настоящей Марты Шиховской, перевел так умело, что Виктор горько пошутил:
— Можно подумать, что ты всю жизнь только этим и занимался.
О том, что хозяйка захочет хранить документы у себя, Феликс предупредил. И что их обязательно надо выпросить обратно («Пусть будут подальше от чужих глаз»), посоветовал. Но сначала не могла решиться. Смотрела, как хозяйка засовывает удостоверение и обе картонки — страховую и серую о жаловании — в холщовую торбочку их прежней владелицы, как прячет эту торбочку на самое дно ящика, как запирает его, а ключик кладет в карман передника. И тут словно очнулась:
— Разрешите удостоверение держать при себе…
Хозяйка так удивилась, что заготовленное Феликсом
объяснение никак было не произнести уверенно:
— …Сейчас без удостоверения нельзя. Там, где я раньше служила, мне позволяли… Если облава…
И когда хозяйка буркнула: «не поможет», чуть не согласилась. Хорошо, что сразу вспомнила второй довод, Виктора. И сказала уже более уверенным голосом:
— Моей знакомой, которая служит у большого начальника, хозяин велел документы всегда носить при себе.
Хозяйка еще больше нахмурилась:
— Сам их ей за пазуху и засовывал?
Долго пришлось объяснять. Уверяла, что ее знакомая очень скромная женщина, порядочная. И, боже упаси, ничего подобного не допустила бы. В какое-то мгновенье мелькнула мысль, что уж слишком хвалит эту несуществующую приятельницу — хозяйка может захотеть нанять в прислуги ее.
Все-таки ящик открыла. И торбочку достала. И удостоверение вытащила. Но опять уставилась в него.
Тут-то она и пожалела о своей просьбе. Когда только что минувшая опасность возвращается, она кажется страшнее. Вдруг обмерла — все! Хозяйка заметила, что подклеена другая фотография. И все равно она продолжала уверять, что никуда с удостоверением не сбежит. Что пусть хозяйка оставит у себя, как залог, страховую карточку. И ту, вторую, — тоже. К сожалению, больше оставить нечего.
Хозяйка слушала. Но не понять было — вернет удостоверение или не в ее правилах исполнять просьбы прислуг.
Опять выдвинула ящик. Неужели положит обратно?
От страха она даже не сразу сообразила, что удостоверение лежит на столе, а в ящике хозяйка что-то ищет. Вытащила огрызок карандаша, мятую тетрадь. Полистала и в свободную от каких-то записей и цифр страницу принялась медленно, как человек, не очень привыкший держать в руках карандаш, переписывать с удостоверения фамилию, имя, название деревни. И волости, уезда. Даже отпечаток пальца — какой он величины — перерисовала. Наконец, все такая же недовольная, удостоверение вернула.
Да, в тот, первый день, пусть не все было так, как они там, у Феликса, придумали, она все же знала и что сказать, и как объяснить. А теперь, когда она здесь уже две недели — в понедельник будет три, и, казалось бы, должна была привыкнуть, как раз наоборот, еще больше сомневается — естественно ли ведет себя, так ли ответила, правильно ли поступила. Нет ли в ее движениях того, что Феликс назвал «интеллигентным изяществом».
Вдруг она заметила, что Пранукас не ест, а играет со своей кашей — перекладывает ее с одного края тарелочки на другой.
— Почему ты не ешь?
— Потому что ты не говоришь: «Ешь, Пранук, ешь».
— Ешь, Пранук.
Как хочется надеяться, что Яник сейчас голодает меньше, чем в гетто. И уж тем более не так, как в подвале. Но об этом Пранукасу не скажешь. Он, слава богу, не знает, что такое гетто, акции, подвал.
И ей не положено думать об этом. Она — Марта Шиховска. Марта. Шиховска. Дочь Юзефа.
Вначале, когда волновалась, удастся ли Феликсу добыть хоть какие-нибудь документы, ей даже в голову не приходило, что придется стать тем человеком, на чье имя будет этот документ. А Виктор все понимал. Оба дня, что они были у Феликса, он готовил ее к этому. Но она не очень внимательно слушала. Думала о том, что будет одна, без Яника, без Виктора. Пока он рядом, вот она слышит его голос, может коснуться его плеча, руки. А скоро, уже совсем скоро они расстанутся, и она не будет знать, где он.
Странно, но последнюю ночь у Феликса она почему-то вспоминает чаще, чем все остальное. Чаще, чем довоенную жизнь. Нет, ее тоже вспоминает. Как жила у родителей… Гимназию вспоминает. Девочек, учителей. И особенно тот вечер, уже в студенческие годы, когда познакомилась с Виктором. Городской каток. Она упала. И Виктор, тогда еще незнакомый взрослый мужчина, поднял ее и осторожно помог добраться до раздевалки. Вправил вывих. Потом пришел домой ее проведать.
И свадьбу вспоминает. И совсем еще крохотного Яника. Каждый вечер, закрывшись в каморке, она мыслями возвращается в ту, прошлую жизнь. Иначе было бы совсем невмоготу.
Но последняя ночь у Феликса вытесняет все.
Нет, не надо ее называть последней. Они с Виктором расстались только до конца войны. Потом опять будут вместе. И Яник будет с ними. Не отвык бы от нее, своей матери. И от отца… Ведь Нойма ему скажет, что они уехали надолго и что в приюте никому не надо о них рассказывать. Забудет…
Как это ни горько, а лучше, чтобы забыл.
Только бы он ничем не выдал себя, только бы не выдал.
Виктор собирался, когда Нойма приведет Яника к Феликсу, объяснить ему, почему он там, где будет жить с тетей Ноймой, не должен говорить, что у него есть мама с папой, и рассказывать, что был в гетто, что сидел в подвале, и называть ее тетей Ноймой. Яник поймет. Он все понимает. Но ведь может случайно, заигравшись, проговориться. Она, взрослая, и то в постоянном напряжении, чтобы не выдать себя, а он такой маленький, бедный ребенок…
Нет, нельзя ей об этом думать! Нельзя! Надо о другом.
Как Феликс сиял, когда принес эти документы! Вернулся поздно, перед самым комендантским часом. Девочки уже спали, Мария отперла комнату, в которой они с Виктором сидели, и принесла им чай с хлебом. Феликс вошел прямо в пальто и с портфелем.
— Ну, Алина, ты родилась под счастливой звездой!
Она хотела сказать, что звезда тут ни при чем, что это они с Марией. Но он не любит «парфюмерных» слов.
Феликс, не снимая пальто, раскрыл портфель и вытащил почему-то белую холщовую торбочку, а из нее извлек какой-то документ.
— Вот твое удостоверение. — Он положил на стол продолговатую картонку с чьей-то фотографией. — Тебя зовут Марта. Фамилия — Шиховска. Ты Марта Шиховска, дочь Юзефа. Родилась первого июня, правда, тут ты на два года старше, но это ничего. Место рождения — Лодзинский уезд, Зговская волость, деревня Калинек.
Тогда она, правда, всего этого не запомнила. Только, кажется, удивилась.
— А это, — и он вынул какую-то другую, сложенную пополам и светлую картонку, — твоя страховая карточка. В строке «занятие» указано, что ты прислуга. Еще тебе положено иметь такую, — он выложил вторую, серую, — о жаловании. Как видишь, в нее тоже все вписано. Ты каждый месяц работала по двести часов и получала за это по сорок марок. Не богато, конечно, но… — он почему-то посмотрел на Виктора, — все подлинное.
Больше всех удивилась Мария.
— Подлинное?
Феликс не ответил. А она… Она почему-то не обрадовалась. Наоборот, испугалась. Ведь документы чужие. Имя чужое и фамилия. Той женщины, которая на фотографии. Но ей же нужны «арийские» документы.
Виктор, наверно, почувствовал ее состояние.
— Алина, тебе надо все это хорошо запомнить. Фамилию, место рождения, другие подробности.
Феликс его поправил:
— Не Алина, а Марта. И не только запомнить, что тут написано, но и знать многое другое. Например, как выглядит твоя деревня. Хочешь — придумай, хочешь — вспоминай. Ведь родители тебя в детстве вывозили на лето куда-нибудь?
Она кивнула.
— Вот и считай, что это и есть твоя родная деревня.
— Дом, двор. Вспомни, где был колодец, где огород.
— За сараем большой малинник. — Она вдруг вспомнила, как бегала туда с подружкой прятаться.
Малинник был густой и уж, конечно, выше их небольшого тогда роста.
— И еще, — Феликс опять почему-то посмотрел на Виктора, словно спрашивая, продолжать ли. — И еще тебе надо придумать себе биографию.
— Скажем, для начала… — Виктор пришел ей на помощь, — надо найти оправдание, почему волосы крашеные. И вообще — почему у тебя городской вид и не совсем деревенская речь. Насчет волос можно объяснить просто — ты хочешь быть похожей на настоящую горожанку. Завивка у парикмахера не по карману, а эта, как ее…
— Перекись, — подсказала Мария.
— …да, перекись стоит недорого, и ею можно самой выкраситься. Насчет же остального… — Он задумался.
— Слушай, — вмешался Феликс. — А что, если твоя Марта Шиховска рано осталась сиротой и в пятнадцать, или сколько там, лет ее, то есть тебя, привезли в город и отдали в прислуги?
— Хорошо. Спасибо.
— Грамоте ты научилась при дочке господ, у которых служила. — Феликс говорил так уверенно, будто не на ходу, а давно придумал все это. — Скажем, твои хозяева были хорошие люди, видели, что ты смышленая, любознательная, и разрешали сидеть рядом с дочкой, когда та готовила уроки. Заодно ты следила за ней, чтобы хорошо занималась, и сама все запоминала. Словом, что-то в этом роде. Но можешь придумать и что-нибудь другое.
— Зачем другое?
Виктор тоже сказал, что ничего другого придумывать не надо — такое объяснение звучит вполне убедительно.
Сочиняли, что она должна говорить хозяйке, когда придет наниматься.
Потом Феликс еще раз проверил — и как она будет молиться, и как исповедоваться. Дал ей еще один крестик — пусть один носит на себе, а второй повесит на стене, над кроватью. И картинку «Рождение Христа» дал, чтобы повесила рядом. Опять напомнил, чтобы не оставляла у хозяйки своего удостоверения.
Она отвечала, слушала, понимала. И не верила, что все это на самом деле — чужие документы, придуманная жизнь. И что уже скоро, завтра утром, она должна будет уйти отсюда. Что наймется прислугой в неизвестный дом. Будет какой-то Мартой Шиховской. И главное, одна, без Яника. Тогда она и спохватилась:
— А для Ноймы с Яником ты достал?
Феликс помрачнел, и она сразу догадалась.
— Тогда пусть это удостоверение будет для них.
— А я… я вернусь в подвал.
— Никуда ты не вернешься.
— А где ты возьмешь для Ноймы и Яника?
— Нигде. — Феликс замялся. — Нойме тоже придется быть Мартой Шиховской.
— Как?! — Она действительно в тот миг не поняла.
— Сдадим в полицию вот этот, — он из той же холщовой торбочки вытащил «Dowod osobisty»[5] польских времен, чтобы вместо него выдали такое же, как твое, но уже немецкое.
— Все равно мое, то есть подлинное, отдайте Нойме. А мне — это, старое.
— Если бы можно было!
— Почему нельзя?
— Тут указаны приметы. Рост средний, лицо круглое, глаза серые, волосы светлые. Обрати внимание, некрашеные, а изначально светлые.
Она понимала, что Феликс прав. И что вообще она не должна с ним спорить. Хотя бы из благодарности. Ведь они с Марией рискуют жизнью. Своей, спящих в столовой девочек и даже не родившегося еще малыша. С того самого мгновенья, как Виктор пришел сюда, им грозит опасность. И все равно они вот уже два дня и две ночи держат его. И ее. А завтра, когда они уйдут, придут Нойма с Яником. Мария его искупает в ванне, оденет во все чистое, накормит. Яник здесь согреется… И когда Феликс выпрашивал у кого-то эти документы, он рисковал. Как объяснил, зачем они ему?
Но она повторила:
— Подлинное удостоверение отдай Нойме.
Все трое молчали.
— …Может, на приметы не обратят внимания, и…
Феликс нетерпеливо перебил ее:
— На что не обратят внимания? На то, что рост у тебя отнюдь не средний, а лицо совсем не круглое? Да ты посмотри на фотографию!
— Но вместо этой ведь будет моя…
Виктор тоже начал сердиться, — заходили желваки. Она и сама понимала, что Феликс прав. Но не могла… Она не могла согласиться, чтобы у Ноймы, которая будет с Яником, был этот, старый, недействительный «Довуд», а у нее настоящий документ. В полиции ведь могут отказать на основании недействительного выдать новый.
— У Ноймы глаза тоже не серые.
— Одну неточность еще можно объяснить ошибкой волостного писаря или кого-то там другого, что голубые глаза ему показались сероватыми. А почему ни одна примета не соответствует — и объяснять не придется.
Она хотела его попросить, и Виктора, и Марию, чтобы они ее поняли! На что ей спасенье, если неизвестно, как будет с Яником. И вообще надо было Нойме с Яником сюда прийти первыми. Зря она дала себя уговорить, что при ней Яника труднее будет увести.
— Но что Нойма ответит, когда ее спросят, почему у нее нет теперешнего удостоверения, а есть только старый «Довуд»?
— Что теперешнее потеряла.
— А ты, — вмешался Виктор, — в случае… сама понимаешь, в каком случае, утверждай, что эти бумаги нашла. Хорошо?
— Хорошо.
Только не сказала, что, если попадется с этими чужими документами, никакие объяснения не помогут. Их и слушать не станут. Но она все равно будет объяснять. Чтобы отвести подозрения от Ноймы. И вдруг ее пронзило: а как же настоящая Марта Шиховска? Как она будет без документов? Но спросить не успела, — Виктор продолжал:
— Нашла их, когда вашу колонну вели из гетто на работу. Этот мешочек лежал на мостовой, у самой кромки тротуара.
— Придумай, как они лежали, — посоветовала Мария, — чтобы объяснить, почему не промокли.
Виктор кивнул.
— И для еще большей достоверности вспомни, что конвоир тебя ударил за то, что ты нагнулась, но не заметил, как ты мешочек подняла.
Он говорил так убедительно, что на мгновенье ей показалось, будто на самом деле так было — она нагнулась, конвоир ударил.
— …И что именно эта находка натолкнула тебя на мысль уйти из гетто. Фотографию на удостоверении ты заменила сама, а уголок печати подделал один знакомый. Назови любую фамилию, конечно, из тех, кого увели в первые акции. Ему это уже все равно…
Она хотела сразу придумать, кого назовет, но не могла вспомнить ни одной фамилии. Правда, это сразу прошло, она вспомнила. Почти увидела. Рахиль с обоими мальчиками. Семью Бромбергов. Старика Нисона, который до войны разносил по домам свежие булочки. В гетто он очень тосковал по тому, что больше не может по утрам принести людям теплую булочку и пожелать, чтобы съели на здоровье. И воспитательниц детского садика сестер Каминских вспомнила. Их забрали в ту, трехдневную акцию. И учителя Ледермана тогда забрали. И Эточку с детьми…
— Алина, ты хорошо запомнила? — Голос Виктора показался очень далеким, но все равно те, которых она только что видела, сразу исчезли. Она снова была здесь.
— Запомнила. Только… — Она силилась вернуть сюда еще что-то, о чем до этого думала. — Только, Феликс, как же настоящая Марта Шиховска будет без документов?
Он молчал. И она начала догадываться. Но не хотела, еще не хотела…
— …Ведь теперь без них нельзя.
— Ее нет.
— Совсем… нет?
Мария, по своему обыкновению, поспешила обнадежить:
— Могла попасть в облаву. На прошлой неделе целый транспорт вывезли в Германию на работы.
Феликс пожал плечами:
— Кто знает? Вышла из дому и не вернулась.
— Но если ее не вывезли и она вернется? Документы ведь нужны.
Глупо, конечно, было спрашивать. Давно убедилась: те, кого забирают, не возвращаются.
— Учти, ты служила у прежней хозяйки до субботы. И жалование вписано до субботы. И рекомендательное письмо будет написано тем же числом. Но говори, что она уехала. Потому тебя и уволила.
— Хорошо.
А с двух одинаковых фотографий — на удостоверении и «Довуде» на нее смотрела незнакомая женщина. Лицо действительно крупное, скуластое. И рот большой. А в глазах какое-то напряжение. Будто удивлена: «Это тебя теперь будут называть моим именем?»
Виктор тоже смотрел на эти фотографии. Тогда-то он и попросил:
— Постарайся даже для самой себя стать Мартой Шиховской.
Она старается. К сожалению, не очень выходит…
— Марта, ну Марта, — неужели Пранукас ее давно теребит? — Я больше не хочу.
— Хорошо. — Когда-то Виктор не разрешал Яника уговаривать. «Пускай ест столько, сколько хочет».
— Ты маме не скажешь, что я оставил? Ведь совсем немножко.
— Не скажу.
— Можно встать из-за стола?
— Можно.
Она вытерла его измазанные кашей щеки, одну ручку, вторую. Хотела подольше их задержать в своих. Но Пранукас вырвался и убежал. Правда, сразу вернулся и, подражая отцу, бросил:
— Ко мне нельзя, я занят!
Она принялась убирать со стола. Оглянулась на дверь, хотя видеть ее некому — хозяев дома нет, а ребенок «занят» в детской, — и торопливо доела остаток каши. Не выбрасывать же. Она и дома, за Яником, доедала, а уж теперь…
Руки привычно мыли посуду, а сама она опять думала о Янике. Что он там ест? В подвале он так похудел, ослаб. Норма для «бесполезных рейху» малышей, конечно, совсем маленькая. Но все-таки вряд ли меньше, чем была в гетто.
Если бы она могла отдавать ему свой хлеб! И суп. Ей хватит того, что она доедает за Пранукасом. За неделю хлеба можно набрать несколько кусков.
Но как передать?
Надо было заранее, еще у Феликса с Марией, придумать какой-нибудь тайник, лучше всего тоже в развалинах, где она могла бы оставлять для Яника хлеб.
Но тогда она об этом не подумала. Тогда было главным, чтобы Нойме удалось вместо «Довуда» получить настоящее удостоверение. И чтобы заведующий приютом не передумал взять ее дворником. И чтобы их с Яником не задержали, когда они будут добираться из подвала к Феликсу, а потом от Феликса в приют, почти через весь город. Правда, Феликс обещал следовать сзади, но что он мог бы сделать, если бы их остановили?
Да, пока она в прошлое воскресенье не увидела их в костеле, ни о чем другом не могла думать. Зато когда увидела… Пусть издали, из-за предпоследней колонны, но когда там, в середине узнала родную головку, на самом деле готова была молиться, благодарить Бога, эти горящие у алтаря свечи, всех молящихся за то, что видит Яника! Что он здесь. Рядом еще четверо мальчиков. Нойма умница, нарочно взяла нескольких, чтобы Яник был не один. И укутала, чтобы курчавые волосики не выдали, чтобы личика вообще почти не видно было. Вот он повернул головку, разглядывает этот непривычно огромный свод, высокие окна, исповедальни.
Как жалко было, что служба быстро окончилась, ей пришлось заторопиться к выходу, сразу свернуть налево и, ни в коем случае не оглядываясь, поспешно уйти. Когда уже вышла за ограду на улице, вдруг спохватилась, что не видела в костеле Феликса! Засмотревшись на Яника, совсем забыла поискать его где-то справа, около третьей колонны. Но побежать обратно было нельзя, — Нойма с Яником уже, наверно, вышли из костела, и Яник мог ее заметить. Наоборот, она ускорила шаг, успокаивая себя тем, что Феликс был в костеле. И теперь тоже возвращается домой. Скажет Марии, что видел их, Яника с Ноймой, ее.
Это он придумал, как ей видеть Яника. Перед самым ее уходом придумал. Они все уже стояли в передней. Мария ей протянула свой теплый платок. Виктор помог надеть пальто. Она еще раз проверила, висит ли на шее холщовая торбочка с документами (для прислуги носить так более естественно). Осталось только попрощаться… Но вдруг ее потянуло посмотреть на спящих в бывшей столовой девочек. Она спросила, можно ли, и Мария, кивнув, чуть приоткрыла дверь. Девочки лежали в своих одинаковых кроватках, только Генуте — уткнувшись носом в подушку, а Кастите — подложив под щеку ручку.
Она, кажется, смотрела всего одно мгновенье, но Виктор тронул ее за плечо, и пришлось снова прикрыть дверь. Не сразу поняла, о чем Феликс говорит. Чтобы она… ведь все равно надо будет по воскресеньям ходить в костел… чтобы ходила в костел святой Терезы… Становилась за предпоследней колонной с левой стороны. Только когда он сказал, что Нойму тоже предупредит, чтобы она с Яником приходила туда, она наконец сообразила. В первое мгновенье испугалась, — а если его узнают? Но Феликс обещал, что предупредит Нойму, и она его укутает по самые глазки. И скажет, чтобы Нойма стояла немного впереди нее, справа, как раз наискосок, чтобы она могла их видеть.
И она их видела! А через три дня, даст бог, снова увидит! И Феликса увидит. Правда, издали, и хлеб передать не сможет… Ведь обещала, вернее, Виктор за них обещал, что ни она, ни Нойма без самой крайней необходимости к нему не будут подходить. А узнают, что Мария благополучно родила, по воротнику его пальто. Если поднят — значит, все в порядке, родила. Жаль, что не узнают, кого она родила, сына или третью дочку. Впрочем, какая разница? Главное, чтобы ребенок родился и чтобы жил…
Стукнула входная дверь. Значит, хозяйка вернулась в плохом настроении. Портниха не угодила или опять какая-нибудь подруга в чем-то перещеголяла?
Она быстро оглядела кухню — стол вытерт, на полу, хотя мыла посуду, не накапано — и поспешила в переднюю помочь хозяйке снять боты.
— Марта, сегодня с Пранукасом не надо гулять. Ветрено. Надышится морозным воздухом.
— Хорошо. — Не возразить же, что именно из-за ее страха перед холодным воздухом ребенок и простужается.
— Так что займись стиркой.
— Хорошо. — Это действительно хорошо, потому что на улице она всегда волнуется и напряженно следит, не идет ли навстречу или по другой стороне кто-нибудь из прежних знакомых. Ее могут узнать даже такую, закутанную в платок.
— И получше накрахмаль воротники и манжеты рубашек. В прошлый раз хозяин был недоволен.
— Жаль, что вы мне сразу не сказали. Я бы перестирала.
— Мыло на мостовой не валяется.
— Без мыла. Только крахмала добавила бы.
— И крахмал с неба не сыплется.
…Не в рубашках дело. И она не просто раздражена. Она сердита. Но на кого?
— Ваши боты помыть?
— Только потом не ставь близко к плите.
— Да, конечно.
Зачем хозяйка пошла за ней в кухню? Не для того же, чтобы проследить, куда она поставит сушить боты. Еще и уселась. Значит, надолго…
— Чаю вам подогреть? — Молчит. Значит, надо греть. — Говорят, что горячий чай помогает от головной боли.
— Откуда ты знаешь, что у меня болит голова?
— Мне так показалось.
— Если кажется, перекрестись. Не голова у меня болит, а душа. Оттого, что люди теперь такие. Только и смотрят, как бы обмануть.
— Кто… — нет, голос не дрогнул. — Кто вас обманул?
— Какая тебе разница?
Значит, не о ней речь.
— Извините.
— Ты-то чего извиняешься? Не ты же взяла у меня деньги на мясо, а потом сказала, что немцы все забрали. Знает, стерва, что не смогу проверить, и пользуется.
— Не огорчайтесь, хозяйка. Сделаю на обед цеппелины или напеку картофельных оладий.
— А гостей в субботу тоже твоими оладьями буду угощать?
— У вас… будут гости?
— Чего так испугалась?
— Я не испугалась. К господам всегда приходят гости. Там, где я раньше служила, тоже приходили.
— Раньше. Тогда не было карточек. И этих чертовых спекулянток.
— А… ваши гости, они когда придут?
— Говорю же, в субботу.
— Да, но… к обеду или к ужину?
Хозяйка медлила, словно обдумывая, стоит ли отвечать, и буркнула свое обычное:
— Тебе какая разница?
— Никакой. Я просто так спросила.
Неправда. Не просто так. Лучше бы к обеду, тогда удалось бы, под видом гулянья с Пранукасом, уйти из дому, чтобы гости ее не видели.
— К ужину. Но рано. Чтобы мужчины успели до комендантского часа вылакать всю выпивку. А тебе что? Когда придут, тогда и будешь подавать на стол.
— Но у меня нет белого фартучка. И наколки нет.
— Знаю я твое приданое. Все вы такие. Нанимаетесь в приличный дом, а у самих — ничего.
— Я же вам рассказывала. Дом, в котором я служила, разбомбили.
— Один, что ли, твой? Ладно, дам тебе фартучек. И наколку поищу.
— Не будет ли вам удобнее, если я заранее все приготовлю, накрою на стол, а потом, когда гости придут, не буду вам мешать? Я знаю, что господа не любят, чтобы, когда они говорят о своих делах, рядом вертелся чужой человек.
— А ты и не будешь вертеться. Подашь, и сразу выходи. Сменила тарелки — и назад на кухню.
— Хорошо…
Что же придумать?
Хозяйка объясняла, какую луковую начинку приготовить для фальшивого зайца. И чем грибная подлива лучше обычной. И как в полученный по карточкам мармелад подмешать немного домашнего варенья, чтобы забить казенный запах начинки для пирога. Сетовала, что не из чего испечь «наполеон» или торт с орехами и взбитыми сливками.
Она слушала. Соглашалась. Запоминала. А все равно думала о своем — что делать? Ведь за столом может оказаться женщина, которая рожала в их клинике, и узнать ее. Или какой-нибудь чересчур бдительный мужчина обратит внимание на ее «неарийский» цвет глаз. Сослаться на зубную боль и перевязать щеку? Хозяйка не позволит в таком виде выходить к гостям. А хозяин по случаю гостей зажжет еще и верхний свет. Так что даже тени от абажура не будет…
Наконец хозяйка, выложив все про подливу, пироги и какие-то особенные пончики, которые, возможно, удастся сделать из теперешней муки, вышла. Она снова была на кухне одна. Здесь опять стало привычно тихо. Но ничего придумать не могла. Наоборот, чем напряженнее думала, тем очевиднее становилось, что не избежать ей неизбежного. За отказ хозяйка уволит.
Придется выйти. Открыть эту дверь и с подносом в руках шагнуть в ярко освещенную столовую, где вокруг стола будут сидеть неизвестно какие люди. Они повернут к ней головы. И она должна будет обойти каждого. Забрать грязный прибор. Поставить чистый. Забрать грязный. Поставить чистый. И казаться безучастной. Не была она никогда акушеркой. И Алиной Зив не была. Она — Марта Шиховска.
Внезапно все вокруг — эти стены, полки с кастрюлями, дверь — все узнали ее, обступили, приблизились. Нет, нет! Стены на месте. И полки висят. И дверь закрыта. Это у нее закружилась голова. Сейчас пройдет. Уже проходит. Хорошо, что хозяйка не видела. Никто не видел. Она Марта Шиховска. И никто не догадается, что она Алина Зив.
XIV
Моника достала из шкафа все четыре своих платья и развешала их на стульях. Какое завтра понести на фабрику и выменять на хлеб?
Хоть бы одно было лишним. Так нет же, два с длинным рукавом, два — с коротким. Юбка не в счет, старая уже. И кофты — которая с заплатой, которая из рубашки Болесловаса перешита, только и можно на работе под халатом носить. Нет у нее лишнего платья. Но подбрасывать доктору одну только шелуху она тоже больше не может. Правда, для ребенка дважды вареных картофелин добавляла. Так ведь уже сами предпоследний мешок доедают. А Болесловаса она должна досыта кормить. Как бы там Юстина вокруг него хвостом ни вертела, а кормить, видно, нечем — свои бы дети не голодали.
Не кормит его Юстина, голодный приходит.
Жалеет ее, сам отказывается? И не потому теперь почти никакого приработка не приносит, что заказчиков нет, а потому, что Юстине отдает. Как проверить? Спросишь, только больше рассердится. Нет, нельзя мужика, когда он в сторону от дома смотрит, спрашивать лишнее. И выговаривать ему нельзя. Только как делать вид, что ей это все равно — когда и откуда он приходит и что нет у нее на него ни зла, ни обиды.
Моника вздохнула — какое все-таки платье завтра отнести выменять? Больше всего дадут за коричневое, оно совсем новое, уже при Советах справила. Смешно вспомнить, но ведь со страху, выходит, приоделась. Старая пани Яблоньска тогда напугала, что скоро красные комиссары заберут у хозяев магазины, по-ихнему это называется «национализировать», и никакого товара больше не будет. Она и поспешила купить на два платья — себе и Тересе. Не она одна, все хватали — и на платья, и на пальто. Хозяева тоже спешили побольше распродать, дешевле отдавали. Ей этот коричневый отрез за полцены отдали, оттого что у края дырочка была. И за Тересин зеленый недорого взяли. Сразу обе и сшили себе платья, чтобы, если проверят, показать — никаких они с дочкой запасов не делают, сшили, вот и носят.
Правда, свое она всего раз надела, когда на фабрике был митинг. Велели тогда всем нарядиться. Праздник: вместо хозяина будет директор.
И верно, праздник был. Музыка играла. Речи говорили. Кто на литовском, кто на польском, кто на русском. Всех и не понять было. Одного только Буткевича из большой столярки как следует поняла. Ну и наговорил он! Что теперь все они, каждый, кто работает на этой фабрике, ее хозяин. И что директор — так прямо в глаза тому и говорил, а тот только улыбался и согласно кивал головой, — что директор не имеет права никого уволить без его, рабочего, на то согласия. Много всего тогда наговорил. Зато когда пришли теперешние «хайльгитлеры», они его за эти речи забрали. Кто знает, жив ли он сейчас.
Какое все-таки платье завтра отнести?
Вот это, новое? Жила же раньше без него.
Жить-то жила, но когда еще доведется сшить себе обнову? Война, говорят, не скоро кончится. Да и потом ведь еще не сразу магазины откроют. А тут дочь, молодая, за войну обносилась, внучка из всего выросла. Где уж ей, старой, о себе думать.
Или это, серое, отнести? Тоже еще ничего.
Ничего-то ничего, только кому теперь, зимой, нужно летнее платье? Если кто и решится взять, то так долго кривиться будет — и что не ко времени, и что до лета еще какое-нибудь получше подвернется, что уж лишней буханки хлеба или кулька муки и не запросишь.
За синее, хоть и зимнее, тоже мало дадут. Это пока сама носишь, да еще только по воскресеньям, оно вроде праздничное. А ведь тоже старое, к Тересиной свадьбе купила. И уж когда чужой человек начнет рассматривать, да еще чтобы за него хлеб отдать… И что воротник лицованный, увидит, и что манжеты нарочно пришиты — чтобы потертость скрыть, заметит. Такую цену предложит, что, считай, милостыню подаст.
Выходит, и сама без платья останется, и людей в подвале не накормит. Но доктор же знал, что не сможет она их кормить! И сам говорил, что не надо будет. Только ихние вещи выменивать просил.
Теперь надеются на сережку.
Вернет она доктору эту сережку, прямо сегодня ночью вернет. Он поймет, что не могла ее выменять, и оставит что-нибудь другое, из одежды.
Но как им, беднягам, еще что-то снимать с себя, когда там так холодно? Совсем же как на улице.
Холодно-то холодно, но все-таки живы. А в гетто давно бы погибли.
Но кто был тот мужчина, которого она четыре дня тому назад видела? У самого ведь лаза в подвал видела.
Вдруг Моника услышала, что отпирают дверь. Болесловас?! Она стала поспешно запихивать платья обратно в шкаф. Коричневое застряло, вешалка зацепилась. Она его бросила.
— Добрый вечер, мама.
— Тересе, ты? Я и забыла, что у тебя есть ключ. Думала — отец, а у меня еще ужин не согрет. Сама знаешь, нет хуже голодного мужика. — Она нарочно говорила без умолку, суетилась, схватила кочергу, размешала в печке догорающие дрова, задвинула засов, опять выдвинула. Только бы Тересе, если заметила, как она запихивала платья в шкаф, не спросила, зачем их доставала. — А что Агнуте? Соскучилась по бабце?
— Заболела Агнуте.
— Заболела?! — Вмиг все другие заботы словно в печную трубу вытянуло. — Опять простудили ее?
— Не простудили. Дифтерит.
— Сейчас! Сейчас побегу к ней. — Она снова схватила кочергу. — Только печь закрою.
— Доктор выписал какую-то сыворотку. Сказал, как достанем, чтобы сразу позвать его. — Тересе расплакалась. — А ее нет. Зенонас уже все аптеки обегал. Мама, вы не знаете какого-нибудь провизора? Или кого-то, кто работает в немецком госпитале. Там, говорят, все есть.
— Не знаю. Я никого не знаю…
— А доктор говорит — другое не поможет. Но что он понимает? Молодой такой.
У старого, у старого пана доктора бы спросить! Надо побежать туда. Уже темно, никто не увидит. Только бы скорей отправить Тересу.
— Пусть Агнуте полощет горлышко. — Она выдвинула ящик комода. — У меня тут есть ромашка. И шалфей. Правда, прошлогодние. Ничего, еще лучше, не при немцах росли.
— Не помогает полосканье. И чеснок не помогает. Доктор сказал, только сыворотка может спасти. Но в больницах ее тоже нет.
— Все равно. Полоскать обязательно надо. — Она поспешно сунула оба мешочка Тересе. — Ты иди, иди к ребенку. И я скоро прибегу. Совсем скоро. Пока пусть полощет. Нельзя так — ничего не делать.
Она выпроводила плачущую Тересу. Быстро накинула платок, сунула ноги — в спешке не в свои боты, а в мужнины ботинки, — нетерпеливо подождала, пока внизу стукнет дверь, и выбежала на лестницу. Спохватилась, что надо было взять с собой картофельные очистки, будто их выбросить пошла, но возвращаться — плохая примета. Ничего. Если кто из окна и полюбопытствует, чего это она спешит к развалинам, как только увидит, что присела, сам отвернется. А эту рыжую паскуду сверху недавно нечистая сила из дому унесла.
Когда наконец подлезла под остаток лестницы, который скрывает дверь в подвал, остановилась. Теперь ее из окон уже не видно, можно перевести дух.
Некогда. Она протянула руку, чтобы постучаться, но сразу отдернула — напугает их там.
И без стука напугает. Но дверь же не заперта, даже ручки нет. Надо быстро открыть, чтобы сразу увидели — это она…
Где-то тявкнула собака, и руки сами в страхе толкнули дверь.
В первое мгновенье она ничего не видела, — здесь темнее, чем на улице. Только окошко чуть светится. Наконец догадалась шепнуть:
— Господин доктор, это я…
На полках — глаза уже стали что-то различать — зашевелились. Кажется, повернулись к ней — чуть забелели лица. Но которое из них доктора, не угадать.
— Тише, пожалуйста, тише! — шепот послышался справа, значит, доктор там. Поспешно слезает. — Что случилось?
— Внучка заболела, Агнуте! — Неужели доктор вздохнул с облегчением? Нет, наверно, показалось. И она быстро, только удивившись, как они тут выдерживают, на таком морозе, стала пересказывать все, что говорила Тересе. Про дифтерит, молодого доктора, сыворотку, и что велела полоскать ромашкой с шалфеем. Спросила, что господин доктор присоветует другое, вместо этой сыворотки, ее нигде нет, даже в больнице.
— Девочку надо посмотреть. Если вы и ваша дочь не имеют ничего против, я… то я готов…
Она испугалась.
— Нет, нет! Может, только посоветуете другое лекарство…
— Не видя больную, к сожалению, ничего не могу посоветовать. К большому моему сожалению. Я понимаю, мой приход, конечно, опасен. Поэтому позовите еще раз того доктора, который приходил. Пусть срочно сделает трахеотомию.
Она не поняла.
— Что он должен сделать?
— Он знает. Надрез.
— Не дам я ребенка резать! Не дам!
— Тише, ради бога, тише!
— Извините. Но я не дам…
Доктор тоже заволновался. Стал ей объяснять что-то про хрящики, пленку, и что надрез совсем маленький. Что его обязательно надо сделать, чтобы воздух мог… Все равно она не даст резать. Не даст. Только когда доктор сказал… когда он сказал, что ребенок может задохнуться, она… это само вырвалось:
— Нет! Бог не допустит.
— И все-таки позовите врача. Как можно скорей.
Она вдруг поняла. Рванула дверь. Кажется, слишком широко распахнула ее, выстудит там все. И так холодно. Но доктор, наверно, сразу закроет.
Она выползла из-под лестницы. Забыла оглянуться, не видел ли ее кто. И так — в одном платке и мужниных ботинках — понеслась по улице.
Доктор сказал — как можно скорей. Она успеет. Бог не допустит. Она на ходу перекрестилась. Зенонас сразу помчится за доктором. Ничего, что молодой. Ничего…
Вдруг она остановилась — как объяснить, откуда знает, что надо делать этот… надрез?
Знает, и все! У кумы внучек болел дифтеритом.
Нельзя, не болел же. Еще на невинного ребенка накличет.
Она скажет правду.
Нет, правду нельзя. Тересу напугает, а Зенонас брякнет: «Нарочно этот еврей велит ребенка резать. Мстит за своих». Дурак. За что ей-то мстить? И не может старый доктор такое сказать нарочно… Никто не может ребенка, невинную душу, обидеть, только эти изверги. Неужели их немецкий Бог вместо «Не убий!» велит убивать?
Нет, правду говорить нельзя. А неправду придумать надо. Господи, помоги! Но сразу перекрестилась, — что это она просит у Бога? Чтобы помог соврать? Нет, нет! Не будет она врать. Только спаси, Господи, Агнуте! Ведь и я чужого внучонка спасаю.
А его же в подвале не было!.. Ребенка-то не было! И вообще почему-то… мало их там… У двери две полки пустые. И слева, на верхней, вроде никого…
Нет, не мог доктор ее обмануть. За внучонка же просил. Сперва, чтобы только его одного… Она просто не видела мальчонку. У кого-нибудь за спиной сидел. Темно там… И не до того ей было…
Есть там хлопчик. Должен быть. Завтра она положит в тайник хлеба. Всю свою порцию хлеба. Только бы Господь Бог спас Агнуте-кровиночку. Только бы спас!
XV
Аннушка слушала шепот мужа и согласно кивала головой. Пусть Даня ее наставляет. Ничего, что в третий или даже в четвертый раз. И как отсюда выйти на улицу, и как кратчайшим путем дойти до аптеки Зелинскиса, и как там, в подворотне напротив, выждать удобный момент, когда в аптеке никого не будет, и что сказать Зелинскису.
Она слушала. Но думала совсем о другом… Как Нойма с Яником вчера дошли?
Мысленно она всю дорогу шла за ними. Видела Яника в доме этих добрых людей. Перед ним стоит тарелка каши и большая чашка с молоком. Наверное, на мгновенье уснула, и это ей приснилось — Яник сидит в большой белой ванне. Но почему-то один, рядом никого нет. Волосенки мокрые, а глазки грустные-прегрустные. И шепотом, как здесь, в подвале, спрашивает: «Бабуля, если вас убьют, как же я буду совсем один?» Она бы хотела его утешить, сказать, что, даст Бог, все останутся живы, но понимала, что он ее отсюда не услышит.
Дане она об этом не то видении, не то сне, конечно, не рассказала. И о главной своей тайне, чтобы не волновать его, промолчит. Что не пойдет она прямо в аптеку, сперва должна узнать, что с Боренькой. Его друзья, Винцент или Владик, наверно знают. Если Боренька на самом деле собрался, как объяснял отцу, воевать с немцами, то не один же. И их родители об этом знают. Правда, она знакома только с Сонгайлами, но ничего. У них и узнает. Боренька без Винцента шагу не ступит.
Как Дане объяснить, почему она не хочет дожидаться темноты и выйдет уже совсем скоро, как только за окошком начнет смеркаться? Потому что чем ближе к комендантскому часу, тем меньше прохожих и каждый бросается в глаза? Так ведь теперь и днем улицы пустоваты. Людей мало, магазины закрыты, извозчик тоже редко проезжает, а автомобили только немецкие, военные. Даже дома, и те выглядят одинокими. А уж там, где вместо них горы развалин… Так и кажется, будто эти заснеженные глыбы, упав друг на друга ничком, горюют по раздавленным под ними жилищам, по оставшимся под ними людям.
Нет, не будет она Дане объяснять, почему раньше времени выходит. И прощаться не будет. Он же завтра вечером тоже придет в аптеку. Если, конечно, старый Зелинскис не откажется их спрятать. Даня уверяет, что не откажется. Дай-то Бог… Но если Зелинскис скажет, что может спрятать только одного человека, она не останется, вернется сюда.
Об этом Даню тоже незачем заранее предупреждать. А мадам Ревекке она сказала. Уж очень обидно было слушать ее упреки, что они, Зивы, не хотят ей помочь, что все теперь думают только о себе и о своих. Был бы жив ее муж, и о ней было бы кому позаботиться. Остаться одной — большое горе.
Но были же у мадам Ревекки до войны знакомые не евреи. Не рискнет ли кто-нибудь из них ее спрятать? Хотя бы за эту сережку с бриллиантом, которую ей вернули.
И Марк ей объяснял, что спасаться надо по одному, что держать у себя троих даже самый смелый человек не согласится.
Дай Бог, чтобы он встретился с Виктором там, где договорились. И чтобы благополучно выбрались из города и нашли тех, кого ищут. И чтобы их там не убили. Даня ее утешает: «У них же у самих будет оружие».
Что из того? Пуля не разбирает — есть у человека в руках что-то, нет ли. Вслух Аннушка этого, конечно, не сказала. Даня будет недоволен: «Какая ты стала „шварцзеерин“». Так и не может отвыкнуть от немецких выражений. Только не она видит все в черном свете, а другого теперь для них нет.
В подвале стало совсем темно. Значит, смеркается, и ей пора.
Даня удивился, когда она стала спускаться с полки.
Надо бы немного постоять, пока онемевшие ноги вспомнят, что они могут не только болеть, а должны еще держать ее. Но уже некогда. И она, осторожно их переставляя, подошла к полке мадам Ревекки.
— Желаю вам, когда тоже выйдете отсюда, найти добрых людей. Может быть, еще встретимся в лучшие времена.
— Я вам тоже не желаю ничего худого. И пусть бог вас простит за то, что оставляете меня.
Опять объяснять? И некогда, и ведь на самом деле оставляют.
Она подошла — только ноги совсем плохо слушаются — к полке Марка.
— Вы там с Виктором берегите друг друга. — Хотела добавить: «И Нойменьку береги», но почувствовала, что Даня стоит сзади.
— Еще рано тебе выходить.
— Не рано. Самое время. И ты не беспокойся. — Она погладила его рукав и побрела к двери. Толкнула, нагнулась…
Только поняв, что она уже во дворе, выпрямилась. Как пахнет снегом. И как высоко небо.
Стоять нельзя. Она же на виду! Быстро шагнула. То есть не очень быстро — как могла.
Вышла на улицу.
Впереди нет ни одного немца. Это хорошо. Сказать бы Дане, чтобы не волновался. Он не прав, не стала она «шварцзеерин». Ведь надеется, что с Боренькой ничего плохого не случилось. И что она узнает, где он, или хотя бы с кем ушел. Ему нельзя быть только с чужими людьми, которые не знают, что он горячая голова. А друзья знают, иногда удержат от ненужного риска.
Почему этот мужчина так странно посмотрел на нее? Кажется, даже поморщился. Неужели догадался, кто она?!
Нет, нет. Прошел мимо.
Надо идти быстрее. Но где взять силы?
Все равно, и без сил надо. А ноги — быстро ли их переставлять или медленно тащиться — одинаково болят. Уже и не вспомнить, как было без этой боли.
Вот женщина тоже обратила на нее внимание. Удивилась, что пальто без пуговиц? Одну потеряла, когда выводили из гетто чистить снег. А вторую уже в подвале. Закатилась куда-то. Они даже искать не стали, — все равно нечем пришить.
Главное, нельзя волноваться, что идет без звезд, по тротуару. Ведь всю жизнь так ходила.
Всю-то всю, но теперь, когда это запрещено, идти по мостовой привычней…
Что за глупость! Это все от страха. А страх может выдать. Если кто-нибудь заметит или только почувствует, что она боится, сразу догадается, кто она.
Значит, не должна бояться. И не должна приглядываться к тому, кто как посмотрел. И самой ни на кого не смотреть. Слава богу, есть о чем думать.
Как там Яник? В хороших он руках? Конечно, хороших — плохие люди не согласились бы его спрятать. И Алину с Нойменькой не приютили бы.
А с чего она взяла, что они там вместе? Ни с чего. Просто так хочется.
Хорошо, что хоть Виктор с Марком будут вместе. Правда, Виктор его не очень любит, но он же умница. В такое время не надо думать об этом. И Марк ведь сразу согласился пойти с ним. Только где они возьмут оружие? Даня уверен (а скорее всего, только ее уверяет), что им дадут. В гетто говорили, что, наоборот, каждый должен сам добыть. Легко сказать. А где добыть? Как?
Господи, спаси нас всех!
Оказывается, слабый она человек. Не только за Яника и детей страшно, за себя тоже. Ведь еще не очень старые они — и Даня, и она. И все, что вспоминает, кажется, было совсем недавно. Молодость, дети. Их ангины, коклюши, кори… Нет, годы тут ни при чем. Видно, умереть всегда страшно. Это пока смерть еще вроде где-то далеко, не думаешь об этом. А когда знаешь, и как погонят, и как поставят у края ямы…
Все равно думать об этом нельзя. Зелинскис их спрячет. И до дома Винцента осталось идти совсем немного. Уже виден козырек над парадной. Один он такой в городе и есть — два больших чугунных опахала, которые держат две такие же чугунные девушки-сирены.
Хорошо, что чугунные. Стояли бы там живые девушки, спросили бы, к кому и зачем она идет.
В парадной, слава богу, никого нет. А что темно — даже лучше. Привычней. Перила видны, и хватит. Дверь, кажется, левая. Да, когда сюда приходила с Боренькой, он звонил в эту дверь.
Она легонько потянула ручку звонка.
Не услышали? Она дернула чуть сильней.
Идут…
— Кто там?
Голос не Винцента. Видно, отец.
— Впустите меня, пожалуйста.
— Кто вы?
— Я… — Она оглянулась на соседнюю дверь, не услышат ли. — Я к Винценту.
Там отодвинули засов. Еще один. Третий. Наконец дверь открылась.
— Здравствуйте.
Сонгайла ее не узнает. И Сонгайлене не узнает. Но очень встревожена.
— Вы от Винцента?!
— Нет. Я к нему. Я — мама Бори Зива.
Господи, как они испугались!
— Вы не беспокойтесь. Никто меня не видел. И я совсем ненадолго, только спросить…
— О чем? — У Сонгайлы даже голос задрожал.
— О своем сыне, Борисе. Я думала… Мы с мужем думали, что они вместе, ваш Винцент и наш Боренька.
— Боже упаси!
Сонгайле явно стало неловко за вскрик жены.
— Извините. Но они… не вместе. Винцента вывезли. В Германию, на работы.
— Когда… вывезли?
— Во вторник, — зарыдала Сонгайлене. — В прошлый вторник.
…А Боренька должен был прийти к нему раньше.
— Ты иди, приляг, — попросил ее Сонгайла. Но она замотала головой. — Хорошо, хорошо. Только не волнуйся. — А сам волнуется. — Такое совпадение… Была облава. Искали какого-то коммуниста, из тех, которые остались вредить немцам.
…Не Бореньку. Он же не коммунист.
— Я ходил в полицию. Сказали, что у задержанных только проверят документы и отпустят.
— Документы у Винцента были надежные, — опять не выдержала Сонгайлене. — Он работал на фабрике. И не коммунист он. И не шел против власти.
Муж поспешил подтвердить:
— Да, да, очень надежные. И его бы, наверно, отпустили, но им как раз надо было отправлять транспорт в Германию. А добровольно, сами понимаете, никто не едет.
— Извините… — Наконец она смогла заговорить. — Извините, что разбередила вашу боль. Но я хотела что-нибудь узнать о Бореньке. Думала — он был у Винцента.
Сонгайлене вдруг перестала плакать, будто окаменела. Чуть не силой Сонгайла стал уводить ее из передней.
— Идем, тебе надо прилечь. Полежать. А вы извините, я только помогу жене. Ей нездоровится. Сейчас вернусь.
— Ничего, ничего. Вы меня тоже извините. — Но это она сказала уже закрытой двери.
Знала бы, что Боренька почему-то сюда не приходил и что она своими расспросами еще больше расстроит родителей его друга, ни за что бы к ним не пошла.
Она только спросит, где Владик живет, и сразу уйдет. Еще успеет до комендантского часа. Сейчас уйдет.
Здесь тепло, очень тепло. Сонгайлы, наверно, и не замечают этого. И что чисто, светло, не замечают. У них горе. Такое горе!
Сесть бы в тот, свободный угол, вытянуть ноги, прислониться к стене, и сидеть, сидеть…
Нельзя. Это в гетто и сидели, и лежали на полу. Здесь нельзя.
Не успокоит Сонгайла жену. Материнскую боль ничем не успокоить. Разве что сама она эту боль спрячет. И не будет плакать. Нельзя оплакивать раньше времени.
Вот он, кажется, идет.
— Извините меня. — Сонгайла еще больше взволнован. — Но жена в таком состоянии, я очень беспокоюсь за нее.
— Понимаю. Я сейчас уйду. Только не знаете ли вы, где живет Владик?
— Кто?
— Друг наших сыновей, Владик.
— Где он раньше жил, я примерно знал. Но его…
— Что?!
— Его забрали.
— Тоже?! А когда?
— В самые первые дни. Всю семью забрали. Кто-то донес, что его отец симпатизировал Советам, что сам Владик был комсомольцем.
Да, что он был комсомольцем, она знает. Потому и надеялась, что Боренька пошел к нему, с него и хотела начать. Но не знала, где он живет.
Сонгайла ей что-то говорит…
— …Для Винцента мы сделали за кухней укрытие, на случай ночных гостей. Увы, не помогло. Его на улице взяли, по дороге с работы. Но укрытие мы не разобрали. Этим поддерживаю в жене надежду, что только на время взяли. И не в самую Германию вывезли, а куда-нибудь недалеко строить укрепления. Что он скоро вернется.
— Я вам и вашей жене желаю этого от всего сердца.
— Спасибо. Оставайтесь на ночь у нас. Чтобы не рисковать, не возвращаться так поздно в гетто. Ведь скоро комендантский час, на улицах усиленный патруль.
— Спасибо. Вы не знаете, кто мог бы мне сказать что-нибудь о Борисе?
— Нет, к сожалению. И, пожалуйста, ради бога, только жену об этом не спрашивайте. Вы же сами видите, в каком она состоянии.
— Не беспокойтесь. Я не буду ее тревожить. Пойду к другому их товарищу, к Антону. Правда, не знаю, где он живет.
— Вам вряд ли следует к нему идти. Я имею в виду — это ведь тоже небезопасно.
— Теперь все опасно.
— Понимаю. Тем более, зачем лишний раз подвергать себя риску. Скоро комендантский час, а у нас есть укрытие.
— Но вам же запрещено оставлять у себя таких, как я. — Зачем она это сказала? Вот он кивнет — да, запрещено, отодвинет эти засовы, и она должна будет уйти отсюда.
Но он не кивает. Только руки дрожат.
— Нельзя вам сейчас уходить, поздно, патруль вас задержит. Я обещал жене напомнить вам об этом.
Не надо напоминать. Она это знает.
— Спасибо.
— А утром, пока не рассвело, все же не так опасно вам идти по улице.
Они оставляют ее здесь. На целую ночь. Она всю ночь будет в тепле. Какое счастье!
— Спасибо. Дай вам бог дождаться сына.
Целую ночь она будет в тепле. А к Зелинскису пойдет завтра. Рано утром, пока не рассвело.
Если бы ноги хоть немножко больше слушались, она бы тоже шла быстрее, как все эти люди. Утром положено торопиться — на службу, в очередь за хлебом, еще куда-то. У каждого живого человека свои заботы. Ей тоже надо идти быстро. Чтобы не вызвать подозрений. Но что поделаешь… Ноги в тепле еще больше отекли.
Это ничего. Можно потерпеть. Она же отдохнула за ночь. И согрелась. Особенно в ванне. Поела. Вчера вечером целую тарелку супа съела, и сегодня утром. Даже с хлебом.
Сонгайлы очень славные люди. Хорошо, что Боренька дружит с Винцентом.
Да, есть еще порядочные люди. Есть. Это в гетто казалось — не найти. Правда, Даня долго искал. Но нашел же! А Сонгайлы сами предложили ей остаться. Пусть только на одну ночь, но ведь предложили. И что ей хочется помыться, догадались. И хлеба с настоящим чаем потом, уже в укрытие, просунули. Еще иголку и две пуговицы, — конечно, заметили, что вместо них только нитки торчат.
Было бы хорошо, чтобы Зелинскис и Дане предложил помыться.
Главное, чтобы согласился их спрятать. Там же во дворе есть сарайчик для дров. Если они с Даней укутаются в старые одеяла, то не замерзнут. А Зелинскис, когда придет за дровами, принесет в кармане что-нибудь поесть.
Это Даня так придумал. Зачем она спросила, что они будут делать, если Зелинскис откажется? И что он мог сказать?
Не надо думать об этом. Надо выглядеть как все, — ведь человеку, который идет по тротуару и без звезд, не о чем горевать. Хотя теперь у всех есть о чем.
Она должна добраться до аптеки, пока не рассвело. Нельзя ей быть на улице при дневном свете. Правда, и при вечернем нельзя. Но что ей теперь можно?..
Дойдет до аптеки, дойдет. Плохо только, что о Бореньке ничего не узнала.
Даня, конечно, будет недоволен ею. «А если бы тебя там задержали?» Так она же не к чужим людям пошла, а к Боренькиному другу. «По дороге могли задержать». Что правда, то правда. Могли.
Но туда ведь добралась. И сейчас доберется. Только — она чуть не остановилась от этой мысли — аптека еще, наверно, закрыта! Когда Зелинскис ее открывает? Куда деться? Скоро рассветет.
Некуда деваться. Она должна идти так же, как идет. Медленнее нельзя. Да и не поможет это, аптека уже совсем недалеко, за тем углом. Зайти в какой-нибудь подъезд и переждать тоже нельзя. Туда войдет кто-то или будет выходить, а она — на виду. Кто такая? Почему здесь стоит?
Мимо аптеки она прошла, не поднимая головы. Все равно видела, что жалюзи на окнах и на двери задвинуты. Даже разглядела, что в правом окне чуть белеет прежняя фарфоровая чаша, обвитая чучелом настоящей змеи. Зелинскис очень гордится, что эту змею он когда-то сам отловил.
Так куда же она идет?
Никуда.
Сказал бы ей кто-нибудь раньше, до войны, что доведется так вот брести по улице, не зная, куда идти, в какую щель себя спрятать от дневного света, не поверила бы — не может такого быть. Оказывается, может…
Да, во многое она тогда не верила. Не то чтобы совсем не верила, но когда беда где-то далеко и своими глазами ее не видишь, она вроде и не совсем беда. Ведь когда Даня, не доработав в клинике Фанзена, раньше времени вернулся из Берлина и рассказал, что там творится, она думала, что он преувеличивает. Это оттого, что он слишком близко принимает к сердцу все, что касается его Германии.
Очень он тяжело переживал, что Гитлер набирает силу, что такое множество немцев пошло за ним. А когда Гитлер занял Чехословакию с Австрией, и Францию, и Польшу, на Даню больно было смотреть, так он осунулся и постарел. Она, конечно, тоже переживала и, как все, боялась, что Гитлер на этом не остановится, но пока здесь жизнь еще была жизнью, а дом — домом, меньше, чем Даня, думала об этом. А Даню беспокойство не отпускало. Только он по обыкновению молчал.
Вдруг сзади послышалось знакомое постукивание множества ног о мостовую. Но ведь уже утро. Значит, их ведут на работу. Только на работу.
Колонна приближается. Узнать бы, как там, в гетто? Акции ночью не было? А в те, другие ночи, когда они сидели в подвале?
Первые ряды уже поравнялись с нею. Но спросить все равно нельзя. Да и не ответят — когда ведут по городу, разговаривать запрещено.
Нельзя ей идти рядом с колонной. Конвоиру это может показаться подозрительным. Надо свернуть в подворотню и переждать.
Двор небольшой. Но кругом окна, она на виду. Значит, должна войти в подъезд. Только спокойно, как человек, который пришел к живущим в этом подъезде знакомым.
Здесь ее из окон не видно, можно переждать. Потом, будто не застав своих знакомых дома, она выйдет отсюда. За это время Зелинскис откроет аптеку. Ведь уже почти светло. Увы, слишком светло…
Вдруг наверху стукнула дверь. Забыв свое намерение выглядеть спокойной, она поспешно вышла. Пересекла двор. Снова оказалась на улице.
Здесь еще светлее. Все равно надо идти. И ни на кого не смотреть, чтобы и на нее не обратили внимания. Она должна дойти. Но оттого, что там, в подъезде, немного постояла, ноги стали будто не свои. Свои они, чужие не болят.
Аптека уже близко. Совсем близко. Открыта!
Она пошла быстрее. Да, да, жалюзи раздвинуты. И никто не идет навстречу. Значит, некому ее узнать. А если кто обгонит, то это ничего, по спине нельзя отличить, арийка она или не арийка.
Перед самой аптекой вдруг екнуло сердце. И сильно забилось. Это от страха. Бояться нельзя. Надо подняться на эти две ступеньки, взяться за ручку двери и войти.
Испуганно и, кажется, слишком громко тренькнул колокольчик.
Никого нет.
Все здесь, как было раньше. Полки. Те же ряды фарфоровых флаконов с лекарствами. И зеркальная дверь между полками та же.
Внезапно она открылась, и оттуда, из каморки Зелинскиса, вышла незнакомая женщина. Но в белом халате.
— Я вас слушаю.
— Позовите, пожалуйста, если можно, господина Зелинскиса.
Женщина усмехнулась. Приоткрыла дверь-зеркало.
— Рудольф, тут опять спрашивают покойного Зелинскиса.
Покойного?!
Вышел незнакомый мужчина. Молодой, широкоплечий, с напомаженными до блеска волосами. А в лацкане халата… заколка-свастика.
— Это Зелинскис вас привадил ходить сюда?
— Нет, нет! Я сама. Случайно. Проходила мимо.
Хотела попросить что-нибудь от головной боли.
— Странно…
Как предупредить Даню, чтобы он не шел сюда?
— Мы даже не были знакомы. Я знаю, как его зовут, потому что раньше, когда-то так называлась эта аптека. Зелинскиса. — И повторила: — Я только хотела попросить что-нибудь от головной боли.
— Что за странное совпадение. В этом же меня вчера пытался убедить один старик.
— Старик?
— Которому следует носить желтые звезды и находиться совсем в другом месте. К вам это, кажется, тоже относится?
Значит, Даня беспокоился за нее и вышел следом.
— Боже мой, что с ним?
Женщина ухмыльнулась:
— Почему вы думаете, что это должно нас интересовать?
— Не должно. Но я вас очень прошу, скажите мне, пожалуйста, что с ним.
Новый хозяин аптеки прервал ее:
— Позвонить в полицию или сами уйдете?
— А он, тот старик, который вчера был, сам ушел?
— Если вы сейчас же не уберетесь, я вызову полицию.
Она снова шла по улице. И ей совсем не было страшно. Хотя очень светло, и ее могут узнать.
Что с Даней? Он тревожился за нее и вышел следом.
Откуда ей было знать, что Даня не дождется, как договорились, завтрашнего дня?
Должна была знать. Всю жизнь прожили вместе. Должна была догадаться. Раз вышла раньше времени и ничего не объяснила, он почувствовал что-то неладное.
Господи, где же он? Где они все — Боренька, Яник, Нойма? Неужели она осталась одна?
Нет, нет, они есть! И Яник, и Алина, и Нойма. Ничего не случилось.
Они у надежных людей. Мужчины тоже добрались благополучно. Даст Бог, встретят там Бореньку. Они будут жить! И с Даней ничего плохого не случилось. Раз этот новый хозяин аптеки не стал вызывать полицию, то, наверно, и Даню отпустил. Пусть выгнал. Это ничего. Даня стерпит. Он все стерпит.
Аптекарь испугался. Видно, даже человек со свастикой в лацкане на всякий случай избегает объяснений, почему у него оказался «Jude».
Он отпустил Даню. Отпустил.
Но если все-таки сказал ему, что она не приходила? Тогда Даня подумал, что ее задержали по дороге. Вышла слишком рано, сумерки еще не сгустились, кто-то узнал ее и то ли сам повел в полицейский участок, то ли показал на нее, медленно плетущуюся, какому-нибудь немцу.
Что она наделала? Что наделала! Ведь если Даня решил, что ее забрали, он обратно в подвал не вернется. И если его, когда вышел из аптеки, нагнала возвращающаяся в гетто бригада, он сразу присоединился к ней.
Даня в гетто. Больше ему негде быть. «Что будет со всем еврейским народом, то будет еще с одним сыном еврейского народа». Даня не любит это старое изречение, считает, что его придумали пассивные люди, которые полагаются на волю судьбы. А выходит, нельзя не разделить судьбы своего народа.
Она тоже вернется в гетто. Они там будут вместе, вдвоем. Главное, чтобы Яник и дети спаслись. Правда, и сами могли бы еще пожить. Подержать на руках Нойминого ребенка, женить Бореньку.
Нет, не доживет уже она до такой радости. В гетто не доживет.
Но даже туда ее теперь, днем, не впустят. Как она объяснит — почему одна, в такое время, без звезд. Да и объяснять не придется, сразу схватят.
Надо вернуться вечером, в темноте, вместе со всеми. Но куда себя спрятать до вечера? Чердаки и подвалы заперты. Это гебитскомиссар еще давно приказал. А в тот, «свой» подвал при свете забираться нельзя. Ходить по улицам тоже нельзя.
А если завернуть в какой-нибудь двор? Постоять на лестнице черного хода и выйти. Потом зайти в другой. Тоже постоять. Может, найдется какой-нибудь закуток или темная каморка под лестницей, где дворники держат свои лопаты и скребки. Посидит там, пока не стемнеет. И вернется в гетто. Даня там. Конечно, там. Некуда ему больше деться.
И он ее поймет. Он ее всегда понимает. Еще успокаивать будет. Что Боренька, скорей всего, пошел к какому-нибудь другому товарищу, у него же их много. Что ничего плохого оттого, что она пошла к родителям Винцента, не случилось. Наоборот, она там хоть отогрелась немного. А главное, хорошо, что этот новый хозяин аптеки дал им обоим уйти.
Конечно, хорошо.
Если бы Сонгайлы их спрятали… Но он сразу сказал, чтобы она осталась только до утра. Да и двоим в такое укрытие не втиснуться. Непонятно, как Винцент умещался. И боятся они очень. Оказывается, Сонгайла всю ночь просидел в передней у самой двери, — чтобы, если придут немцы, услышать, когда они еще будут подниматься по лестнице. Тогда она должна была бы быстро через черный ход уйти.
Нет, Сонгайлы их не спрячут…
Вдруг она увидела идущего навстречу немца и быстро свернула в подворотню.
XVI
Мадам Ревекка остолбенело смотрела на закрывшуюся дверь. Старый доктор Зив тоже ушел. Обещал, что выйдет завтра, а сам вдруг заторопился. Она даже не успела ничего понять — отчего он слез со своей полки, почему так поспешно объяснил, где их спасительница оставляет еду, пожелал ей тоже найти хороших людей. Даже когда он пошел к двери, она еще не совсем поняла.
Зато теперь понимает. Но от такого понимания можно тронуться умом. Они ее бросили! Оставили одну в этом — ей вдруг показалось, что потолок стал ниже и тени от полок чернее, — в этом могильном склепе.
«Желаю вам тоже найти хороших людей». А где они, эти хорошие люди, если даже свои, евреи, так поступают. Замерзай, Ревекка, подыхай с голоду, никто и знать не будет, где гниют твои бедные косточки.
Нет, господин доктор! Ревекка так просто не сдастся! Она слезла с полки, пошла к двери. Но вдруг — уже осталось только протянуть руку — остановилась. Куда идти? Доктора она уже не догонит. Да и в какую сторону он пошел? А без него ей некуда идти. И не к кому. Это раньше, когда они с Борухом всем нужны были — тому дай товар в долг, за того поручись, третьего из беды выручай, — у них было много знакомых. Но теперь… Кто сам в гетто, тот не только ей — себе-то помочь не может, а такие, как ее бывший сосед Петровский, когда немцы пришли, и здороваться перестал. Или налоговый инспектор Малькевич, пусть у него будет столько горя, сколько раз она его выручала, когда он пропивал казенные деньги, теперь стал у них какой-то шишкой. Сам и выдаст ее немцам.
Хорошо доктору, что у него оказались такие приличные знакомые. А ей идти некуда.
Вдруг что-то скрипнуло. За дверью. Еще раз! Там кто-то есть. Сейчас он толкнет дверь…
Спрятаться негде. И как только она шевельнется, тот, который там стоит, услышит.
Дверь еще закрыта. Закрыта. И веревка, что вместо ручки, висит неподвижно.
Неужели он ждет, чтобы она вышла?
Опять скрипнуло! Но это… это же… — от волнения она забыла, что так скрипит. Это железо! За окошком ведь тоже в ветреную ночь скрипит. Только иначе, потому что там жесть.
Но двинуться с места все равно страшно.
Не надо пугаться. Там и раньше скрипело, при Зивах. А она не слышала, потому что не подходила так близко к двери.
Видно, скрипят прутья, которые торчат из остатка лестницы, нависшего над входом. Там, кажется, четыре ступеньки висят. Да, доктор говорил, что четыре.
Но если… Ее опять охватил страх. Если они так скрипят, значит, раскачиваются. Конечно, как же всего несколько прутьев могут удержать целый кусок каменной лестницы? Раньше потому-то и не слышно было скрипа, что еще, наверно, не качались.
Опять! Этот остаток лестницы может сорваться. Он завалит дверь, и все! Похоронит ее тут заживо.
Она рванула дверь. Скорей! Подальше от этой висячей смерти.
Лаз, оказывается, совсем короткий. Уже можно выпрямиться. Но тогда ее увидят. Двор и соседний дом очень близко.
Она смотрела на окна. Слава богу, они затемнены. Значит, не видит ее никто. И доктор говорил, что место, где тайник, из окон не видно.
Она ступала очень осторожно, чтобы, боже сохрани, не скрипнул под ногами снег. Засунула в тайник руку. Пусто. Шарь не шарь, если эта женщина ничего не положила, то ничего и нет.
Доктор где-то картофельную шелуху находил. Кажется, недалеко от тайника, сразу за выступом.
Не надо думать о том, что вот до чего дошла — подбирает чужие объедки. Нельзя об этом думать. Доктор ведь тоже подбирал, а какой интеллигентный человек.
Она боком, чтобы не задеть ни одной каменной глыбы и не смести с них снег, подкралась к выступу. Осторожно выглянула.
Нет. Шелухи тоже нет. Ни за выступом, ни там, дальше. Во всем дворе один только утоптанный снег и тропинка к подъезду. А она уже четверо суток ничего, кроме снега, во рту не держала. От него только внутренности еще больше стынут.
Во двор выйти нельзя. Кто-нибудь в доме приподнимет штору затемнения и увидит ее.
Знать бы, где живет эта сердечная женщина. К доктору она прибегала, только накинув платок. Значит, живет близко, в этом доме. Конечно, в этом. Иначе откуда бы доктор знал, что из окон не виден лаз и то место, где тайник.
А как ее зовут?.. Все у доктора секреты. Обещал, видите ли, никому не говорить. Даже жене и детям не сказал.
Надо было тогда, когда она прибегала в подвал, самой познакомиться. Отозвать в сторонку и дать понять, что не одна у нее сережка, а две. Она привычно нащупала их в варежке. Даже завернуты в ту самую черную бархатку, на которой когда-то сверкали в коробке.
Вдруг ей послышалось… Нет, не послышалось. Кто-то идет. Оттуда, с улицы. Приближается… Она вжалась в камень, перестала дышать.
Женщина. По двору тащится женщина. Ногам в таких валенках, наверно, тепло. Только зачем так низко надвинула платок? Ей ведь не надо прятать лицо. Она, кажется, похожа на ту, которая прибегала в подвал. Может, это она и есть? Бог послал ее как раз сейчас.
— Пани!
Не слышит.
— Уважаемая пани!
Опять не услышала.
Ноги сами пошли за ней. Сами.
Хорошо, что не оглядывается. Какой на ходу разговор? Дома, в четырех стенах, другое дело. Надо ей пообещать, что после войны к этим сережкам с бриллиантами добавит еще что-нибудь.
В подъезде она остановилась. Пусть богом посланная спасительница зайдет, разденется. Она, кажется, отпирает дверь на третьем этаже. Справа. Да, закрылась правая дверь.
Она тоже стала медленно подниматься по лестнице. Тут и постоять неплохо, уж очень вкусно пахнет котлетами. Кто-то жарит настоящие котлеты. Дожить бы и ей до такого времени, когда она будет опять стоять в своей кухоньке и жарить котлеты. Борух любит, чтобы они были пухлые, и ест их с красным хреном.
Перед дверью она остановилась. Оказывается, не такое уж это легкое дело — позвонить совсем чужому человеку, объяснить, кто ты такая и зачем пришла.
Она только дотронулась, а звонок задребезжал так громко, что она испугалась — не выбежал бы кто-нибудь из двери напротив.
Никто не выбежал. Но и ей не открывают.
Еще раз, теперь уже совсем еле-еле, притронулась к звонку. Все равно он затрещал слишком громко. Зато дверь открылась.
— Здравствуйте, пани. Добрый вечер. — Надо по-ихнему, по-католическому? — Да будет благословен Иисус Христос.
Женщина угрюмо пошевелила губами. Да, по лицу не скажешь, что это человек, который делает людям добро.
— Позволите войти?
Ничего не говорит. Но впускает на кухню.
— Будьте любезны и простите меня, пани. Я к вам с просьбой. Конечно, не только с просьбой. — Эта мрачная женщина почему-то не слушает. Здесь она кажется выше, чем там, в подвале. Показала, чтобы осталась стоять у двери, а сама скрылась за портьерами. Там ее комнаты. Кто это вешает на кухонную дверь бархатные портьеры?
Кухня богатая. Но зачем ей так много медных тазов для варенья? И три чайника. Неужели семья такая большая? Значит, она здесь только прислуга и не сможет ее спрятать. Надо договориться с нею, чтобы оставляла в тайнике еду. И валенки надо попросить.
Женщина вернулась, но только глянула, стоит ли она на месте, и принялась растапливать плиту. Да, она тут прислуга. В дверях появилась, запахивая шикарный шелковый халат, рыжеволосая… Нет, от такой добра не жди. Правда, сережки в ушах дешевые, значит, захочет иметь с бриллиантами.
— Здравствуйте, пани. Или, если вам приятней по-литовски, пСня?
Ничего не отвечает. Только поморщилась.
— Ядвига, зачем впустила?
Значит, прислугу зовут Ядвигой. Нет, не похожа она на ту, которая приходила в подвал. Правда, там лица было не видно.
— Ты же знаешь, что терпеть не могу нищенок.
Прислуга даже не обернулась.
— Извините, пани, или, если вам приятней, пСня, но я не нищенка.
— Неужели? — Конечно, выглядит она теперь, после подвала, не так, как раньше. Но видно же, что не голь какая-нибудь. — Так кто же ты?
И это «ты» надо проглотить.
— Должна вам сказать, что я, слава богу, разбираюсь в людях. Вас, к примеру, вижу всего одну минуту, а могу побожиться, что вы — умная женщина.
— Да уж, не дура.
— Ну, а с умным человеком приятно иметь дело, и, значит, мы договоримся.
— О чем это ты, — и опять презрительно скривила свои накрашенные губы, — собираешься со мной договариваться?
Пусть важничает. Пусть делает все, что хочет.
— Сейчас. Сейчас вы все поймете. — Могла бы сама догадаться. И эта Ядвига делает вид, что ничего не знает. — Видите ли, уважаемая пани. Вам, должно быть, известно, как бог когда-то спас свой народ.
— Какой это свой?
— Еще одна секундочка, и вам станет совсем понятно. Только, если позволите, я присяду, ноги что-то плохо держат. Так вот, когда египетский фараон вздумал уничтожить — теперь уже объясню более толково — наш, еврейский, народ, он первым делом сделал из людей рабов. Велел их гнать на такие тяжелые работы, которых человек не может выдержать. А если кто не умрет, надорвав на этой работе последние свои силы, тех велел убивать. Мало этого, он еще выпустил приказ порешить жизни всех маленьких мальчиков, даже тех, кто только рождается, чтобы и потом, через многие годы, не от кого было рожать.
— Ну и фараон! Где, говоришь, он служил?
— В Египте, пани. Только не служил. Это теперь фараонами называют полицейских. А тогда были настоящие, вроде королей. Так вот, когда всевышний увидел такие страдания нашего народа, он и решил спасти его, вывел из Египта. А чтобы люди в пустыне, а надо вам сказать, что шли они по ней очень долго, не умерли от голода и жажды, он им и манну с небес посылал, а водой из скалы поил. Вот, уважаемая пани, какие бог когда-то творил чудеса. А теперь, сами видите, горе есть, а чудес, к сожалению… Поэтому приходится самой о своем спасении думать. Конечно, никак не без помощи хороших людей. Надеюсь, вы меня, уважаемая пани, поняли? Только не подумайте, что я так, задаром. — Она поспешно вытащила из варежки руку с бархаткой. Замерзшими пальцами развернула ее. — Они вам очень пойдут. По правде говоря, бриллианты всем идут. И такая вот красота будет ваша всего за маленький уголок в каморке. Есть же в доме каморка. Или, еще лучше, темная кладовка. Я там буду сидеть так тихо, что даже мышь не почувствует. И объедать вас, боже упаси, не буду. Что вы позволите пани Ядвиге мне дать, за то и спасибо. Поверьте, вы на меня не потратите даже десятой доли того, что стоит один золотой ободок на этих сережках. Так что берите. — И она протянула свои бриллианты. — Они теперь ваши.
— Не фальшивые? Вы же мастера обманывать.
— Что вы, пани! Я фальшивых даже в глаза никогда не видела.
Взяла. И, конечно, сразу поспешила в комнату. Как же, примерить. А дверь за портьерами оставила открытой.
Живет богато. Столько хрусталя не в каждом богатом доме увидишь. Только откуда у нее семисвечник? Выходит, раньше в этой квартире жили совсем другие люди. Теперь они в гетто, а в их квартире…
— Пани Ядвига. — И прислуга не похожа на ту женщину, что приходила в подвал. — Вы не будете любезны сказать, ваша пани давно здесь живет?
Не отвечает. А картошку чистит не жалеючи. Шелуху не она выбрасывала, та была тоненькая.
— Ваша пани, она что, давно здесь живет?
— Ее и спросите.
— Что это ты собираешься у меня спросить? — Рыжеволосая вернулась уже в сережках.
— Ничего, пани. Совсем ничего. Сережки вам замечательно идут. — И ведь на самом деле идут к ее волосам. Только бы брови не так сильно красила.
— Ну, что у тебя есть еще?
— Не беспокойтесь, пани. Считайте, что это только задаток. А после войны, можете мне поверить, и бог свидетель, — я вас не обижу. На всю жизнь вам хватит. Еще детям и внукам останется.
— А я не собираюсь никому ничего оставлять.
— Тоже правильно. Сами носите на здоровье. Женщине приятно, когда на ней бриллианты и ей завидуют. Так где, уважаемая пани, я смогу?..
— Что сможешь?
— Ну, где у вас каморка? Или кладовочка?
— Ты что, серьезно думаешь, что я тебя здесь оставлю?
— Извините, но я вас, кажется, не понимаю.
— Тогда чего испугалась? Выходит, понимаешь.
— Нет. То есть не совсем понимаю. Я имею в виду, если вы у меня взяли эти бриллианты…
— Ты же сама только что сказала, что я умная.
— Сказала.
— Так зачем считаешь дурой?
— Боже сохрани!
— Правильно. Потому что дурой я была бы, если бы не взяла, когда дают и еще упрашивают: «Пани, они — ваши!»
— Но ведь не задаром, а за то, чтобы вы меня спрятали. Я же вам говорила. И думала, что вы согласны.
— Знаешь, как у нас говорят: «Индюшка думала, думала и попала в кастрюлю».
— При чем тут индюшка? При чем кастрюля? Я отдала вам эти золотые сережки с бриллиантами, чтобы вы меня за них спрятали.
— А почему я должна тебя прятать, если у тебя есть свое место? В гетто.
— Но оттуда уводят в лес, где расстреливают.
— Это уж не мое дело.
— Пани, что вы такое говорите?
— Что твое место в гетто. Разве это неправда?
— Но вы же знаете — это смерть: там акции. Хватают ни в чем не повинных людей и расстреливают. Ну, в чем я перед вами, перед другими виновата?
— Не знаю. Меня это не касается.
— Но пани, дорогая! Это правда! Из гетто гонят на расстрел. И моя жизнь в ваших руках.
— Ну уж.
— Истинный бог! Знала бы, что вы не обидитесь, перекрестилась бы. В ваших руках моя жизнь.
— А на что она мне?
— Хотите, встану перед вами на колени! — Что еще ей сказать, как еще просить?
— Нет. Представь себе, не хочу.
— Но у вас же есть совесть! И сердце. Бог даст, будут дети, потом внуки. И вы им будете рассказывать, как спасли от верной смерти одну несчастную женщину. Вдову. Не дали убить. А я же тут займу совсем мало места. Втиснусь в какой-нибудь уголок. Вы меня ни видеть не будете, ни слышать. — Ну что она все морщится? — И никто не видел, как я сюда вошла. Спасите меня, дорогая пани. Господом богом прошу, спасите! Я жить хочу! Вы ведь тоже хотите.
— Сравнила!
— Хорошо, пожалуйста, не буду сравнивать.
— Я, что ли, виновата, что вас убивают. Убирайся отсюда. Слышишь, убирайся!
— Нет, пани, мне некуда уйти. И я ведь не задаром!
Не может такого быть, чтобы вы меня выгнали.
— Не уйдешь сама, сейчас же позвоню мужу. Знаешь, где он работает? И он пришлет фараона. Не такого, о котором ты тут брехала, а настоящего. Ну что ты смотришь? Не знаешь, кто такой фараон? Полицейский! Теперь поняла, кого муж пришлет? Ну как, звонить?
— Не надо, пани. Не надо звонить. Но тогда отдайте, пожалуйста, сережки.
— Ядвига, отрежь ей хлеба.
— Я ведь… такое богатство, такую красоту — не за хлеб.
— А когда будешь ее выпроваживать, смотри, чтобы на лестнице никого не было.
— Пани, верните мне, пожалуйста, мои сережки, мою единственную надежду!
Она повернулась и вышла из кухни. В ее бриллиантах.
А Ядвига уже отрезает ломоть хлеба.
— Пани Ядвига, попросите, пожалуйста, у своей хозяйки. Эти серьги мне остались от покойной матери.
— Не вернет. — И пошла отпирать дверь.
— Подождите! Умоляю вас, подождите! Выслушайте меня. Тут есть подвал. Я вам покажу. Буду там тихо сидеть. А вы хоть изредка, когда сможете, приносите что-нибудь из еды. Хотя бы картофельные очистки.
Ядвига молча отперла дверь.
XVII
Моника только делала вид, что считает, сколько стульев грузчики выносят из склада. Знает она, сколько. Сама утром все сто двадцать к дверям перетащила. И нет ей дела до того, как их там, в кузове, грузят. Как хотят, так пусть и ставят. Не из-за этого она тут торчит.
Но и толку от того, что торчит, будто безъязыкая, никакого. Скоро они закончат эту работу, бригадир их отошлет на задний двор или еще куда-нибудь, и тогда жалей не жалей, что не заговорила — уже не у кого будет разузнать что-нибудь о докторе.
Если бы раньше хоть раз завела о нем речь! Сразу, как только поняла — да что там поняла, уверилась, — что докторовой семьи в подвале нету. Так нет, испугалась, что удивятся, отчего это она вдруг справляется о докторе, ведь уже давно в сушилке другой человек работает. Заподозрят — значит, раньше знала, где он. Вовсе не значит! Объяснила бы, что давно в сушилку не заходила, понятия не имеет, кто там теперь работает.
А главное — их-то чего бояться? Эти несчастные сами до смерти напуганы.
Нет, не только из-за страха не расспрашивала тогда о докторе — незачем было спрашивать. Сама поняла. И Болесловас то же самое сказал, — не выдержали они. А как выдержать в промерзшем подвале, голодным? Они вернулись в гетто. Как пришли сюда, так и ушли, тайком, опять по одному. Но куда, Господи! Снова в этот ад, откуда один только путь.
Но они сами ушли. Сами. Если бы немцы их отыскали, такое бы творилось! Все бы дома вокруг обшарили, не прячутся ли еще где-нибудь. И уж обязательно стали бы дознаваться, от кого они про этот подвал узнали? Кто помогал? А это они, проклятущие, умеют. В ихнем гестапо, говорят, никто не выдерживает.
Сам доктор ушел. Сам. И своих как привел, так и вывел.
Не могла она в те три ночи, что Агнуте при смерти была, вырваться к ним! Ведь ни на одну минуту они с Тересой от кроватки не отходили. Даже Болесловаса кормить ни разу домой не прибегала.
Бог видел — не могла она оставить задыхающуюся внучку. Не могла! И ведь сразу, как только ребенку лучше стало, свое коричневое платье на толкучку понесла. За бесценок, оттого что знала — они там совсем изголодались, уступила. И еле дождалась ночи — Болесловас еще даже спать не лег — одну буханку в тайник отнесла. Радовалась, что доктор ее скоро заберет, что ребенку побольше достанется, что на завтра еще одна буханка есть.
Зря радовалась. Когда назавтра поспешила со второй буханкой…
Сперва даже не сообразила, что там такое лежит. Подумала — доктор, слава богу, что-то для обмена положил. А когда взяла в руки, поняла — это та же, вчерашняя буханка, замерзшая.
Понять-то поняла, а вот почему она тут — сразу и не взяла в толк. Опять ее засунула. И вторую, принесенную, следом пихнула. Только когда уже по двору обратно спешила, вдруг стала соображать. А сообразив, еще и испугалась, что, кажется, долго там, разглядывая буханку, стояла. Господи, до чего ее затрясло, до чего заколотило! Никак эту тряску было не унять. Даже Болесловас, когда под одеяло подлезла, проснулся, так она стучала зубами.
— Чего дергаешься? Видел кто?
Пришлось признаться, что дольше обычного у тайника задержалась оттого, что хлеб там нетронутый лежит.
Хорошо хоть, Болесловас не рассердился. Не винил — зачем еще вторую буханку сунула. Тоже расстроился. Долго не засыпал, успокаивал. А ведь никогда раньше не умел.
Боже милостивый, прости этот грех, но перестала она, сразу перестала дрожать. И утешить себя дала. Не хуже им оттого, что вернулись. На фабрике говорили, будто теперь евреям какие-то новые удостоверения дают и больше их убивать не будут. Да и все-таки там, в гетто, в домах живут. Пусть по двадцать или сколько там человек в одной комнате, но все же в комнате, а тут, считай, совсем на улице были. Еще там какие-никакие, а хлебные карточки у них будут. Пусть по сто граммов по ним получат, зато каждый день.
Грешна она, Господи, очень грешна! И что полегчало оттого, что они вернулись в гетто, и что успокаивала себя, будто не хуже им там будет. Надо было все, до самой последней своей рубашки выменять, а не дожидаться, чтобы люди на таком морозе еще и теплые вещи с себя снимали. Была бы лишняя кофта и лишний кусок хлеба, еще потерпели бы. Скоро морозы кончатся, день уже намного длиннее стал.
Но сколько она могла с себя продавать? Бог свидетель, ничего же у самой лишнего нет! Очень бы скоро до последней рубашки добралась. А потом что? Война к лету не кончится. Да и как ей кончиться, если такая у извергов этих сила, такая над людьми власть. Пусть верно Болесловас говорит, что рано или поздно, а все равно немцы свернут себе шею, но сколько еще невинной крови до этого прольют…
Ну вот, вовремя не заговорила, а уж теперь, при бригадире… Чего только нелегкая его раньше времени принесла? Невтерпеж над людьми поиздеваться? Аккуратно же, аккуратно они эти стулья ставят и связывают правильно. Зачем за каждую мелочь расстрелом пугать? И носит же земля, прости Господи, таких уродов!
Теперь уже не спросить про доктора. Упустила она время. Надо было сразу, как только они пришли, спросить. У этого рыжеусого, бывшего часовщика. Или у того молоденького. Да у любого!
Но, видит Бог, не могла она, как только они вошли, сразу полезть с расспросами. Если бы раньше, когда поняла, что доктор вернулся в гетто, хоть разочек осторожно завела разговор — что, мол, с доктором, который тут работал? Вопрос как вопрос — на фабрике его не видно, а в гетто, в такой тесноте люди, должно быть, каждый день друг на друга натыкаются. А без этого первого разговора как было спрашивать? Кого сегодня ночью забрали? Ответили бы — людей.
Знает она, что людей. Полночи у окна простояла.
Если спросить прямо про доктора, Болесловас прав, — откуда им знать? Сами, небось, сидели в смертельном страхе, чтобы солдаты в их двор не завернули.
Господи, хоть бы Болесловас был прав и в том, что она могла обознаться! Ночь ведь.
Ночь. Но лунная. И не обозналась она… То есть в первый раз и впрямь обозналась. Оттого, что спросонья. Заслышала шарканье ног об асфальт, бросилась к окну, увидела в толпе старого человека, и сердце оборвалось — доктор! Это уж потом, когда еще одного старика увидела и еще — много их вместе с молодыми проходило, — засомневалась, — тот вроде ростом выше, и ребенка, кажется, рядом не было. А у доктора ведь внучонок.
Но во второй раз, уже под самое утро, все-таки не обозналась. Это был доктор…
Верно Болесловас говорит: по этим выродкам хоть часы проверяй, так они пунктуально, через ровные перерывы, людей на смерть ведут. Одну толпу, человек тысячу, уведут, и целый час — тихо. Ночь как ночь. Видно, им как раз столько времени требуется, чтобы там, в лесу, всех до единого — пошли, Господи, невинным жертвам царствие небесное — расстрелять. И чтобы новые, которых через час погонят, когда к лесу приближаться будут, не услышали ни выстрелов, ни криков. Чтобы поверили, будто на этот раз немцы не обманывают и на самом деле в какой-то лагерь на другие работы переводят. Только завидев ямы и солдат с наставленными автоматами… Но тогда хоть кричи, хоть на коленях перед ними ползай — автоматы уже строчат, людей друг на друга в яму валят.
Доктор, наверно, не молил. Не ронял он себя перед ними.
Напрасно Болесловас думает — да не думает он, только ей говорит, — что могла обознаться. Нет. Во второй раз, на беду, не обозналась. Ничего, что без внука доктор шел, ребенка отец или мать могли вести, она ж их не знает. А он жену, такую же невысокую, как сам, под руку вел. Чтобы ей не так страшно было. Должно быть, жили душа в душу и на смерть рядышком шли. В последний свой путь тоже вместе. И умрут вместе.
Но, видит Бог, она же старалась сделать для них все, что могла! И про подвал рассказала, и одежду ихнюю на еду выменивала. А сколько страха всякий раз, когда к тайнику бегала, натерпелась.
Нет ее вины перед ними, нет! Боже милосердный, сними тяжесть с души, дай успокоение. Живут же люди без таких мук. Целый город живет. Все про убийства эти знают, а не изводятся чужим горем. Вот Ядвига, прислуга рыжей паскуды сверху, рассказывала. Заходила к ним какая-то женщина, золотые сережки предлагала, чтобы за них ее спрятали. Это у докторши только одна осталась. У той женщины две были. Что рыжая паскуда сережки забрала, а ее выгнала, удивляться нечего, но как Ядвига, добрая вроде католичка, могла спокойно про это рассказывать? Всего-то и сделала добра, что не один ломоть хлеба, как хозяйка велела, а почти полбуханки отрезала.
Болесловас говорит — не за что ей себя корить, помогала. Больше ничего она сделать не могла. И убиваться нечего.
Так если бы доктор своей смертью умер. Но ведь убили его! Всех их убили. Даже мальчонку не пожалели.
И у грузчиков этих есть дети. У рыжеусого вроде двое. И у учителя осталось двое, третий грудной был. Как только их в гетто согнали, у матери молоко пропало и дите умерло. А этот, курчавый, еще, видно, не женат. Больно молодой.
Рассказать им про подвал? Не то чтобы прямо выложить, а так, дать понять.
Совсем спятила! Их же двенадцать человек, и у каждого семья. Куда всех?
А если только одному сказать?
Господи, совсем измучилась! Как же выбрать, которому? Все одинаково жить хотят. И для нее они все одинаковы. Что рыжеусый, что учитель, что этот в кургузом плащике.
Куда ему, при такой-то одежонке, в подвал? Да и другим. Не выдержат они там. Доктор ведь не выдержал. И морозы еще не скоро кончатся. А когда иней со стен сходить начнет, люди в такой сырости окажутся, что считай — почти в воде. И у самой опять никакого житья не будет. Что днем, что ночью — один страх. Чтобы про них, упаси боже, не прознали, чтобы ее, когда к тайнику бежит, не увидели. Чтобы на фабрике иль на толкучке не стали удивляться, чего это она так часто разную одежду продает, ведь только вдвоем с мужем живут. А если на той одежде тоже следы от споротых желтых звезд остались… Тогда на докторовом свитере Жемгулис же разглядел.
Ихний меховой воротник, что для Тересе оставила, выменяет на мед для Агнуте, чтобы ребенок скорей на ножки встал. Тересе, когда маленькая была, покойница мать от всех болезней медом лечила. Только теперь за мед, небось, такую цену заломят, что всего ничего и купишь.
Все равно она купит. Ребенку мед нужен.
Господи, прости, но, выходит, истина это — что своя рубашка ближе к телу. Вот ведь, для своей внучки и мед нужен, а у детей ближнего даже хлеба нет.
Но не может же она их всех накормить!..
Все равно завтра им хлеба принесет. Обязательно принесет. Целую буханку. Сами картошкой обойдутся. Наделает кастрюлю цеппелинов, Болесловас их любит, пусть ест. А хлеб разрежет на двенадцать ломтей, и каждому — по ломтю, чтобы детям своим отнесли.
Чего это бригадир так разорался? Хворь бы какая на его глотку нашла, голоса лишила, хоть бы руки отсохли, чтобы не поднимались. Люди старательные, хорошо все стулья погрузили. И что теперь на заднем дворе доски складывать должны, без кулаков поняли. Зачем их бить?
Знает, что стерпят. Попробовал один осенью слово сказать, так ведь сразу саботажником обозвал и, что работу выполнить отказался, начальству наплел. Несчастного даже до гетто не довели, по дороге в полицейский участок сдали. Господи, за что им такое?
Так где же он, доктор Зив? Где они все? Dovanok jiems, Viespatie, amzina atilsi! Даруй им, Господи, вечный покой!
XVIII
— Нойменька, пора вставать.
Она понимает, что это ей снится. И не надо просыпаться, пусть мама еще постоит здесь, рядом. Пусть скажет, где они теперь — она и папа. Аптекарь не отказал?.. Молчит. И не подходит. Не хочет, чтобы Яник ее увидел? Но он же спит.
Исчезли…
Все равно не надо открывать глаза. Пусть подойдет к самой кровати, как когда-то, когда будила ее, чтобы не опоздала в гимназию. Виктора с Борькой тормошила заранее, а ее жалела и поднимала, когда они, недовольные такой несправедливостью, уже принимались за свои яичницы. Помогала ей: и воды в умывальник наливала, и ленты для кос подносила, и молоко подогревала, чтобы она в спешке, не дай бог, не выпила холодного, молочница только что принесла. Еще успевала проверить у Борьки портфель, — не тащит ли лишних книг. И все норовила выйти вместе с ним из дому, чтобы он по улице не несся, особенно когда скользко, а шел, «как все приличные мальчики». Уверяла, что ей надо в пекарню за свежими булочками. Борька, конечно, понимал, что это только предлог, и сердился:
— Зачем тебе свежие булочки, когда все уже позавтракали?
Но мама не сдавалась: первая выпечка самая хорошая, пекарь еще не устал.
Булочки у него всегда были вкусные. А каких зверюшек он из теста выпекал! Целая полка была уставлена белочками, птичками, лошадками. Когда она была маленькой, мама брала ее с собой, чтобы сама выбирала, какого зверька хочет. Но дома съедать ее становилось жалко. Булочка-зверек черствел, сох, потом куда-то девался.
Вот снова вспомнила про еду. А ведь запретила себе. И вообще пора вставать. Правда, сегодня воскресенье, можно не торопиться. Но тротуар все равно надо чистить, за ночь, наверно, много снега насыпало. Да и спокойнее убираться первой, на совсем пустой улице, не надо думать — так ли держишь лом или скребок. Главное, управиться, пока не вышла Владислава.
В первые дни та своими расспросами очень напугала ее. Всем интересовалась: и почему Яник вертится около нее, и круглый ли он сирота, и у кого она работала раньше, и хорошие ли там были жильцы, и где муж. Даже из какого меха был на пальто воротник. А ведь только про воротник она могла сказать правду. Но свои ответы, кажется, запомнила, — чтобы, если еще кто-нибудь спросит, ответить то же самое.
Яник кашляет. В подвале не простужался, а здесь уже третий раз. Но он рад этому — простуженного она берет его на ночь к себе. Дважды и чужих брала. И не только для отвода глаз, — в приютских спальнях еще холоднее.
Надо вставать. Яник тоже скоро проснется. Когда знает, что на утро осталось немного каши, видно, и во сне об этом помнит, — просыпается раньше обычного и сразу смотрит на плиту — стоит ли его мисочка.
Стоит. Кто ж ее возьмет. И будет у него сегодня добавка к приютской похлебке, будет.
Когда в прошлый раз Марчукова позвала ее вымыть в кухне котел и полы — ее помощницу Теклю директор отпустил на похороны брата, — она ни на что не рассчитывала. Нет, неправда, мелькнула мысль. Но только на одно мгновенье мелькнула. И ничем она этой мысли не выдала. Хотела сразу начать мыть котел. Это Марчукова сказала, чтобы не торопилась, а сначала соскребла все со стенок. «Хоть жидкая, одно название, что каша, но на стенках остается». Кастрюльку подала — куда собирать.
Пока скребла, старалась не думать, как хорошо было бы принести несколько ложек этой каши Янику. Слушала рассказ Марчуковой, как тут было до войны. То же не бог весть что, сиротская доля во все времена горька, не приведи Господи никому, но все-таки дети не были такие голодные. Каким-никаким, а все же густым варевом их кормила, не этой, даже назвать ее кашей не поворачивается язык, так, вода, заправленная ржаной мукой. Да что говорить, тогда и власть была другой, и люди другими. Сами по-человечески жили и сиротам милость оказывали. Из монастыря, бывало, осенью и картофеля воз привезут, и капусты. Еще свеклы, репы, немного лука. Было тогда, что класть в котел, не то что теперь. Дамы, те деньгами поддерживали. Устроят какой-нибудь благотворительный бал или «цветочный день» и соберут для приюта.
Помнит она эти дни. Сама однажды помогала маме делать такие цветочки. Только все удивлялась, почему их называют цветочками, они скорей были похожи на бело-розовых и бело-голубых мотыльков. Мама нарезала маленькие квадратики гофрированной бумаги, а она их накалывала на цветочные булавочки, расправляла бумажкам «крылышки», и все. Потом они долго насаживали этих мотыльков на обтянутые такой же бумагой круглые дощечки величиной с палитру художника. А вот кто эти усеянные бумажными мотыльками дощечки тогда забрал, уже не помнит. Но что забрали — это точно, мама стеснялась, как другие дамы, выйти с этими дощечками на улицу. Ходили обычно вдвоем. Одна прикалывала каждому прохожему такой цветочек к лацкану пиджака, другая держала в руках кружку для пожертвований. Весь город в такой день ходил с этими розово-голубыми бумажечками на лацканах — знаком того, что он сегодня уже сделал пожертвование.
Когда Марчукова сказала, чтобы все, что наскребла, оставила себе, она, кажется, не сразу поблагодарила, испугалась, не выдала ли себя чем-нибудь, пока вспоминала про то, давнее, время.
Зато Яник вечером поел почти досыта. Все равно было трудно уговорить его оставить немножко и на утро. Честно говоря, самой тоже нелегко было отложить ложку. Но надо было Янику показать пример. Ведь до вторника она по своей хлебной карточке ничего не получит.
А если опять попросить у Владиславы, чтобы одолжила полпорции хлеба? Размочить его в теплой воде, и будет целая чашка хлебной тюри.
Владислава одолжит. Сама говорила, что без хлеба не сидит. Но тогда придется к ней зайти за этим хлебом. Она, конечно, заведет разговор. А если она опять заговорит о той еврейской семье, которая жила в шестой квартире? И повторит, что они были сердечные и простые люди — всегда первыми здоровались, а когда муж, царствие небесное, болел, справлялись о его здоровье, и какая у них в доме была чистота, хоть тесто на полу раскатывай. Примется вспоминать, какими вкусными вещами они ее угощали в свои праздники и что особенно ей нравились эти… их, кажется, делают из свеклы на меду, только запамятовала, как они называются, и, будто забыв прошлый разговор, еще больше удивится:
— Самой разве никогда не доводилось отведать?
Если бы Владислава тогда поверила ее ответу, что не доводилось, не стала бы, явно понизив голос, выведывать:
— Неужели у тебя не было знакомых евреев?
Пришлось сказать, что были. Но не назвала никого. Только добавила, что теперь они в гетто.
И ведь правда, если они еще живы, то в гетто.
Господи, как этот разговор ее тогда напугал! Она была уверена, что Владислава неспроста завела об этом речь. Что нарочно спросила, как называется угощение, которое в еврейских домах готовят к празднику.
Она была уверена, что в тот же день за нею придут. Забежала в приют и тихонько велела Янику, когда их выпустят во двор, ни за что не подходить к ней. Опять напомнила, чтобы он никому не говорил, что она его тетя и что у него есть мама с папой. Заставила три раза повторить новую фамилию, которую записал директор ему как подкидышу — Невядомский.
Яник кивал. А в глазенках было такое… Она ему сунула в карман шубки свою хлебную карточку, — если завтра снег будет убирать другая тетя, пусть попросит воспитательницу отоварить эту карточку. Воспитательница добрая, хлеб ему обязательно отдаст.
Сама весь день вертелась во дворе. Лед вокруг колонки отбила, дорожку к черному ходу расширила, желобки под стоками вырубила, хотя до весны еще ох как далеко. И старалась работать так, чтобы видеть подворотню, — если немцы появятся, сама шагнет к ним, пусть даже во двор не заходят. Яник, конечно, стоит у окна. Он все время, пока светло, стоит у окна. Не надо, чтобы он видел, как ее уводят.
То, что днем за нею не пришли, ничуть не успокоило, — днем редко забирают, чаще ночью.
Она в ту ночь не разделась. Лежала без сна, прислушивалась, не идут ли за нею. Вспоминала разговор с Владиславой, каждое слово. И что Владислава сказала и как спросила.
А спрятаться некуда, на двери чердака висит замок. И подвал заперт. Если бы у нее даже был ключ, все равно бессмысленно там прятаться, — первым делом немцы ищут именно на чердаке и в подвале. Все углы фонариками обшаривают. Уйти отсюда? Куда? И не дойти, первый же патруль задержит — ночь, комендантский час. А главное, нельзя ей, когда они нагрянут, не быть на месте, начнут рыскать по всему приюту, найдут Яника. Да и директора могут из-за нее забрать.
Не будет она прятаться. Сама им откроет дверь.
Вскочила, стала ходить. От кровати к плите. Обратно к кровати. Снова к плите. Но это всего два шага. Тесно. Как в клетке. Тут на самом деле клетка. Последнее прибежище перед…
Вдруг она оборвала себя. Нет! Здесь комната. Обыкновенная дворницкая. И раньше была дворницкая. Вот стол, плита, кровать.
Она заставила себя лечь. Лежать с открытыми глазами и не думать об этом.
…Мама с папой, наверно, у аптекаря. И Марк с Виктором дошли. Она ни о чем плохом не думает. Совсем не думает.
Странно, но на мгновенье она, кажется, даже задремала. Правда, только на одно мгновенье. Сразу пронзило — сейчас придут за нею! Теперь уже, наверно, совсем скоро, — ночь явно на исходе.
Потом она услышала знакомые звуки: на улице кто-то скребет снег. Справа. Наверно, старик Казимир. Значит, уже утро, и за нею не пришли!
Словно вернувшись откуда-то издалека и отвыкнув от всего здешнего, спохватилась, что тоже должна убрать перед домом. Тротуар, свою часть мостовой. Поспешно поднялась, достала лопату, скребок.
Когда вышла со двора, было странно, что она снова здесь, что видит эту длинную улицу, эти знакомые дома. Принялась убирать.
Как ни в чем не бывало, к ней подошла Владислава. Спросила, отчего она припозднилась. Всегда первая, а сегодня чуть не последняя. Проспала, что ли?
Она старалась говорить с Владиславой так же, как всегда. Не выдать своих ночных мыслей. Выглядеть спокойной. Не только выглядеть, но и на самом деле быть спокойной, потому что не умеет ничего скрывать.
Да, проспала. С вечера никак было не уснуть, все тело ломило. Видно, к перемене погоды. Конечно, хорошо бы попарить ноги в горячей воде, но где ее взять, горячую, плита — и та еле нагревается. Тоже посетовала (а в душе ужаснулась), что, когда будет оттепель, их заставят сбрасывать с крыши снег; только о том, что новый участковый инспектор намного хуже старого и что зря того ругали, будто пропустила мимо ушей, — а вдруг Владислава нарочно завела этот разговор. Тем более, не повторила отцовской поговорки, что на плохого хозяина не надо просить напасти, придет еще худший, — может, у других народов такой поговорки нет.
Днем она и вовсе успокоилась. Даже неловко стало за свои подозрения. Ничего Владислава не выведывала. И не похожа она на человека, который выдает. О той еврейской семье рассказала просто так, ведь о других жильцах тоже рассказывает. И оттого такая разговорчивая, что одинока — муж давно умер, детей нет, родственники в деревне. А любит обо всем, до мелочей, расспрашивать и всем интересуется потому, что чужой жизнью заполняет свою. И сердце доброе, — никто ж, кроме нее, старика Казимира не отправляет домой отдохнуть, не дочищает за него тротуар. А заговорила о прежних жильцах шестой квартиры для того, чтобы показать, что ничего против евреев не имеет.
Доверяться она, конечно, не стала. Но первые подозрения больше не возвращались.
Все равно одолжить хлеба больше не у кого…
Хорошо бы подгадать зайти в такое время, когда Владислава торопится уходить. Она же ходит в восьмую квартиру, к бухгалтеру, убирать. И к учительнице ходит. И ей советует, тоже не в первый раз, искать приработок в доме, где дворник мужчина, а значит, жильцам некого нанять на женские работы. На их улице только один такой дом есть, но там, кажется, никому не нужно. А за углом, в том большом доме, в котором магазин, надо обойти обе парадные и звонить в каждую дверь. Только должна еще из-за двери предупредить, что своя, что дворничиха из приютского дома. А как откроют дверь, первым делом показать документ. Когда посмотрят его, тогда уже можно спросить про работу.
Но не каждый же раз Владислава станет советовать. Зато обязательно спросит: «Ну как, работу искала?» Сказать неправду? А если начнет допытываться, в каком доме, у каких людей спрашивала, кто что ответил? Признаться, что не искала? Разведет руками: неужели ходить голодной лучше, чем побольше поработать? Придется выслушивать нравоучения. Не объяснять же, что нельзя ей звонить в чужие двери — неизвестно, кто откроет. И нельзя, чтобы лишние люди ее видели, обратили на нее внимание.
Не будет она просить Владиславу одолжить хлеба. К сожалению, не будет…
Хорошо бы, чтобы Марчукова опять позвала убрать кухню. Текле ж еще не вернулась.
Пора наконец подниматься. Плохие мысли набегают, когда человек лежит без дела.
Она рывком откинула одеяло. Стала быстро натягивать одежду. Марка такое вскакивание с постели раздражало: «Горит, что ли?» И она уже научилась вставать медленно. Когда Марк вернется, она опять не будет торопиться. Но здесь нельзя медленно, очень холодно. Даже рубашка вот задубела.
Она влезла в башмаки и шагнула к плите. Сейчас затопит.
Щепки, слава богу, высохли. А что поленья мокрые — ничего. Влага пошипит, попузырится и в конце концов сдастся огню. Повезло ей, что здесь плита, а не печь. И воздух быстрей нагревается, и воду можно заодно вскипятить. Тяга здесь тоже лучше, чем в приютских печах. С ними, пока вытопишь, намучаешься, хоть плачь. Все равно она бы их топила с утра до вечера, только бы эти несчастные дети так не мерзли. К сожалению, нельзя. Если топить каждый день, дров до весны не хватит. И так дважды протапливала в «неположенные» дни — это когда директор узнал, что в бывшем кинотеатре «Арc» валяются сломанные стулья, и они все вместе их приволокли. Жалко было доламывать, но горели они хорошо.
Зря свою растопку хвалила. Щепки сгорели, а поленья так и не занялись. Было бы здесь все свое, она бы, как Владислава, и доску для раскатки теста на растопку пустила, и саму каталку. А чужого не станет трогать.
Она прикрыла вьюшку: пусть тяга будет меньше, тогда щепки не так быстро сгорят, — и достала свой запас для послезавтрашней растопки.
Слава богу, наконец разгораются. Надо будет поскорей убрать тротуар и пораньше пойти в костел. Алина уже, наверно, будет там. Хорошо бы, чтобы проповедь была недлинной, тогда они с Яником вернутся как раз к обеду, когда Марчукова может позвать ее помочь в кухне.
Директор предупредил, что еще один человек в приюте знает о ней правду. Но почему он должен был раскрыть эту правду и кто этот человек — не сказал.
Неужели Марчукова? Не похоже. Но помогать-то на кухне Марчукова позвала ее. И сама предложила взять для Яника оставшуюся на стенках котла кашу. Сегодня каши, наверно, останется больше. Воскресенье, будут гости. Марчукова говорила, что в хорошие воскресенья, особенно в день какого-нибудь святого, когда благотворительниц больше и каждому ребенку достается домашняя еда, некоторые приютский обед не доедают. Она им даже наливает меньше.
Если сегодня даже не день важного святого, обе монашки придут. Они каждое воскресенье приходят. И напыщенная старуха, которая приезжает на извозчичьих санях и велит ее ждать, приедет. Владислава почему-то считает, что в молодости эта старуха была большой грешницей, а теперь этими воскресными подачками замаливает грехи, чтобы на том свете зачлось.
Придет и та болезненного вида женщина, которая даже ей стала объяснять, что она немому Кястукасу не родственница, просто очень жалеет беднягу. Лучше бы так не старалась всех убеждать в этом…
Какой у Яника надрывный кашель. Два дня уже было лучше, а вот сегодня опять. Вчера снова промочил ножки. Пройдет. Должно пройти. Сейчас тут станет немного теплей.
Вдруг ей послышалось… Нет, не послышалось!.. Во дворе говорят по-немецки… Идут сюда!
Она вскочила, накинула на Яника свою подушку, одеяло. Ничего, не задохнется. Она одна здесь живет, одна! И сама выйдет к ним, пусть сюда не заходят! Она схватила свою лопату для снега и распахнула дверь.
Их трое. Офицер, два солдата.
— Komm mit![6]
Почему они ее ведут сюда? Ведь должны на улицу. На этой лестнице живет директор. Надо им сказать, что директор не виноват, он ничего не знал. Он не знал, кто она.
Не успела — офицер уже звонит в дверь!
Странно, на их двери тоже был такой номер. Только здесь девятка, а у них была тройка. Господи, о чем она думает! Ее же забирают! Яник останется один.
Зачем так трезвонить? Сейчас директор откроет. Он уже подошел.
— Кто там?
Оба автомата больно ткнули ей в спину.
— Кто там?
— Пан директор… Меня уводят…
Открывает.
Без очков лицо совсем другое. И пиджак надет прямо на пижаму.
Офицер уже вошел. Солдат толкнул ее, чтобы тоже вошла. Дальше, в столовую.
И жена директора не успела одеться. В халате и с распущенными волосами она тоже выглядит непривычно. Очень испугана.
Надо сказать офицеру, что оба не знали о них с Яником. Уже сейчас сказать.
Почему он открывает дверцу буфета? Дома у них буфет был выше. Но тоже с таким ящиком. Мама в нем держала скатерти. И здесь скатерти.
Офицер кивнул, и солдаты подтолкнули ее к буфету.
Почему он ей велит смотреть, как выкидывают из ящика чистые скатерти? Салфетки. Кольца для салфеток.
Пистолет! На очень белой скатерти лежит большой черный пистолет.
— Na, Herr Bolschewik, warum hast du ihn nicht versteckt?
Назвал директора большевиком. Спрашивает, почему не спрятал пистолет.
— Мой муж не большевик! — Жена бросилась к буфету, но солдат оттолкнул ее. — Его просили… Только вчера вечером попросили… какой-то незнакомый человек… временно, до утра… Утром муж собирался сдать этот… в полицию.
— Не надо, Регина.
— Ja, ja, ne nado l" ugen. Wie du siehst, ist dein Freundauch mein Freund.
«Как видишь, твой друг — также и мой друг»? Значит, кто-то выдал!
— Bleib stehen!
Это он директору велит стоять. Она же не двинулась с места. Автомат все время упирается в спину.
— Я должен одеться.
Понимает, что его уведут. Второй солдат пошел следом. Но почему он так странно посмотрел на нее? Ухмыльнулся. Повернулся и еще раз посмотрел.
Надо отодвинуться, чтобы свет не падал на лицо.
Автомат больно уперся в спину.
Неужели этот солдат догадался, кто она? Она его раньше, кажется, не видела.
Или ей только кажется, что раньше не видела, оттого что он в немецкой форме? Те, кто у них служит, тоже ходят в форме.
Если бы он узнал ее, сказал бы офицеру. Ей показалось со страху. Он посмотрел просто так, только с чувством превосходства.
А жена директора все еще старается убедить офицера, что муж никогда ни к какой партии не принадлежал, что пистолет собирался утром отнести в полицию. Он и стрелять не умеет. И в армии не служил, зрение очень плохое.
Не слушает. И ведь все равно не понимает. А перевести нельзя, — дворничихе не положено знать иностранный язык.
Как быстро директор вернулся. Почему совсем без вещей? Понимает, что… что не понадобятся?
Не надо об этом! Не надо.
Солдат опять ухмыляется. Смотрит прямо в лицо и ухмыляется. Только не выдать себя. Он не мог ни о чем догадаться. Она не похожа на еврейку. Все говорили, что не похожа. А в этом платке, надвинутом почти на самые глаза, тем более.
Что это? Солдат, который ее сторожил, тоже шагнул к директору. Приказал ему идти. Директор только на мгновенье обернулся, посмотрел на жену, хотел ей что-то сказать, но его толкнули, и он пошел к двери.
Ушли. А она здесь.
— Я чувствовала, что так будет. Но муж… Он говорил, что не может только выжидать.
Директора увели, а она осталась. Эти трое приходили не за нею. За директором. Они знали, что у него есть пистолет. А ее сюда привели только так. Нет, не свидетельницей, это как-то иначе называется… Отец говорил, что иногда, для видимости, будто соблюдают законность, и при обысках приводят понятых. Но это же не был обыск. Офицер сразу подошел к буфету.
— …Ведь правда, что только вчера принесли. Правда! Он хотел спрятать на чердаке, но не успел. А я не знала, мне он признался только сейчас, когда уже стучали в дверь. Я бы спрятала. Не в буфете же было его держать.
Офицер сказал: «Как видишь, твой друг — также и мой друг». Значит, выдал тот же человек, который принес этот пистолет. Он видел, куда директор его положил. А офицер потому так открыто похвастал, кто ему донес, что знает — директор уже не сможет никого предупредить о провокаторе.
— Того человека, который принес пистолет, вы знаете?
— Нет. Я его не видела.
Значит, объяснять, что сказал офицер, не имеет смысла.
А солдат не просто так ухмылялся. Не просто так.
Но почему не сказал офицеру?
Сейчас скажет, по дороге. И они вернутся за нею. Надо выйти отсюда — она же не имеет права находиться в арийской квартире.
Она выйдет. Только поднимет эти скатерти, сложит их в ящик и выйдет.
Вдруг показалось, что во дворе… что там опять голоса.
— Извините! — Она бросила скатерть обратно на пол и побежала к двери. Пусть ее забирают на лестнице, во дворе! Директор ничего не знал! И его жена ничего не знала! И Яник чужой, приютский. Он подкидыш.
На лестнице никого нет. И внизу никого. Во дворе тоже пустота. Еще ночь. Это ей казалось, что скоро утро. Ночь.
Окна странно черные. Оттого, что затемнены. Солдат не просто так ухмылялся, не просто так… Но уйти некуда. Она и не уйдет.
XIX
Марк был убежден, что старик-железнодорожник нарочно посоветовал идти вдоль насыпи. Не поверил Виктору, что он идет в деревню менять вещи на муку. Возможно, догадался, кто он такой, и умышленно сказал, что это самый короткий путь. Чтобы нарвался на патруль, — железную дорогу несомненно охраняют.
Зря Виктор ему поверил. Дурацкая привычка семейства Зивов — всем верить. Вбили себе в голову, что отличить хорошего человека от плохого не так уж трудно. Трудно. Ни у кого на лбу не написано, какой он. Особенно теперь. Старик мог нарочно послать их по этой дороге, чтобы выслужиться перед немцами. «Это я сказал тому подозрительно чернявому, чтобы пошел туда, где вы проверяете». Или видел, что подошли они вдвоем, а у самой двери он, Марк, снял пальто и отдал его Виктору. (Вопрос, как добраться до деревни, не должен вызвать подозрения, — он идет туда, чтобы выменять это пальто на еду.) Старик мог испугаться, что еще кто-нибудь их видел, донесет немцам, те нагрянут. «Кто были эти двое? Ты им показал дорогу, значит, помог».
Виктору старик, видите ли, понравился. Чем? Но разве он скажет. Мы же не любим лишних слов. И никогда не ошибаемся. А старик оттого кажется хорошим, что ему хорошо живется, — сидит в тепле, за себя спокоен. Попробовал бы так вот, уже полночи тащиться по этому чертову снегу и бояться, что каждое мгновенье может появиться патруль, а спрятаться в этой сплошной белизне негде. Посмотреть бы тогда, какой у него был бы вид. Уж, во всяком случае, благообразие мигом сдул бы этот проклятый ветер.
Нельзя было ему верить. Где деревня? Они уже прошли четыре километра, нет, больше четырех. Не стоят деревни так близко к железной дороге. И поворота, сколько уж они идут, не было.
Еще не известно, найдет ли Виктор своего знакомого. И какой это знакомый? Давний пациент. Очень давний. Это было еще до прихода Советов. Местные радетели за чужое счастье то листовки на стены клеили, то красный флаг норовили повесить куда-нибудь повыше. Ну, сорвался такой радетель с дерева, сломал ногу. Ну, возили к нему Виктора, тот вправил ему ногу и что-то там еще сделал. Не проболтался. Тоже мне заслуга! На то и врач, чтобы не болтать. Почему он думает, что этот флаговешатель его запомнил? Потому что человек не забывает сделанного ему добра? Еще как забывает!
Хорошо хоть, что его фамилия и название деревни остались у Виктора в памяти. Мог бы, если уж такой умный, и дорогу запомнить. Не надо было бы спрашивать и доверяться какому-то случайному старикашке.
Не найдут они, если даже доберутся до деревни, этого бывшего пациента. Или его брата, который Виктора возил. Если только успели, ушли с Красной Армией. А если остались, то немцы их, наверно, первыми схватили. Таких сразу забирали. Раз были коммунистами еще до прихода Советов, когда за это сажали в тюрьму, то уж при советской власти, конечно, стали какими-нибудь председателями или уполномоченными, и теперь их за это — на виселицу.
Он не пессимист. Просто, в отличие от Зивов, всегда трезво оценивает обстановку. И незачем ему, подобно тестю, постоянно помнить эти чертовы немецкие изречения. Видите ли: деньги потерял — ничего не потерял, бодрость потерял — все потерял. Правда, в последнее время эту «бодрость» сменил на «надежду». А откуда ее взять, надежду? Из криков Гитлера, что не должен остаться в живых ни один еврей?
Виктор тоже только вид делает, что спокоен. Не может человек в их положении быть спокойным. Но скажи ему это, будет недоволен. И тогда уж вовсе живого слова от него не добьешься. А приведись ему натерпеться столько страхов, сколько натерпелся он, его нелюбимый, видите ли, зять! Сам-то еще жил в тепле и спал на своей кровати, когда он уже бежал из захваченной Гитлером Польши. Между прочим, пока скитался, немало повидал и таких невозмутимых умников, и разных других оптимистов. Где они теперь, со своим показным спокойствием и уверениями, что в России Гитлер свернет себе шею. Пока другим сворачивает. Вместе с головой.
— Ложись! — Виктор вдруг грубо толкнул его.
Сам тоже бросился на землю. Сзади.
Надо сползти в кювет. Здесь же они на виду.
— Не шевелись!
Почему? Кого он увидел? Далеко?
Тихо. Значит, не патрульная дрезина, ее было бы слышно.
Кто-то едет по дороге! На санях! Чертов старик, послал кого-то им вдогонку.
Сани приближаются. Слышны мужские голоса… Кто там — немцы или полицейские? А он, наверно, издали виден. И Виктор виден. Все-таки надо было сползти в кювет.
Подъезжают!
— Тпррууу.
Слез, кажется, один. Надо задержать дыхание. Медведи, если не дышать, не трогают. Но над ним ведь стоит человек.
— Ну что, живые?
Это оттуда, от саней спрашивают. Голос хриплый.
— Вроде.
Полицейские!
— Отлично! Пригодятся большевички!
Что Виктор крикнул? Почему вскочил? Куда бежит?
— Стой! — Полицай погнался за Виктором. Сейчас этот, хриплый тоже побежит. Тогда и он бросится. Только в другую сторону, через насыпь.
Не бежит, дьявол. Подошел. Поставил свою тяжелую ногу ему на спину.
Стреляют! Это тот, который бежит за Виктором, стреляет. Опять! Зря Виктор побежал. Там же поле, открытое поле.
— Юстас, помоги Стасюку! — Хрипун еще кого-то посылает догонять Виктора. Значит, в санях был третий. Теперь они пустые. Если быстро вскочить, стегнуть лошадей, и попробовать убежать?..
— Куда! — Хрипун так надавил на спину, что чуть не сломал ребра.
Опять стреляют.
Все. Тихо. Попали они в Виктора. Еще бы — вдвоем стреляли в одного.
Не надо было бежать. Это только кажется, что лесок близко. Он далеко. И снег глубокий.
В него будут стрелять уже все трое. И через минуту станет так же тихо, как сейчас. Только его уже не будет.
Нет, он живой! Живой! И не собирается сам нарываться на пулю.
— Эй, большевик, поднимайся! И бегом, марш!
Нет, он не побежит. Не даст он им повода сказать, что «при попытке к бегству».
— Ты что, большевистская вошь, оглох? А ну, вставай!
Нельзя его раздражать. Надо подняться.
— Живей!
— Я не большевик. Я шел в деревню выменять…
— Еще слово — и умолкнешь навечно! Марш вперед!
Его не для этого ведут. Не для этого. Они хотят напугать его, показать мертвого Виктора, чтобы он понял бессмысленность попытки убежать. Он понимает.
Вдруг ему показалось, что в поле, у самого леса мелькнул кто-то. Нет, померещилось. Это не Виктор. Это не может быть Виктор, в него же стреляли.
— А ну, живей!
Он пойдет. Пойдет. Только черное пятно у леса опять приподнялось. Исчезло. Неужели? Нет, Виктор лежит там, в снегу…
— Стой! Два шага влево. Теперь ложись. Кому приказано? Мордой в снег!
— Поверьте, я шел менять пальто на еду. Отпустите меня, пожалуйста.
— Заткнешься, наконец, или помочь?
Он ляжет. Уже лежит. А голову только немного повернет, чтобы видеть. Хрипун сунул пистолет обратно в кобуру. Значит, не будут в него стрелять.
Но там, впереди, кажется, лежит не Виктор. Тот в сапогах. Неужели полицейский?! А второй нагнулся над ним, что-то бормочет.
— Стасюк, прости. Я ж нечаянно попал в тебя. Я в большевика стрелял. — Голос какой-то противный, петушиный. — Хочешь, тоже всади мне в задницу пулю.
— Всадил бы я тебе…
— Прости, Стасюк. Как католик католика прости. Я ж нечаянно. В большевика я в этого стрелял. Ты же знаешь.
— Кончай ныть! — Хрипун разозлился. — Тебе не ружье в руках держать, а коровий хвост.
Переругались бы тут, перебили бы друг друга!
Хрипун тоже нагнулся к лежащему Стасюку. Что-то разрывает. Штанину? Значит, этот дегенерат попал ему в ногу?
— Ничего, Стаська, не охромеешь. Сейчас забинтую. А ну, стрелок, скидывай рубаху! Не очень давно в бане был?
— Давно. Давай… Давай лучше большевика разденем. Из-за них же, гадов, все беды.
— И что ты такой засранец и мазила — тоже? Ладно, леший с тобой! Эй, большевик, вши по тебе не ползают?
Что ответить? Как лучше? Чего они ждут?
— Тебе что, уши пулей прочистить? А ну, раздевайся!
— Сейчас! Сейчас.
— Не смей вставать! Уж в тебя-то Юстас попадет.
Этот Юстас сразу наставил пистолет. Кретин проклятый.
— Пальто давай! И свитер!
— Но ведь холодно…
— Юстас, объясни ему, что только трупы не чувствуют холода.
Мерзавец!
— Я понял. Понял!
Заморозят. Не может человек лежать на снегу в одной рубашке. И чего хрипун так долго перевязывает этого чертова Стаську? Не подохнет и без перевязки. А подохнет — еще лучше.
— Стасюк, ты прости, ладно? Клянусь, что нечаянно. Я же в большевика стрелял. В большевика. Чтоб его…
— Не боишься остаться без работы? — Хрипун явно презирает этого дегенерата.
— А чего бояться? Землю мне уже дали. Заслужил… Еще кое-чего, когда мы евреев из ихних домов вышибали, сам взял. Мне на немцев и самому неохота больше работать.
— Ладно, хватит языком молоть. Давай неси. И ты, большевистская рожа, неси! Только без фокусов!
Какие фокусы, когда ни руки, ни ноги от холода не гнутся, еле дотащились. Сейчас он, наконец, избавится от этой чертовой ноши.
— Осторожно, большевистская гнида, укладывай! Если он хоть раз застонет, ты у меня волком завоешь.
А тот может нарочно застонать, наверно, такой же подлец, как эти двое. Жалко, что ему не перебили обе ноги.
— И сам ложись! Только на край. И чтобы ни на соломинку не придвинулся к нашему человеку. Понял?
Плюнуть бы ему в морду, всем бы им плюнуть.
— Дрожишь за свою поганую шкуру? Шевельнешься — мигом башку продырявлю.
Укрывал Стасюка его свитером и пальто, хотя тот в полушубке.
— Позвольте хотя бы краем пальто накрыться. Очень холодно.
— Околеешь, нам меньше возни будет.
Сам, конечно, уселся лицом к нему.
— Трогай, меткий стрелок!
Куда они его везут?
Надо придумать, что говорить.
Главное, они даже заподозрить не должны, что он бежал из гетто. Он — поляк, и зовут его Збигнев Витульский.
Да, опять Збигнев Витульский.
Однажды он уже одалживал у Збигнева его имя и фамилию, когда в тридцать девятом бежал из Польши. Но тогда повезло, его задержал какой-то доверчивый болван. Поверил, будто документы остались в лодке, а ее унесло во время грозы. Она была плохо привязана, а сам он спрятался от ливня на берегу, в кустах. Единственной правдой была сама гроза и то, что он действительно промок до ниточки. Зато и смог тому дураку заговорить зубы. Убедил, что вовсе не к границе пробирается, а идет берегом реки вниз по течению и ищет лодку, — ее должно было прибить где-то недалеко.
Теперь надо сказать, что документы остались у Виктора. То есть у того убежавшего мужчины. Они не были знакомы, и он понятия не имеет, кто это такой.
Но чтобы поверили, нужны подробности.
Сейчас они будут, подробности. Его нагнал какой-то человек и пошел рядом. Нет, не сразу пошел рядом. Сперва потребовал предъявить документы. Он думал, что это представитель власти, и показал. Незнакомец в темноте ничего не мог разглядеть и положил его удостоверение к себе в карман. Но было ли это удостоверение? В гетто «аусвайсы», а если здесь паспорта? Лучше сказать «документ», не называя, какой. Итак, догнавший его мужчина положил документы в свой карман.
Почему он не потребовал их обратно?
Он попросил, но тот буркнул, что должен что-то проверить, поэтому до ближайшей деревни оставит у себя. И пошел рядом.
А сколько времени они шли вместе?
Недолго. Совсем недолго. Вдруг его попутчик чего-то испугался, толкнул его и сам тоже повалился. Потом также внезапно вскочил и побежал. Это они сами видели. А документы остались у него, если он их, конечно, на бегу не выбросил.
Да, обязательно надо им подкинуть версию, что документы тот мог выбросить в снег. На случай, если Виктора поймают.
Почему сани так медленно тащатся?
Он — Збигнев Витульский. Тут они его не подловят: где Збигнев жил, как учился, у кого после гимназии работал, он знает не хуже самого Збигнева. Не зря столько лет выслушивал его рассказы. А что было делать? Сыночек начальника почты и племянник нотариуса с ним, евреем, даже разговаривать не желали, а Збигневу было все равно, куда чей отец ходит молиться.
О том, куда его отец ходил молиться, сейчас вспоминать не надо. Главное, убедительно отвечать, где Збигнев жил, когда окончил гимназию, у кого работал. Даже сколько хозяин красильни платил. Можно еще добавить, что собирался накопить денег и открыть собственную красильню.
А если захотят проверить? Збигнев же и теперь живет там, дома. Из-за ноги его в армию не взяли.
О ноге тоже нельзя проговориться, — у него они, слава богу, целые и прямые. Только бы их на таком холоде не отморозить.
Надо назвать какой-нибудь другой город, который бомбили. Можно сказать, что дома, где он жил, нет. Как они проверят?
Не станут проверять.
Куда они его везут? Главное — выглядеть спокойным. Он — Збигнев Витульский и ему нечего бояться. Совершенно нечего.
Они называют его большевиком. Надо сразу, как только приведут в участок, начать возмущаться, что его задержали. Поляки — народ гордый, это будет выглядеть вполне естественно.
Обязательно надо объяснить, что он шел искать работу. В городе работа была, но там негде жить, — дом разбомбили. Ночевать где попало запрещено. Да и устал он скитаться.
…Когда в первый раз убегал от Гитлера, больше полугода скитался. Днем не знал, кто примет на ночь. А наутро униженно ждал, оставят его в доме еще на два дня или скажут, что к ним должен приехать какой-то родственник и топчан нужен самим.
Оттого-то тесть, тогда просто незнакомый старик, так удивил. Уж сколько приходилось ночевать на вокзалах, и никому до этого не было никакого дела. А тут — человек даже извинился за то, что разбудил. «Не сменить ли вам эту скамью на кушетку? Она больше подходит для сна». Наутро без него за стол не сели. А после завтрака доктор смущенно предложил: «Если вам здесь удобно, оставайтесь, вы нас не стесните». Даже свои медицинские книги вынес, чтобы комната, то есть его бывший кабинет, «имела более жилой вид».
Ладно, нашел время для воспоминаний.
Он шел в деревню. Но если скажет, что искать работу, они придерутся — почему не завербовался в Германию. Запихнут его в ближайший транспорт. Нет, самому о работе заикаться нельзя. А спросят — скажет, работает в немецких мастерских.
И ведь говорил Виктору, что надо идти лесом. Так нет. Их самоуверенное величество, видите ли, изволили помнить, что дорога эта пустынна, что по ней никто не ездит. А в лесу много снега, и остаются следы. Но сам-то теперь идет по лесу! И ничего, не утопает. Да и кому там видеть следы? Полицаи вот по дорогам шастают. А немцы и вовсе не сунут свои арийские носы в лес. Опять этот мазила заладил свое:
— Стасюк, ну будь человеком. Мы же с тобой католики. Не говори, что это моя пуля. Хочешь, лучшую свинью отдам. В прошлый раз шесть поросят принесла. А тебе что? Только сказать, что это большевик тебя ранил. Ну тот, который удрал. Мы с Казимиром побожимся, что говоришь правду. И этот вот, которого везем, тоже скажет, что его дружок в тебя попал.
Он? Нет, он такого говорить не будет!
— Эй, стрелок! И ты, Стаська! Поставьте мне по бутылке, не такую брехню подкину!
— Поставлю! И за себя, и за Стасюка поставлю!
— Нет, пускай Стаська тоже ставит. Потому что ему за мою выдумку сразу чин дадут.
— По… став… лю.
— А за что ему чин? — Этот мерзавец еще и завистник.
— Как за что? За то, что герой! Гнался за большевиком, вот за этим, которого везем. Тот отстреливался, продырявил Стаське ногу, а он все равно, даже снег от его крови был красный, гнался за врагом. И поймал! Ну как, здорово придумал?
Он?
— Слышь, большевик! Наш храбрец гнался за тобой, и ты прострелил ему ногу.
— Я не большевик. И не бежал. И не стрелял.
— А я говорю — большевик! И бежал! И стрелял. А чтобы не околел раньше времени и мог все это подтвердить, так и быть, накрою тебя.
Он вытащил из-под своих ног пучок сена и кинул ему в лицо.
— Казимир, а Казимир. А что, если того, второго, я пристрелил? А я за это вам обоим еще по бутылю поставлю.
— Тоже чина захотел? Не было второго. Понял? Один был, этот.
Если они будут отрицать, что был второй, как же он тогда объяснит, куда делись его документы?
— А уж от девок, Стаська, тебе отбоя не будет. Раз большевика, истекая кровью, повалил, то уж их…
Не будет он повторять их выдумки. Не будет — и все! Он — Збигнев Витульский. Шел в деревню.
Вдруг он увидел домики! Куда они въезжают? Но приподняться нельзя, — Казимир, будь он проклят, не отводит от него своего пистолета.
Фонарный столб. Значит, это городок. Еще один столб. Лампочки.
Это, точно, городок, — в деревне домики не стоят так близко друг к другу. И стало трясти, значит, под снегом булыжник. Да, явно булыжник. А вот и двухэтажный дом. Но только один. Потом опять маленькие, с крылечками.
Надо запомнить дорогу. На этом доме створка левой ставни висит на одной петле. Нет, это не примета. Хозяин привинтит ее, и ставня будет такая же, как все. На крыше два чердачных оконца. И в заборе не хватает доски. Опять двухэтажный дом. Даже каменный.
— Тпруу…
Уже?! Что в этом доме?
— Лежи, гнида!
Он только чуть приподнял голову, чтобы увидеть, что там.
Казимир соскочил с саней и пошел к тому дому. Но вывеску отсюда не разглядеть.
— Ну, хватит разлеживаться! Бери Стасюка за плечи, понесем.
Но он не может нести! Даже стоять не может.
— Кому сказано? Бери Стасюка за плечи!
Он бы взял. Руки не гнутся!
— Пули захотел? А ну!
— Сейчас. Сейчас…
— То-то! Еще скажи спасибо, что помогаю нести. Потащил бы один на своем большевистском горбу, знал бы, как в наших стрелять.
Не дойти. До крыльца ни за что не дойти. И руки не удержат, уж очень тяжелый этот их Стаська.
— Ты что это, большевистская вошь, Стасюка опускаешь? Выше подыми! А то враз башку снесу. Хочешь, Стасюк, покажу тебе, как сверну ему шею?
— Иди ты знаешь куда?
— Ну не сердись. Мы ж договорились! Я тебе — свинью и две бутыли, а ты — что это он тебя ранил. Слышь, комиссар, не забудь по-вашему, по-большевистски побожиться.
Не будет он божиться. Не будет.
Ноги не отморожены, раз болят. И руки болят. Значит, тоже не отморожены.
Почему Казимир так быстро вышел?
— Ты что, мазила, спятил? Зачем Стаську тащишь? Его к доктору надо, а не сюда. А ну, несите обратно!
Как видно, здесь полицейский участок. И этот бандюга Казимир уже доложил о том, что поймал коммуниста. И что это он ранил Стасюка.
Не дождутся. Он будет отрицать.
— Осторожней, гнида. Как укладываешь?
И так сойдет.
— Теперь — кругом — и туда!
— Отпустите меня, пожалуйста. Вы меня, вероятно, приняли за кого-то другого.
— Заткнешься ты наконец?
Ладно, с этим говорить бессмысленно.
— Теперь во двор!
Что там? Спрашивать нельзя. Дуло у самого затылка.
Зря им показал, что волнуется. Он должен выглядеть спокойным. Совершенно спокойным. Он — Збигнев Витульский. Шел в деревню. И ни в кого не стрелял.
— Вниз!
В погреб? Все равно он должен выглядеть спокойным. Здесь всего шесть ступенек. Значит, погреб неглубокий. Пусть часовой тоже видит, что он спокоен. Даже то, что засов на двери такой необычно широкий, его не волнует. Его запирают только на ночь. Потом, утром, он все объяснит их начальству.
Темно.
Он заперт в погребе. В и х погребе.
— Постойте на месте, чтобы глаза притерпелись, — сказал кто-то слева. Судя по голосу, старик.
— Кто вы? Уже давно здесь?
— По сравнению с вами — давно. Можно сказать, старожил.
— Тут что, даже окошка нет?
— Оно за вами, над дверью. Но вы не поворачивайтесь, иначе потеряете ориентацию.
При чем тут ориентация?
— Да и не имеет смысла. Оно все равно наглухо забито.
— А куда я попал?
— Извините, вы не местный?
— Нет.
— Называется полицейский участок, а на деле — все.
Что значит «все»? Но расспрашивать не надо, чтобы не дать старику повода самому задавать вопросы.
— Ну, как, глаза немного привыкли?
— Да, немного.
— Тогда двигайтесь вперед. Руку выставлять не надо.
Как старик увидел, что он выставил руку?
— …и берите немного правее. Стены коснулись? Теперь два шага вдоль нее. Это скамья. Можно прилечь.
Не до того ему.
— Предпочитаете сидеть?
— Да. Лежать холоднее, у меня забрали пальто.
— Извините, не разглядел. Сейчас!
Что он там шуршит?
— Сейчас… Тут остался кусок брезента. Завернитесь в него. А завтра… я вам свое пальто… оставлю.
Не надо спрашивать, почему.
— Возьмите, пожалуйста.
Оказывается, и в такой темноте можно что-то различить. Старик невысокий. Или сутулится. Впрочем, какая разница?
— Завернитесь в брезент и все-таки прилягте. Постарайтесь вздремнуть. Перед разговором с этими, наверху, нелишне набраться немного сил.
Перед разговором? Значит, утром его действительно выведут отсюда? Надо лечь: пусть старик думает, что он спит, и не пристает с разговорами.
Завтра он обязательно должен их убедить, что его зовут Збигнев Витульский. И, главное, что не он стрелял. Как только он переступит порог их кабинета, должен начать возмущаться — полицаи его приняли за кого-то другого.
— Извините, вы еще, кажется, не заснули.
Заснешь тут!
— Нет.
— Что там, на воле слышно?
— Не знаю. Ничего не слышно.
— Это здесь — ничего. А там… Какая-никакая, а все-таки жизнь.
— Я далек от всяких новостей. А слухами не интересуюсь.
— Извините. Вы, конечно, правы, что не хотите заводить разговоров. Меня вы не знаете, время теперь такое… Да и место не очень подходящее для разговоров. Еще раз извините.
Отстал, слава Богу.
Как доказать, что он не стрелял? «Труднее всего доказать правду». В связи с чем Нойма это говорила? Неважно. Выбросить из головы. Он не знает никакой Ноймы! Он — Збигнев Витульский. Не женатый.
— Извините меня, ради Бога. Но я чувствую, что вы все равно не спите. Дети у вас остаются?
— Я не женат.
А если Збигнев за это время женился? Конечно, на своей чахоточной Зофье. Другие девицы, видите ли, хотя и здоровые, но лучшей, чем она, на свете нет.
— А у меня остаются. Двое сыновей и внучка.
— Зачем вы так говорите… раньше времени?
— Не намного «раньше». Утро уже, наверно, скоро.
Неужели он не может говорить о чем-нибудь
другом?
— Моя знакомая, на которой я собирался жениться, то есть моя невеста, больна. У нее чахотка.
— Говорят, нашли новое лекарство.
Збигнев, кажется, тоже объяснял что-то про новые лекарства.
— Да, я надеюсь.
— Дай-то Бог! И хорошо, что вы ее, больную, не оставили, не отреклись от нее.
Зофье, конечно, повезло, что Збигнев с нею возится. А сам только вид делает, что это ему не в тягость.
— А все-таки постарайтесь заснуть.
— Вы правы. Я действительно лягу. — По крайней мере, не надо будет слушать его карканье.
Не помогло. Опять не дает покоя.
— Советовать легко. А когда тебя сюда приводят, не очень заснешь. Особенно в первую ночь.
— Меня взяли по недоразумению. Очевидно, приняли за кого-то другого.
— Дай Бог, чтобы это было так. Только беда-то в том, что все так говорят.
— Но я действительно ни в чем не виноват! Я шел в деревню менять…
— Я вам верю, верю. Только извините, но и в этом не вы первый надеетесь их убедить.
— Что значит — не первый? Разве вас тоже задержали по дороге в деревню?
— Нет. Если желаете выслушать, я вам расскажу.
Была у меня москательная лавка. От отца осталась. Даже вывеску менять не понадобилось — и он был Антон, и я — Антон. Антон Ожеховский… Если бы вы были местный, то, наверное, и вы покупали бы у меня что-нибудь вам нужное. Хотя, кто знает? Люди любят покупать в больших магазинах, у богатых хозяев, Тогда и сами себе кажутся богаче. А моя лавка, она — что? Шесть шагов в длину и четыре в ширину. И то, если не очень широким шагом мерить. Зато при Советах, хотя лавку мою национализировали, нас с женой не тронули. Тогда мы этому радовались, а теперь жалею, — может быть, живой бы остался. Опять о том же!
— Немцы лавку вернули. Даже вывеску велели опять прибить. Но что толку? Я вам не мешаю, может быть, вы хотите все-таки немного подремать?
— Нет, нет, ничего. — Все равно ведь будет говорить, пусть уж побольше расскажет о том, что в городе происходит.
— Сначала новый бургомистр всего наобещал — и что товар из самой Германии выписывать будет, и что специальные карточки напечатает на гвозди и прочую хозяйственную утварь. Только слова все это. Да, много теперь слов. И что нас освободили от большевизма. И что вольные мы теперь люди. А вот про то, как этих «вольных» людей расстреливают, — молчат. Нас с вами будут поодиночке, евреев — всех сразу. И молодежь нашу в свою Германию увозят. Этим, небось, не хвастают!
Старик его принял за своего. Значит, и произношением он себя не выдает.
— Так чем же вы в своей лавке торговали?
— Ничем. Сперва просто так сидел. Потом подумал — раз не могу людям продать новый замок или дверную ручку, буду им чинить старые. Тем и занимался. Можно сказать, слесарил. И вот, четвертого дня заходит женщина с двумя мальчишками, близнятами. И с третьим ребенком на сносях. Просит починить замок. Пока я его разбираю, она и рассказывает, отчего он такой, весь наперекосяк. Что пришли ночью за ее мужем. Он не открыл, так они дверь взломали.
Взломал бы кто здесь, эту вот дверь…
— …Мужа увели, а она с детьми уже вторые сутки, говорит, с незапертой дверью живет. Боязно.
— Убедилась ведь, что замок — не защита.
— Так-то оно так, а все-таки дверь должна быть заперта. Стал я, значит, этот замок чинить, а тут нелегкая принесла Пригульного. Это прозвище у него такое. Пока не стал у них полицаем, никто и фамилии его не знал. Потому что он и есть пригульный — мамаша его с каким-то солдатом пригуляла. Потом сбежала, а его, еще пацана, бросила. Всем миром мальца кормили, а когда подрос, сам стал свой хлеб зарабатывать. По субботам у набожных евреев свет зажигал, воду приносил. Ведь по их религии в субботу ничего делать нельзя, даже свет в доме зажечь. Вот Пригульный и ходил по домам. В одном помогал за еду, в другом — за гроши. Своим человеком его считали. Откуда им было знать, что он же и расстреливать их будет. Не он, понятно, один… Еще, подлец, хвастал, кто как умолял, чтобы пожалели. Особенно, когда их из дому выгоняли. Старуха Фельдманова, говорил, даже руки целовать ему бросилась — только бы внучке позволил остаться. Обещала за это и домик отписать — правда, старый, до половины в землю вросший, — и серебряные, еще со свадьбы, подсвечники подарить. А он, змей, бахвалился, как над ними измывался. «Зачем, мол, мне вас за это спасать, и так, что пожелаю, возьму. Ведь знаю, где что лежит». И верно, знал, — столько лет в дома заходил. Люди же его своим считали.
Нашли кого считать своим!
— Вот этого Пригульного нелегкая и занесла в мою лавку. Или мастерскую, сам не знаю, как ее назвать.
— Какая разница.
— Вы правы, никакой. Особенно теперь, когда я здесь.
Только бы опять не сказал, что это его последняя ночь.
— Ну и что этот Пригульный?
— Сперва вроде ничего. Потом смотрю — женщина эта уж очень странно уставилась на него. Глаза будто затуманились, губы дергаются, трясутся, она, вроде, хочет что-то сказать, но ни голоса, ни слов у нее нет. Тут еще близнята подняли рев. А Пригульный доволен. «Боитесь меня? И правильно делаете, что боитесь! Потому что я теперь — ваша власть!» Тут губы у женщины еще больше задрожали, и наконец она выговорила: «Где… мой… муж? Куда вы… дели… моего мужа?» А он ухмыляется: «В карьер отвел!» Раз вы не местный, поясню. У нас тут, сразу за городом, есть карьер. Раньше из него глину брали для кирпичного заводика. Теперь заводик стоит заколоченный, а многие из тех, кто там работали, в самом карьере покоятся. Общая она там, могила. Люди друг на друга свалены. Ну вот, опять!
— …А знаете, когда меня туда поведут, я мимо своего дома пройду. Единственное утешение, что затемно поведут, ставни еще будут закрыты. Жена не увидит. И внучка не увидит. Не для детских это глазенок, смотреть, как дедушку ведут в карьер. Да, наверно, затемно погонят, — не любят они свидетелей.
— Не надо все время думать об этом.
— Извините. Понимаю, что не надо. И вам это пока ни к чему. Только вот думается. Вроде рассказываю совсем о другом, а про себя все равно помню. Даже время в уме отсчитываю, сколько мне еще осталось. Но вслух, вы правы, об этом не надо. Еще раз извините.
— Вам же самому от таких мыслей труднее.
— Конечно. Спасибо вам. Спасибо.
Нет, тишина и вовсе невыносима!
— Но за что вас все-таки привели сюда?
— Пригульный и привел. Немного было за что, но больше он еще и наврал.
— Наврал?
— Да уж, не поскупился.
— А что именно он сказал?
— Как я вам уже говорил, он издевательски ответил той женщине, что ее мужа отвел в карьер. И почему-то от этого развеселился. Ткнул ее кулаком в живот и рассмеялся. Посоветовал, чтобы она, как выкинет оттуда своего головастика, нашла себе другого мужика, который ее, извините, будет брюхатить. Ну, и себя предложил. Тут она запустила в него гирькой двухфунтовой. Как на грех, у весов стояла. Он увернулся, но сразу пистолет выхватил. Тут я и даже сообразить не успел, как тем самым замком, который чинил, стукнул его. Видно, больно стукнул, он пистолет выронил. И, конечно, взбесился. Сразу мне руки заломил.
— А женщина?
— Выбежала. Пока он мне руки заламывал, она подхватила своих мальцов — и за дверь.
— Ничего себе! Сама убежала, а вас за нее — сюда.
— С одной стороны, вроде, действительно из-за нее. Но если подумать — сколько людей они ни за что убивают. Евреи — все до одного в карьере лежат. А сколько русских пленных в нашу землю закопали. И кума моего, из одной деревни мы родом, только потому жизни лишили, что старосте его земля приглянулась. А человек не только полицая по руке не стукнул. Он и на скотину голоса никогда не поднимал.
— Но вы признались, что этого Пригульного ударили замком?
— Признался. Только Пригульный, чтобы героем себя изобразить, присочинил много. Что я на него с топором кинулся, чуть руку не отрубил. Даже что душил его.
— Вам надо было настаивать на том, что, раз вы признаетесь, что ударили его замком…
— То мне должны верить? Объяснял. Даже предложил им пойти в лавку и самим убедиться, что там и топора-то нет. Что он в дровяном сарае, во дворе.
— Не пошли?
— Нет. Зачем им моя правда? Того, что поднял руку на их человека, достаточно. Так что, объясняй не объясняй, конец один.
— И все же напрасно вы сдались.
— Может быть. Но с другой стороны, раз все равно не верят, чего напрасно объяснять. И еще… Вы сейчас подумаете — совсем спятил старик. Как вам объяснить? Утешился я этим, что перестал оправдываться. Или, должно быть, как-то иначе это называется?
— Что именно называется иначе?
— То, что я думал. Что вот, мол, сижу я, немолодой уже человек, все-таки шестьдесят три года на свете прожито, против эдакого молодого здоровяка в форме. Ему бы мешки на мельнице таскать, а не в кабинете важную особу из себя корчить. И ведь еще пистолет для моего устрашения на стол выложил и портрет вседозволяющего фюрера за спиной повесил, а я, вот, говорю ему, что стукнул такого, как он. Пусть всего-то старым дверным замком, но все равно стукнул.
— Невеликое, знаете ли, утешение, если за это надо заплатить жизнью.
— Утешение, вы правы, невеликое…
Итак, допрашивает какой-то здоровый детина. Для устрашения кладет рядом с собой на стол пистолет. Но стрелять он в кабинете не будет. Там могут только бить. Сам он бить, хоть и здоровяк, не станет — не по чину. Прикажет другому. А тот рад будет стараться.
Все равно — никаких признаний! Он — Збигнев Витульский. Этому здоровяк, или кто там еще будет, поверит. Потому что он действительно не похож на еврея. В гетто ему даже завидовали. «Достать бы вам, Марк, документы и вполне можете сойти за арийца». Только тесть со своими вечными шуточками портил настроение. «Вы-то, может, и не похожи на еврея, зато все евреи похожи на вас». Чем острить, лучше послушался бы его совета не выходить из подвала.
А Виктор еще больший умник! «Мы с тобой даже права не имеем тут сидеть». Как же, очень немцы почувствуют, что Виктор Зив, видите ли, воюет с ними. Раз уж такой храбрый, то, чем драпать, схватился бы с этими тремя полицейскими. Так нет же, дал деру. И теперь шагает себе по лесу. Чего доброго, уже дошел до той злосчастной деревни и сидит у своего флаговешателя в безопасности и тепле. А он вот — в полиции. И никто ему не поверит, что он не стрелял в этого Стаську. И что он Збигнев Витульский, могут не поверить.
Только без паники. И лежать нельзя. Лежа все кажется страшнее.
— Так и не поспали?
— Нет.
Ладно, пусть говорит. Пусть спрашивает. Только не эта тишина!
Когда надо, слова от него не дождешься. Придется самому что-нибудь сказать. — Но вы ведь тоже не спите.
— Перед вечным сном, знаете, на обычный времени жалко.
Дождался!
— …Священника, видно, не дадут. Так я хоть перед самим собой исповедуюсь. Больших грехов, вроде, не совершил, а малые, наверно, были. То ненароком обидишь кого, то, может, бывал несправедлив. За шестьдесят три года трудно не совершить ошибки. Как говорится: «Кто без греха?»
— Зачем думать об этом?
— Обыкновенная исповедь, она ведь для того, чтобы и грех с души снять, и исправиться. А такая вот, последняя, исповедь, когда исправляться уже некогда…
Кажется, сюда идут…
— Зачем встаете? Может, еще не за вами, а кого-нибудь третьего к нам ведут.
Неужели Виктора поймали? Тогда это гибель. Верная гибель!
Засов со скрипом отодвинулся.
— Антон Ожеховский!
— Извините, если я вам что-нибудь не так сказал.
— Все так. Так.
Знает, куда ведут, а спокоен. Сам идет.
— А ты что, большевик, пинка в задницу ждешь?
Живей, не то… И тряпку эту скинь! Оставь здесь.
Стаскивают, сволочи! Он же замерзнет в одной рубахе.
— Марш наверх!
Во дворе светло. Это от снега. Небо темное, еще не рассвело. А старик, оказывается, вовсе не сутулый. Даже высокий. Но руки солдату, чтобы тот их связал, сам протянул.
— И ты, большевик! Руки давай!
— Зачем? Меня задержали по недоразумению.
— Сейчас так объясню, что и понять не успеешь.
Руки ему нарочно связывают, чтобы старик видел — обоим одинаково, и не паниковал.
— Теперь — вперед, а за воротами — налево!
Улица пуста. Потому что еще не рассвело.
Ведут их вместе, как видно, нарочно. Пусть старик думает, что и его еще — на допрос.
Почему старик так странно поглядывает на него? Все-таки подозревает, что он — не поляк? Плохо, что они идут рядом и старик видит его в профиль, — более заметна горбинка носа. Надо делать вид, что он этих взглядов не замечает. И какие-то догадки к нему не имеют никакого отношения. Он спокоен.
Покосившаяся створка! Да, это та самая, которую он видел, когда лежал в санях. И те же два чердачных оконца на крыше. И в заборе не хватает доски. Значит, его ведут той же дорогой.
Но что это значит? Скорей всего — ничего. Совпадение. Только совпадение.
Что там старик шепчет? Слава богу, не ему. Видно, опять исповедуется самому себе. Глупости все это — исповеди, отпущение грехов. Все равно, даже на исповеди никто не бывает до конца откровенен. А исповедь перед смертью — вовсе варварство. Человеку дают понять, да что понять — ему почти впрямую говорят, что он умирает.
Не надо об этом! Сейчас не надо. Пусть себе старик исповедуется, пусть сам себе грехи отпускает, какое ему до этого дело?
Куда его все-таки ведут? Здесь уже явная окраина. Неужели погонят к тому месту, где задержали? Но ведь только преступников приводят туда, где они совершили преступление. А он ничего не совершал.
Откуда взялась эта долина? Когда его везли, он ее не видел.
Потому не видел, что лежал.
Но там был лес! А здесь его нет.
Без паники! Его, очевидно, ведут по другой дороге. Только по другой дороге.
Однако его ведут вместе со стариком. И тех, с автоматами, двое. Там… долина! Это…
— Ну! Чего встал! Бегом марш!
Нет! Пусть бьют, он не пойдет. Там не просто долина.
Больно! Не надо… не надо! Он все равно не пойдет. Кто это говорит? Бежать? Что они… разрешают бежать?!
Сейчас! Он уже бежит! Значит, они… не настоящие полицейские, а переодетые. Они его отпустили…
Стреляют? Отпустили же… Надо петлять… чтобы не…
Спотк…
Ноги… Сейчас… Сейчас он встанет… Побежит… К Виктору… Как называется деревня?.. Витульский. Нет, это фамилия. А деревня?.. Он вспомнит… Он должен… он что-то должен… вспомнить.
XX
Осторожно ступая, чтобы не скрипнул пол и хозяева в спальне не услышали, Алина вошла в детскую.
Пранукас спит. Ручки раскинуты. А дышит тяжело, опять заложило нос. Если бы хозяйка не так кутала его, ребенок бы реже простужался.
Она осторожно спрятала под одеяло одну ручку, вторую — в комнате прохладно. К утру и вовсе выстудит — и ветер с этой стороны, и дрова попались сплошь сырые, плохо горели. Утром надо будет взять из левого угла, там больше березовых, они суше. И затопить надо рано. А малыша, пока комната нагреется, удержать в кроватке.
Нет, не похож он на Яника. Зря Мария уверяла, будто во сне у детей появляется сходство. Не появляется. И не надо, чтобы появлялось, пусть каждый будет таким, какой он есть.
Мама говорила, что на спящих детей нельзя смотреть. Она не будет. Лишь посидит рядышком. В комнате прохладно, а Пранукас наверняка опять раскроется.
Пранукас, а не Яник…
Яник тоже засыпал вот так же аккуратно накрытый. Но сколько бы раз за ночь она к нему ни поднималась, всегда видела одно и то же — одеяльце спихнуто в угол, а сам он, в задранной рубашечке, лежит поперек кроватки. Только в гетто он и во сне помнил, что может свалиться с сундука, засыпал, свернувшись калачиком, и ни разу за ночь не поворачивался на другой бок. А шубку, которой был накрыт, даже придерживал ручонками… Одно только причмокивание осталось. Это у них семейное. Виктор тоже во сне чмокает.
Как она тогда, впервые увидев это, смеялась!
…Они тогда только что поженились. Господи, как она была счастлива! Как хорошо было утром, просыпаясь, сразу почувствовать — Виктор здесь, рядом. Вечером торопиться домой, чтобы скорее увидеть его. А иногда ночью нарочно старалась не заснуть. Лежала тихонько, слушала, как он дышит. И вот, в одну такую ночь она вдруг услышала, что Виктор чмокает! Совсем по-детски! Это было так смешно: лежит взрослый мужчина, плечи во всю ширь подушки, ноги упираются в спинку кровати, и, как младенец, чмокает губами, будто сосет невидимую соску.
Виктора ее смех разбудил. Сперва он ничего не мог понять. Еще бы! Ночь, а его молодая жена сидит в постели и хохочет. Когда она ему наконец объяснила, он нахмурился. Вслух сказал только: «Постарайся уснуть». Но она уже не могла уснуть оттого, что огорчила его… Долго она потом корила себя. И больше ни разу не напомнила ему об этом. Даже когда родился Яник, и вскоре она заметила, что он точно так же, словно подражая отцу, во сне чмокает своими крохотными губенками. Теперь ночами прислушивалась к причмокиванию обоих — и маленького, и большого.
Господи, о чем она думает! Где он, Яник? Что с ним? Что?..
Может быть, все-таки правда, что Нойму забрали одну, без Яника? И не случайно приютская повариха исчезла в ту же ночь? Она увела с собою Яника.
Знать бы! Если бы знать! Пусть не видеть его, даже издали, но знать, что он жив.
Феликс уверяет, что жив.
Она ему верит. Верит. Она не могла бы жить, если бы с Яником что-нибудь случилось.
Но что Феликс сам знает? Только то, что удалось узнать в приюте. А узнать удалось мало, слишком мало. Остальное — домыслы Феликса. Всего лишь предположения.
Она понимает, что больше ничего он узнать не мог. Чтобы не вызвать подозрений. И так рисковал. Выдавать себя не за того, кто ты на самом деле, всегда опасно. Сейчас — тем более. А он пошел в приют и назвался санитарным инспектором. Не мог он прийти на условленную встречу с ней, зная только, что Нойму забрали.
Оказывается, сначала он зашел к Унтулене, жене директора. Но она знала только о том, что дворничиху, то есть Нойму, забрали уже после того, как увели ее, Унтулене, мужа. На вторую или третью ночь.
О Янике она тоже ничего не знала. Когда Феликс все-таки завел разговор — не о нем, конечно, а о приютских детях вообще, о подкидышах, она ему рассказала, как привязываются сироты к взрослым. Назвала двух воспитательниц и, кстати, дворничиху, к которым дети особенно тянулись. По воскресеньям она даже брала нескольких приютских детей с собой в костел.
Вот и все, что Феликс от нее узнал. И ему действительно ничего другого не оставалось, как самому пойти в приют.
Еще хорошо, что ему пришло в голову назваться санитарным инспектором. На лестнице, перед самой дверью поскользнулся — ступеньки были в сплошных ледовых бугорках. Благодаря этому, Феликсу пришла в голову мысль выдать себя за санитарного инспектора и, как положено инспектору, начать с замечания, что лестница не убрана.
Возможно, так оно и есть, — когда человек вынужден оправдываться, ему не до «посторонних мыслей». И в самом деле, с какой стати воспитательница, виновато объясняя, что они уже вторую неделю без дворничихи, должна была усомниться в том, что он — санитарный инспектор. Особенно когда он, «подбавив в голосе строгости», спросил: «Почему вы ее уволили, заранее не подыскав замены?»
Воспитательница молчала. Потом все же решилась на тихое: «Ее забрали…»
Интересоваться подробностями ареста какой-то дворничихи действительно было нельзя. И расспрашивать только об одном ребенке инспектору не положено. Тем более что неизвестно, как Яник там записан, какую фамилию директор ему придумал. В самом деле, оставалось только самому походить по приюту.
Желание санитарного инспектора осмотреть все помещения приюта не должно было показаться подозрительным — для того инспектора и приходят. И Яника он, как уверяет, искал незаметно. А если бы Яник его узнал и, забыв все запреты, бросился к нему, он объяснил бы, что ребенок обознался, принял его за кого-то другого. Или сочинил бы какую-нибудь другую версию. Это у Феликса получается.
Ей бы хоть немножко таких способностей, умения, когда надо, неправду излагать как правду. Тогда не было бы все время страшно: хозяйка, кажется, что-то заподозрила, кажется, начинает догадываться.
Если бы догадывалась — давно бы выгнала. Нет, эти полтора месяца, до позапрошлого воскресенья, когда Нойма не пришла с Яником в костел, хозяйка ничего не подозревала. А вот теперь, особенно в последние дни, неспроста так пытливо всматривается в нее. «Что это ты, Марта, ходишь такая кислая, будто тебя из петли вынули?» Она объяснила тем, что ноет зуб. Второй раз не поверит. А если еще Пранукас пожалуется, что она уже дважды на него прикрикнула… не пожалуется. Он уже, наверно, забыл. Дети быстро такое забывают. Она же сразу спохватилась, стала играть с ним. Даже сумела чем-то рассмешить его.
Пусть смеется. Ребенок не виноват. И хорошо, что он не может догадаться, почему ее так полоснул по сердцу его смех. И почему, натянув ему на ножку один чулочек, она вдруг отвернулась и второй велела надеть самому. Почему вечером, когда выкупала и завернула в теплую простыню, так трудно было взять его на руки, отнести в кроватку. А когда взяла, долго не отпускала. Уткнулась в его тельце и стояла, стояла, вдыхая запах ребенка. Только когда он захныкал, опомнилась. Поспешно уложила его, укутала, и теперь вот сидит у кроватки. Если хозяйка проснется и войдет, она скажет, что Пранукас сильно кашлял, она решила покараулить, чтобы не раскрылся. Это же почти правда.
Нет, Пранукас не пожалуется. Не на что ему жаловаться.
Господи, знать бы только, что с Яником, тогда тоску по нем она сумела бы скрыть.
И тревогу бы скрыла. Как Феликс сказал — хоть одеревеней, хоть окаменей, но не выдай себя.
Не может она окаменеть! Да и он ведь только делает вид, что спокоен. Сам признался: когда понял, что Яника среди приютских детей нет, а в малышовой спальне увидел пустую кроватку, чуть не забыл, что он санитарный инспектор.
Хорошо, что воспитательница ничего не заметила. Правда, Феликс уверяет, что и нечего было замечать. Наоборот, это он уловил, что она вдруг заволновалась. И нарочно, чтобы проверить, не показалось ли ему это, не спускал с кроватки глаз. Смотрел на свернутый в ногах тощий сенничек, на голые неструганые доски.
Будь она там вместо Феликса, наверно, выдала бы себя. И ничего, кроме этой пустой кроватки, не видела бы. И уж, конечно, спросила бы, где мальчик, который на этой кроватке спал. А Феликс от вопроса удержался. Уверяет, что и удерживаться не пришлось, заранее понимал, что воспитательница правды не скажет. Если бы с Яником случилось что-нибудь привычное: заболел и его увезли в больницу или кто-то взял на воспитание, и уж тем более, если бы Яника увели немцы, воспитательница не стала бы этого скрывать. Про Нойму хоть замявшись и неохотно, но сказала же правду. А тут она так заволновалась, что он обратил на эту кроватку внимание. Она явно поспешила опередить его вопрос. Стала жаловаться на то, что одеяльца очень старые, что дети мерзнут, что топить они могут себе позволить всего по четыре полена в день и даже при такой экономии до весны дров не хватит. Сетовала, что дети голодные, что трудно поддерживать чистоту. Но на то, что немцы забирают приютских детей, даже не намекнула. Значит, не забрали Яника вместе с Ноймой. И воспитательница так старалась «заговорить ему зубы» и поскорее увести его из этой спаленки потому, что куда-то дела Яника. Спрятала.
Когда Феликс рассказывал, казалось, что все это правда, воспитательница на самом деле перепрятала Яника. Директор ведь предупреждал, что еще один человек в приюте будет знать о Янике и Нойме правду. Но теперь, чем больше она об этом думает… Почему Феликс так легко сделал потом другой вывод, что не воспитательница спрятала Яника, а повариха.
Странно. Когда она узнала, что повариха тоже исчезла, должна была обрадоваться, ведь опять появилась надежда, а почему-то…
Нет, нет! Она надеется. Конечно же, надеется.
Если бы Феликс мог воспитательнице признаться, что никакой он не санитарный инспектор, и спросить напрямик…
Не мог. Ни признаться, ни спросить. Правды бы все равно не узнал, только напугал бы ее. А перепуганный человек может натворить столько бед!
Феликс все делал правильно. Правильно, что не спросил. И что «продолжал осмотр» — правильно. Правда, говорит, смотреть нечего было: кладовки пустые, а прачечная — одно название. Котел не топился, на стенах плесень. Только в углу горка детского белья. Воспитательница объяснила — стирать будут, когда наберется ведерко золы, потому что мыла нет.
В гетто она тоже стирала золой.
Не надо. О гетто вспоминать не надо…
Но там они еще были все вместе. Яник, Виктор, мама Аннушка, папа Даня, Нойма, Борис. Даже Марк стал своим. Виктор его не любит. Его, конечно, не за что любить. И нелегко там Виктору будет с ним. Но, может быть, и Марк хоть немного изменится? Ведь время и обстоятельства меняют человека, тем более такое время и такие обстоятельства.
Господи, о чем она думает! Какая разница, изменится Марк или нет? Она же не знает, что с Яником? Что с Ноймой?
И не у кого узнать. Феликс прав — больше искать Яника нельзя.
Хозяйка может в любой день догадаться, что она — не Марта Шиховска. Или кто-нибудь может ее узнать на улице, в очереди. Нойму ведь, наверно, узнали…
Допустим, на ее счастье, никто из знакомых, таких, которые бы выдали, на улице ей не встретится. И хозяйка ничего не заподозрит — волосы она уже дважды подкрашивала. И Яник на самом деле в надежном убежище. Но сколько это может длиться? Как выдержать?
Что же случилось в ту ночь в приюте? Яника забрали вместе с Ноймой или его увела повариха?
Вопрос Феликса: «Повариху что, тоже забрали?» не должен был напугать воспитательницу. Мог же санитарный инспектор, услышав, что им теперь приходится и еду готовить, безучастно спросить об этом.
Спасибо ей за то, что не умеет говорить неправду, за то, что сказала: «Не забрали, сама…» Правда, она сразу стала поспешно исправляться — уверять, что повариху, наверно, забрали, но не отсюда, не из приюта, что, возможно, попала в облаву или произошло еще какое-нибудь недоразумение. Время неспокойное, война. Иногда и за чужие грехи приходится отвечать. Во всяком случае, дома ее нет. Это точно, что нет. Они уже искали ее. Но пусть господин инспектор не беспокоится, в ближайшие дни они найдут повариху. Обязательно найдут.
Да, в своем желании отвести его от вопросов о том, куда делась повариха, она действительно перестаралась. И Феликс прав — именно потому, что она так легко выдает себя, директор не мог ей доверить правду о Янике и Нойме. А значит, человеком, который знал правду, скорей всего была повариха. И это она увела Яника.
Господи, как поверить, что Яника действительно спрятали! Воспитательница, повариха, кто угодно. Но как поверить, что он есть, ее мальчик!
Она верит. Должна верить. Когда солдаты пришли за Ноймой, они же его не видели. Нойму забрали ночью. Они обычно забирают ночью. А Яник был в малышовой спальне вместе с другими детьми.
Где он, маленький?
Если бы она в то, первое воскресенье, когда увидела, что Ноймы с Яником нет, сразу подошла к Феликсу и он бы прямо из костела отправился в приют, может, они бы узнали что-нибудь более определенное?
Но ведь договорились, что ни она, ни Нойма без особо важной причины к нему подходить не будут. И она убеждала себя, что Нойму, как видно, заставили работать, — вторые сутки валил густой снег. Или Яник простужен. Он и в гетто часто простужался. Если бы с ними что-то случилось, директор дал бы знать Феликсу. А Феликс стоял на своем обычном месте, тоже видел, что их нет, но даже головы к ней не повернул.
На вечернюю службу он не пришел. И побежала она вечером в костел, не думая о Феликсе. Надеялась, что Нойма, раз не могла днем, вечером придет обязательно. Но уже от двери увидела, что ни ее, ни Яника нет.
Она простояла у своей колонны всю службу. Смотрела на ряды пустых скамеек впереди, на то место в середине, где в прошлые воскресенья сидела Нойма, виднелась головка Яника, других приютских мальчиков. Тогда она беспокоилась, не покажется ли подозрительным, что Нойма каждое воскресенье берет разных детей, а Яника — всегда. Но было так хорошо смотреть на родную головку, что она старалась, пока видит ее, не думать о плохом.
Теперь и эта скамья, и другие пустовали. В костеле тлел полумрак, горели только боковые лампочки, и всего несколько старушек на задних скамьях тихо молились Богу.
Кажется, впервые в жизни она позавидовала. Им, этим старушкам. Тому, что они могут молиться. Что верят, каждая верит — Бог ее здесь видит, слышит ее просьбу и в милосердии своем исполнит ее.
Как ей тоже поверить в это? Кого попросить, чтобы скамья впереди не пустовала?
Вдруг вспомнилось давнее… Она была еще совсем маленькой, когда умер отец. К ним пришли какие-то бородатые люди. Она почему-то решила, что это трубочисты, а трубочистов она очень боялась. Сегодня они специально помылись, чтобы она их не узнала. В страхе убежала в бабушкину комнату и залезла под столик швейной машины. Сколько мама ни объясняла, что они не трубочисты, что пришли молиться, — не помогло. Она из-под машины не вылезла. Мама оставила ее, закрыла дверь, а она так и сидела, скрючившись, в ужасе прислушиваясь к непонятному бормотанью этих переодетых трубочистов. Вдруг кто-то из них громко выкрикнул ее имя. Значит, сейчас они придут за нею, схватят и положат рядом с папой на пол. Тоже накроют с головой черным покрывалом. Она так закричала, что прибежали мама с бабушкой, тетя Блюма, еще какие-то женщины. Они уверяли, что никто ее не схватит и, Боже сохрани, не положит рядом с папой. А ее имя назвали для того, чтобы отец, когда предстанет перед Богом, был заступником за нее. И за них — за маму с бабушкой — тоже. За всех родственников и добрых друзей.
Бог, как видно, только про заступничество за бабушку услышал, — она успела умереть своей смертью, как раз за месяц до начала войны. Маму с отчимом и в гетто не повели: в маленьких городках в самую первую неделю всех расстреляли. А что касается ее… Бог ведь не знает, что она теперь Марта Шиховска. Что стоит тут, в костеле, и смотрит на пустую скамейку. Что должна выдержать до следующего воскресенья.
Первые трое суток она старательно отгоняла тревогу. Нойму заставили убирать снег, Яник простужен. И если бы Пранукас, когда она застегивала ему пижамку, вдруг не обнял ее, она бы не расплакалась.
Нет, ребенок ничего не заметил. И хозяевам она, проходя мимо, пожелала спокойной ночи, как обычно. Только когда заперлась в каморке… До сих пор губы болят, так она их кусала, чтобы не закричать. Зато страшные мысли, словно почувствовав, что теперь у нее уже не хватит сил их прогнать, набросились все разом. С Яником что-то случилось! Если бы он был простужен, Нойма пришла бы одна. Примчалась бы вечером, ведь понимает, как она волнуется. С ними что-то случилось! А случается теперь только одно…
Господи, что это была за ночь!
Она хотела бежать к Феликсу. Он ведь тоже видел, что их нет в костеле. Может быть, сразу отправился к директору приюта? Как это ей раньше не пришло в голову? Может быть, Феликс знает, что с ними?
Она надела пальто, но вовремя опомнилась — поздно, комендантский час. Да и нельзя ей к Феликсу.
Она пойдет утром, как только рассветет. Будет караулить около дома, и когда Феликс пойдет на работу, она его догонит.
Исключается. Нельзя ей заговорить с ним на улице.
Тогда зайдет к Марии! Дождется, когда «их» немец отправится на свою проклятую службу, и быстро поднимется по лестнице.
Тоже нельзя. Как она угадает, что из подъезда вышел именно этот немец?
Все равно она должна узнать, что с Яником! Сама пойдет в приют! Укутается так, чтобы Яник, если увидит ее из окна, не узнал. Она схватила платок, поспешно стала его повязывать. Она обязательно пойдет! Рано утром, как только на улице появится первый прохожий.
А куда? В каком Яник приюте? И где этот приют? Она же ничего не знает!
Так и просидела всю ночь в пальто и платке. А утром… Как и каждый день, затопила плиту, приготовила завтрак. Долго одевала Пранукаса, он не давался, капризничал. И больше не обнимал ее. Потом выслушала наставления хозяйки, какой сварить суп, чем его заправить, сколько гулять с ребенком. Когда убирала столовую, часы показывали, что еще только десять часов. А до следующего воскресенья эти стрелки, надолго замирающие у каждого деления, должны сделать столько кругов…
В воскресенье она поспешила в костел на раннюю мессу. Понимала, что Ноймы с Яником в такое время там еще не может быть, но ждать дома не могла. В костеле встала на свое обычное место и еле сдерживалась, чтобы не оглядываться на дверь.
Кончилась ранняя месса, люди стали выходить. Теперь надо было ждать обедни, когда Нойма с Яником уж обязательно придут. Она понимала, что должна делать вид, будто молится, — ксендз, который сидит в левой исповедальне, видит ее. Может быть, ей, как той старушке в черном, приникнуть к окошку исповедальни? Но в чем она исповедуется? Повторять то, чему учили Феликс с Марией? Что в сердцах упомянула нечистую силу, что разбила хозяйскую тарелку и позавидовала ближнему своему. Только одно это правда. Когда она видит на улице женщину, которая ведет за руку мальчика, она очень завидует ей.
Старушка в черном поднялась. Получила отпущение грехов. Теперь к окошку приникла молодая женщина. В таком же, как у нее, сером платке. Но это не она. Она стоит там же, где стояла. У колонны. И ждет…
Сейчас. Нойма с Яником уже скоро должны прийти. Они придут.
Когда зажглись большие люстры и по витой лесенке за алтарем стал подниматься органист, она больше не могла притворяться, что молится. Костел уже был по-воскресному полон. Впереди не осталось ни одного пустого места. И там, где должны сидеть Нойма с Яником, сидят другие люди.
Зазвучал орган, запел хор, она привычно перекрестилась. Зашептала молитву.
Вдруг она почувствовала, что кто-то встал рядом. Феликс! Он не смотрел на нее, и она не поворачивалась. Только краешком глаза видела, как зашевелились его губы. Он ей что-то говорил. Чтобы она завтра… в четыре… пришла… чтобы пришла на лютеранское кладбище… за часовней…
Орган загремел, она опустилась вместе со всеми на колени, Феликс оказался сзади, и она лишь кивнула, что поняла — придет.
Она поняла только, почему он выбрал для встречи лютеранское кладбище, — оно небольшое и близко, в сумерки туда вряд ли кто-нибудь забредет. Часовенка стоит в стороне от ворот, и за нею в ограде есть чугунная калитка — выход на противоположную улицу. Но почему завтра, а не сразу, прямо отсюда?
Потом, уже на кладбище, он объяснил: увидев, что Нойма во второй раз пропускает встречу, он решил пойти в приют. В прошлое воскресенье он тоже думал, что помешала какая-нибудь случайность.
По кладбищу они ходили, делая вид, что ищут чью-то могилу. Феликс время от времени сметал с какого-нибудь креста снег, чтобы прочесть фамилию. И рассказывал. Она следовала сзади, глаза тоже смотрели на фамилии, даты, а видели заледенелую приютскую лестницу, спальню для малышей. Неструганые доски на кроватке, свернутый в ногах тощий сенничек. Заглядывала вместе с Феликсом в совсем пустые кладовки, спускалась в нетопленую, с плесенью в углах, прачечную. Слушала объяснения перепуганной воспитательницы. И доводы Феликса казались убедительными. Но когда он ушел…
Чтобы не выходить вместе, она свернула к калитке — оттуда и домой ближе, — а Феликс зашагал к воротам.
Прежде чем уйти, она еще долго стояла у могилы какого-то Генриха Зиберта, который прожил всего тридцать восемь лет, и повторяла про себя весь рассказ Феликса.
Феликс прав. Кто-то спрятал Яника. Когда пришли за Ноймой, Яника у нее не было. Господи, чем она себя утешает! Тем, что Нойму забрали одну. Ее же забрали!
Но откуда им стало известно, кто она?
Директор вряд ли проговорился. Хотя, если его пытали, мог не выдержать.
Все равно он не стал бы говорить больше того, о чем его спрашивали. А спрашивали про пистолет, откуда он. Требовали, чтобы сказал, у кого еще есть оружие. Зачем ему было рассказывать, что к тому же скрывал под чужим именем еврейку?
Нет, не от директора они узнали, это случайное совпадение, то, что за Ноймой пришли через три дня. Тут что-то другое…
Кто-то Нойму узнал. И донес.
Кто? И зачем приходил в приют?
А ему вовсе не обязательно было приходить туда. Шел мимо, когда она убирала улицу, увидел, узнал…
Когда-то, возможно, учились вместе в гимназии. Или встречались у общих знакомых. Если носит очки, то приходил к Нойме их подбирать. И был приветлив, улыбался. А теперь…
Не исключено, что он знает не одну Нойму, а всю их семью. И Виктора, и ее. И ее тоже может увидеть на улице, в очереди у магазина или с Пранукасом.
На прошлой неделе какой-то мужчина, когда она шла с базара, очень пристально посмотрел на нее.
Но ведь не остановил. И следом не пошел. Ей могло показаться.
Почему Нойма убирала улицу днем? Ведь должна была по утрам, еще затемно. И вечером.
Значит, иначе было нельзя.
Не может этого быть — что Ноймы нет. Она есть! И сейчас думает о ней. Тех, кого задерживают в городе, уводят в тюрьму. Из гетто иногда тоже уводят в тюрьму. Во время больших акций, когда последних уже не успевают до рассвета доставить в лес. Оставляют в тюремном дворе. И сидят они на промокших в снегу узлах до следующей ночи. Всего на один день продлена им жизнь. И люди знают, что он последний.
Вдруг опять закружилась голова! Стены, углы словно куда-то поплыли. И ее саму куда-то унесло.
Она вцепилась в край кроватки. Сейчас пройдет. Должно пройти. И тошнота отступит. Скоро… уже скоро…
Вот… Стены больше не уплывают. И ее никуда не уносит. Будто все это нахлынуло только для того, чтобы напомнить…
Но она же помнит! Все время помнит. И больше не придумывает, как в первые дни, других причин — что это от нервного перенапряжения или что это реакция на пережитое в гетто и в подвале, от недоедания. Перестала себя обманывать. Больше сомнений не было — она беременна.
Господи, что делать? Что?.. Где Яник — она не знает. Искать его больше нельзя. Как только станет заметно, что она беременна, хозяйка ее сразу уволит. Куда она денется?
В гетто вернуться нельзя, — по приказу гебитскомиссара «беременные женщины подлежат немедленной ликвидации». В подвале она на картофельных очистках и снеге долго не выдержит. Да и замерзнет. Стефа давно, в самом начале, отказалась ее принять. Куда деться?
Все-таки надо было рискнуть — пойти в свою клинику, попросить кого-нибудь из коллег о медицинском вмешательстве. Они должны понять.
Нет, нельзя. В клинике всегда полно людей. А на лестнице обязательно встретила бы кого-нибудь из дородового отделения. Или из хирургии. И кто-то не только удивился бы ее появлению. Она бы и до своего кабинета не дошла. И не мог бы ей никто помочь. Да и поздно. Что же делать?..
В воскресенье встать рядом с Феликсом, шепнуть, чтобы он опять пришел на лютеранское кладбище, а там сказать ему, что в ту, единственную ночь у них они с Виктором на миг забыли о войне, немцах, своем положении.
Нельзя еще и это взваливать на Феликса.
Но сама, без него и Марии, она же ничего, совсем ничего не может сделать.
Да и они вряд ли смогут ей помочь.
Через две-три недели уже будет заметно. Хозяйка ее прогонит. Что с ней будет?
Яник останется один. Нет, Виктор его разыщет. После войны он спросит у воспитательницы, где их сын.
Тогда опять можно будет жить в своих домах, ходить по улицам. И женщины опять будут без страха, с радостью ожидать рождения ребенка.
А она?..
Ей осталось быть тут, пусть в чужом, но все же в доме, всего две недели. Четырнадцать дней. И четырнадцать таких же, как эта, ночей.
XXI
Виктор начал беспокоиться. Сквозь щели в ставнях уже пробивается дневной свет, а хозяин дверь не отпирает. И сам к нему не заходит.
В доме встали еще затемно. Сперва женщина кому-то долго и сердито за что-то выговаривала. Но слов было не разобрать. Потом она загремела ведрами и вышла. Судя по времени, подоить корову. Вскоре вышел и мужчина. Когда он вернулся, на крыльце тяжело топал, сбивая снег. Но сюда он не зашел и дверь не отпер. Детских голосов не слышно. По всей вероятности, хозяева живут вдвоем.
Это не имеет значения. И тревожиться нет никаких оснований. Вполне естественно, что, прежде чем принять его в свою среду, то есть в какую-то свою организацию или группу, они должны проверить, кто он. Ничего удивительного нет и в том, что человек, который вел его сюда (видно, сам хозяин дома), сперва убедился, что у него нет оружия, и, несмотря на то, что ночь была безлунная, завязал ему глаза. Люди, которые выступают против оккупантов, вынуждены проявлять крайнюю осторожность, иначе к ним может затесаться провокатор. Правда, его, убежавшего из гетто, подозревать в пособничестве палачам своего народа, по меньшей мере, бессмысленно. Но, во-первых, провокатор тоже может выдать себя за беглеца из гетто, во-вторых, откуда известно, что он беглец из гетто? За всю дорогу тот старик не задал ни одного вопроса. И сам ничего не говорил. А теперь он не отпирает дверь и не заходит сюда потому, что, по всей видимости, он — всего лишь посредник и ждет старшего.
Если тот окажется местным жителем, он знает обоих братьев Лозинских. Возможно, знает он и о том, при каких обстоятельствах младший из братьев упал и сломал ногу. Он не может не помнить тот Первомай тридцать восьмого, когда на самом высоком дереве развевался красный флаг. Единственное, чего никто не знал, — лечил Лозинского некий доктор Зив.
Нет, не будет он напоминать об этом. Зачем? Ему и так поверят.
А о Марке он расскажет. Безусловно, у них есть свои люди и в городе. Смогут ли они что-нибудь разузнать о Марке? Хотя вести вряд ли будут добрыми. Если бы ему удалось убежать от полицаев, то за те четыре ночи, что он ждал его в кузнице, Марк бы появился. Как называется деревня, он знает, фамилию братьев — тоже. Дорога идет мимо кузницы, и больше ему не у кого было бы узнать, где свернуть к Кельмине.
Мама считает, что он «безжалостно трезвый человек». Алина тоже. Они правы. Он никогда не любил строить иллюзии. Теперь тем более нечего себя успокаивать нереальными надеждами.
В лучшем случае Марка увезли обратно в город и сдали в гетто. Но это именно в самом лучшем и почти невероятном случае. Полицейские не станут из-за какого-то пойманного еврея проделывать обратный путь. Если бы рядом, в этом городке, было гетто — можно было бы такой исход предположить. Но здесь, оказывается, гетто и не было. Вчера кузнец рассказал, как расстреляли всех местных евреев. Сперва велели собраться в синагоге. Продержали людей два дня взаперти, а вечером третьего дня погнали в карьер и там расстреляли. Всех до единого. Последним расстреляли доктора.
И все же, почему кузнец рассказал отдельно о том, как расстреляли доктора? Ведь не знает, что он врач. Это его особенно потрясло? То, что, когда всех пригнали к карьеру, начальник полиции велел доктору встать в сторонку, отдельно. Разрешил забрать с собой жену и детей. А когда уже ни одного человека в карьере не осталось, сказал: «За то, что ты лечил моих детей, окажу тебе честь — ликвидирую тебя сам». И выстрелил в него. А солдатам подал знак, чтобы прикончили жену доктора и его детей.
Почему кузнец ему об этом рассказал? Вероятнее всего, таким образом он его предупредил, какой садист местный начальник полиции.
Он ведь вообще ни о чем не говорил прямо. Когда в первое утро, явно догадавшись, к т о у него спрашивает дорогу на Кельмине, показал ее — добавил лишь, как примету: «Еще должен быть виден свежий след саней, — только что туда двое полицейских проехали». Опять-таки не переждать посоветовал, а отдохнуть. «Издалека, небось, идете, ноги больше не несут?» И кивнул в сторону самого темного угла кузницы. Только потом, снова взявшись за работу, бросил: «Если кто зайдет, — он показал на лежащее рядом колесо без обруча, — это вы принесли его». А благодарности будто не расслышал.
Он уснул под стук молота и спал долго. Проснулся уже в сумерках, именно от наступившей тишины. И кузнец, словно только потому, что больше нечего пришлому человеку поведать о здешних делах, пожаловался, что мужчин в Кельмине, кроме него, всего трое осталось. И фамилии назвал. То есть если ты, путник, шел к другим, то учти — их нет.
Известие, что Лозинских нет, не должно было ошеломить его — ведь все время готовил себя к этому. Но оттого, что другого варианта заранее не придумал, он именно Кельмине считал целью своего пути. Куда отправиться теперь, он не знал.
Кузнец собирался долго. Что-то перебирал в ящике, укладывал в свою сумку. Неторопливо одевался. Явно давал ему время обдумать свое положение.
Просьбе разрешить ему остаться тут на ночь кузнец ничуть не удивился. И объяснение его не интересовало. Снял с крюка длинный кожух: «Накройтесь. К утру выстывает». И ушел.
Дверь оставил открытой. На случай, если его тут обнаружат, скажет, что зашел сам, без спросу. Он бы все равно сказал, что сам. Или это должна была быть подсказка человеку, которого он ждет, что тот может войти? В открытую дверь входить спокойнее.
Если бы Марк появился на дороге, он бы его сразу заметил, — всю ночь просидел у дверной щели. Следил и за дорогой, и за опушкой леса. Но ждал, к сожалению, без особой надежды… Он до сих пор не может восстановить в памяти первых мгновений после того, как крикнул: «Бежим!» Как сам побежал — помнит. Зигзагами. Снег был глубокий, он падал, полз, но ползет ли сзади Марк — не слышал. Слышал только стрельбу.
К исходу ночи он почему-то был уверен, что Марка ранили. Именно ранили. А допросов не выдерживают и более сильные люди. Название деревни и фамилию братьев Марк знает. Неужели утром те двое полицейских поехали в деревню за Лозинскими? Хорошо, что их там нет.
Так он и до сих пор не знает — за кем полицейские ездили в деревню. Кузнец утром не удивился, что он один. Сказал только: «Человека положено ждать три дня». Отсюда напрашивался вывод, что искали его, то есть какого-то беглеца. Кузнец догадался об этом и предложил переждать тут еще два дня. Правда, теперь это предложение можно было истолковать и иначе: кузнец знал Лозинских, понял, зачем они понадобились ему, а связной мог прийти только через три дня.
Для большей безопасности устроил ему нечто вроде укрытия. Перетащил в его угол два плуга, лопаты, косы, мотыги, сверху набросил старые, отслужившие свой век меха. Подкатил вчерашнее колесо без обруча. Только после этого протянул завернутые в домотканую холщовую тряпочку два больших ломтя — каждый граммов по сто — хлеба, большую луковицу и бутылку воды. Работал весь день так, будто он тут один и никого за баррикадой в углу нет. Ни разу не оглянулся. Только на дверь иногда бросал взгляд.
Ночью, опять оставшись один, Виктор думал, как утром начать разговор, чтобы тоже не прямо, но все же выведать у кузнеца, есть ли в округе те, кого он ищет.
А начал, против собственного ожидания, с того, что по всей видимости его шурин уже не придет и это меняет его прежнее намерение пойти в Кельмине. Но кузнец явно не был склонен к разговору. Достал из сумки ту же, вчерашнюю, холщовую тряпочку, медленно развернул ее — там лежали такие же большие ломти хлеба. Два положил ему, два отнес на полку, себе. Повязал свой кожаный фартук. И только уже раздувая меха, будто вовсе не в связи с услышанным, сказал: «Послезавтра сюда придет человек забрать отремонтированный плуг. Поможете ему отнести».
Он правильно сделал, что не спросил, куда. Это не имело никакого смысла, — кузнец бы все равно не ответил. Еще мог обидеться, — ведь сам он ни единого вопроса не задал. Обычный способ проявления осторожности — знать как можно меньше и ничего не говорить определенно.
Да, осторожность теперь более чем необходима. И то, что этот человек, по-видимому, хозяин дома, вел его сюда с завязанными глазами, только подтверждает, что место это конспиративно.
Если удастся наладить связь с партизанами, имеет ли смысл и Яника с Алиной перевести в деревню, — меньше посторонних глаз?
Впрочем, лучше их не трогать. Здесь каждый новый человек заметен. Тем более ребенок. Да и нельзя столько раз менять условия. То гетто, то подвал, то приют. Если, как Феликс уверяет, Яник там, то уже, наверно, освоился. И Нойма рядом.
Хорошо, что он не поддался минутной слабости и не предложил Алине пойти вместе с ним. Когда прощались у Феликса в передней, он до конца осознал, что они расстаются. Расстаются. И все же отстранил ее от себя. Она только его руку не сразу отпустила.
Он здесь, в деревенском доме. Раньше эта комната явно была жилой. Это распятие, по всей вероятности, висело над кроватью. А вдоль скамьи, на которой он сидит, стоял стол. Занавесок на окнах нет, а ставни закрыты.
Голоса! Мужские. Во дворе кто-то разговаривает. Значит, пришел тот человек, которого хозяин ждал.
Идут сюда. На крыльце топчутся, сбивая снег.
Щелкнула задвижка.
Это и есть старший? Наверно. Хозяин стоит сзади.
— Вот, господин капитан, этот человек.
«Господин»?!
— Здравствуйте.
— Здравствуйте.
Почему «господин»?
— Принеси стул.
Говорит хозяину «ты». А тот принес табуретку. Значит, небогато живет.
— Извините, господин капитан, стульев у нас нет.
— Будут. После войны у тебя будет все.
Сел. Им садиться не предлагает.
— Итак, почему вас интересовала дорога на Кельмине? Между прочим, сразу предупреждаю, что находитесь далеко от нее.
— Это не имеет значения.
— Если не имеет значения, зачем вы туда шли?
— Надеялся разыскать давнего знакомого. — Капитан явно ждет уточнения. — Своего бывшего пациента.
— Вы — врач?
— Да.
— А зачем, — прервал его капитан, — вам понадобился этот ваш пациент? Обычно, наоборот, больной ищет врача.
— Я шел к нему не как к пациенту.
— А точнее?
Непонятно, почему все-таки «господин» капитан. Лучше про красный флаг не рассказывать.
— У меня к нему дело.
— Любопытно. Очень даже любопытно. — Смотрит слишком пристально. — Открой ставни, — вдруг почему-то раздраженно приказал он хозяину, и тот бросился выполнять приказ.
Отворилась створка и сразу впустила в комнату полосу света. Капитан ухмыльнулся. С той же усмешкой на губах стал следить, как хозяин отводит в сторону вторую створку.
Лицо — волевого и достаточно интеллигентного человека. К гражданской одежде явно не привык. Пальто будто с чужого плеча. Но почему все-таки «господин»? Ведь старая Литовская армия при советской власти приняла присягу и влилась в Красную Армию.
Но кузнец не мог обмануть, в этом он уверен.
— Ну, а я, хотя и не врач, тоже умею распознавать людей. Правда, на этот раз мне помогла ваша весьма семитская внешность.
«Семитская внешность»?..
— А шли вы в Кельмине, чтобы этот ваш знакомый спрятал вас.
— Нет!
Капитана резкость его ответа, кажется, удивила.
— О, вы, оказывается, обидчивы. Что ж, допустим, что вы действительно не прятаться шли, а, так сказать, с другими, более серьезными, намерениями.
— Вот именно.
— Допустим, я готов поверить, что вы желаете устраивать немцам фейерверки из их горящих складов и слушать музыку взрывающихся поездов. Я вас правильно понял?
— Правильно.
— Но это не имеет ровно никакого значения.
— В каком смысле?
— В прямом. Людей вашей национальности, как, впрочем, и всех других, я в свой, чисто литовский отряд не беру.
— Вы — серьезно?!
— Абсолютно. Вас это удивляет?
— Очень.
— Напрасно.
— Может быть. После того, как я более полугода находился в гетто, меня уже, казалось бы, ничто удивлять не должно. Тем не менее…
— Договаривайте, не бойтесь. Немцам я вас не выдам. Как вы, наверно, уже поняли, они — мои враги.
Сказать или нет?
— Тем не менее, вы разделяете некоторые их взгляды.
— Понимаю, о каких именно взглядах вы говорите. Но — ошибаетесь. Я их не разделяю. Но в том, что вам надо жить всем вместе, в гетто, пожалуй, смысл есть.
Не жить, а погибать.
— Только эти высокие ограды вокруг гетто, — капитан даже улыбнулся, — ни к чему, они очень портят вид города.
А то, что за ними кладбище для живых?
— Вы же не станете отрицать, что живете у нас, я имею в виду, в нашей республике, впрочем, как и в других странах, назовем это — квартирантами. Вас не устраивает такое определение? Дело ваше. Но оно отражает суть. Я, кажется, выражаюсь достаточно ясно?
— Вполне.
— Следовательно, вы понимаете, или, по крайней мере, должны понять, что хозяин не сажает квартиранта рядом с собой за стол.
Спорить с ним нельзя. Он явно вспыльчив и в гневе может забыть о своем несогласии с немцами.
— Только дураки они, немцы. Не убивать вас надо, а использовать. Для себя. Среди ваших соплеменников бывают очень способные люди. Зачем профессоров заставлять мести улицы? Пользу надо извлекать, пользу.
— Вы себе противоречите.
— В том, что не хочу использовать вашу профессию врача, — я вас правильно понял?
— Да. Если пользоваться вашей терминологией относительно хозяина дома и его квартиранта, то, когда в доме пожар, его должны тушить общими усилиями, иначе он сгорит.
— В логике вам отказать нельзя. Но у меня — своя: квартирант, который будет гасить пожар вместе с хозяином, подчеркиваю — вместе, рядом, после пожара может себя почувствовать ровней ему. А этого не будет! Вы поняли — не будет! Я — за Литву, в которой все вы — и поляки, и русские, и караимы, и евреи — будете квартирантами. Даже литовцы, которые при Советах получили землю и кричали: «Да здравствует Сталин!» И те, которые были заодно с немцами. Поэтому и пожар, как вы это назвали, — гасите, конечно, гасите, иначе вам тоже будет негде жить. Но вместе с ними — поляками, русскими, кем там еще… Большевики берут всех подряд.
Спрашивать, где же их искать, опасно.
— Ночью мой человек, — и он кивнул в сторону хозяина, который все это время растерянно слушал их разговор, — уведет вас отсюда. Только не надейтесь, что обратно к кузнецу, — ему я еще объясню, кого мне посылать, а кому доставить удовольствие самому искать себе командира. И предупреждаю, — в голосе зазвучала жестокость, — больше на нашем пути не попадайтесь. Не все мои люди настроены по отношению к вашей нации так лояльно, как я.
Он резко поднялся. Привычным движением хотел поправить ремень, но наткнулся на пуговицу пальто и резко опустил руку. Внезапно он улыбнулся.
— Только учтите, без оружия даже большевики не принимают.
Он подчеркнуто медленно повернулся и вышел. Хозяин последовал за ним. Во дворе капитан что-то долго и сердито говорил. Потом стало тихо — очевидно, ушел. Значит, он живет вполне легально, раз днем свободно расхаживает по деревне.
Закрылась одна створка ставен. Вторая. Опять стало темно.
Ночью хозяин уведет его отсюда. Просто уведет. Капитан вряд ли приказал его ликвидировать. Ведь он не против, чтобы ему помогали «тушить пожар».
Они шли уже добрый час, когда старик неожиданно остановился.
— Не говорите никому, добрый человек, что я ослушался господина капитана. — И стал развязывать узел, которым была стянута тряпка на глазах. — Но раз вам нельзя воротиться в наши края, то как же, не зная дороги, которая запрещена, обойти ее?
— Спасибо. Сердечное вам спасибо.
— Свою я душу спасаю. Чтобы потом, ежели что плохое с вами случится, не я был виноват.
— Не вы. Не ваша вина в том, что происходит.
— Видите, вон крест на горке. От него вам надо идти только прямо. Там лес. Боже вас упаси свернуть налево.
— Владения вашего капитана?
Старик как будто не понял вопроса. Шел, опустив голову.
— Когда-то, говорят, мертвый барин, дед нынешнего господина капитана, темными ночами, особенно перед грозой, людям являлся. Всех погубить грозился за то, что поместье сжечь хотели. А когда крест этот поставили — перестал являться.
— Значит, капитан — местный?
— Местный. Только пока военным был, еще в прежней, президентской армии, редко наведывался. А при Советах, когда ихнюю землю беднякам роздали, и вовсе не приезжал. Кто объяснял, что морем в Швецию уплыл, кто божился, что в городе его видел. А при немцах вдруг опять появился. С Красной Армией не отступил.
Спросить, большой ли у него отряд, или не пугать старика расспросами?
— Землю немцы ему вернули?
— Вернули…
Похоже, старик — один из тех, кто тогда ее получил.
— И он что, мстит тем, кому его земля досталась?
— Нет. Против тех, кто не просил господской земли, а взял, потому что все равно раздавали, говорит, ничего не имеет. За то, что засеяли, — рассчитался. Справедливый он. А что остальных, которые эту землю требовали… Так ведь сказано — не надо желать добра ближнего своего. Справедливый он человек… — И тут спохватился: — К своим справедливый.
— Возможно.
— Господин ведь, и немцы его не трогают. Мог спокойно жить, а собирает людей, чтобы против них, значит…
Выходит, он еще только собирает? И все-таки не удержался, спросил:
— А много у него людей?
— Не знаю. Не мое это дело. Мне что велено, то делаю. Вас, вот, велено довести до леса — доведу. И дай вам Бог встретить там своих.
— Спасибо.
— Только не говорите вы им про нашего господина капитана. У большевиков зло на него, что не с ними он. А если люди друг на друга зло держать будут, одна только вражда на земле и останется. Одни убийства, что на войне, что без войны.
— Вы правы. Конечно же, правы. Ничего нет хуже вражды.
— И сами на господина капитана за то, что он с вами так… не держите зла.
Старик опять остановился, снял с плеч торбу.
— Тут вам старуха хлеба положила. Квашеной капусты. А я, вот, топорик и кремень припас. Чтобы костер разжечь. Только вы его подальше от дороги разводите. И под самое утро, когда полицаи все свои дела закончили, а люди еще не встали.
— Спасибо. — Старик растерялся, когда он протянул ему руку. Неловко вытер свою об тулупчик и подал. — Еще раз — спасибо.
Старик хотел что-то сказать, но лишь потоптался и пошел. Потом обернулся и перекрестил его: — Пусть Бог вам поможет.
Эпилог
Не помог.
Мой отец, Виктор Зив, погиб в партизанском отряде «Путь к победе».
Девочка, которую родила Алина, — это я. Юлькина тетя и, следовательно, сестра Яши. Яши, а не Яника — так себя называть он позволял только маме и Ядвиге Марчуковой. После их смерти и имя это вернулось в тогдашние годы, о которых он не любит вспоминать.
А на Юлькиной свадьбе, как и положено на свадьбе, было весело.
Правда, вначале Юлька сидела непривычно серьезная. В витринно-нарядном кружевном платье, в длинной нейлоновой фате. Она сосредоточенно внимала каждому пожеланию. Но уже после третьего тоста в ее счастливых глазах появились знакомые смешинки, а значит, не исключено, что при очередной назидательной речи она может рассмеяться. Хорошо, что Володины друзья вовремя кричали: «Горько!» Юлька, мгновенно забыв о только что распиравшем ее смехе и ничуть не стесняясь, с удовольствием целовалась.
Танцевала она тоже с упоением. Обмотав хвост фаты, чтобы не мешал, вокруг шеи и, заткнув чрезмерную длину платья за пояс, она выделывала нечто среднее между хула-хупом, аэробикой и танцем какого-то древнего африканского племени.
Только когда все снова сели за стол, пришел приглашенный все той же предусмотрительной Володиной тетей фотограф («свадебные снимки — на всю жизнь, нельзя полагаться на любителей»). Юлька на мгновенье стала серьезной. И именно в это мгновенье я вдруг увидела, как она похожа на нашу маму. Не ту, больную, седую, какой я ее знала, а очень молодую маму со свадебного снимка, на котором она — улыбающаяся, в белом платье — сидит рядом с нашим папой — красивым, черноволосым, тоже улыбающимся.
Наша мама поседела еще до моего рождения. Хозяйка ее тогда выгнала, другого прибежища найти не удалось, она пешком добиралась в деревню к Каролине, крестной дяди Феликса. По дороге угодила полицейским в руки, бежала из транспорта, который везли в Германию. Что с нею, пока добиралась до Каролины, еще было, даже мне не рассказывала. Только пришла она в деревню совсем седая.
А на свадебный снимок, сохранившийся у Феликса, мама смотрела часто и подолгу. Не только в годовщину свадьбы. И в папин день рождения, и в бабушкин, и в Ноймин. Ставила его на этажерку, а рядом, даже зимой — какую-нибудь зеленую веточку. И каждый раз сокрушалась, что из такой большой семьи — и ее, и папиной — осталась только она одна. А из всех друзей, в молодости казавшихся близкими, только Феликс и Мария в самый трудный час жизни не оставили их.
А ведь я после маминой смерти ни разу этого снимка не доставала. И дней рождений, кроме маминого, не знаю. Не запомнила…
Там, на снимке, рядом с новобрачной — дедушка с бабушкой. Здесь — Люба и Яша. Они моложе. Впрочем, ненамного.
Странно, что этот полноватый лысеющий мужчина — тот самый Яник, которого в гетто прятали в сундук; это он мерз в темном подвале; в приюте боялся проговориться, что у него есть родители. Он — тот самый босоногий деревенский мальчишка, который, когда мама его наконец нашла на далеком хуторе, вцепился Марчуковой в юбку и кричал: «Не отдавай меня этой тете! Не отдавай! Это чужая тетя!»
Мама уверяла, что ей даже не было больно, так мало этот выросший остриженный наголо мальчик напоминал прежнего Яника.
Но и потом, вернувшись — конечно же, вместе с тетей Марчуковой — в город и давно живя с нами, он, уже школьником, целыми днями пропадал у нее. Грех говорить, но, кажется, всю жизнь она ему в чем-то была ближе мамы. И мама, думаю, это чувствовала.
Будь они обе живы, они бы теперь сидели рядом с Яшей.
А Феликс с Марией на том снимке — почти на том же месте, что и тут. Но совсем молодые, не похожие на себя теперешних. Там дядя Феликс стоит с поднятым в руке фужером, видно, когда снимали, произносил тост. Наверно, так же, как сейчас этот долговязый Володин товарищ, желал новобрачным счастья и долгих лет жизни.
Феликс не только пожелал долгой жизни. Они с Марией ее и спасали. Но смогли спасти только нас троих.
Вернувшись в город, мама обошла все соседние с подвалом дома. Искала Монику. Но никто ничего не знал. Да и маме было очень трудно объяснить, кого она ищет, ведь тогда она еще даже имени ее не знала. И если бы не глуховатая прислуга какой-то убежавшей с немцами «рыжей пани», мама не узнала бы ни имени их первой спасительницы, ни того, что Моника погибла перед самым освобождением города, на фабрике. Туда упала бомба.
Господи, как громко включили музыку! Впрочем, молодым она не кажется громкой. Весело же, свадьба. И Юлька, опять совсем не похожая на маму, танцует вместе со всеми.
Подаркам она радовалась, как маленькая. Особенно огромному мишке в целлофане. А перевязанные шелковыми ленточками скатерти, коробочки, особенно кухонная утварь вызвали удивление. Будто только теперь осознала, что всем этим придется пользоваться. Я тоже пока трудновато представляю себе Юльку в роли хозяйки.
А мой подарок вызвал у нее удивление. На самом деле — нечто, похожее на книгу, но без названия на сплошном черном переплете, без фамилии автора и с замочком, как на старинных альбомах. При этом я еще попросила сейчас его не открывать.
— Что это?
— Потом посмотришь. — И для верности повторила: — Потом.
Когда она ее раскроет, там найдет и тот давний свадебный снимок. Пусть вклеит его в свой альбом. Каждая страница в ее альбоме — это оборванная жизнь. А сколько таких альбомов может быть…
Юлька опять перехватила мой взгляд на столик с подарками.
«Что это?»
«Потом, Юлька. Потом».
Это рассказ о семье твоего отца. Но это рассказ и о других семьях. О детях. О твоих и Володиных ровесниках. Обо всех, кого убили.
Я очень хочу, чтобы больше никому никогда не довелось познать черных, в самом страшном смысле этого слова, дней.
Совет и любовь вам. Любите друг друга. Любите жизнь, людей — близких и далеких. На этом держится мир.
Примечания
1
Люди, у которых кто-то из предков был немцем.
(обратно)2
Удостоверение! (нем.).
(обратно)3
Оставь его, он мертв (нем.).
(обратно)4
Нет, еще шевелится (нем.).
(обратно)5
«Довуд особисты» — удостоверение личности в довоенной (до1.IX.39) Польше.
(обратно)6
Идем! (нем.).
(обратно)
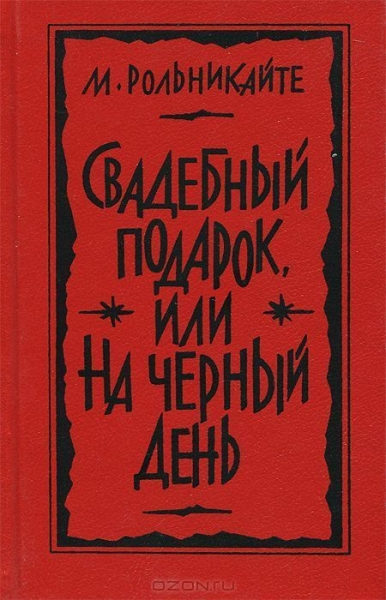





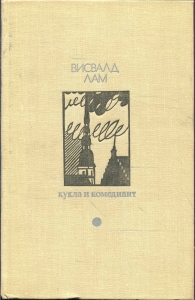



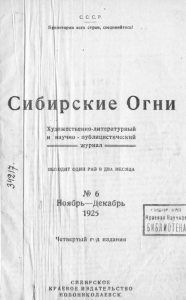
Комментарии к книге «Свадебный подарок, или На черный день», Маша Гиршо Рольникайте
Всего 0 комментариев