Петр Игнатов ГОЛУБЫЕ СОЛДАТЫ
Славным сынам социалистической Отчизны,
мужественным авиадесантникам посвящаю эту книгу.
В книгах «Записки партизана», «Жизнь простого человека», «Братья-герои» и других я подробно описал боевые подвиги двух моих сыновей: инженера Евгения и школьника Гени — партизан Кубани, посмертно удостоенных звания Героя Советского Союза.
О третьем сыне — Валентине — в этих книгах говорится очень мало. В канун вероломного нападения гитлеровской Германии на Советскую страну он работал главным механиком на большом заводе вблизи западной границы.
Книга «Голубые солдаты» рассказывает о судьбе Валентина в годы Великой Отечественной войны. Она посвящена боевым делам разведчиков-авиадесантников, в рядах которых сражался мой третий сын.
П. Игнатов
Глава 1. СЫНОВЬЯ
В 1916 году вместе с женой Еленой Ивановной и маленьким сынишкой Женей я бежал из ссылки. Много лишений и опасностей довелось испытать нам, прежде чем мы добрались из Сибири до Петрограда.
Затяжная ненастная осень сменилась холодной зимой.
С большим трудом удалось мне устроиться слесарем-механиком на завод «Русский Рено». Работали по двенадцать часов в сутки. Придешь с работы усталый, голодный, а дома нечего есть. Жена ночами стояла в очередях за осьмушкой хлеба на человека. И это в мороз, вьюгу. Трудно было моей Геле[1]: дома не на кого оставить малыша Женьку — полтора года было ему тогда, к тому же мы ждали второго ребенка.
Наш второй сын, Валентин, появился на свет в канун великих событий. В феврале семнадцатого года рухнул царизм, а в октябре свершилась Великая социалистическая революция.
Первые годы жизни наших мальчуганов совпали с годами гражданской войны. Мы с женой вели в ту пору походный образ жизни, и нашим сыновьям приходилось терпеть наравне с нами все ее тяготы и лишения.
Далеко не каждый день были они сыты, а уж о домашнем уюте они, конечно, не имели никакого представления. Случалось и так, что мы были вынуждены оставлять их у чужих людей без родительского присмотра.
Женя был сдержанным, внутренне собранным мальчуганом. Он рано научился читать, пристрастился к книгам и мечтал лишь о том, как бы поскорее поступить в школу.
Совсем другим был Валентин: маленький человек с буйной, безудержной натурой и неугомонной душой. Видя, что старший брат хорошо и упорно учится, он из самолюбия не хотел отставать от Жени, хотя учение и давалось ему с большим трудом.
В августе 1923 года, когда мы жили в Железноводске, Жене исполнилось восемь лет. Почти ежедневно он напоминал то мне, то матери, чтобы мы не забыли записать его в школу. Беспокоился он напрасно. Когда пришло время, он был принят в школу.
Узнав об этом, Валя тотчас же бросился к матери.
— А меня записали?
— Тебе еще рано, — объяснил я. — Пойдешь в школу через год.
— Нет, нет, совсем не рано! Не буду я ждать целый год!
Никакие уговоры на него не действовали.
— Буду учиться! Все равно буду! — упрямо твердил он. — Пусть тогда и Женька подождет до будущей осени.
Пришлось мне идти в школу и упрашивать, чтобы Валентина зачислили в первый класс вместе с братом. Не знаю, как решился бы этот вопрос, если бы перед самым началом занятий с Валей не стряслась беда.
Любил он лазить по деревьям. Ловкий и цепкий, как кошка, заберется, бывало, на такую высоту, что у нас с матерью дух захватывало. Одергивать, останавливать его было бесполезно. Сегодня отругаешь, а завтра он снова где-нибудь на самой макушке дерева. Особенно полюбился ему огромный тополь, раскинувший ветки над крышей нашего дома. Откуда-то сверху то и дело слышался его звонкий голос:
— Матросы! Живо на мачту!.. Ставь паруса!
Видимо, в те минуты он чувствовал себя «морским волком», стоявшим у кормила сказочного парусника.
И вот однажды наш «морской волк» сорвался с тополя и, угодив на узловатые корни, торчавшие из земли, сломал ногу у бедра. Пришлось его отвезти в больницу. Для такого непоседливого мальчика, как Валя, оказаться прикованным на долгое время к постели было тяжким испытанием.
Вот тут-то особенно проявилась дружба братьев. С разрешения врача Женя каждый день после школы приходил в больницу и проводил там все свободное время до вечера. Теперь у него были две главные заботы: школа и Валя. Вернувшись с занятий и наскоро пообедав, он брал с собой книжки, бумагу (краски и карандаши имелись в избытке у Вали в тумбочке возле койки) и отправлялся «на дежурство» — читал брату вслух, рисовал. Вместе они вырезали из бумаги солдатиков, клеили крепостные форты и башни.
Но, о чем бы ни говорили, чем бы ни занимались братья в больнице, Валя прежде всего интересовался школьными делами Жени. Он уже понял, что ходить этой осенью в школу ему не придется, что брат «обскакал» его на целый год.
А время шло.
Недолго задерживалась зима на кубанской земле. Наступила ранняя, дружная весна. Неоглядные степные просторы одевались в яркие цветные наряды.
Нога у Вали срослась хорошо, и он к весне был уже дома.
Мне приходилось много разъезжать по делам службы. В мое отсутствие Женя и Валя были главными помощниками матери: ходили в лавку за продуктами, пилили и кололи дрова, носили воду. И надо сказать, всеми этими хозяйственными делами они занимались с большой охотой.
В доме у нас всегда поддерживался образцовый порядок. Каждая вещь, каждая книга имели свое место, все было вымыто, вычищено, нигде ни пылинки. Это приучило мальчиков к аккуратности, к строгому соблюдению уклада жизни, сложившегося в нашей семье.
По вечерам Геля посещала совпартшколу. То, что мать учится, что она, как и они, школьники, готовит дома уроки, производило на сыновей, особенно на Валю, большое впечатление. Когда она занималась, ребята старались не шуметь, чтобы не мешать ей.
Помню, однажды, вернувшись из школы, Женя застал мать за учебниками и, усевшись рядом с ней, принялся делать свои уроки.
Валя занял место у свободного края стола и долго молча наблюдал за матерью и братом, затем сказал:
— Нам с Женькой надо учиться, потому что мы еще дети. А вот ты, мама, уже взрослая, а тоже учишься… Зачем это тебе… книги, тетради?
Геля оторвалась от книги, взглянула на него с улыбкой:
— Учиться, сынок, никогда не поздно. Человек всю жизнь стремится знать как можно больше, хочет быть образованным.
— Но ведь ты уже училась, когда была маленькой!
Геля грустно вздохнула.
— Училась, но очень мало. Нужда заставила меня оставить школу. Надо было на хлеб зарабатывать. А учиться хотелось. Я мечтала о школе. И вот только теперь я могу наверстать упущенное.
— И тебе не тяжело? Целый день работаешь и еще учишься.
— Конечно, нелегко, — ответила Геля. — Но учение приносит мне радость, а радость придает человеку много сил, и то, что делаешь с большой охотой, не утомляет.
Женя отложил в сторону ручку, прикрыл промокашкой тетрадный листок и попросил:
— Мама, расскажи о своем детстве.
— Я уже рассказывала.
— Ну еще, пожалуйста!
Для них, наших сыновей, казалось, не было большего удовольствия, чем слушать рассказы о Гелином и моем детстве, столь непохожем на их жизнь, о революционных боях в Питере, о героическом походе Таманской армии, о славных красных полководцах, таких, как Чапаев, Котовский, Ковтюх и Жлоба. Слушая эти рассказы, они забывали обо всех своих мальчишеских делах…
В марте 1925 года у нас родился третий сын — Геня.
Помню солнечный, по-летнему теплый день. Снег уже сошел почти полностью.
Под окном в кустах сирени оглушительно щебечут птицы.
Мы, трое мужчин — я, Женя и Валя, — собираемся ехать за Гелей и новым членом нашей семьи — маленьким Геней.
Встав чуть свет, ребята принялись за генеральную уборку в квартире. Не осталось ни одного уголка, куда бы они не заглянули с веником и тряпкой. Начищенные щеткой полы выглядели полированными. В тщательно вымытые стекла окон глядело веселое весеннее солнце.
Окинув взглядом убранные комнаты, Женя вдруг сказал:
— Нужны цветы. Без цветов никак нельзя.
Я дал мальчикам рубль, и они помчались на окраину города, к садовнику, который выращивал цветы в оранжерее. Через час на столе красовались розовые примулы в аккуратных глазурованных горшочках…
Сколько радости и веселья было в нашем доме в тот вечер, когда вся семья снова оказалась в полном сборе! У стола стояла колыбелька, задернутая легким кисейным пологом. Там спал малыш — смешной, крохотный человечек.
Новый член семьи стал предметом общих трогательных забот.
Женя и Валя сразу полюбили младшего братишку, и через всю их жизнь прошла эта нежная, искренняя Любовь старшего к младшему.
Рос он здоровым, крепким мальчуганом. В раннем детстве — круглолицый, румянощекий, с белокурыми бьющимися волосами — он очень походил на девочку, и Геля, давно мечтавшая иметь дочку, нередко обряжала его в пестрые платьица и завязывала ему в волосы голубой бант… Позже Геня всегда сердился, когда кто-нибудь в доме напоминал ему об этом переодевании. Видимо, в нем говорил голос уязвленного мужского самолюбия.
Как-то в конце учебного года Женя вернулся из школы гордый, сияющий, с красным галстуком на тонкой шее.
— Меня приняли в пионеры! — радостно объявил он с порога.
Мы с женой от души поздравили его. Этот торжественный день мы отметили праздничным обедом с пирогом.
Валя, конечно, сгорал от зависти к брату, но в то же время безмерно гордился им.
— Я тоже буду скоро пионером! — заявил он за обедом.
— С отметками у тебя не все ладно! — напомнила Геля. — И с дисциплиной тоже. Надо еще заслужить право называться пионером.
Валя вспыхнул.
— Вы думаете, я хуже Женьки, да?
— А как ты сам думаешь об этом? — спросила Геля.
Вопрос матери застал Валю врасплох. Он растерялся, не знал, что ответить, но тут ему на выручку пришел Женя, который сказал:
— И ничуть Валька не хуже меня. Немного подтянется с отметками, и его примут в пионерский отряд. Я уже говорил о нем с вожатым.
— А вожатый что? — вырвалось нетерпеливо у Вали.
— Летом вместе поедем в пионерский лагерь…
И вот наконец наступил тот долгожданный летний день, когда Женя и Валя собрались в лагерь. Колонна школьников и пионеров выступила из города с восходом солнца. Ребята шли налегке. Им предстоял дальний путь в один из живописных высокогорных уголков Кавказского заповедника, где был разбит лагерь. Шумная, звонкоголосая колонна ребят все дальше уходила от города. За ней тянулись три подводы, доверху нагруженные вещами: рюкзаками, постелями, продуктами, палатками.
Места в Кавказском заповеднике были действительно сказочно прекрасны. Вокруг лагеря стоял густой, напоенный смолистым духом пихтовый лес. На склонах гор высились вековые кедры, могучие дубы, а вдоль стремительной речки теснились тенистые карагачи. Солнечные лужайки пестрели цветами. Неугомонно день и ночь шумела река. Вода в ней была ледяная, но ребята не могли побороть в себе соблазна окунуться в ее прозрачные, быстрые струи. И тогда молчаливые чащи леса оглашались визгом и смехом купальщиков.
Не раз пионеры и школьники совершали походы по высокогорным маршрутам, побывали на альпийских лугах, покрытых высокими травами и яркими коврами цветов.
Домой Женя и Валя вернулись загорелые, возмужавшие. Полтора месяца жизни в палатках, среди гор, закалили их, научили все делать своими руками: и палатку поставить, и костер разжечь, и кашу сварить, и выстирать себе одежду.
А сколько новых впечатлений накопилось у ребят! Наперебой, без умолку рассказывали они нам о своих друзьях, о забавных приключениях, о памятных происшествиях. И только об одном случае умолчали, не зная, очевидно, что вожатый Георгий Иванович уже успел сообщить об этом случае мне и Геле.
— Ну а как прошел ваш поход к Волчьим скалам? — спросил я в конце ужина, когда, казалось, было уже переговорено обо всем и ребята поклевывали носами.
Переглянувшись, они опустили головы, решив, очевидно, отмолчаться.
— Нет, уж вы извольте выложить все! — сказала Геля. — Признавайтесь, что натворили.
И ребятам пришлось рассказать о том, что они хотели утаить от нас.
А случилось следующее.
Женино звено получило задание обследовать берега реки на три километра вниз по течению, считая от лагеря. Шестеро ребят переправились по камням через реку и пошли левым берегом. Шестеро двинулись по правому. Валентин шел с Женей. На левом берегу громоздились огромные камни, и перебираться через них было очень трудно. А между камнями то и дело попадались густые заросли ежевики, переплетенные лианами, свисавшими со скал. Поэтому Женя, Валя и их товарищи, шедшие по правому берегу, намного обогнали ту шестерку, которая двигалась по левому.
— Подождем их немного, — предложил Женя.
Ребята разлеглись на камнях у самой воды. Полуденное солнце припекало вовсю. Камни были теплые, зато вода казалась ледяной.
— Эх, окунуться бы! — сказал Витя, веснушчатый, шустрый мальчишка, один из лучших лагерных друзей Жени.
Звеньевой и сам был не прочь побарахтаться в воде, но, помня строгий наказ вожатого, ответил:
— Георгий Иванович запретил купаться в незнакомых местах. — В его голосе, однако, на этот раз не было необходимой твердости.
— Да ведь здесь совсем мелко, — заметил Витя. — Самое большее — по пояс.
Валя, лежавший на плоском камне, приподнялся, смахнул рукой пот со лба.
— Фу, ну и жарища! Витька прав, надо малость освежиться.
Женя сдался, и ребята начали плескаться в воде у самого берега. Витя сделал несколько шагов в сторону и вдруг погрузился в воду по грудь. Его нога соскользнула с подводного камня, поросшего склизким мхом. Он упал, и сильное течение тотчас же подхватило его, потащило к середине реки. Над водой прозвучал отчаянный вопль:
— Спасите! Тону!
Оглянувшись в сторону Вити, ребята увидели, как он скрылся под водой.
Не раздумывая ни секунды, Женя с разбегу бросился в реку, мгновенно настиг Витю и крепко схватил его за руку, едва удерживаясь на подводном камне. А утопающий цеплялся за Женю, тянул его за собой вглубь. Женя чувствовал, как возрастает напор воды, бьющий в спину. Плавал он еще неважно, но 6 те мгновения даже не подумал об опасности, угрожавшей ему самому, и продолжал сжимать руку друга. Силы мальчика таяли. Еще немного — и течение собьет его с ног… Но вот кто-то крепко обнял его за плечи. Это был Валя, бросившийся с двумя другими мальчиками на выручку брату и Вите. Вчетвером, растянувшись цепочкой и держа друг друга за руки, ребята справились с силой потока, вытащили Витю на берег. Обессиленный, бледный, полузахлебнувшийся, он дрожал как в лихорадке, чихал и кашлял и минут десять отлеживался на камнях, пока не пришел в себя…
Мне очень понравилось, что ни Женя, ни Валя не выпячивали своих заслуг в спасении товарища. Так, и только так, должны поступать люди, выручая друг друга из беды, а потом, когда опасность уже позади, не хвастать своим геройством…
Прихожу однажды вечером с работы домой, меня встречает обеспокоенная Геля.
— Ну что мне делать с этим мальчишкой? Уже ночь скоро, такая темень, а его все нет… И к обеду не являлся, Где его только носит?
Не спрашиваю, о ком идет речь. И без того ясно — о Валентине! Уже не первый раз исчезал он из дому на целый день. Заявится поздно вечером усталый, голодный, заглядывает матери в глаза смущенно, заискивающе. Сознает все-таки свою вину!
Я был уверен, что и на этот раз все закончится так же, ждал, что вот-вот распахнется дверь и перед нами предстанет Валентин.
Поужинали, пора было ложиться спать, а Валя не появлялся. Беспокойство все больше охватывало меня. Геля обошла всех соседей. Женя, встревоженный не меньше нас, побывал у школьных друзей брата, живших поблизости. Никто ничего не знал о Валентине.
В одиннадцатом часу вечера я отправился в милицию. Там тоже ничего не знали о сыне. Желая, видимо, успокоить меня, дежурный сказал, что сведений о каких-либо несчастных случаях за истекший день не поступало, Словом, ничего утешительного выяснить мне не удалось.
Тревожную ночь провели мы. Никто не спал. Геля плакала. Женя непрерывно ворочался в постели, вскакивал, прислушивался к каждому шороху, к шагам поздних прохожих с улицы, Чуть свет снова начались поиски.
Примерно в девятом часу утра выяснилось, что пропал не он один. Его дружок Мишка Панкратов тоже не ночевал дома. Минувшим днем в обед их обоих, видели у реки. Они купались вместе. Страшная мысль о том, что ребята могли утонуть, к счастью, была быстро отвергнута: один из наших соседей видел Валю перед вечером в городском парке.
И все же ребят не было. Кто-то высказал предположение, что они, начитавшись всяческой приключенческой литературы, сбежали куда-то вдвоем. Через милицию были разосланы розыскные телеграммы в другие города, в черноморские порты и на железнодорожные станции, а нам оставалось одно: пребывать в тревожном ожидании. Мучительно потянулись дни.
И вдруг на пятые сутки мне на работу позвонили из железнодорожной милиции.
— Товарищ Игнатов, ваш сын нашелся. Он здесь, у нас на вокзале, Просим зайти забрать его!
Я забежал домой за Гелей, и мы вместе отправились на вокзал. Только переступили порог отделения милиции — видим: сидят оба — Валя и Миша, грязные, оборванные, и мирно беседуют с дежурным.
По пути на вокзал Геля грозилась наказать Валентина строжайшим образом, но, едва увидев его, сразу позабыла о своих угрозах. Дома, пожалуй, не менее радостно, чем мы, брата встретил в первые минуты и Женя. Обнял, поцеловал, но затем вдруг оттолкнул, крикнул гневно:
— Эх ты, свинья бесчувственная! Видеть тебя не хочу!
Валентин стоял будто пришибленный. Казалось, он готов был провалиться от стыда сквозь землю.
И вот, вымытый, переодетый во все чистое, он предстал перед нами, ожидая семейного суда.
— Докладывай, где ты был? — спросил я жестко.
Валя шмыгнул носом, но ответил совсем не по существу дела:
— Ужасно есть хочется…
— Успеешь! — оборвал я его. — Отвечай на вопрос.
До этого мы никогда не повышали голоса в разговоре с сыновьями, но тут я не мог сдержаться. От строгого окрика Валя вздрогнул.
— Я— я не хотел огорчать вас… — пробормотал он, заикаясь. — Знаю, меня нужно наказать… Но я не мог иначе… Дал слово… во имя дружбы…
И мы услышали удивительную историю его похождений.
Он очень дружил с Мишей Панкратовым, учился с ним в одном классе, не расставались они и в пионерском лагере. У Миши был строгий отчим. В тот день, когда исчез Валентин, ребята в обеденную пору пошли на Кубань купаться. Долго возились в воде, плавали, ныряли, а тем временем кто-то стащил Мишину одежду. Вышли мальчики на берег — Мише не во что одеться, только трусы на нем.
Что делать? Как идти Мише домой, к отчиму? Обязательно будет порка. Видя, в каком отчаянном положении находится друг, Валя сказал:
— Ты посиди здесь, на берегу, а я сбегаю домой, принесу Женькины штаны и старую рубаху: они будут тебе в самый раз по росту.
Миша безнадежно вздохнул.
— Все равно изобьет меня отчим. Глазастый он, сразу заметит, что на мне чужое и старое. — И, подумав немного, промолвил решительно: — Не пойду домой. Не пойду — и все!
— Где же ты будешь жить? — спросил Валя.
— Уеду.
— Куда?
Миша пожал плечами, ничего не ответил.
— А может, у нас поживешь пока? — предложил Валя. — Я поговорю с отцом и матерью.
— Нет! — мотнул головой Миша. — Отчим сразу найдет меня, и тогда совсем крышка. Надо уезжать. Сейчас на вокзал подамся. На бочкаре или товарняке укачу куда-нибудь.
Валентину было жаль расставаться с другом, а тем более отпускать его одного, без копейки денег, в неизвестное.
— Если так, то и я поеду с тобой, — заявил Валя.
— Тебе-то зачем бежать? — удивился Миша. — У тебя дома все в порядке.
— Ради дружбы! — ответил Валя. — Отец мой всегда говорит: «Сам погибай, а товарища выручай!» Так что едем вместе.
Ребята начали совещаться, куда уехать.
— Давай на Кавказ двинем! — предложил Валя. — Отец рассказывал мне, что в Минеральных Водах есть гора Кинжал. Называется она так, потому что на ее вершине зарыт золотой кинжал в ножнах, усыпанных драгоценными камнями. Сто лет тому назад его зарыл там знаменитый абрек. Найдем этот кинжал, продадим, тогда уходи от своего отчима навсегда, ну его! Денег у тебя будет много, сможешь жить один, учиться!
План, предложенный Валентином, захватил Мишу.
Сказано — сделано. Валя тайком пробрался домой, прихватил старую одежду старшего брата и вернулся к другу, на берег Кубани. Одежда пришлась Мише впору.
В тот же день друзья покинули город. То на площадках цистерн, то в товарных вагонах, то даже в «собачьих ящиках» под пассажирскими вагонами они все же добрались до Минеральных Вод. Первым делом, конечно, слазили вдвоем на гору Кинжал, но напрасно: золотого кинжала не нашли.
Ребята приуныли. До этого все шло строго по великолепному плану, и вдруг полнейший крах. Неизвестно, какие мытарства довелось бы испытать беглецам-кладоискателям, если бы их не задержала милиция…
Чувство товарищества, руководившее в этом случае Валей, смягчило мой гнев. Я не наказал его, но тут же взял с него честное слово, что впредь он никогда не будет поступать так опрометчиво и никогда больше не будет приносить нам подобных огорчений.
— А с Мишей как же? — спросил Валя. — Ведь ему теперь не будет житья дома.
Я пообещал поговорить с родителями Панкратова, в первую очередь с его отчимом, чтобы тот относился к пасынку по-человечески.
— Не поможет это! — сказал Валя.
— Поможет! — заверил я его. — А если не подействуют мои слова, то найдем управу на грубияна через милицию и горсовет.
Весной, в пору буйного цветения садов, Женю приняли в комсомол. Помню, вечером мы с нетерпением ждали его возвращения из райкома. Геля испекла сладкий пирог, празднично накрыла стол.
— Какой сегодня праздник? — допытывался маленький Геня, наблюдая за всеми этими приготовлениями. — Первый май? Да?
Валя подхватил его на руки.
— Нет, малыш, не май. Брата нашего Женю в комсомол принимают! Понимаешь, в ком-со-мол!
В это время на пороге появился Женя, раскрасневшийся, сияющий.
— Бот, папа, смотри! — Он протянул мне комсомольский билет. Мы обняли Женю.
— Поздравляю, сынок! — промолвила взволнованно Геля.
Валя тормошил брата, кричал:
— Ура! Наш Женька комсомолец, ура!
Геня тоже кричал «ура» и заливался громким смехом.
— Ох, и волновался же я, — рассказывал Женя. — Поначалу казалось, что все слишком уж строго смотрят на меня, но секретарь райкома оказалась доброй, веселой.
— Разве секретарь девушка? — удивился Валя.
— Вот чудак! Что же тут удивительного? — пожал плечами Женя.
— О чем же она спрашивала тебя?
— Говорит мне! «Школьный комитет комсомола дал тебе хорошую характеристику. А теперь скажи, почему ты хочешь быть комсомольцем?» Я ответил: «Комсомольцы — самые передовые ребята, помощники партии, и я хочу в рядах Комсомола помогать партии и народу строить новую жизнь». Потом она про пятилетку спрашивала. Я все рассказал.
— На стройку просился?
— Конечно! Как только получил билет, говорю: «Прошу меня как комсомольца послать на любое, самое трудное строительство».
— А она что?
— Спрашивает: «Ты с речью Ленина на Третьем съезде комсомола знаком?» — «Знаком», — отвечаю. «О чем говорил Ильич в этой речи?» — спрашивает. «Что комсомольцы должны овладеть наукой, учиться!» — ответил я. «Правильно! — сказала она. — Вот ты и должен в первую очередь овладеть знаниями. Будешь хорошо учиться, будешь хорошим комсомольцем, тогда и пошлем тебя куда нужно!»
Мы переехали в Краснодар. Сыновья наши быстро росли. В семье, конечно, не обходилось без маленьких огорчений, но радостей и согласия было больше, чем огорчений…
После окончания средней школы Евгений поступил в химико-технологический институт. Младший, Геня, учился в школе, а Валентин, подготовившись за семь классов, сдал приемные экзамены и был принят в учебный комбинат Ростсельмаша, на отделение инструментальщиков, где работал и учился. Жил он не с нами, в Ростове.
Как-то в середине лета Валя приехал к нам в Краснодар. Все, разумеется, рады его приезду. Мать старается его подкормить, братья не отходят от него — соскучились. А Валентин непохож на прежнего, будто подменили его. Нет в нем былой веселости, живости, ходит скучный, старается уединиться. Уйдет с утра на Кубань. вернется только к вечеру.
Причина его угнетенного состояния вскоре выяснилась. Мне-то он побоялся сказать, а матери и старшему брату признался, что бросил учебный комбинат. Подбил его один парень поехать на работу в совхоз мастером-инструментальщиком. Валя загорелся: наконец-то до «самостоятельной» работы дорвался! Проработал он в совхозе немногим больше двух месяцев, потом начались у него там какие-то недоразумения, неполадки. Хотел было вернуться в Ростов продолжать учебу в комбинате, а его уже отчислили оттуда. Вот он и подался домой, не зная, как быть и что делать дальше.
Женя, услышав его покаяние, возмутился:
— Какой же ты комсомолец после этого? Ни дисциплины, ни порядка. Надо же придумать такое: сбежать из училища! Позор!
Валя побледнел.
— Я не сбежал. Заявление там мое есть: просил, чтоб отпустили. Хотелось на работе себя показать. Но теперь вижу: совершил ошибку.
— Глупость это несусветная, а не ошибка, — бросил Женя.
— Пусть даже глупость, — покорно согласился Валентин и, помолчав немного, добавил с огорчением: — Но я не думал, что станешь хлестать меня так. Рассчитывал на твою помощь и поддержку. Все выложил тебе начистоту, а ты…
Он умолк, отвернулся.
Женя почувствовал, как остывает гнев.
— Да ты, пожалуй, прав, — кивнул он. — Возмущаться и отчитывать, конечно, легче, чем помочь. Но вот как помочь тебе? По-моему, ты должен рассказать обо всем отцу. А потом тебе надо как-то искупить свою вину. Так ведь?
— Так!
— Хочешь, я поговорю с отцом, если ты не решаешься? — предложил Женя.
Валентин протестующе мотнул головой.
— Нет, я сам…
Об этом разговоре между братьями я узнал от Гели. Горько и обидно стало мне, что Валентин не откровенен со мной, хуже того — боится меня. Но виду, что мне уже все известно, я не подал, решил подождать, пока Валентин сам поговорит со мной.
В тот день после обеда я лег немного отдохнуть, лежал, а сам прислушивался к шагам на террасе, ждал, что на пороге вот-вот появится Валентин.
Мои ожидания оказались ненапрасными.
Вошел Валентин, остановился у двери.
— Папа, мне обязательно нужно поговорить с тобой, — произнес он негромко, но твердо, не пряча от меня глаза.
— О чем же это? — спросил я, выжидательно глядя на него.
И Валентин поведал мне неприятную историю, приключившуюся с ним. Нелегко было ему рассказывать. Голос его то и дело срывался от волнения, но лицу катились крупные капли пота.
— Я очень виноват перед всеми вами, — сказал он в заключение. — Мне стыдно и горько за свой необдуманный и опрометчивый шаг.
— Да, дело действительно серьезное! — проговорил я после долгой и, видимо, очень мучительной для Валентина паузы. — Ты виноват не только перед нами. Ты запятнал комсомольскую честь…
Валентин опустил голову.
— Я понимаю, папа! Об одном прошу: прости меня! Я сделаю все, чтобы смыть с себя позорное пятно.
Прошло недели две.
Однажды после вечернего чая Валентин снова заглянул ко мне в комнату.
— К тебе можно, папа?
— Опять что-нибудь случилось? — спросил я.
— Нет, нет, — улыбнулся Валентин. — Хочу посоветоваться. Работа нашлась, не могу без дела сидеть… — И он рассказал, что встретился на пристани с одним знакомым из Ростова и что тот уговорил его поступить учеником механика на пароход.
— А не сбежишь ли ты и с парохода, как с комбината? — спросил я колко.
Мои слова задели Валентина за живое.
— Значит, ты не веришь мне? А вот я докажу, что стану хорошим моряком.
— Что же, собственно, привлекает тебя в профессии моряка?
— Все! — выпалил Валентин. — Это смелые, отважные, сильные люди. И жизнь у них интересная. Плавают по всем морям и океанам, в далеких странах бывают.
— Но ведь они не туристами плавают, — напомнил я. — Труд моряка тяжел, сопряжен с опасностями.
— Знаю, — кивнул Валентин. — Я уже все обдумал и ничего не боюсь. И потом ведь я не палубным матросом буду, а при машинах.
Мы не заметили, что в саду, у раскрытого окна моей комнаты стоял Женя. Он слышал наш разговор и неожиданно для меня и Валентина, усевшись на подоконник, сказал:
— Я, например, одобряю выбор Вали. Думаю, что ты, папа, разрешишь ему учиться на судомеханика.
Валентин благодарно улыбнулся брату за поддержку и снова просительно обратился ко мне:
— Ну, так как, папа?
— Обсудим все на семейном совете, тогда видно будет! — ответил я.
Через неделю Валентин снова отправился в Ростов-на-Дону и поступил учеником механика на каботажное судно «Талла». Это был незавидный пароходишко — старый, облупленный, с хриплым гудком, В дальние страны он, разумеется, не плавал, а ходил только в порты Азовского моря и крымского побережья. Но Валя был счастлив; ему очень хотелось хорошей работой оправдать себя в наших глазах.
Геля сердилась на меня за то, что я отпустил его в море.
— Можно было бы получше и, главное, поспокойнее устроить судьбу нашего мальчика! — сказала она мне с упреком, когда Валентин написал нам о своем зачислении в команду «Таллы». — Не зря ведь говорят: «Кто в море не бывал, тот горя не видал». Теперь я все время буду волноваться о Вале…
Волновался, конечно, и я, но скрывал от нее свои тревоги и опасения. Знал, что Валентину будет трудно, и в то же время считал, что суровая жизненная школа при его беспокойном характере пойдет ему на пользу. Валя выносливый, настойчивый и волевой юноша, и поэтому меня не оставляла уверенность в том, что он сумеет найти свое место в жизни.
Я не ошибся. Как ни тяжело бывало порой Валентину, он ни разу не подумал списаться на берег и работал на новом месте с увлечением, брался за любую, даже самую черную работу. Заменял кочегаров, вместе с матросами драил палубу шваброй, но основное рабочее время проводил у машин и, как неплохой слесарь, помогал машинистам в текущем ремонте двигателей. Старший механик по достоинству оценил его пытливость, старательность и рабочую сметку и постепенно стал поручать ему работу машиниста. В следующую навигацию Валентин уже плавал третьим механиком, хотя в ту пору ему было всего шестнадцать лет…
С нетерпением все мы ждали его приезда на первую побывку. И вот он появился перед нами — с сундучком, в котором лежали подарки для всех: матери — шкатулка, оклеенная ракушками, мне — термос, старшему брату — книга Грина «Алые паруса», младшему — «матросский» нож. Честно говоря, это был обыкновенный перочинный нож, но стоило Валентину сказать, что нож матросский, как он сразу приобрел в глазах Гени новые, неоценимые качества.
Рассказам не было конца. Геня не отходил от нашего «морского волка». Еще бы! Валентин был участником таких необыкновенных приключений!..
Как-то ночью «Талла» стояла у берега. На большом судне, шедшем в это время по реке, неожиданно лопнула цепь рулевого управления. Вильнув в сторону, судно со всего хода наскочило на маленькую «Таллу», и та сразу начала тонуть. Изо всей команды в момент аварии на «Талле» были только Валентин и двое матросов, остальные ночевали в городе.
Спасаясь от духоты, Валентин перебрался спать из кубрика на палубу. Очнулся он уже в воде, куда его сбросило сильным ударом. Валя обо что-то расшиб себе голову и едва не захлебнулся. Вынырнул на поверхность и увидел, что «Таллы» нет: она лежала на дне, и только ее труба и мачты торчали из воды. Кругом тьма, какой-то грохот, мечущиеся по волнам блики отраженных береговых огней. Валентин закричал. Его тотчас же заметили с судна, потопившего «Таллу», вытащили на палубу. И тут он вдруг вспомнил, что в кубрике «Таллы» остались два матроса — его товарищи. Забыв о голове, не раздумывая, он тотчас же ринулся за борт, добрался под водой до кубрика «Таллы», из последних сил схватил одного матроса, потерявшего сознание, и выплыл с ним на поверхность; затем, немного отдышавшись, снова нырнул и вытащил тело второго матроса, убитого при столкновении пароходов…
«Таллу» вскоре подняли из воды. Команда приступила к ремонту, но Валентину уже не пришлось плавать на ней. В награду за смелый поступок управление речного пароходства выдало ему премию и перевело его на большой пароход «Феодосию» вторым механиком…
На следующую побывку он приехал к нам через год. Это уже был настоящий моряк, крепкий, мужественный юноша, выглядевший не по годам взрослым. Забавно было смотреть, как солидно сидит он за обеденным столом, положив на него загорелые мускулистые руки. Из-под расстегнутого ворота рубахи видна полосатая тельняшка, плотно облегающая широкую грудь. В правой руке коротенькая трубка, набитая душистым табаком.
Против него, подперев голову руками, сидит Геня и будто завороженными глазами, раскрыв рот, глядит на брата, слушает его рассказы о службе на «Феодосии».
— Мама, разреши закурить! — спрашивает Валентин.
— Кури уж! — отвечает Геля. Она недовольна, что он пристрастился к табаку, но тут уж ничего не поделаешь. А Валентину очень к лицу эта прокуренная, видавшая виды трубка, подаренная ему старым моряком — боцманом «Феодосии».
Валентин закуривает. К потолку поднимаются белые колечки дыма.
— Так вот, значит, навигация подходила к концу, — продолжает Валентин свой рассказ, посасывая мундштук трубки обветренными губами. — Получили мы распоряжение идти на зимовку. «Феодосия» вышла в последний рейс — из Керчи в Ростов. Тяжелый был рейс. Ты, Генка, и представить себе не можешь, каким лютым бывает ветер. Будто ножами режет лицо, руки, насквозь пронизывает. Палуба обледенела. Море — черное, гривастое, злое. И чем дальше от Керчи, тем хуже. Под Таганрогом море уже замерзло. Шли за ледоколом, прокладывавшим нам путь. Ветер свистит, завывает. Льдины бьются о борт, треск, скрежет. И вдруг слышим…
Валя делает паузу, раскуривает погасшую трубку. Геня от нетерпения ерзает на стуле, но не решается поторопить брата и только шмыгает носом.
— И вдруг слышим вой сирены! — продолжает Валентин. — А уже темно было: смеркается-то зимой рано. Сирена не умолкает, воет, воет, прямо за душу хватает вопль этот. Сигнал бедствия подавало небольшое суденышко. Затертое льдами, оно стало тонуть. Люди перебрались на лед, и только один старый механик остался на судне, у сирены. Как назло, ветер разъярился пуще прежнего, начал ломать лед.
«Феодосия» вовремя подошла к месту аварии. Задержись она немного — и было бы поздно. Весь экипаж «Феодосии» спасал людей, барахтавшихся в ледяной воде. Спасли всех, кроме механика, который пошел на дно вместе с судном.
— И ты тоже спасал? — спрашивает Геня.
— А как же! Смотреть мне, что ли, как другие спасают?
— Страшно было?
— Страшновато! — отвечает Валя. — Обвязали меня веревкой, спрыгнул я за борт. Льдины под ногами так и пляшут. Скользко, мокро, холодно. Один раз не удержался на ногах, ушел с головой под воду, а она, как кипятком, тело мое обожгла. Веревка оборвалась. К счастью, рядом был наш боцман. Услышал он мой крик и выхватил меня из воды.
— Я бы, наверное, сразу утонул, — говорит, поеживаясь, Геня. — Меня в холодной воде судорога за плечи хватает.
— Это потому, что ты слабенький! — Валентин обнимает брата сильной рукой. — Мускулы у тебя как у цыпленка. Куда это годится! Каждое утро обязательно делай гимнастику, тогда окрепнешь, наберешься силы и никакая судорога не будет тебе страшна.
Поплавав механиком на разных судах Азово-Черноморского флота, Валентин решил закончить техническое образование и поступил в машиностроительный техникум на Смоленщине, при Людиновском машиностроительном заводе.
Случилось так, что он опоздал к началу занятий в техникуме. Его приняли сверх нормы, но стипендию дать не могли.
Это не остановило Валю. Он, конечно, мог бы обратиться за помощью к нам, и мы с матерью помогли бы ему. Но самолюбивый юноша решил, что он сам сможет заработать себе на жизнь. Долгое время мы даже не знали, что он остался без стипендии. Много позже, когда я спросил его однажды, почему он скрыл от нас это, Валя ответил:
— Ведь тебе-то, папа, никто не помогал. Больше того, после смерти отца ты кормил мать и сестру. Ну а мне одному, молодому, здоровому, много ли надо? Вот и обошелся.
Пролетели годы учебы. Валентин получил диплом теплотехника и направление на работу: руководить монтажом новой электростанции в Белоруссии, недалеко от границы.
В те годы мы жили так, как и большинство советских людей: дружно, в полном достатке, весело, стараясь своим трудом сделать жизнь социалистической Отчизны еще более счастливой.
Разумеется, мы не были слепы и глухи к тому, что происходило за рубежами Советской страны — в мире, потрясенном войной, но в те дни мы едва ли представляли себе, сколь тяжкими будут испытания, через которые доведется нам пройти в ближайшее время…
Как сейчас помню утро двадцать второго июня 1941 года, утро, когда фашистская Германия бросила свои войска на Советский Союз.
Мне показалось, что небо сразу помрачнело и что солнце стало вдруг кроваво-багровым. Воздух, казалось, наполнился удушающей гарью военной грозы, уже бушевавшей на западных границах нашей страны.
— Война!
Здесь, в глубоком тылу, пока еще тихо. За окнами все так же звонко, безмятежно щебечут птицы, а там, на западе, враг топчет нашу землю. Там льется кровь наших людей.
Вечером собралась вся семья. Пришел Евгений с женой Машей. Я смотрел на самых близких, самых дорогих мне людей и думал, что ожидает каждого из них в ближайшем будущем.
— Где-то сейчас Валя? — тихо промолвила Геля.
Никто не ответил ей, но каждый думал о Валентине, о том, что, возможно, сейчас, находясь вблизи границы, он уже успел ощутить на себе смертоносное дыхание войны…
В ноябре гитлеровцы захватили Ростов-на-Дону. Угроза вражеского вторжения нависла над Кубанью.
Евгений, работавший инженером на комбинате «Главмаргарин», договорился с секретарем парткома о создании партизанского отряда из работников комбината для ведения миннодиверсионной борьбы в тылу врага. Горком партии предложил мне возглавить этот отряд, как имеющему опыт такой борьбы на Дону в гражданскую войну. Мы подбирали надежных людей, обучали их минному делу, готовили все необходимое для диверсионных действий на территории, оккупированной немецко-фашистскими войсками.
Вскоре гитлеровцы были выбиты Советской Армией из Ростова-на-Дону, но они укрепились на подступах к городу, и угроза их прорыва на Кубань осталась. Шли ожесточенные бои в Крыму. Учитывая эту обстановку на фронте, мы продолжали форсированными темпами готовить наш будущий партизанский отряд…
В ту пору в нашей семье нежданно произошло радостное событие: приехал Валентин.
Дело было под вечер, когда все мы случайно оказались дома. Смотрим, идет по дорожке сада к террасе военный — худой, загорелый, с вещевым мешком за плечами.
— Да это же Валя! — вскрикнула Геля и бросилась навстречу сыну.
Он обнял ее одной рукой, другая плохо слушалась его.
Много пришлось пережить ему за последние полгода, много тяжких утрат испытал он с начала войны. Уже находясь в действующей армии, он узнал, что фашисты дотла сожгли заводской поселок, где оставалась его семья. Тяжелым был и боевой путь Валентина. Не знаю, то ли ему просто везло, то ли слишком сильна была в нем воля к жизни, но ему всегда удавалось находить выход из самых затруднительных положений.
Чего только он не испытал, куда не забрасывала его солдатская судьба! Не раз был ранен, лежал в госпиталях. После очередного ранения ему дали кратковременный отпуск, и он отправился к нам.
Вечером мы сидели в комнате, служившей нам столовой и гостиной. Так, бывало, сиживали мы в мирные дни, когда случалось сойтись вместе. Сколько тогда было веселья, шуток, смеха!
Теперь мы слушали рассказы Валентина о его фронтовом житье-бытье.
А через неделю мы проводили его на фронт. Елена Ивановна слезинки не пролила, прощаясь с сыном.
Но, когда мы встретилась с нею взглядом, я понял, что стоило ей сдержать слезы.
Валентин писал нам довольно часто, затем, когда гитлеровцы захватили Краснодар и ринулись к нефтеносным районам Кавказа, наша переписка прекратилась. Мы всей семьей ушли с партизанами в горы.
В то время как мы, партизаны, уходили из Краснодара, погрузив на тракторный прицеп последнее партизанское имущество, в городе громыхали взрывы: подрывники нашего партизанского отряда под руководством Ветлугина выводили из строя комбинат «Главмаргарин», другие подрывники — нефтеперегонный завод, электрическую станцию. Все это делалось по строго и точно разработанному плану.
У развилки дорог, где к шоссе вплотную подходит густой лес, группа легла в засаду. Евгений выставил в дозор сигнальщика, отправил в условленное место на шоссе одного партизана — в засаду. Чуть в стороне оставил группу прикрытия — на тот случай, если немцы, оправившись от первого удара, перейдут в наступление.
Кроме всех этих приготовлений, на шоссе был устроен завал из деревьев, а около завала партизаны выкопали большую яму и тщательно замаскировали ее.
Теперь оставалось запастись терпением и ждать.
Лежать и ждать было тяжело. Мучила жажда. Опали по очереди. И так — ночь, день, еще одна ночь. Стали уж подумывать о том, что фашисты отказались от попытки перевалить в этом месте через горы.
Утром сигнальщик передал сообщение о приближении неприятеля.
Первым показался броневик. Он шел на разведку. Идет и на всякий случай простреливает придорожные кусты из пулемета. За ним, чуть отстав, тяжело катились две трехтонные машины с автоматчиками.
Броневик проскочил вперед. Лес молчал… Вот появились трехтонки. Евгений и по его команде Геня быстро поднялись во весь рост и швырнули гранаты. Следом за гранатами в моторы машин полетели бутылки с горючим.
Взрывы, вспышки огня, трескотня выстрелов, крики…
Фашисты бестолково метались по дороге, пытались укрыться в кустах, куда тут! Их настигла у обочины дороги пулеметная очередь.
Броневик промчался вперед. За поворотом дороги его ждал завал. Пытаясь повернуть обратно, броневик застрял в яме-ловушке. У фашистского пулеметчика или кончилась лента, или что-то случилось с пулеметом. Броневик стоял в яме, накренившись набок, и молчал.
Тогда вступил в бой один из партизан, сидевший в засаде на шоссе. Он начал бросать из кустов бутылки с горючим в мотор, в башню, в смотровые щели.
Броневик окутался дымом, на нем появились языки пламени. Открыв дверцы, гитлеровцы выскакивали наружу и тут же падали, сраженные пулями…
Операция закончилась. Надо было спешно уходить. Со стороны Смоленской слышался гул приближающихся машин основного фашистского отряда. Позже разведка донесла нам, что фашисты повертелись, повертелись на месте боя, собрали убитых да и вернулись в станицу. Преследовать партизан они не решились…
Гул машин со стороны Смоленской нарастал. Геня не сводил глаз с машин, подбитых разведчиками: увезти бы хотя одну из них в лагерь!.. Впрочем, машины казались безнадежно изуродованными. А Евгений уже дал сигнал отходить.
Геня выбежал на дорогу, вывел моторы из строя, чтобы их не использовали фашисты, и бросился догонять своих…
Во время разбора первой боевой операции я отметил успех ее, но указал и на один важный недостаток.
— Должен поставить нашим разведчикам на вид серьезную ошибку, допущенную ими в сегодняшнем бою, — сказал я. — Можно ли было на полсотню немцев извести столько патронов, сколько извели сегодня вы? Этак через месяц-другой придется ходить на операции с одними финскими ножами…
Евгений огорчился не на шутку: ведь и верно, об экономии боеприпасов он не подумал!
В боевых делах отряда важное значение имела хорошо организованная разведка. Добрую половину наших успехов надо отнести за ее счет.
Разведчиками руководил Евгений. Большую помощь разведке оказывал Геня. У него были свои «методы» да и свои возможности, подчас недоступные взрослым разведчикам.
Бывало, оденется как деревенский парнишка, пристроит на боку холщовую сумку, с которой обычно ходят пастухи, положит в сумку ломоть кукурузного хлеба и пару луковиц. Смотришь: будто бы и не Геня, а заправский станичный подпасок! Но у этого подпаска где-то хитро запрятан пистолет, с таким расчетом, чтобы его не нашли при обыске и чтобы он был под рукой.
Так, однажды нам стало известно, что гитлеровцы стягивают крупные силы в станицу Георгие-Афипскую, подготовляя переброску их к Новороссийску. В это время захватчики особенно зорко следили за всеми, кто появлялся в станице. И все-таки необходимо было уточнить полученные нами сведения. Кроме Гени, послать было некого. В разведку он отправлялся не один, а с Гришей — молодым пареньком из соседнего партизанского отряда.
Я строго-настрого наказал ребятам соблюдать осторожность.
Пропадали они три дня. На третий день глаза у Елены Ивановны стали красными… В ночь на четвертые сутки мальчики благополучно вернулись из Георгие-Афипской. Геня коротко доложил о результатах. На мой вопрос отвечал, что разведка прошла гладко.
Сведения были настолько важны, что мы ночью же переправили их высшему командованию.
Дней через пять, да и то случайно, от спутника Гени — Гриши я узнал во всех подробностях об этой разведке в Георгие-Афипскую.
Оказалось, разведка прошла далеко не так гладко, как можно было понять из краткого рассказа Гени. Не желая беспокоить мать, он о многом умолчал. К тому же он боялся, как бы ему не запретили ходить на опасные операции.
Дело было так.
Как всегда, из лагеря ребята вышли ночью. Идти по шоссе опасно. Отправились по проселочной дороге, что ведет с предгорий на равнину. Шли с оглядкой, то и дело останавливались, прислушиваясь к каждому подозрительному шороху.
На рассвете подошли к хутору Рашпилев. Здесь их остановил румынский патруль.
Обыск сошел благополучно. Начался допрос. Допрашивал румын, кое-как говоривший по-русски.
— Куда идете?
— Из Новоалексеевки мы. Скот туда гоняли по приказу господина коменданта.
— Кто такие?
Ребята, перебивая друг друга, стали называть имена станичников Георгие-Афипской, описывали их дома. Словом, привели столько мелочей и подробностей, что начальнику патруля надоело слушать. Он махнул рукой и приказал пропустить их.
В Георгие-Афипскую проникли осторожно, стараясь не попасть на глаза полицейским. Пробрались к друзьям.
К вечеру все стало известно: какие части прибыли в станицу, сколько там танков, машин, пулеметов, какого калибра орудия, где расположен склад боеприпасов. Геня даже зашел на железнодорожную станцию и побродил по путям, наблюдая, как и чем грузятся составы.
Из Георгие-Афипской вышли в сумерки. Пробирались задами, прислушиваясь к каждому шороху. Шли всю ночь. Когда подошли к Смоленской, близился рассвет. И здесь, у табачного сарая, ребята не убереглись. Раздался громкий окрик:
— Стой!
Ребята шарахнулись в сторону. Но было поздно: двое полицейских, лежавших в засаде, направили на них дула винтовок.
— Кто такие? Откуда? Почему шляетесь по ночам?
Ребята попытались вывернуться: у них-де пропали лошади, не свои, немцев, искали их всю ночь, не нашли, а теперь боятся идти домой — без коней в станицу возвращаться не велено.
Полицейских это не убедило.
— Руки вверх! Подходи по одному.
У Гени был револьвер — маленький бельгийский браунинг, который он раздобыл еще в Краснодаре. Геня долго возился с ним (револьвер требовал починки), набрал и патроны. Он гордился своим браунингом, который действительно бил неплохо.
Геня, незаметно зажав в правой руке маленький револьвер, поднял руки. Он подошел первым. Резко опустил руку — хлопнул выстрел, другой…
Полицейские упали. Один из них закричал, пытаясь подняться с земли, схватил винтовку. Ребята бросились в кустарник.
В станице поднялась тревога. В предрассветных сумерках замелькали огни, послышались крики, выстрелы.
Стреляли часовые, с околицы бил ручной пулемет. Фашисты кинулись в погоню. Пули свистели над головами ребят, а они неслись стрелой, падали, поднимались, снова падали и снова бежали, стараясь не отрываться друг от друга.
Что я должен был делать? Поругать Геню! Но он с Гришей совершил смелую диверсию. Население не только Смоленской, но и соседних с нею станиц воспрянуло духом: видно, сильны партизаны, если они бьют врага в самом логове его!
Но и хвалить ребят я остерегся. Спокойно выслушал рассказ Гени, а потом так же спокойно сказал:
— Вот и молодец, что донес мне о разведке со всеми подробностями! Поступай так и впредь!
Отважные краснодарские подпольщики сообщили нашему отряду через связных, что к фашистам прибыло свежее подкрепление для прорыва на Черноморье. Вскоре и наши разведчики донесли, что гитлеровцы восстановили железнодорожное движение между станцией Георгие-Афипской и Новороссийском. Ясно было: фашисты готовят большое наступление и вот-вот начнутся переброски под Новороссийск. Необходимо во что бы то ни стало сорвать планы захватчиков. И сделать это должны мы, партизаны!..
Послали командованию запрос с просьбой разрешить нам взорвать поезд на участке Северская — Георгие-Афипская. С помощью этой операции можно было бы, хотя и на время, преградить фашистам путь на Новороссийск.
С нетерпением ждали мы ответа. Евгений нервничал, волновался. Он считал, что задуманная нами операция с новой, сконструированной им и Ветлугиным автоматической миной, получившей у нас название «волчий фугас», должна определить всю дальнейшую работу нашего отряда. Теперь могла начаться новая работа в отряде: железнодорожные диверсии с применением усовершенствованной автоматической мины и, наконец, создание «минного вуза» для окрестных партизан.
Евгений мечтал сам заложить первую мину и увидеть, как впервые на Кубани взлетит на воздух фашистский поезд.
После болезни он был еще очень слаб, но я знал: ничто не удержит его.
Пятого октября мы получили разрешение на железнодорожную диверсию. Все у нас было готово: схема «волчьего фугаса» выверена, обязанности заранее распределены. В тот же день, поздно вечером, отряд минеров отправился в путь.
Нас было четырнадцать человек. Конечно, пошел и Евгений.
В лагере не знали, куда и зачем мы уходим: у нас не принято было много говорить о предстоящей операции.
Прошли годы, но я помню каждую минуту этой страшной ночи. Был холодный вечер. Мы вышли из леса. Впереди — разведка во главе с Евгением, по бокам — дозорные, сзади — прикрытие.
Перед нами открылось поле — голое, неприютное. За ним, чуть различимое в сумерках, темной лентой тянулось железнодорожное полотно с высокими тополями по бокам. За полотном — шоссе и дорога.
Неожиданно в стороне, над станицей Георгие-Афипской, а затем и над Северской, вспыхнул и мгновенно погас белый свет. Его сменил зеленый, потом красный. Огни перемежались, гасли, снова загорались. Было что-то зловещее, тревожное в этих быстрых разноцветных вспышках, озарявших низкое темное небо. Это действовал световой телеграф. Но разве могли мы отгадать, какое сообщение передают по линии фашисты?
Таинственная пляска разноцветных огней продолжалась минут пятнадцать. И все эти пятнадцать минут мы стояли неподвижно, молча всматриваясь в небо. Но вот «телеграф» перестал работать, и снова стало темно.
— Надо торопиться! — сказал Евгений. В голосе его послышалась необычная тревога.
Разведка вышла вперед — искать проходы в кустах терновника — и будто провалилась в сгустившуюся темноту.
Но вот у полотна заквакала лягушка: Евгений давал знать, что путь свободен.
Подошли к краю насыпи. На руках подняли на шпалы переднего. Он втащил другого. Каждый поднимался осторожно, стараясь не коснуться ногой песка насыпи. Тем же способом спустились вниз. Группа прикрытия расположилась в кустах. Дозоры заняли свои места. Минеры приступили к работе.
Через час мы должны были все кончить…
Помню, как Геня вместе с Янукевичем финскими ножами копали ямку на дороге. Землю Геня выгреб на разостланную стеганку, а лишнюю, собрав в шапку, унес и высыпал в кусты. Помню, как он стоял перед Янукевичем, протягивая ему минный ящик. Тот зарядил мину взрывателем и осторожно опустил в землю. Геня тщательно замаскировал ямку…
Потом, закинув карабин на плечи, Геня, веселый, оживленный, ходил по дороге, выполняя распоряжения Янукевича.
Он пробежал мимо меня к железнодорожному полотну, где работал Евгений, задержался на секунду, спросил:
— Ты не озяб, папа? Смотри не простудись…
На полотне, под рельсовым стыком, уже была вырыта ямка, и в нее уложены две противотанковые гранаты. Геня добавил свою, третью.
— Пусть и от меня фашисты получат подарок!..
Под шпалу, рядом с гранатами, легли толовые шашки. Евгений замаскировал полотно, подровнял и отделал насыпь «под елочку».
Мина на полотне была готова. Оставалось только выдернуть шпильку предохранителя. Это должен был сделать один из минеров, когда все отойдут в степь. Евгений поспешил на профилированную дорогу.
Я спокойно ждал, когда работа на дороге будет закончена.
Пока все шло так, как было задумано.
Шоссе решили не минировать — оно было так разбито, что фашисты им не пользовались.
«Закончим минирование дороги и отправимся в горы, домой», — думал я.
И вдруг со стороны Георгие-Афипской возник еле слышный в ночи звук. Он становился все громче. Быть может, самолет вылетел на ночную бомбежку?..
С каждой секундой шум становился отчетливее, яснее.
Поезд!
Из-за поворота, набирая скорость, под уклон на всех парах шел тяжелый состав.
Так вот о чем передавал своими разноцветными огнями «телеграф»! Фашисты пустили поезд не утром, а ночью!..
И это еще не все: по старому шоссе, очевидно, спутав его в темноте с профилированной дорогой, шли вражеские броневики, а по дороге тяжелые автомашины. Они приближались к нам.
Не теряя ни секунды, нужно было принять решение. Уходить в горы! Но в «волчьем фугасе» на полотне еще не была снята шпилька предохранителя. И шоссе было не заминировано…
Мимо меня стрелой пронеслись Евгений и Геня. Заряжая на бегу последние две мины, они побежали к шоссе. Быстро заминировали обе колеи и повернули к полотну.
Состав приближался. Видно было в темноте, как из поддувала паровоза вырвалось пламя. Слышался свист пара, размеренный стук колес…
Евгений и Геня бросились навстречу поезду.
— Что они делают? — крикнул над моим ухом Ветлугин. — С ума сошли! Остановите их!..
Поезд был уже в нескольких метрах от заложенной мины. Где было в этой спешке, да еще ночью, найти крошечную шпильку-предохранитель под рельсом в заложенной мине! И братья, не сговариваясь, решили поступить так, как только и можно было поступить в этой обстановке, — бросить противотанковые гранаты, чтобы ими подорвать мину и поднять поезд на воздух.
Не знаю, понимали ли они в ту минуту, что это грозило гибелью им самим? Думаю, что понимали. Не могли не понимать!
Я выхватил противотанковую гранату, побежал за сыновьями…
Поздно!
Одна за другой разорвались две гранаты. И тотчас же со страшным оглушительным грохотом взорвался «волчий фугас».
Огнем полоснуло по глазам. Обдало нестерпимым жаром. Перехватило дыхание. Взрывная волна, будто ножом, срезала крону тополя, стоявшего передо мной, отбросила меня далеко назад, придавила к земле.
И сейчас, через годы, вижу я, как лопнул котел паровоза, как паровозные скаты летели выше тополей, как, падая под уклон, вагоны громоздились друг на друга, разбиваясь в щепы, погребая под собой фашистов…
Громыхнул новый взрыв. На воздух взлетел броневик на шоссе. Объезжая его, ярко вспыхнул фарами и тут же взорвался второй.
Взрывы, взрывы, взрывы… грохот, огонь, дым… Мины взрывали машины на дороге, разбрасывая искалеченные тела гитлеровских автоматчиков.
Пылали обломки взорванного поезда, продолжали грохотать мины, но ждать больше не было сил. Ни секунды!..
Я бросился к полотну железной дороги. За мною бежали Ветлугин и Янукевич.
У полотна, освещенный заревом пожара, лежал под обуглившимися обломками мертвый Евгений. Друзья сейчас же подняли его, унесли.
А Гени я не видел… Где же он? Может быть, жив… Может быть, успел отбежать… Лежит где-нибудь раненый…
— Геня! — закричал я. Мой голос потонул в шуме разгоравшегося пожара, в криках раненых фашистов.
— Геня! — Я шел, спотыкался, падал и все звал: — Геня!..
…Нашел я его чуть поодаль в кустах. Тело было теплым…
Шевельнулась надежда: жив…
Поднял Геню, положил его руку себе на шею, как будто он мог еще обнять меня…
Я бережно нес его через минированную дорогу. Навстречу мне кинулся кто-то из партизан — хотел взять Геню. Не помня себя, я сказал:
— Уйди! Не отдам…
Подошел Ветлугин. В первый раз после того, как мы ушли из Краснодара, он назвал меня по имени:
— Петр Карпович, положите Геню рядом с Евгением…
За доблесть и геройство им было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Их подвигам посвящена моя трилогия «Записки партизана».
Останки Евгения и Гени были перевезены и погребены в освобожденном Краснодаре. Только тот, кто испытал подобные потери, сможет понять всю глубину нашего родительского отчаяния.
К счастью, весть о смерти Валентина оказалась ошибочной. В конце войны он вернулся домой.
В последующих главах излагаются записанные мной его рассказы о тех боевых делах, которые совершал он со своими друзьями-разведчиками во вражеском тылу.
Ведутся они от лица Валентина.
Глава 2. ВЕРОЛОМСТВО
На востоке, у самого горизонта, небо чуть посерело. Короткая июньская ночь шла к концу. С далекого озера повеяло прохладой. Чирикнула первая птичка в листве вяза, у окна маленького домика, в котором я жил.
Заводской поселок еще спал. Из зелени садов, раскинувшихся по обеим сторонам широкого шоссе, сонно выглядывали аккуратные домики. За поселком вплотную к шоссе подступали многоэтажные кирпичные корпуса заводских цехов. Окна верхних этажей уже загорелись желтоватым пламенем рассвета. Ночная смена кончала работу. Сегодня воскресенье, на заводе выходной день. Директор и главный инженер вчера с вечера уехали к семьям в районный центр. Мне же с бригадой слесарей-ремонтников надо было устранить кое-какие неполадки в паросиловом хозяйстве производства.
Накануне я получил письмо от родных из Краснодара. В июле отец и мать с семьей старшего брата Евгения и моим младшим братом Геней собирались на Черноморское побережье. Мой отпуск тоже приходился на июль, и я сразу же принял решение провести отдых в кругу родных и близких мне людей.
Конечно же, мое решение было встречено женой и дочуркой с большой радостью. Перед сном мы долго говорили о лазурных просторах Черного моря, о лесистых склонах могучих Кавказских гор, мечтали о походах в горы, о морских прогулках вдоль чудесного побережья Кавказа и даже начали прикидывать, что взять с собой в поездку на юг…
С мыслями о предстоящей поездке я и проснулся сегодня…
Над землей еще висела легкая дымка предутреннего тумана, когда из-за темной стены лесного массива, вздыбившегося на западном берегу озера, внезапно с надрывным прерывистым воем вынырнули самолеты. Поблескивая в лучах восходящего солнца, они огромной стаей летели на восток.
Я вскочил с постели, бросился к окну.
— Что это, Валя? — встревоженно спросила жена, разбуженная гулом.
Я не знал, что ответить, и продолжал наблюдать. Часть самолетов из числа тех, что замыкали строй, отделилась, свернула к заводу. Задирая хвосты кверху и словно падая, они один за другим ринулись вниз, на заводские корпуса, на окраину поселка. Не доходя до земли, самолеты резко взмывали вверх, а из-под них вылетали какие-то продолговатые предметы, похожие на черные капли. Бомбы!
Задрожала земля. Над поселком, как раскаты чудовищного грома, покатился гул взрывов. В небо гигантскими грибами взметнулись клубы черного дыма, смешанного с бурой пылью.
Я обернулся к жене. Она стояла у стены мертвенно-бледная, с широко раскрытыми от ужаса глазами и прижимала к груди дочурку.
— Скорее в погреб! — крикнул я ей.
Она, словно окаменев, не двигалась с места.
— Быстрее, быстрее! — повторил я. — Это вражеский налет, война, понимаешь?
Мне показалось, что она обезумела от страха. Схватил ее за руку, увлек за собой во двор и с силой втолкнул в погреб.
— А как же ты? — вскричала она, видя, что я не спускаюсь вниз.
Я ничего не ответил и бросился к шоссе. Со стороны завода и с западной окраины поселка, где сквозь дым прорывался трескучий огонь, по шоссе бежали люди. Их вопли тонули в грохоте взрывов и реве самолетов…
Еще задолго до этого кошмарного дня до нас доходили слухи, что «на той стороне очень неспокойно», что гитлеровцы сосредоточивают вблизи границы крупные воинские соединения. Зная об этом, командование советских войск не сидело сложа руки: в пограничные районы прибывали эшелоны с боевой техникой, с солдатами, над заводом и над поселком все чаще появлялись наши военные самолеты.
Мы тоже принимали меры оборонительного характера, готовили боевые группы самозащиты. На крышах заводских зданий устроили площадки для наблюдательных постов и связали их с заводским штабом телефонами. Не раз проводились пробные воздушные тревоги…
И все e не верилось, что именно так начнется война, что гитлеровцы коварно нарушат договор о ненападении и по-бандитски ворвутся в пределы нашей Родины.
Во время учебных тревог все у нас проходило гладко, слаженно. Но сейчас, когда рвались вражеские бомбы, когда земля сотрясалась от взрывов, сразу обнаружились многие пробелы в нашей подготовке. Повторяю, сделано было как будто и много, но вот защитных щелей так и не успели отрыть, и теперь люди бежали куда попало. На наших глазах рушился родной завод, горел поселок. Число первых жертв войны росло…
Не помню, как я очутился у заводской электростанции, которая стояла в стороне от главных корпусов завода. Из высокой трубы кочегарки еще тянулся в небо чуть заметный беловатый дымок.
К счастью, дежурные по электростанции и кочегарке оказались храбрыми и дисциплинированными людьми, не оставили своих постов.
Вбежав в кочегарку, я крикнул дежурному:
— Терентьев, давай сигнал сбора команд противовоздушной обороны! Надо организовать спасение пострадавших.
Завыла сирена. Ее пронзительное завывание поплыло над заводом и поселком. Люди, бежавшие к лесу, начали останавливаться, потом большинство из них торопливо двинулось назад, к заводу. А там уже действовали команды самообороны. Рабочие, служащие, домохозяйки вытаскивали из-под развалин раненых и погибших. Врачи и санитары тут же оказывали первую помощь пострадавшим.
На пороге машинного зала электростанции я столкнулся лицом к лицу с запыхавшимся дежурным вахтером.
— Валентин Петрович! — выпалил он. — Скорее на проходную. Звонят из райисполкома, требуют кого-либо из заводского начальства к телефону.
Я бросился к проходной.
— Кто это? — донеслось из телефонной трубки.
— Главный механик завода Игнатов! — ответил я.
— Как там у вас? Все еще бомбят?
— Улетели.
— Учтите, это не провокационный налет, это начало войны! — сказал председатель райисполкома. — Немецкие войска перешли советскую границу, и наши пограничники ведут тяжелые оборонительные бои. Немедленно приступайте к выполнению мобилизационного плана. Принимайте меры к спасению людей и заводского оборудования от повторных налетов.
— Есть выполнять мобилизационный план! — отозвался я.
Мобилизационный план! Это означало организовать немедленную эвакуацию всех ценностей и уничтожение того заводского оборудования, которое не удастся вывезти. Надлежало обеспечить отправку в тыл женщин, детей и стариков.
Все мужчины призывного возраста с этого момента считались мобилизованными в армию.
Увы, сделать удалось очень мало. К вечеру фашистские полчища, прорвав оборону наших войск, были уже в нескольких километрах от завода, перерезали железную дорогу, ведущую в тыл, и непрерывно бомбили все шоссейные и проселочные дороги. Пути эвакуации для жителей поселка были отрезаны. Вместе с другими женщинами и детьми, в надежде на то, что удастся все же прорваться сквозь вражеское кольцо, ушла в леса моя жена с дочуркой. Тяжело было прощаться с ними. Не знал я тогда, что разлучаюсь с семьей на долгие годы.
В эти тревожные часы мне поручили руководить специальной командой. Мы взорвали, чтобы они не достались врагу, заводские цехи, кочегарку, электростанцию. Затем мы влились в одну из отходивших воинских частей.
Так началась моя фронтовая жизнь.
Глава 3. В ГОСПИТАЛЕ
Август 1941 года.
За окнами госпитальной палаты стоит дымка туманного утра. Ночью была гроза — с гулкими раскатами грома, слепящими вспышками молний и шумным ливнем. А сейчас тишина, от которой, кажется, звенит в ушах.
В палате четыре человека, попавших сюда ночью из фронтового госпиталя.
Я лежу на койке у стены, отделяющей палату от коридора. Пытаюсь уснуть, но не спится. Изредка из коридора доносятся чьи-то осторожные шаги, будто там кто-то ходит крадучись, на цыпочках. Чуть поскрипывают соседние койки. Раненый, лежащий у окна, ворочается, то и дело стонет и непрерывно мнет рукой край одеяла. И лишь над одной койкой прокатываются рулады могучего храпа.
Но вот храп обрывается. Я отрываю взгляд от окна оборачиваюсь лицом в сторону притихшего храпуна: уж не плохо ли ему стало? Вижу, как из-под одеяла высовывается кудлатая голова с заспанными глазами. Потянувшись и громко зевнув, обладатель этой головы приподнимается на локоть и медленно переводит взгляд с койки на койку, будто внимательно изучая всех обитателей палаты.
— Что же это вы не спите, братцы? — спрашивает он басовито и, помолчав, добавляет назидательным тоном: — Для нашего брата, раненых, сон — первейший лекарь.
— Что верно, то верно, товарищ философ, — отзывается его ближайший сосед. — Но только под твое храпение вряд ли кто уснет.
— Эх, яблочко, неужели так сильно храплю?
— Как пикирующий «юнкере». Видно, глушитель у тебя отсутствует.
— А ты колючка! — Кудлатоголовый подмигивает соседу, добродушно улыбается. — Что ж, давай знакомиться. Колесов я, зовут Николаем. Рядовой сапер образца 1919 года, из Смоленской области. До войны — тракторист колхоза «Заветы Ильича».
— Ну а я Бодюков Борис, — коротко представляется его сосед, — фрезеровщик с бывшего Путиловского завода, ныне он заводом имени Кирова называется.
— Ленинградец, значит?
— Самый что ни на есть коренной.
От окна доносится приглушенный стон. Бодюков обеспокоенно оглядывается в ту сторону, спрашивает:
— Ты что, Вася? Может, болтовня наша мешает?
— Нет, ничего, — тихо отвечает бледный парень с койки у окна. — Это я неловко повернулся.
Я вижу, как его лицо перекашивается от боли и как он, пытаясь сдержать стоны, покусывает губы.
— Кто это? — перейдя вдруг на шепот, спрашивает Колесов у Бодюкова.
— Друг мой — Вася Рязанов, — объясняет тот. — Вместе нас в одном бою фашистской миной накрыло. Меня осколком в левую руку, а ему ногу покалечило…
Колесов поскреб пальцем заросший подбородок.
— Да, минометный огонь у немцев бешеный. Я ведь тоже под него угодил. Два осколка в паху застряло. Временами вроде и не чувствую их, а потом вдруг так резанут, окаянные, что глаза на лоб лезут.
Я слушал этот разговор, а перед моим внутренним взором вставали руины Смоленска, объятые огнем дома Ельни. Все случившееся было похоже на какой-то тяжелый, бредовый сон. Не хотелось верить, что и Смоленск и Ельня, как и сотни других русских городов и деревень, уже были захвачены врагом. Горьким укором звучали в моем сердце слова, сказанные сухонькой, морщинистой старушкой в одном из белорусских сел нам, бойцам, отходившим на восток: «Сыночки! Не оставляйте нас на горе и муки!» Но что мы могли сделать — я и мои товарищи? Мы защищали каждую пядь родимой земли, эта земля была пропитана нашей кровью, и, право, порой было легче смотреть в глаза смерти, чем видеть полные слез, укора и отчаяния глаза тех, кого мы оставляем врагу.
Около недели десятки рабочих завода — в их числе был и я — вместе с остатками стрелкового батальона бродили по лесам, прежде чем нам удалось прорваться к своим из вражеского окружения. Сначала меня направили в танковую часть, а потом в авиационное подразделение, где ощущалась большая нехватка в механиках. Там мне было присвоено звание младшего лейтенанта.
Внезапно нагрянувшие гитлеровцы не дали нам окончить эвакуацию аэродромного оборудования. С несколькими бойцами, оставив одну-единственную полуторку, я успел все же взорвать и поджечь склады с оборудованием. Но в последний момент, когда все уцелевшие и раненые бойцы уже были на машине, немецкий автоматчик сразил нашего шофера. Тогда я сам сел за руль и проселочными дорогами, минуя населенные пункты, занятые врагом, повел машину на восток.
Мотор полуторки то и дело капризничал. Особенно часто приходилось прочищать фильтр. Руки мои и рукава гимнастерки не просыхали от бензина. С большим трудом нам все же удалось добраться до передовых позиций наших войск, и тут со мной случилась беда. Вражеский истребитель попал зажигательной пулей прямо в бензобак, машина загорелась. Я попытался было сбить огонь, но он тотчас же охватил рукава моей гимнастерки и руки. С тяжелыми ожогами меня доставили в медсанбат, а оттуда сюда, в этот госпиталь, куда одновременно со мной поступили Колесов, Бодюков и Рязанов…
В девятом часу утра пришла пожилая медсестра.
— Ну как, товарищи, дела? — спросила она, проходя между койками.
— Дела как сажа бела, — откликнулся Колесов. — Все тут дырявые.
— Ничего, заштопаем! — весело сказала медсестра. — Сейчас начнется обход врачей. А пока давайте температурку проверим.
Обход совершал военврач первого ранга. Он был одновременно главным хирургом и главным врачом госпиталя.
Вместе с двумя помощниками он долго и внимательно осматривал Рязанова, Бодюкова, Колесова, затем подошел ко мне.
— Фамилия? — коротко спросил он.
— Игнатов, — ответил я.
— Ожог кистевых конечностей, — доложил дежурный врач, протягивая историю моей болезни главному врачу.
Тот приказал снять бинты с моих рук, осмотрел вздувшиеся пальцы, осторожно ощупал кисти.
— Резать не будете? — спросил я.
— Вам, младший лейтенант, повезло, — ответил он. — Еще немного, и остались бы калекой. Нельзя так наплевательски относиться к своим рукам.
Я хотел было возразить, рассказать, как все произошло, но врач не дал мне пуститься в объяснения, сказал тепло:
— Понимаю, видно, так уж сложились обстоятельства, но впредь рекомендую беречь руки от подобных прогреваний. Солдат без рук не солдат…
Обход закончился.
Сквозь серую пелену неба прорвались солнечные лучи, и несколько ярких зайчиков улеглось на полу, посредине палаты. От этих солнечных бликов будто стало светлее на душе.
— Вот, братцы, отлеживаемся мы здесь, а наши друзья где-то воюют и за себя и за нас, — промолвил Колесов задумчиво. — Скорее бы выбраться отсюда. Мне бы только от осколков избавиться, а там сбегу к дружкам-товарищам.
Вася Рязанов приподнял голову с подушки, взглянул на него.
— А ты, Колесов, должно быть, вообще веселый парень.
— Не такой уж я веселый, — отозвался Колесов. — Просто не привык унывать. Старшина есть в нашей роте, немолодой уже дядька, так тот ни пулям, ни снарядам не кланяется. Спросил я его как-то: «Уж не заговоренный ли ты, старшина?» А он отвечает: «Духом я крепкий, потому ничто не берет меня. И от любой раны выдюжаю. Это хлипкому от пустячной раны конец, а тот, кто духом крепкий, ни в каком пекле не пропадет…». Вот я и стараюсь быть таким, как наш старшина.
С минуту в палате дарило молчание.
— Боря, — окликнул наконец Рязанов Бодюкова. — Как думаешь, попадем мы обратно в свою часть?
— Все будет зависеть от положения на фронте, — сказал Бодюков. — Могут отсюда на распредпункт послать, а там уж — куда направят.
— Нет, дудки, я на распредпункт не пойду, — бросил Колесов. — Прямо отсюда на передовую деру дам.
— Без документов? Еще, чего доброго, за дезертира примут, — заметил Бодюков.
— Какой же я дезертир, если не в тыл, а к передовой пробираться буду, — ответил Колесов. — Только бы в свою часть попасть, а там и без документов примут. — И обратился ко мне: — Как ты полагаешь, Игнатов?
— Полагаю, что на войне положено беспрекословно выполнять приказы, — сказал я.
— Вижу, ты, младший лейтенант, дисциплинированный человек, — улыбнулся Колесов, — А посему быть тебе старшим в нашей палате.
— Такое выдумаешь? — запротестовал я.
— Как, братцы, быть Игнатову старшим? — обратился Колесов к остальным.
Бодюков и Рязанов поддержали его.
Колесов подмигнул мне.
— Решено, младший лейтенант! Подчиняйся большинству.
Рязанова принесли из операционной. Мы все с нетерпением ждали его возвращения, и теперь, едва ушли санитары с носилками, мы с Бодюковым подошли к его койке. Лицо Рязанова выглядело измученным. Видно, ему снова пришлось изрядно натерпеться боли, но сейчас он улыбался нам и сказал бодро:
— Кажется, все! Хирург говорит, что через две недели с моей ногой уже можно будет в футбол играть.
Бодюков потрепал здоровой рукой друга по плечу.
— Поздравляю, Вася! Пожалуй, нас выпишут вместе.
— И я не задержусь здесь, — вставил Колесов. — Пока врачи тянут резину с моей операцией, осколки, смотришь, и приживутся ко мне. Я уже почти не чувствую их. — Он откинул одеяло. — Эх, яблочко, надо проверить, как мои нижние конечности работают.
— Не смей! — сказал я ему предостерегающе. — Раз тебе запрещено вставать, значит, лежи!
Колесов отмахнулся.
— Брось, старшой. Это же они для перестраховки велели мне лежать.
Осторожно свесив ноги с койки, он оперся о тумбочку, стоявшую у его изголовья, и медленно встал.
— Вот видите, все в порядке.
И тут его лицо внезапно перекосилось от боли. В следующее мгновение он рухнул на пол, опрокинув тумбочку и ударившись затылком о железную спинку койки.
Я бросился к нему, подхватил его под плечи, но мои руки были бессильны.
— Санитар! Санитар! — закричал Бодюков.
— Санитар, скорее! — звал Рязанов.
Прибежала медсестра, затем появились два санитара и дежурный врач. Колесов был без сознания. По его лбу катились крупные капли пота. Ему сделали укол, привели в чувство и отправили в операционную. Как мы узнали позже, один из осколков впился в кровеносный сосуд, и, чтобы предотвратить внутреннее кровоизлияние, главный хирург решил оперировать Колесова без промедления.
Операция была тяжелой, длительной. Колесов потерял много крови. Наконец его, бледного, со взмокшими волосами и заострившимся носом, доставили обратно в палату. Прежде всего он попросил сигарету, закурил, а потом уж сказал:
— Эх, яблочко, ну и досталось же мне, братцы.
— Сам виноват, — заметил Бодюков. — Зря вставал.
— Э, нет, не зря! — покачал головой Колесов. — Переполошились медики и сразу от осколков меня избавили. Как говорится, не было бы счастья, так несчастье помогло…
Уже на следующий день он чувствовал себя неплохо и в обед справился с двумя порциями. Бодюков и Рязанов тоже не страдали отсутствием аппетита, а мне что-то не хотелось есть. Пузыри на моих руках и пальцах прорвались. В образовавшихся ранах появилось нагноение. Я приуныл.
Мое угнетенное состояние сразу было замечено Колесовым.
— Что это ты, Валентин батькович, скис? — спросил он.
— С руками плохо… Гноятся, — ответил я.
— Это пройдет! Раз гангрена миновала тебя, значит, считай, руки спасены. Вот попомни мое слово, вместе с нами выпишешься…
Действительно, через несколько дней нагноение исчезло и раны на руках начали затягиваться. Теперь и я вместе со всеми жил думой, как бы поскорее выбраться из госпиталя; Колесов и Рязанов, уже прогуливались на костылях по палате и ежедневно во время обхода врачей требовали, чтобы их скорее отправили в часть. Разумеется, и мы с Бодюковым, как «ходячие», требовали того же.
Как-то вечером к нам пришел комиссар госпиталя — высокий черноволосый мужчина с одной «шпалой» в петлицах. Лицо его было обезображено двумя шрамами, пересекавшими лоб, нос и щеку.
— Жалуется на вас медперсонал, — сказал он, садясь на табурет. — Бунтуете, чуть ли не в бега собрались… Так, что ли?
Вася Рязанов, чуть прихрамывая, подошел к нему без костыля, притопнул раненой ногой.
— Товарищ комиссар, видите? Нога как нога. Чего же меня мариновать здесь? У Бодюкова тоже порядок с рукой.
— Вы что, ходатай Бодюкова? — спросил комиссар.
— Из одной части мы, — объяснил Рязанов, — потому и говорю за себя и за друга.
— И верно, безобразие! — пробасил Колесов. — Надоело мне торчать здесь. Не выпишут — сбегу или пожалуюсь в штаб армии.
— А у меня совсем пустяк, — подал голос и я. — Руки уже работают как часы.
Комиссар молча выслушал нас.
— Признаться, мне не хотелось верить, что у вас так хромает дисциплина, — сказал он наконец. — Но, оказывается, жалобы врачей основательны. И уж кому-кому, а вам, Игнатов, как командиру, никак непростительно вести себя так. Придется вас всех усадить за изучение дисциплинарного устава Красной Армии.
— Вы не думайте, товарищ комиссар, что мы и впрямь несносные, — сказал Колесов. — Ведь мы как считаем: раньше вырвешься отсюда, значит, больше шансов в свою часть вернуться. Там же друзья, товарищи боевые, ну, вроде семья родная. Понимаете?
— Понимаю! — кивнул комиссар. — Я сам больше месяца пролежал в госпитале. До сих пор тоскую по стрелковому батальону, в котором сражался с первых дней войны. Перебросили его на другой участок фронта, а мне, как коммунисту, партия поручила работать здесь, в госпитале. Вот и работаю, выполняю приказ командования и партии.
Когда комиссар ушел, Рязанов сказал:
— Да, видно, не миновать нам распредпункта.
Колесов протестующе замотал головой.
— Нет, братцы, это дело неподходящее. Надо рапорт коллективный писать на имя начальника госпиталя и комиссара. Так, мол, и так, убедительно просим сократить срок нашего пребывания в госпитале и направить каждого, так сказать, по старой принадлежности, то есть в те части, откуда мы поступили на излечение.
Мы все горячо поддержали это предложение. Рапорт был написан, и я как старшой в палате вручил его вечером дежурному врачу для передачи начальству.
Потекли дни ожидания. Несколько раз Колесов порывался отправиться к начальнику госпиталя и потребовать немедленного ответа на рапорт. Мы удерживали его, доказывали, что подобная горячность может испортить все дело, что надо еще потерпеть немного.
— Эх, яблочко, сколько же можно ждать?! — возмущался Колесов.
Да, ждать было невыносимо. Радио ежедневно передавало о напряженных оборонительных боях, которые вели наши войска против гитлеровской орды, а мы были вынуждены сидеть в бездействии.
Прошло две недели.
Однажды утром нас поочередно стали вызывать в перевязочную, на комиссию. Кроме врачей и комиссара, там сидел еще какой-то военный, знаки различия которого не были видны из-за белого халата.
Тщательно осмотрев мои руки, проверив мое сердце и легкие, врачи направили меня к этому военному. Тот поинтересовался, откуда я родом, кто мои родители, чем я занимался до войны и в какой части воевал.
— Это из пятой палаты, — сказал ему комиссар. — Вот их рапорт.
Незнакомец взял наш рапорт, и, пока он читал, я разглядел черные петлицы со «шпалой» и эмблемой сапера на его гимнастерке. Это был военный инженер третьего ранга.
— Так, говорите, надоело лежать в госпитале? — спросил он меня с улыбкой.
— Невтерпеж уже! — подтвердил я.
— Опять на передовую проситесь?
— Только на передовую.
Примерно такой же разговор состоялся у него со всеми моими товарищами по палате.
— Уж не сватать ли нас прибыл этот сапер? — сказал Бодюков, когда мы вернулись к себе.
— Нет, братцы, это наш рапорт подействовал, — заверил нас Колесов. — Военинженер — представитель штаба армии. Его дело опросить нас и направить обратно в части.
— Он что, докладывал тебе об этом? — недоверчиво спросил Рязанов.
— Эх, яблочко, да я же стреляный воробей! — подмигнул ему Колесов. — Сразу вижу, что к чему.
Но вышло совсем не так, как предполагал наш «стреляный воробей». Комиссию мы проходили в субботу, а во вторник утром выписали троих: меня, Колесова и Бодюкова.
Рязанов остался в госпитале. Когда мы прощались с ним, он едва не расплакался.
— Ничего, Вася, крепись! — обнял его Бодюков. — Как только прибуду в часть, сейчас же упрошу командира, чтобы он вытребовал тебя из госпиталя. Как лучшему другу говорю: были и будем вместе.
В канцелярии, куда мы явились за документами, нас ожидал тот самый военный инженер третьего ранга, который присутствовал на комиссии.
— Ваши документы, товарищи, у меня, — объявил он. — Пойдете со мной.
Колесов шепнул мне:
— Ну, что я говорил? Сейчас на вокзал — и прямо на фронт.
Стоял теплый день. Ярко светило солнце. В изумрудной траве пестрели цветы. На душе у нас было радостно. Наконец-то мы вырвались из госпиталя, наконец-то нас отправляют к боевым друзьям-однополчанам. Город был незнакомый. Мы бодро шагали за военным инженером по улицам в полной уверенности, что следуем на вокзал.
— Ну, вот мы и прибыли! — огорошил нас сапер, остановившись перед длинным неказистым с виду зданием, над главным входом в которое висела вывеска: «Школа шоферов».
Мы растерянно переглянулись.
— Добро пожаловать, товарищи! — указал военный инженер на дверь.
— Что-то непонятное… — пожал плечами Колесов. — Вы же читали наш рапорт…
— Читал.
— Мы никакого отношения к шоферам не имеем.
— Знаю. Это довоенная вывеска, и пусть она не смущает вас.
Мы вошли в небольшой вестибюль, оттуда поднялись на второй этаж.
— Подождите здесь, — сказал сопровождающий. — Я доложу начальнику о вашем прибытии. — И он вошел в одну из комнат.
— Что же это такое, братцы! — недоуменно пробасил Колесов. — Куда мы попали?
— Я догадываюсь куда, — усмехнулся Бодюков. — Комиссар таки упек нас, а из нашего рапорта пшик получился…
В это время нас вызвали к начальнику этого загадочного учреждения, видимо, не случайно сохранившего довоенную вывеску. В просторном, хорошо обставленном кабинете все стены были обвешаны картами. За письменным столом сидел полковник — плотный, широкоплечий, с густыми бровями, из-под которых на нас глядели острые серые глаза. На его груди поблескивали орден Ленина, два ордена Красного Знамени и орден Красной Звезды.
«Вот это герой! Сразу видно — фронтовик!» — подумал я с уважением о нем, хотя меня несколько и удивляло то обстоятельство, что такой боевой командир находился здесь, в тылу.
Ознакомившись с нашими документами, в том числе и с рапортом, приложенным к ним, полковник окинул нас изучающим взглядом, затем сказал, лукаво сощурившись:
— Значит, воевать хотите? Ну что ж, будем воевать вместе и очень крепко. Правда, сначала вам придется подучиться хорошенько, потому что наш род войск имеет определенную специфику.
— Товарищ полковник, разрешите обратиться? — спросил я.
— Слушаю! — кивнул полковник.
— Мы все — фронтовики, — сказал я. — У каждого из нас имеется военная специальность, и мы еще раз просим откомандировать нас в те подразделения, где мы служили и сражались до госпиталя.
— Я вполне понимаю ваше стремление, — ответил полковник, — но командование сочло более целесообразным направить вас ко мне. Война есть война. Ее требования далеко не всегда совпадают с желанием того или иного человека, тем более военнослужащего, находящегося в действующей армии. Вы все закалены в боях, храбрости вам не занимать, ну а с дисциплиной, надеюсь, подтянетесь. Словом, вы вполне подходите для нашего рода войск. — Он обернулся к военному инженеру: — Вы еще ни о чем не говорили с ними?
— Нет. В мою задачу входило только доставить этих товарищей сюда.
— Ну и прекрасно, — улыбнулся полковник и снова обратился к нам: — Так вот, товарищи, нам нужны и механики, и танкисты, и саперы, и летчики. Понимаете, все, любой специальности. А воевать вам придется в тылу врага, далеко от передовой. И не просто воевать, а быть разведчиками особой авиадесантной части. Это очень, очень сложное дело, и далеко не каждому оно под силу. Прежде всего вы должны проникнуться чувством огромной ответственности перед Родиной и партией за то доверие, которое оказывается вам. Предупреждаю, если за время подготовки в ком-нибудь из вас обнаружатся качества, не отвечающие требованию нашей части, мы будем вынуждены откомандировать такого товарища. А сейчас вас устроят в общежитие, зачислят на довольствие и обеспечат всем необходимым. — Полковник поднялся, как бы давая понять, что разговор исчерпан.
Нам ничего не осталось, как откозырять и выйти в коридор.
Следуя за военным инженером, мы попали в большое светлое помещение.
— Это наш клуб! — объяснил провожатый.
Дальше шли классы для занятий и столовая. Потом начался коридор общежития. Здесь к нашему провожатому подбежал дежурный и громко отрапортовал:
— Товарищ военный инженер третьего ранга, курсанты находятся на занятиях. Никаких происшествий во время моего дежурства не случилось.
— Вызовите старшину и доложите майору Данильцеву, что в его группу прибыло пополнение! — распорядился наш временный опекун.
Вскоре явился старшина. Он отвел нам места в одной из комнат общежития, зачислил на довольствие, затем дежурный повел нас представлять руководителю группы — майору Данильцеву. Как раз был перерыв в занятиях. В коридоре у классов толпились курсанты.
Звонок, точь-в-точь как бывало в школе, возвестил о конце перерыва. Курсанты бросились в классы. Тем временем мы подошли к комнате, расположенной в самом конце коридора. Дежурный юркнул в дверь и, вернувшись через минуту, сказал:
— Заходите, майор ждет вас!
И вот мы предстали перед своим непосредственным начальником. Это был мужчина среднего роста, один из тех, о которых обычно говорят: «И ладно скроен и крепко сшит». Голубоглазый, со светлыми, коротко подстриженными волосами, еще сравнительно молодой, он обладал ничем не примечательной внешностью. На улице в толпе не сразу заметишь такого. Позже мы узнали, что он много воевал — в Испании, в Польше, в Финляндии — и заслуженно пользовался славой одного из опытнейших и бесстрашных разведчиков.
Майор занес наши фамилии в какой-то список, потом подробно опросил каждого о гражданской специальности, о месте работы и местожительстве до войны, о родителях, о составе семьи и о прохождении службы в действующей армии.
— Это, так сказать, сугубо предварительное знакомство, — сказал он, закончив опрос. — В процессе учебы и боевых практических полетов мы более основательно познакомимся друг с другом. Нам, голубым солдатам, выпала нелегкая судьба, но раз вы изъявили согласие вступить в нашу команду, то, надеюсь, не уроните звания авиадесантника, ничем не запятнаете знамя нашей части.
— Откровенно говоря, никто нашего согласия и не спрашивал, — заявил Колесов. — Как нам объяснили, мы попали сюда из соображений целесообразности.
— Люблю откровенность, — заметил майор. — Если вы, товарищ Колесов, не хотите стать авиадесантником, я могу походатайствовать, чтобы вас отчислили отсюда. Может быть, у вас со здоровьем не в порядке или нервы шалят? Уж не раньше ли времени выписали вас из госпиталя?
— Здоров я как бык! — буркнул Колесов.
— Словом, насколько я понимаю, вас не устраивает новое амплуа. Так, что ли?
— Я не говорил об этом.
— Но вы же сказали, что вас чуть ли не силком затащили сюда, согласия не спросив.
— Не спросили, но я считаю решение командования правильным.
— То есть целесообразным.
— Вот именно.
— Рад, что вы пришли к такому заключению, — сказал майор. — Наша служба особенно требует любовного, если хотите, то даже самоотверженного отношения к себе. Что, например, может сделать один боец, находясь на передовой? При всем желании не так уж много. А один опытный разведчик, попав в тыл врага, может подчас нанести огромный ущерб противнику, иными словами, сделать куда больше, чем десятки и сотни солдат на фронте. Разведчик в тылу врага — сам себе командир и исполнитель. Правильное решение — успех операции, ошибочное — провал порученного задания, а то и смерть. Вот такими бойцами-разведчиками, по существу, и являются наши голубые солдаты.
Майор понравился нам. В его тоне не было ни начальнических ноток, ни высокомерия. Говорил он с нами не как с подчиненными, а как старший товарищ, просто, по-дружески.
— Вопросы есть ко мне? — спросил он, как бы заключая беседу.
— Да вроде все ясно! — ответил за всех Колесов.
И тут Бодюков сделал шаг вперед.
— Товарищ майор, разрешите обратиться к вам с просьбой.
— Пожалуйста!
— В госпитале, где мы лежали, остался мой боевой друг Рязанов Василий. Нельзя ли вытребовать его сюда, к нам. Головой ручаюсь, он будет достойным голубым солдатом.
— Замечательный товарищ! — подтвердил я.
— Парень что надо! — добавил Колесов.
— Рязанов, говорите? — переспросил майор и записал фамилию нашего друга в блокноте.
Глава 4. УЧЕБНАЯ КОМАНДА
Мы — курсанты.
Несмотря на военное время, учебная программа обширна: топография, математика, специальные дисциплины, политическая подготовка и многое-многое другое. А сроки учебы очень сжаты. То, что в мирных условиях изучалось месяцами, теперь надо было усвоить в несколько дней, и нам приходилось заниматься с утра до вечера: слушать лекции, потом в часы самоподготовки сидеть за книгами.
Классные занятия подходили к концу, приближались зачеты. Дня уже не хватало. Повторяя пройденное, мы не раз просиживали ночи напролет.
Как-то утром в нашу комнату заглянул дежурный и объявил:
— Игнатов, Бодюков и Колесов к начальнику школы!
— Зачем это? — спросил я.
— Не знаю, — ответил дежурный. — Приказано вызвать, вот и вызываю.
Всполошились мы. С дисциплиной у нас было все в порядке, в учебе не отставали от других, а тут вдруг вызов к начальнику.
— Эх, яблочко, неладно что-то, братцы, — сказал Колесов. — Не к добру это…
— Не каркай! — оборвал его Бодюков.
— Может, откомандировать решили? — высказался я.
Словом, отправились мы к начальнику не без робости.
С минуту топтались у двери его кабинета, наконец Бодюков подтолкнул Колесова вперед.
— Стучи!
— Стучи сам!
— Тихо, вы! — шикнул я на них и, приоткрыв дверь, спросил: — Разрешите войти?
— Заходите, кто там! — откликнулся полковник.
Я широко раскрыл дверь, и… мы застыли на пороге от изумления, не веря своим глазам. У стола начальника стоял Вася Рязанов.
— Вот прибыл в мое распоряжение, — кивнул полковник на него. — Просится к вам в группу.
— И мы поддерживаем его просьбу! — от имени всех заявил Бодюков.
— Ну если так, то забирайте его к себе.
— Спасибо, товарищ полковник! — дружно выпалили мы.
Так бывшие обитатели палаты № 5 снова оказались вместе. В коридоре, подхватив Рязанова под руки, мы помчались в свою комнату. Тормошили его, засыпали вопросами, наперебой рассказывали о нашем курсантском житье-бытье.
— А наш оракул опять оскандалился! — бросил занозисто Бодюков в адрес Колесова. — Пророчил недоброе, а тут — радость.
Колесов добродушно отмахнулся.
— Сегодня по случаю прибытия Васи у меня отличное настроение и завести меня трудно…
Майор Данильцев зачислил Рязанова в нашу группу, но при этом сказал:
— Надеюсь, товарищи, что вы поможете вашему другу наверстать упущенное: ведь он очень отстал от вас в занятиях.
— Сделаем, товарищ майор! — пообещали мы.
Особое внимание курсантов обращалось на парашютное дело. От каждого требовалось знать глубоко теоретическую часть курса и затем в совершенстве овладеть техникой прыжков. В первые же месяцы войны погибло немало разведчиков и летчиков из-за плохого знания парашютного дела. Ведь достаточно неправильно приземлиться в тылу врага — скажем, сломать или вывихнуть ногу, — и, считай, операция сорвана. Бывало и так: во время приземления запутается десантник в парашютных стропах, отнесет его ветром далеко от заданного места посадки, и попадает он прямо в руки врага. Другой же во время прыжка растеряет снаряжение, оружие, а голыми руками задание не выполнишь.
Первые прыжки курсанты совершали с парашютной вышки. Мне хорошо запомнился тот день, когда мы отправились первый раз на тренировочные прыжки.
— Как бы не ударить в грязь лицом перед другими группами, — сказал я по пути к вышке.
Колесов насмешливо покосился в мою сторону.
— Слабинку почувствовал? Тогда не лезь первым. За мной прыгать будешь.
С земли вышка казалась совсем невысокой. Несколько минут мы наблюдали, как прыгали курсанты других групп. Не успеет человек спорхнуть с края площадки, а под ногами уже земля. Один на корточки садится, другой на бок валится. Забавно было смотреть на них со стороны.
Наконец настал наш черед.
Поднялись на вышку. Там нас ждал инструктор. Внизу, в кругу командиров других групп, стоял майор Данильцев.
— Кто желает первым? — обратился к нам инструктор.
— Давайте я, — вызвался Колесов.
Инструктор помог ему надеть лямки, подвел к краю площадки. И тут Колесов вдруг попятился, повернул к нам побледневшее лицо и пробормотал чуть слышно:
— Эх, яблочко, страшновато, братцы! Сердце заходится.
— Товарищ инструктор, разрешите мне, — поднял руку Бодюков. — Слабак наш Коля.
Колесова будто кипятком ошпарило.
— Это я слабак? — гаркнул он, гневно взглянув на Бодюкова. Не успели мы и глазом моргнуть, как он очутился на краю площадки и ринулся вниз.
Следующим прыгнул Бодюков. Внешне он держался молодцом, но я все же заметил, как напряженно сжались его губы и как подрагивали его руки, когда он надевал лямки.
И вот я стою на краю площадки. Глянул вниз — дух замер.
Как-никак высота около пятидесяти метров. Из-за спины доносится голос инструктора:
— Не смотрите вниз. Старайтесь не прыгать, а падать, не так стропами рванет.
Я медлю. Стараюсь взять себя в руки, подавить страх и мысленно твержу: «Смелее, смелее! На тебя смотрят десятки глаз, твои товарищи! Ну, пошел!»
И, зажмурив глаза, я повалился на бок, в пустоту. Сердце, казалось, обрывается. Слышу, снизу кричат:
— Ноги! Ноги!
Вспомнил: надо поджать ноги, чтобы спружинить удар о землю.
Все в порядке: я цел, невредим, сердце на месте, а в душе какой-то подъем. Скинув стропы, подхожу к майору Данильцеву, рапортую:
— Товарищ майор, младший лейтенант Игнатов совершил первый тренировочный прыжок.
Не ударила наша группа в грязь лицом: прыгала не хуже других. В тот день только и было разговоров что о прыжках: делились первым опытом, спорили, подтрунивали друг над другом. Теперь тренировочные прыжки с вышки совершались ежедневно — днем, ночью, в любую погоду.
Наконец пришла пора распроститься с вышкой и перебраться на самолет. Если раньше над нами висел раскрытый купол парашюта, привязанный, к консоли вышки, и до земли было всего-навсего пятьдесят метров, то теперь свернутый парашют лежал в чехле за спиной курсанта, а между самолетом и землей зияла километровая голубая пустота — манящая и пугающая. Надо было прыгать в эту пустоту, владеть собой во время стремительного падения, чтобы не растеряться, не забыть того, чему тебя учили еще на земле.
Помню, как, оторвавшись впервые от самолета, я сразу же рванул вытяжное кольцо парашюта и, ожидая с: замирающим сердцем, когда же мое тело будет подхвачено: стропами, едва не потерял сознания от мысли, что парашют может не раскрыться. Но, как только я повис на стропах и увидел над головой белоснежный шелк спасительного, сверкавшего на солнце парашюта, чувство страха мгновенно сменилось восторгом, чудесным ощущением медленного падения. В те минуты я искренне пожалел, что до войны Не занимался парашютным спортом, опасным, рискованным, но вознаграждающим отважных и смелых людей блаженством полета, когда кажется, что за спиной у тебя выросли невесомые могучие крылья. Помню, я что-то радостное кричал Бодюкову, висевшему в небе левее и выше меня. Борис мне махал рукой и громко пел:
Все выше, и выше, и выше Стремим мы полет наших птиц.А еще левее вслед за нами спускались Колесов и Рязанов…
В программу парашютной практики входили как одиночные, так и групповые прыжки — простые и затяжные, в любую погоду и большей частью ночью. Группа майора Данильцева заняла по парашютным прыжкам первое место в соревновании с другими группами.
Но если с прыжками мы шли впереди, то в практических занятиях разведывательного характера нам прямо-таки не везло.
Однажды нам поставили такую задачу: пробраться к штабу «противника», бесшумно снять часовых, ворваться в штаб и, захватив документы, скрыться без боя. Место расположения «вражеского» штаба было отмечено на карте, и нам надлежало прежде всего отыскать этот объект на местности. Роль «противника» исполняли другие курсанты, высланные заранее для охраны мнимого штаба.
Ориентируясь по карте, мы отправились разыскивать населенный пункт и тот дом, где по сведениям разведки находился наш объект. Уже садилось солнце, когда мы добрались наконец до небольшого села Антоновка. Сравнили карту с местностью. Все совпадает: и мелководная речка, и лес на правом берегу, и хата, стоящая на отшибе у дороги.
Подкрались мы поближе к этой хате, залегли в кустах и ведем наблюдение за «штабом» (в том, что перед нами заданный объект, сомнений ни у кого из нас не было). Лежим и ждем. Снаружи никаких часовых нет, из хаты никто не выходит.
— Эх, яблочко, хитрит противник, — сказал Колесов. — Выжидает, пока мы обнаружим себя. Но мы тоже не лыком шиты.
Бодюков все порывался подползти поближе к хате, чтобы в окно заглянуть, но я, как командир разведгруппы, не разрешал делать этого. Меня поддержали Рязанов и Колесов, особенно последний.
— Лежи и; не рыпайся, — буркнул он Бодюкову. — Сорвешь операцию, и нам не зачтут это задание. Придется из-за тебя все сначала повторять. И еще косточки промоют на разборе…
Наступили сумерки.
Мы уже начали было терять терпение, когда тихо скрипнула дверь и из хаты вышел мужчина.
— Ну, братцы, наша взяла, — шепнул Колесов. — Невтерпеж стало часовому в хате сидеть.
— Это же гражданский, — заметил Рязанов.
— Эх, яблочко, думать надо! Он: для маскировки переоделся, чтобы нас в дураках оставить, — сказал Колесов.
Бодюков взглянул на меня.
— Начнем, что ли?
— Давайте! — кивнул я.
Колесов и Бодюков бросились на «часового», заткнули ему рот, скрутили руки и оттащили в кусты.
— Есть, с одним управились! — доложил Колесов. — Теперь скорее в штаб, пока там не хватились часового.
Не теряя ни минуты, мы вчетвером ворвались в хату, заорали:
— Руки вверх!
Смотрим, какой-то странный «штаб». На столе коптилка. В комнате только женщины и дряхлый старик. Напутанные нашим криком, они словно замерли на местах. А старушка, лежавшая на печи, ну вопить:
— Рятуйте, люди, добрые! Рятуйте!
Тут и старик, опомнился, начал звать кого-то:
— Фимка! На помочь, Фимушка!
Поняли: мы что произошла ошибка. Опустили свои карабины, принялись успокаивать женщин и старика, а Бодюков кинулся за хату развязывать «часового», который: оказался инвалидом, хозяином хаты, тем самым. Ефимом, которого звал «на помочь» старик.
Я готов был со стыда сквозь землю провалиться перед этими людьми и дал команду «сматываться».
Часа два бродили мы потом в потемках, прежде чем отыскали вторую Антоновку, за рекой (благо старик подсказал). Нашли наконец и «штаб», но там уже никого не оказалось. «Противник», так и не дождавшись нас, ушел в школу.
Вот уж было смеху в классе, когда мы докладывали майору Данильцеву о случившемся.
— Плохо вы еще ориентируетесь по карте, товарищи, — сказал он. — Придется дополнительно заняться с вами. А пока за «блестящее» выполнение задания ставлю вам самую тусклую отметку, как говорится, кол с минусом.
Ничего не поделаешь: отметка была получена по заслугам.
А вскоре снова конфуз.
Поручили нашей группе взорвать «склад горючего», который сильно охранялся «противником». «Склад» этот представлял собой огромный старый пень некогда срубленного дерева. На этот раз мы безошибочно отыскали по карте место нахождения «объекта» в лесу. Несмотря на сверхбдительную охрану, нам удалось скрытно подползти к самому пню. Рязанов и Колесов были оставлены в дозоре, а мы с Бодюковым заложили под пень тол, вставили в заряд упрощенный взрыватель и, прикрепив к нему шнур, начали отползать в чащу. И тут Борису показалось, что шнур зацепился за что-то. Забыв о «вражеском окружении», он поднялся на ноги, чтобы приподнять повыше шнур, но оступился и полетел на землю, а падая, случайно дернул шнур. Раздался взрыв. «Склад» взлетел на воздух, нас осыпало землей и щепой. Надо ли говорить, что и мы, «разведчики», и «охрана» дали стрекача кто куда…
И опять нам пришлось при разборе этой «операции» краснеть за свою оплошность.
Немало времени в учебной программе было отведено специальному курсу, знакомившему нас со структурой гитлеровской армии. Мы изучали все рода войск противника, их тактику в наступлении и обороне, расположение тылов вражеских дивизий, корпусов, армий и фронтов. Немецкий язык нам преподавал пожилой майор — доцент филологического факультета Ленинградского педагогического института имени Герцена, окончивший в свое время Берлинский университет: Он же знакомил нас с формой немецких войск, эсэсовцев, с воинскими званиями вражеских офицеров, с документами, с наградами и деньгами врага. Что до немецкого языка, то мы, конечно, в короткий срок не могли освоить его глубоко, и наши познания в нем ограничивались только отдельными фразами, командами, окликами, зато остальная часть программы спецкурса была усвоена нами довольно основательно. По форме и погонам военнопленных офицеров мы безошибочно определяли, к какому роду войск они принадлежали и кто из них был, скажем, штурмбаннфюрером, кто просто войсковиком. Особенно мы присматривались к офицерам полевой жандармерии, охранных отрядов, к гестаповцам, то есть к тем. кто нес службу в тылах, с кем нам предстояло сталкиваться во время десантных операций.
Словом, прежде чем получить право называться настоящим голубым солдатом, нам, курсантам, пришлось изрядно попотеть в учебе.
Экзамены были очень строгими. В комиссию входили почти все преподаватели учебной команды во главе с полковником Тепловым и три представителя от штаба армии.
Каждой группе надлежало провести три зачетные операции: «разгром вражеского штаба», «налет на склад боеприпасов» и «минирование шоссейного или железнодорожного моста».
Все эти экзаменационные задания наша группа выполнила отлично. Никаких промахов, ошибок, конфузных происшествий. Прыгая с парашютами (причем прыжки были затяжные!), мы приземлялись в строго заданных районах, быстро отыскивали указанные на картах объекты, скрытно просачивались между дозорами «противника» и справлялись с заданиями в намеченные сроки.
Таким образом, мы стали полноценными голубыми солдатами, и нас вместе со всеми курсантами, выдержавшими выпускные экзамены, перевели в другое здание. Нашими непосредственными начальниками продолжали оставаться полковник Теплов и майор Данильцев, но теперь они готовили нас не к учебным заданиям, а к боевым авиадесантным операциям.
Мы с нетерпением ждали первого вылета в тыл врага. Однако этот вылет состоялся не так скоро, как мы надеялись.
Это, разумеется, не означало, что мы вели праздный образ жизни. Нам приходилось нести наряды в караульной службе гарнизона, выезжать на практические занятия, учить немецкий язык.
И все же очень тягостно было отсиживаться далеко от фронта, от действующей армии. Сводки Совинформбюро ежедневно сообщали неутешительные вести, от которых щемило в сердце и ныла душа. Немцы продолжали продвигаться вперед почти на всех. участках огромного фронта. Порой действительно казалось, что нет такой силы, которая могла бы остановить бронированные фашистские орды.
Из Краснодара я довольно часто получал письма от родных. Все они были настроены оптимистично и верили, что не за горами тот день, когда гитлеровская военная машина начнет давать перебои, а потом и заглохнет. Отец по-прежнему работал директором института, старший брат Евгений — инженером на Главмаргарине, Геня учился. Над ними небо было еще чистым, но дыхание войны, конечно же, уже ощущалось и на Кубани. Многие семьи получали похоронные, с продуктами становилось туже, через Краснодар то в сторону Новороссийска, то к берегам Азовского моря шли воинские эшелоны с солдатами и боевой техникой.
Как мне хотелось, чтобы пламя войны не коснулось никого из моих близких. Я все еще надеялся, что вот-вот получу из Краснодара весточку о моей жене и дочурке, именно добрую весточку.
Получали письма Бодюков и Рязанов. И лишь Колесов не получал. Когда мы читали письма, он уходил куда-нибудь. Его родные места и люди, близкие его сердцу, находились на оккупированной врагом территории.
— Скорее бы, скорее! — часто повторял он, как бы рассуждая вслух.
Мы понимали, что означало это слово. Его, как и всех нас, все сильнее тянуло на фронт, туда, где ни на мгновение не утихал гул страшных боев.
Поздней осенью школа разведчиков была переброшена в Подмосковье, где шли тяжелые бои с фашистскими армиями, стремившимися любой ценой захватить столицу нашей Родины до наступления зимы. Но наши войска стояли насмерть, и гитлеровцы уже не могли продвинуться ни на шаг вперед. А тут началась зима — вьюжная, с лютыми морозами, ледяными ветрами.
Однажды утром полковник Теплов вызвал меня к себе и нежданно-негаданно направил в полковую разведку (не в авиадесантную, а наземную).
«Неужели откомандировывает?» — подумал я и почувствовал, как от огорчения и обиды меня бросило в жар. Очевидно, по выражению моего лица полковник понял, что творится у меня на душе.
— Чем вы встревожены, младший лейтенант? — спросил он.
— Этим направлением! — признался я. — Ведь нас готовили не для полковой разведки.
— Ах, вот что! — улыбнулся полковник. — Рветесь в небо? Будет и это, не волнуйтесь. Но, поскольку вы офицер и поскольку вам предстоит командовать разведгруппой авиадесантников, я направляю вас для прохождения последней боевой практики к разведчикам пехотного полка. Побывайте с ними в тылу врага и познакомьтесь с условиями, в которых вам и вашей группе придется действовать в дальнейшем.
У меня сразу отлегло от сердца,
Глава 5. В ПОЛКОВОЙ РАЗВЕДКЕ
Передний край нашей обороны проходил у небольшого селения Барабаш — полуразрушенного, занесенного снегом. Приземистые хаты в нахлобученных снежных папахах были похожи издали на огромные сугробы, высившиеся по сторонам одной-единственной улицы, которая тянулась по пологому склону косогора.
В одной из этих хат и расположился наш взвод разведчиков, измерзшийся как нельзя больше во время ночной вылазки в тыл врага. Задание было выполнено: мы приволокли «языка» — матерого эсэсовца из штабистов. Дорогой ценой обошелся он нам. Погиб командир взвода лейтенант Минаков, погиб и общий любимец Вася Румянцев, пытавшийся унести тело убитого командира, а тяжело раненный и сильно обмороженный Сережа Жуков был отправлен в медсанбат. Что поделаешь, война не обходится без жертв.
«Язык» оказался стоящим. Командование вынесло нам благодарность за успешно проведенную операцию, и мы получили вполне заслуженный отдых. Командовать взводом начальник разведки поручил мне. Это назначение явилось для меня несколько неожиданным, и я, понимая всю тяжесть ответственности, ложившуюся отныне на мои плечи, вступил в новую должность не без трепета. Правда, людей во взводе было не так много, но все отличные бойцы. На таких можно было положиться не только как на опытных и отважных разведчиков, но и как на прекрасных, самоотверженных друзей. Все они одобрительно отнеслись к моему назначению на должность взводного. Это вселило в меня некоторую уверенность в том, что с их помощью я смогу заменить Минакова.
Перво-наперво мне, уже как командиру взвода, пришлось решать задачу, где расквартировать своих бойцов, в селении. К счастью, нашлась одна пустая хата, стоявшая на отшибе у дороги перед спуском в глубокую балку. Быстро и дружно мои хваткие ребята заделали досками и соломой проломы в стенах, дыру в потолке, затем раздобыли где-то дров. Бывший моряк Черноморского торгового флота Степанюк затопил большую русскую печь, вокруг которой сгрудился весь взвод. Сырые поленья плохо разгорались, шипели, дымили, я Степанюк едва успевал подсовывать под них солому.
— Подать еще охапку! — покрикивал он. — Нечего глазеть. Дуй, дуй, братва, на огонек.
— Каши мало ели, дуть нечем! — неслось в ответ.
— Вас накорми кашей вдосталь, тогда наш кубрик как бомба разорвется, — бросал Степанюк.
Огонь в печи постепенно оживлялся, дрова потрескивали веселее, и теплота все ласковее поглаживала задубевшие от мороза лица и руки бойцов.
— Молодец, Митя, — летело в адрес Степанюка. — Что значит — настоящий кочегар.
— А что? — отзывался моряк. — Вот ежели б эту хату сейчас на воду спустить, она у меня узлов бы двадцать в час перла.
И снова смех. А ведь что пришлось испытать этим людям прошлой ночью на жгучем ветру, в вихрях колючей поземки, под боком у противника, среди непроглядной, скованной леденящим морозом тьмы.
Когда в хате стало тепло, разведчики улеглись вдоль стен и у печки на соломе, застланной плащ-палатками. Степанюк забрался на печь и поманил меня рукой.
— Лезь сюда, Валентин Петрович. Будешь тут как на капитанском мостике, а я вроде за старпома буду.
Предложение было заманчивым, но я отказался от «капитанского мостика» в пользу двух молодых бойцов, изрядно простудившихся ночью и все еще зябко подрагивающих на соломенной подстилке…
В селении, кроме нас, стояли артиллеристы и саперы. По договоренности с ними я не выставил на день наружного поста у нашей хаты, и мы спали до вечера как убитые. Вблизи, то на косогоре, то в балке, по временам рвались одиночные снаряды, которыми гитлеровцы методически обстреливали наш передний край и ближайшие войсковые тылы. Но ребята не обращали внимания на этот обстрел. Разве кто чуть приподнимет голову при особенно сильном взрыве, ошалело поведет глазами по хате и, крепко выругавшись, снова нырнет под шинель. Сказывались не только усталость, но и привычка жить под огнем, рядом со смертью.
После ужина я составил график ночного дежурства и выставил наружный пост. Мороз крепчал. По косогору плясали снежные вихри, окутывая землю колючей ледяной пылью, сквозь которую едва-едва проглядывало черное небо с холодно поблескивавшими крупинками звезд. Порой из-за линии фронта, оттуда, где в морозной ночи лежало захваченное врагом село Веселое, ветер доносил какой-то лязг, надсадный рев буксующих в сугробах грузовиков и трескотню мотоциклов. Там, в нескольких шагах от дома, где расположился штаб немецкого стрелкового полка, мы захватили прошлой ночью «языка». Именно там, на южной окраине Веселого, пересеченной окопами вражеской линии обороны, сложили свои головы лейтенант Минаков и Вася Румянцев.
Гитлеровцы тогда внезапно появились перед нами из-за сугробов. И они и мы были в белых маскировочных халатах. Очевидно, неожиданная встреча с нами ошеломила их, и, воспользовавшись этой заминкой врага, Минаков первым ринулся вперед, на прорыв, строча из автомата. Мы прорвались, ушли, доставили «языка» и теперь сидели в теплой хате после плотного ужина, выспавшись вволю, а Минакова и Румянцева уже не было с нами.
Тяжко было думать об этой потере, очень тяжко…
В хату вошел связной из штаба полка, спросил с порога:
— Взводный здесь?
Я откликнулся.
— Полковник в штаб вызывает! — сообщил связной.
Разведчики всполошились: знали, ночью зря не вызовут командира.
Полковник Зимин прежде всего поинтересовался, как себя чувствуют бойцы взвода.
— Да вроде ничего, — ответил я. — Отогрелись, выспались.
Полковник швырнул в печь только что погасший окурок и, закурив новую сигарету, сказал:
— Думал я, Игнатов, больше времени отвести на отдых твоему взводу, но не получается. Опять вам придется в село Веселое идти. На этот раз, правда, уже не «в гости» к фашистам, а, как говорится, насовсем.
— То есть как это насовсем? — не понял я.
— А вот так, — весело прищурился полковник. — Пришла пора выкуривать гитлеровцев из Веселого. Сопоставили мы показания «языка» с разведсведениями, доставленными твоим взводом, и пришли к выводу: нечего больше выжидать. Ну, а вам, разведчикам, поручается особо ответственная задача — нанести неожиданный удар в спину врага в районе школы. Надеюсь, она, эта школа, хорошо знакома тебе…
В какое-то мгновение я мысленно перенесся на западную окраину Веселого, к высокому бугру, где скрещивались дороги, уходившие в глубокий тыл врага. На вершине этого бугра некогда стояло большое, просторное здание сельской школы. Фашисты разобрали деревянную часть строения, которая пошла на строительство блиндажей и на топливо. Остались только каменный фундамент да кирпичный цоколь. Отсюда, с возвышенности, просматривалось все село до самой передовой позиции. Первое время у противника на бугре находился наблюдательный пункт, но после того, как наши артиллеристы сбили его, гитлеровцы пошли на хитрость, создали видимость, что на высотке у них нет ни наблюдателей, ни огневых точек.
Командование полка провело разведку боем, и тут обнаружилось, что за кирпичным цоколем школы таились пулеметные гнезда противника, державшие под прицелом узкую балку, которая тянулась через все село и, пересекая нейтральную полосу, соединялась с другой поперечной балкой уже за линией нашей обороны, на подступах к селу Барабаш. Никаких оборонительных сооружений в балке у немцев не было. Очевидно, они целиком полагались на огневые точки, расположенные на высоте у школы.
Прошлой ночью, охотясь за «языком», я по поручению лейтенанта Минакова побывал с группой разведчиков на западной окраине Веселого. Так что школа действительно была хорошо мне знакома.
— Наступление решено вести по балке, — сказал полковник Зимин. — Но прежде надо парализовать огневые точки противника на бугре. Если это будет сделано, наши бойцы смогут сравнительно легко прорваться в селение и там сразу развернуться веером в обе стороны. Все капитальные укрепления фашистов на переднем крае останутся тогда позади и не будут представлять для нас особой опасности.
Я напомнил о том, что балка чуть ли не до середины нейтральной полосы буквально нашпигована немецкими минами.
— Саперы сделают все необходимое, — ответил полковник и тут же предупредил меня: — Но вашей группе придется идти в селение не по балке, чтобы немцы ни в коем случае не заподозрили, где намечается полоса прорыва. И, разумеется, нельзя переходить передовую в том месте, где прошлой ночью произошла Стычка: там наверняка теперь выставлены усиленные дозоры. Для выполнения задания подбери самых надежных людей из взвода и даже им до самого выхода на дело не говори о подготовке наступления и о том, что вам предстоит сделать в тылу врага. Завтра я пришлю к тебе командира саперного взвода. Вместе с ним выберешь место перехода.
— Когда намечается наступление? — спросил я.
— Об этом узнаешь завтра, к исходу дня, — ответил полковник. — Тогда же договоримся о некоторых деталях и, в частности, о сигналах. А пока готовься…
Возвращаясь из штаба, я перебирал в уме всех бойцов взвода, с тем чтобы отобрать лучших, но в конечном итоге пришел к заключению, что каждый из них достоин участвовать в операции. Все они были закалены в огне боев, не раз ходили в тыл врага и проявляли там героизм, находчивость, готовность к самопожертвованию ради своих боевых друзей.
Был такой случай. Как-то ночью, возвращаясь большой группой с боевого задания, мы нарвались в темноте на вражеский дозор. Завязалась перестрелка. Задерживаться на территории, занятой противником, значило подвергать всю разведгруппу риску полного уничтожения. Лейтенант Минаков оставил заслон и продолжал отходить с основной частью группы. Молодой разведчик Коля Шурупов попросил оставить его в заслоне. Когда лейтенант отклонил его просьбу, Шурупов сильно обиделся. Метров через триста был оставлен второй заслон из четырех разведчиков, чтобы прикрыть огнем отход бойцов первого заслона и оказать помощь раненым. В случае же преследования немцы напоролись бы на свежие силы. Минаков уже назвал имена трех солдат, назначенных во вторую группу прикрытия, и тут Шурупов не выдержал, промолвил с горечью:
— Товарищ лейтенант, неужели я хуже всех? Или, может быть, вы не доверяете мне?
— Не говори глупостей, Коля! — оборвал его Минаков. — Если бы не доверял, то тебя не было бы в моем взводе. Понял? — И тут же объявил: — Четвертым остается Шурупов.
Он двинулся с группой дальше, к нашему переднему краю. Вскоре там взвилась зеленая ракета: сигнал отхода для групп прикрытия. Отстреливаясь, сдерживая гитлеровцев огнем, первый заслон подошел ко второму. Потерь у разведчиков не было, так как в темноте противник не мог вести прицельную стрельбу.
Степанюк, возглавлявший второй заслон, решил уничтожить преследователей и попытаться захватить «языка». Он укрылся с тремя бойцами в овраге, на левом фланге преследователей. Первый заслон продолжал отходить. Когда немцы, увлекшиеся преследованием, очутились вблизи оврага, Степанюк метнул в них гранату. Один гитлеровец, видимо со страха, скатился в овраг, где Шурупов тотчас оглушил его ударом приклада. Остальные преследователи были перебиты автоматным огнем и гранатами.
Пальба на нейтральной полосе вызвала переполох в немецких окопах, и враг открыл беспорядочный ружейно-пулеметный огонь по нашим передовым позициям. Но противник опоздал. Группе Степанюка не только удалось вернуться без потерь, но еще и притащить с собой «языка». Разгоряченный схваткой и окрыленный ее успешным исходом, Коля Шурупов чувствовал себя на седьмом небе…
И вот теперь мне предстояло выбрать десять, самое большее — двенадцать человек для новой, очень ответственной вылазки в стан врага. Ну как не взять Дмитрия Степанюка или того же Колю Шурупова! А чем остальные хуже их? И я снова и снова останавливался мысленно на каждом разведчике, старался припомнить, где, когда и как вел себя тот или другой в наиболее сложной боевой обстановке, в минуту самой грозной опасности. В конце концов решил не будоражить взвод ночью и последовать совету старой русской пословицы, гласившей о том, что утро вечера мудренее.
Когда я вошел в избу, мои ребята, как один, повернулись ко мне.
— Чем порадуете, взводный? — донеслось из темного угла. Я узнал голос Елисея Вострикова.
— Не томите душу, товарищ командир! — вырвалось у Шурупова.
Я ответил, что никаких новостей нет, и, пройдя к своему месту у печки, начал готовиться ко сну. Мне, разумеется, никто не поверил.
Степанюк кашлянул, промолвил с хитрецой:
— Мы, товарищ командир, конечно, понимаем… Военная тайна и так далее. Но, со своей стороны, прошу в случае чего не забудьте о моем существовании.
Бойцы загудели:
— Ты что, один-единственный во взводе?
— Мы тоже не рыжие.
— Митяй ласый хватать первым из борща мясо.
«Вот это хлопцы!» — удовлетворенно подумал я, а вслух сказал по-командирски строго:
— Кончайте разговоры. Пора спать!
Проснулся я в шестом часу утра и, стараясь никого не потревожить, разбудил Степанюка. Мы вышли из хаты. Предрассветный мороз был лют. Часовой, прохаживавшийся у двери, то и дело растирал варежками нос и щеки, похлопывал себя по бокам, пританцовывал. Вокруг еще стояла тьма, и в холодном небе мерцали бесконечно далекие звезды.
Я рассказал Степанюку о своем разговоре с полковником, о предстоящей операции и в заключение сказал:
— Давай, Митя, посоветуемся, кого брать с собой. Как говорится, один ум хорошо, а два — лучше.
Степанюк озадаченно поскреб затылок.
— Сложный это вопрос, Валентин Петрович. Ребята у нас во взводе, сам знаешь, один к одному. Обиды потом не оберешься. Тут, право, хоть жеребьевку устраивай.
— То-то и оно! — вздохнул я. — Потому и посоветоваться с тобой решил…
Наконец кандидатуры участников вылазки в Веселое были намечены. Отправив Степанюка в склады для получения боеприпасов и сухого пайка, я вернулся в хату, разбудил бойцов. Когда я назвал фамилии отобранных, сразу, как и следовало ожидать, поднялся шум. Пришлось мне проявить командирскую твердость, хотя, признаться, прибегать к ней было нелегко: ведь передо мной стояли мои боевые друзья, а не просто подчиненные. Но, возможно, именно потому, что это были друзья, они поняли, в какое затруднительное положение попал я, поставленный перед необходимостью выбрать десятерых из всего взвода. Шум улегся, и с моих плеч будто свалилась какая-то тяжесть…
Вскоре после полудня к нам пришел командир саперного взвода Петренко, пожилой, пышноусый лейтенант в просторном маскировочном халате, надетом поверх полушубка.
— Откуда начнем поиск? — спросил я.
— Ходимте, подывытесь на одно местечко, — сказал лейтенант мягким украинским говорком. — Мы з полковником Зиминым у ночи мало нэ всю передовую облазылы, покы то место знайшлы.
— Почему же меня в поиск не взяли? — удивился я.
Петренко улыбнулся.
— Я казав полковнику, що треба и вас гукнуть, а вин мэни кажэ: «Хай Игнатов отдыхае и выспыться добрэ». Вы ж знаете, що полковник сам разведчик первостатейный. «Днем, — каже, — согласуешь усэ з Игнатовым». От я и прийшов согласовувать.
Я накинул маскхалат и отправился с Петренко на противоположную окраину села. Миновав последнюю хату, мы спустились в заснеженную балку и шли по ней вдоль переднего края, до перелеска, где некогда находился полевой стан тракторной бригады. Там из-под снега теперь торчало несколько обуглившихся столбов и печной дымарь. От перелеска по неглубокому оврагу мы выбрались на передовую линию, В окопах дежурили наблюдатели и дозорные, остальные пехотинцы грелись в нишах и норах, завешенных плащ-палатками.
Лейтенант остановился у одного из пулеметных гнезд, сказал:
— Ось то место, що выбрав полковник.
В бинокль была видна на всю глубину нейтральная полоса. Она проходила по открытому полю, на котором лишь кое-где из сугробов выглядывали голые ветки кустов. Невдалеке виднелся небольшой лесок, а перед ним, примерно там, где должна была проходить линия передовых позиций противника, возвышались два холмика, на расстоянии ста — ста пятидесяти метров один от другого.
— Что-то не нравится мне здесь, — сказал я. — Слишком голо кругом, и все видно как на ладони.
Петренко объяснил мне, почему полковник выбрал именно это место. Оно находилось как раз на стыке пехотных полков противника. Окопы немцев обрывались слева и справа от ложбины, которая начиналась вблизи от нашего переднего края и, постепенно углубляясь, уходила к леску. Два бугра, принятых мною за холмики, были в действительности бетонными колпаками двух дзотов, расположенных у границ стыка. Они держали под перекрестным обстрелом весь участок нейтральной полосы перед стыком и густо заминированный спуск в ложбину. Гитлеровцы считали, очевидно, что здесь, на голом поле, не прошмыгнет не только человек, но даже мышь. Исходя из этих соображений, полковник и решил, что именно здесь, где враг меньше всего ждет гостей, нам и следует переходить за линию фронта. Темной ночью в маскировочных халатах сделать это, пожалуй, не так уж и опасно, тем более что, по словам наших солдат-пехотинцев, немцы сравнительно редко освещают этот участок ракетами…
— И много здесь мин? — поинтересовался я.
— Хватае, — ответил Петренко, — И наших и фашистских. Тильки вы про мины не турбуйтэсь, то вжэ забота моих хлопцив.
Еще и еще раз обшарив глазами нейтральную полосу в районе дзотов и запечатлев в памяти местность, прилегавшую к лесу, я сказал:
— Ну что ж, товарищ Петренко, будем считать, что вопрос согласован. Я так и доложу начальству.
Перед вечером полковник снова вызвал меня к себе.
— Значит, говоришь, место выбрано удачно? — спросил он.
— Подходящее! — подтвердил я.
— А как у тебя дела?
— Все готово, товарищ полковник.
— Ну и в полку все, как говорится, на мази.
— Когда же?
— Сегодня ночью!
Зимин взглянул на часы.
— Сейчас семнадцать тридцать. В двадцать часов выходи к переднему краю. К трем часам ночи ты со своими людьми уже должен быть в Веселом, у школы. Как только прибудешь туда, выдели одного бойца-сигнальщика и отправь его за северную окраину селения. Красной ракетой он даст нам знать, что ты готов к удару. Одновременная вспышка двух красных ракет с нашей стороны оповестит тебя о начале боевых действий полка. — Немного помедлив, полковник добавил: — Учти, что твой сигнальщик может оказаться смертником, ведь его ракета всполошит всю северную окраину Веселого. Ни в коем случае он не должен попасть в руки гитлеровцев живым. Поэтому выделяй такого человека, которому можно откровенно сказать, на что он идет. У тебя есть такие люди?
— Есть, товарищ полковник! — не колеблясь ответил я.
— Фамилии?
— Степанюк или Шурупов.
— Знаю таких, — кивнул Зимин и обнял меня. — Ну, желаю удачи. Надеюсь, все обойдется благополучно. О возможности провала не хочу и думать. Сорвется твоя вылазка — сорвется и наш прорыв. Не забывай об этом ни на секунду!..
В восемь часов вечера я с десятью разведчиками был уже на передовой, в окопах. Там нас ждал Петренко с отделением саперов.
— Проход готовый! — доложил он.
— Как у немцев? — спросил я.
— Шось не чуты.
— Значит, не ждут гостей?
— Та, мабуть, не ждуть. Колы мои хлопцы в ложбини мины знималы, я биля одного дзоту трошки поповзав. Часовый на морози топчется, а пид колпаком фрицы: гогочуть, шнапсу, мабуть, на ничь хватылы.
Ночь стояла темная. Над нейтральной полосой гулял ветер. Вдоль передовой то там, то здесь вспыхивали ракеты, вырывая из тьмы снежную пыль, вихрившуюся над полями.
— Как, ребята, готовы? — обратился я к разведчикам.
— Полный порядок! — отозвался за всех Степанюк.
— Тогда трогаем! — скомандовал я.
Мы выбрались за бруствер окопа и поползли по узкой траншее, сделанной в снегу саперами. На промерзшей земле часто попадались ямки: это были гнезда обезвреженных мин. Впереди ползли сержант-сапер и Петренко. Ветер, дувший навстречу, обдавал наши лица сухим колючим снегом. В те мгновения, когда поле освещалось ракетами, мы прижимались плотно к земле, лежали не шевелясь…
Вот и ложбина. Снежная траншея становилась все глубже. Из ее стенок торчали круглые металлические корпуса немецких мин. Много пришлось вынуть их саперам из твердого как камень грунта, чтобы подготовить для нас этот проход, и каждая вынутая мина была свидетельством подвига скромных, порой неприметных тружеников войны, именуемых саперами. Уж это ли не герои, достойные вечной славы! Это они наступают первыми. Это они отходят последними. И сейчас они были впереди. Их присутствие действовало на нас успокоительно, вселяло уверенность, что мы благополучно переберемся в тыл противника.
Дзоты остались позади.
— Эх, руки чешутся, — шепнул мне Степанюк. — Зайти бы сейчас к дзотам с тыла, снять часовых и рвануть змеиные гнезда. Может, попробуем, а?
— Выбрось это из головы! — ответил я.
Ко мне подполз Петренко, промолвил чуть слышно:
— Тут до самого лису мин вже нэмае.
Я крепко пожал его руку.
— Спасибо, лейтенант. Можете возвращаться.
— Всього найкращего! — кивнул он на прощание и, пропуская нас вперед, отполз с сержантом в сторону…
Мы углубились в лес. Идти по огромным сугробам было тяжело. Сверху на наши головы часто обрушивались снежные комья. Но чувствовали мы себя отлично. Начало вылазки прошло успешно, а ведь не зря говорят, что хорошее начало — это половина дела.
Вскоре мы очутились на гладко накатанной грунтовой проселочной дороге. Где-то справа, примерно в двух километрах от леса, лежало Веселое. Принял решение двигаться прямо по дороге. В поле царила тишина. Если бы вдруг появились вражеские машины, мы еще издали услышали бы шум их моторов и могли заблаговременно укрыться за сугробами. Наших же шагов не было слышно, так как все мы были обуты в валенки…
До селения оставалось не более полукилометра, когда впереди тьму прорезал яркий свет автомобильных фар. Через несколько мгновений он погас, но мы успели заметить будку и шлагбаум, перекрывавший дорогу у будки. Это был контрольный пункт.
— С дороги! — скомандовал я. — Пойдем в обход.
Мы свернули в поле и, увязая по колено в снегу, направились к западной окраине Веселого. Спустя сорок минут вышли к оврагу у деревянного однопролетного моста, под которым позапрошлой ночью Минаков хотел было устроить засаду для захвата «языка». Впрочем, он сразу же отказался от этой мысли, как только мы выяснили, что вблизи находится охраняемый перекресток дорог. И сейчас там, на перекрестке, бодрствовали вражеские часовые. До нас долетали их гортанные голоса и поскрипывание снега под. сапогами.
Был уже третий час ночи. Время не позволяло нам задерживаться в овраге, надо было подниматься на бугор, к школе. А тут, как назло, из Веселого вышла большая колонна грузовиков. Часовые остановили ее у перекрестка для проверки документов. Включенные фары головной машины бросали яркие лучи света в нашу сторону, на мост и на пологий склон бугра.
Мы начали нервничать. Одно дело, когда отправляешься в разведку для сбора каких-то сведений о противнике или для захвата «языка», и совсем другое, когда ты должен к определенному часу обеспечить возможность наступления своим войскам. Мы знали, какая напряженная подготовка шла сейчас у нашего переднего края на подступах к Веселому. Саперы обезвреживали вражеские мины в балке, пехотинцы сосредоточивались на рубежах для броска вперед, артиллеристы стояли наготове у пушек и минометов. Командование полка уже находилось на наблюдательном пункте и ждало нашего сигнала, а мы все еще сидели в овраге, у подножия бугра, на вершине которого нам предстояло подавить основные пулеметные точки гитлеровцев…
Ни немецкие часовые, ни водители машин, видимо, не торопились. Неумолчно гудели моторы. Мы уже не чувствовали леденящих порывов ветра и лютого мороза. Светящиеся стрелки наручных часов неумолимо и, казалось, все быстрее и быстрее подползали к цифре 3.
Я не выдержал, махнул рукой, давая знак двигаться по оврагу на восток, к северному склону высоты. Из оврага мы попали на сельскую улицу и через какой-то двор вышли к тропе, тянувшейся от подножия к вершине бугра. Не раздумывая долго, я пополз вверх, но не по тропе, а рядом с ней. Четверо бойцов следовали за мной, остальные ползли по другую сторону тропы. Где-то наверху шагали дозорные.
Внезапно впереди зажегся свет карманного фонарика. Кто-то спускался вниз. Мы обнажили финки, замерли. Болтая о чем-то, к нам приближались трое гитлеровцев. Тот, что шагал впереди и посвечивал фонариком, вдруг остановился как раз против того места, где лежали мы.
— Вас ист лёс?[2] — окликнули его шедшие позади.
— Вартэ маль, их кан нихт меер[3], — отозвался передний и начал оправляться.
Задние поравнялись с ним. Он сошел с тропы, пропустил их, и в это мгновение свет его фонарика ударил прямо в лицо Степанюка. Немец испуганно шарахнулся назад. Меня словно подбросило что-то. Прежде чем он успел крикнуть, я зажал его рот рукой, всадил ему в спину нож. Мои друзья набросились на других гитлеровцев. И все же один немец закричал так громко, что его наверняка услышали бы наверху, если бы, на наше счастье, в это время не засигналили грузовики колонны, тронувшейся наконец с перекрестка.
Не знаю, как себя чувствовали мои бойцы, но у меня зуб на зуб не попадал от нервного озноба — я понял, какую огромную оплошность допустил, принимая опрометчивое решение покинуть до срока овраг, пробираться по улице и наконец ползти вдоль тропы. Малейшее промедление могло стоить нам жизни. Больше того, из-за моей непростительной оплошности могла сорваться вся операция. А это было куда страшнее смерти.
Степанюк дернул меня за полу халата, кивнул на трупы гитлеровцев, как бы спрашивая, что делать с ними.
— Зароем в снег! — шепнул я ему. — Тащите за мной!
И пополз по склону в сторону от тропы…
До трех часов ночи оставалось десять минут, когда моя группа залегла у двух проломов, выбитых нашей артиллерией в цоколе западной стены школы. Впереди под прикрытием фронтального цоколя и бетонных плит располагались пулеметные гнезда гитлеровцев. Солдаты отсиживались в подвале, из которого сквозь перекрытие выходили на поверхность две дымившиеся железные трубы. Вдоль фронтального цоколя с наружной стороны, куда из амбразур глядели пулеметы, шагали часовые. С той стороны школы, где лежали мы, не было охраны. За нами, далеко внизу, находился перекресток дорог.
Теперь можно было отправлять сигнальщика на северную окраину Веселого. Еще до перехода через линию фронта я познакомил Степанюка и Шурупова с заданием, которое одному из них предстояло выполнить в эту ночь здесь, в селении.
В последнюю минуту мой выбор пал на Степанюка, но, когда он ушел, во мне вдруг зашевелились опасения, как бы с ним не стряслось какой-либо беды. И в самом деле, мало ли что может случиться с разведчиком, когда он в одиночку пробирается по расположению противника. Наткнется Степанюк на гитлеровцев, и тогда не жди сигнала, с которым связывалось начало наступательного боя. Красная ракета должна была взвиться в небо во что бы то ни стало, при любых обстоятельствах. Поэтому я решил отправить в качестве дублера и Шурупова.
Потянулись минуты напряженного ожидания. Тишина, стоявшая над погруженным во мрак селением, казалась мне зловещей. На вершине бугра свирепствовал ветер, то посвистывая, то скуля. Он пронизывал нас насквозь, и я чувствовал, как все больше немели коченевшие от мороза руки и ноги. Внизу, на перекрестке, снова остановилась какая-то колонна машин. Часовые, стоявшие перед школой, сменились. Два солдата начали носить в подвал дрова из штабеля, сложенного с внутренней стороны цоколя, шагах в десяти от того места, где лежали мы. Стрелки часов уже показывали половину четвертого, а сигнала все не было. Охваченный тревогой и нетерпением, я почти неотрывно глядел в густую тьму, висевшую над северной окраиной Веселого. Глядел и думал о том, что вот так же, как и я, в ту же сторону сейчас с наблюдательного пункта смотрят командир полка, начальник разведки, начальник штаба…
И ракета, наконец, взлетела. Шумно рассекая воздух, она поднялась высоко над землей, громко хлопнула и, разорвав тьму ярко-багровой вспышкой, озарила улицы и хаты северной окраины. Тотчас где-то там застрочили автоматы, затем один за другим прозвучали два разрыва гранат.
«Степанюк или Шурупов?» — мелькнуло у меня в голове. Кто из них пальнул из ракетницы, я не знал, но было очевидно, что один из них сейчас отбивался от гитлеровцев гранатами.
В подвале школы поднялся шум. Солдаты выскакивали наверх, что-то орали часовым, а те, что-то отвечая, указывали руками туда, где шла стрельба.
И вдруг все они, как по команде, обернулись на восток. Над передовыми позициями зажглись две красные ракеты. Их свет еще полыхал в черном небе, когда наши артиллеристы обрушили шквальный огонь на немецкие окопы и на ранее засеченные огневые точки гитлеровцев. Воздух содрогался от оглушительных разрывов снарядов и от неумолчного рева пушек.
Я ждал, что в селении вот-вот начнется паника, но этого не случилось. Несмотря на глубокую ночь и на внезапность нападения, немцы довольно быстро пришли в себя и открыли ответный огонь. Яростно застучали пулеметы из школы, осыпая свинцом хорошо пристрелянную балку. Снаряды рвались на восточном склоне, на вершине бугра. Осколки с визгом проносились над нашими головами, градом стучали по кирпичному цоколю и бетонным плитам, но немецкие пулеметчики, чувствуя себя в полной безопасности, ни на секунду не прекращали стрельбы.
«Пора!» — подумал я и, сжав в руке гранату, поднял ее над головой. Это был условный сигнал, означавший команду: «Гранаты к бою!»
Бойцы приготовились.
— Огонь! — крикнул я и первым метнул гранату под бетонный козырек пулеметного гнезда, расположенного у самого угла фронтального цоколя. Грохот почти одновременного взрыва гранат слился с дикими воплями гитлеровцев. А мы, не давая опомниться тем из них, кто еще уцелел, дружно застрочили по гнездам из автоматов. Солдаты, выскакивавшие из подвала, тут же валились, сраженные нашими пулями.
Так, не потеряв ни одного бойца, мы захватили огневые точки противника на бугре и сразу же заняли круговую оборону. Но обороняться нам не пришлось. В балке уже катилось, нарастало грозное «ура» наших пехотинцев. Пулеметы на бугре молчали, путь атакующим был открыт. Прорвавшись по балке, они устремились на передний край обороны немцев с флангов и с тыла, растекались по улицам и теснили врага к западной окраине селения. А мы разили его пулеметным и автоматным огнем с бугра.
Среди гитлеровцев разрасталась паника, сопротивление их быстро слабело… Через час после начала атаки селение Веселое перешло в руки советских войск. Оставив здесь сотни убитых, раненых и пленных, немцы откатились далеко на юго-запад…
К нам на бугор взбегали пехотинцы, еще разгоряченные только что закончившейся схваткой. Они радостно тискали нас в объятиях, благодарили за поддержку.
Едва забрезжил рассвет, мы всей группой отправились на северную окраину Веселого искать Степанюка и Шурупова. От мысли, что они погибли, у меня все время щемило сердце. Мы заходили в каждую хату, осматривали каждый двор…
И вдруг за селением, где как музейная реликвия высился дряхлый, чудом уцелевший ветряк, мы увидели Шурупова. Нежданно-негаданно он появился в двери ветряка и, прихрамывая, начал спускаться по деревянной лестнице к колодцу.
Я окликнул его издали.
Только теперь он заметил нас, замахал обеими руками и закричал что было силы:
— Сюда, сюда, братцы!
Левая пола его полушубка была в крови.
— Ты что, ранен? — спросил я.
— Чепуха! — отмахнулся он. — Малость коленку и бок пуля поцарапала. Вот Мите, тому здорово досталось.
Я едва не задохнулся от волнения.
— Жив он? Ты видел его?
— Тут он, со мной! — сказал Шурупов. — Нет такой пули и не будет вовек, чтоб нашего Митяя наповал уложила.
Мы поднялись в ветряк.
Степанюк лежал на соломе у замшелого жернова, бледный, с заострившимся носом, жадно дымя цигаркой. Из-под ушанки выглядывали окровавленные куски маскхалата, которыми была забинтована его голова. Увидев нас, он попытался привстать, но не смог.
— Лежи, лежи, Митя! — сказал я, присев на корточки перед ним. — Главное, жив, а все остальное ерунда.
Степанюк улыбнулся.
— Значит, таки выкурили фрицев?
— А как же иначе!
— Порядок! — Степанюк слегка кивнул и, поморщившись от боли, промолвил с досадой: — И угораздило же меня… Боюсь, как бы не пришлось надолго пришвартоваться к доку… А неохота. Отвертеться бы! Может, походатайствуешь, Валентин Петрович?
— Обязательно, — пообещал я, хотя и понимал отлично, что никакие ходатайства с моей стороны не помогут ему отвертеться от госпиталя…
Ранило его в голову и в грудь, чуть пониже правой ключицы. А случилось это так.
Спустившись с бугра, он по оврагу выбрался к дороге и, пройдя по ней с полкилометра, свернул в поле. Северная окраина селения лежала справа. Степанюк был уверен, что морозной ночью в заснеженном поле ему нечего опасаться. Но именно здесь он едва не наткнулся на землянки и батареи фашистских зенитчиков. Выручила его случайность. Над одной из землянок, даже вблизи смахивавшей на сугроб, промелькнуло несколько искр, которые вырвались из железной печной трубы. Заметив их, Степанюк остановился, осторожно лег на снег. Только теперь он разглядел зачехленные стволы зениток, проступавшие на фоне звездного неба, и силуэт часового. Пришлось отползать назад и затем делать большой крюк в обход батарей. А в то время, как Степанюк приближался к селению с севера, Шурупов полз вдоль окраинных дворов, по выгону, подступавшему к Веселому с запада. И получилось так, что оба они очутились невдалеке от ветряка почти одновременно.
Шурупов извлек из кармана заряженную ракетницу и только хотел было пальнуть из нее, как из-за ветряка взвилась красная ракета, выпущенная Степанюком. На беду, в ветряке сидели три дозорных гитлеровца. Они выскочили наружу и, строча из автоматов, бросились к тому месту, где лежал Степанюк. Тот метнул в них две гранаты, а из селения на помощь дозорным уже мчались немецкие солдаты. Шурупов ударил по ним из автомата, крикнул Степанюку:
— Митя, это я, Колька!
Степанюк, раненный в голову, прикончил последнего из дозорных, перебежал к сугробу, за которым лежал Шурупов. Вокруг них свистели пули.
— Дуй в ветряк! — скомандовал Степанюк. — Оттуда сподручнее драться.
Шурупов увидел на белом капюшоне моряка темное пятно, догадался, что тот ранен.
— Нет, Митяй, дуй уж ты первым, а я задержу гадов, ты же в крови!
— Тогда сразу, вместе! — отозвался Степанюк.
Отстреливаясь, они доползли до лестницы, поднялись в ветряк и продолжали вести огонь уже оттуда.
Вряд ли им удалось бы отбиться от наседавших гитлеровцев, если бы не начался артиллерийский обстрел селения и наши войска не перешли в атаку. Здесь, в ветряке, Степанюк был ранен вторично в грудь, а Шурупова ранило в бок и в ногу.
Уцелевшим гитлеровцам было уже не до разведчиков. Видимо, почуяв, что атака советских войск развивается успешно, фашисты пустились наутек…
— Когда я услышал Колькин голос, то не поверил своим ушам, — рассказывал нам Степанюк. — Ну, думаю, концы отдаю, перед смертью чудится. Ан нет, не чудилось. Ежели б не Колька, бросил бы я навечно якорь тут. Раны он мне перевязал. Словом, выручил. — Моряк стиснул мою руку. — Спасибо тебе, командир, за Кольку!
Я почувствовал себя неловко, промолвил, смутившись:
— Брось, Митя, не за что меня благодарить. Ведь Шурупова я дублером послал, можно сказать, для перестраховки…
— Все равно спасибо! — повторил растроганно Степанюк. — Век не забуду и Кольку и тебя…
Здесь, в ветряке, нас и нашел адъютант полковника Зимина.
— Что же это вы, товарищи разведчики, сюда забрались? — выпалил он, задыхаясь от усталости. — Я уже с ног сбился. Ищу, ищу, все село вдоль и поперек исколесил. А командир полка знать ничего не хочет: «Давай мне героев, расцеловать хочу каждого!»
Это была последняя операция, в которой я участвовал вместе с полковыми разведчиками. Вскоре полковник Теплов отозвал меня в учебную команду авиадесантников, и я снова встретился со своими старыми друзьями.
Глава 6. В ПУРГУ
Днем лютовал мороз. Сильный ветер вздымал над полями снежные вихри, наметая у каждого куста огромные сугробы. Изредка сквозь темно-сизые тучи прорывались солнечные лучи, и тогда снег казался искрящейся белой пылью, которая запорашивала все вокруг мертвящим ледяным покровом.
С наступлением сумерек ветер немного утих, мороз стал слабее, и повалил густой снег. Большие хлопья падали медленно, нехотя, невесомые и мягкие, как пух.
Моя группа с приданным ей отделением дивизионных разведчиков ждала проводника в небольшой лесной избушке. Здесь было тепло, уютно. В печке весело потрескивали дрова. Сквозь рубленые стены избы доносился глухой гул отдаленной канонады. Она не затихала ни не минуту весь день, а теперь, к ночи, казалось, даже усилилась. Это шли бои на подступах к Москве. Гитлеровцы лезли напролом, не считаясь с потерями, но их бронированные кулаки были бессильны сломить боевой дух защитников Москвы, сердца которых оказались прочнее крупповской стали…
Моя группа получила задание отправиться в тыл противника, в район Солнечногорска. По сведениям, там около станции Подсолнечная, стоял штаб крупного соединения гитлеровцев. Нужно было совершить налет на этот штаб, захватить оперативные документы и карты и раздобыть солидного «языка» — непременно одного из офицеров-штабистов. Учитывая особую «трудоемкость» задания, полковник Теплов попросил командира дивизии выделить нам в помощь группу опытных разведчиков. В мое распоряжение прибыло десять дюжих парней во главе с младшим лейтенантом Якубовым — шустроглазым, подвижным адыгейцем, уже не раз бывавшим со своими разведчиками на охоте за «языками» во вражеском тылу. Узнав, что я с Кубани, он прямо-таки расцвел.
— Земляк, значит? Ну что ж, Игнатов, не посрамим имя кубанца здесь, под Москвой. — И, весело подмигнув, разгладил пальцами черные заиндевевшие усики, опросил: — Как ты думаешь, не посрамим, а?
— Полагаю, что нет! — ответил я с улыбкой.
И он и все его разведчики быстро нашли общий язык с нами. Сразу завязался дружеский разговор с шутками, розыгрышами, смехом, и, право, казалось, что мы уже знали друг друга давным-давно, а не встретились впервые. Впрочем, на фронте бывает так всегда: солдатская дружба, рождаемая духом боевого товарищества, завязывается быстро и прочно.
В восьмом часу вечера прибыл проводник — чернобородый кряжистый мужчина средних лет, в стеганке, ватных штанах, шапке-ушанке и валенках. Отряхнув с себя снег в сенцах, он остановился на пороге, выжидая, пока связной офицер из штаба представлял его мне. Звали проводника Егоровым Афанасием Петровичем. Родом он был из деревни Тимоново, до войны работал мастером на Солнечногорском стекольном заводе и отлично знал окрестности Сенежского озера, то есть те места, где нам предстояло действовать.
— Ну так как, Афанасий Петрович, не заблудимся? — спросил я его, когда он коротко рассказал о себе. — Погода-то, можно сказать, аховая.
Егоров разгладил свою густую бороду, улыбнулся и промолвил басовито:
— Оно-то, в этакую завируху, только и идти надо. Где напрямик, а где в обход, чтоб фашистов в дураках оставить. Словом, к рассвету будем на озере.
В дорогу мы отправились налегке: оружие, гранаты, немного взрывчатки и по пакету сухого пайка на каждого. На всякий случай захватили с собой миниатюрный радиопередатчик, чтобы при необходимости связаться со штабом дивизии. В белых маскировочных халатах с капюшонами, в белых валенках, мы сливались с белесой мглой вьюги.
Некоторое время шли по дороге, за ветром. Под ногами тихо поскрипывал снег. Порывы ветра то и дело подталкивали нас в спину. Вдоль дороги то с одной, то с другой стороны попадались тягачи с пушками, танки, автомашины и бронетранспортеры. Сквозь гул моторов доносились людские голоса, какие-то выкрики, скрежет и лязг гусениц. Наши войска, концентрировавшиеся в этом районе, готовились к наступлению.
Мы с Егоровым шагали в голове группы. Чем дальше на запад, тем сильнее была занесена снегом дорога. Тугие хребты сугробов, как застывшие волны, тянулись через проезжую часть почти строго с севера на юг. Все безлюднее становилось вокруг.
Дорога оборвалась у взорванного моста. Егоров остановился, указал рукой в сторону заречья.
— Там, недалече, фашисты. Будем сворачивать влево, к лесу.
— А в лесу не напоремся на них? — спросил я.
— На этом берегу их нынче еще не было, — ответил Егоров. — Да и вряд ли они сунутся куда-либо в сторону от дороги. Тут, в сугробах, в такой мороз им хана. Они-то мечтали в Москве отогреться, но Москва не по их зубам…
С минуту он вглядывался в снежную кутерьму, потом решительно свернул к левой обочине, махнул нам рукой:
— Пошли!
Мы последовали за ним. Идти было очень трудно. Наст, присыпанный свежим снегом, ломался, ноги глубоко вязли в сугробах. Ветер, дувший теперь в бок, швырял хлопьями под капюшоны и задувал кверху полы наших халатов. Пришлось двигаться гуськом. Проваливаясь в снег и тяжело дыша от быстро нараставшей усталости, я поражался силе и выносливости Егорова, который шел впереди и, по сути дела, прокладывал нам путь. Словно выкованный из железа, он, как мне казалось, легко преодолевал снежные барьеры, пробивался сквозь них могучей грудью и время от времени бросал нам весело, ободряюще:
— Давайте, ребятки, пошевеливайтесь. Доберемся до леса, там полегче будет.
Мы старались не отставать от него. За моей спиной шумно пыхтел Колесов. Ему буквально наступал на пятки Бодюков, нагруженный рацией. Дальше шел Вася Рязанов. Разведчики составляли наш арьергард. Сам Якубов как-то умудрился пробраться ко мне, опросил:
— Слушай, Игнатов, может, моих парней вперед пустить? Пусть помогут проводнику, ведь не двужильный он, выдохнется скоро…
— Это я-то? — откликнулся Егоров и мотнул головой. — Не выдохнусь, я привычный…
Первый привал сделали в сосновом бору, на узкой просеке. Здесь снегу было меньше. Ветер тихо посвистывал меж стволов. С шумом, ломая ветки, изредка с невидимых вершин сосен сваливались тяжелые снежные комья.
Отдых продолжался недолго. Докурив махорочную самокрутку, Егоров поднялся с пня, отряхнул свой халат и промолвил:
— Не будем засиживаться. Время не терпит.
С полчаса мы шли лесом, вначале по просеке, затем по каким-то неведомым тропам. Егоров не останавливался ни на минуту, шагал уверенно, как человек, знакомый здесь с каждой пядью земли. Выйдя из лесу, он повел нас через открытое поле к закованному льдом широкому ручью, потом по льду снова ввел в лиственный лес, уныло стучавший на ветру голыми ветвями. Мы доверчиво следовали за проводником, полностью вверив ему свою судьбу. И раз, и другой, и третий наш путь пересекали большаки, по которым даже в эту вьюжную ночь продолжалось движение немецких машин. Они шли только колоннами следом за мощными гусеничными снегоочистителями, шли с полностью включенными фарами. Их свет едва-едва пробивался сквозь снежную пелену и быстро терялся за ней. Пока проходили колонны, мы лежали за сугробами, в нескольких шагах от дороги. Немцы, конечно, и не подозревали о нашем присутствии, зато мы хорошо видели их, слышали их картавую речь. До чего хотелось порой открыть по ним внезапный огонь из автоматов, перебить всех до единого и сжечь машины. Увы, нам нельзя было этого делать. Это не входило в наше боевое задание и могло его сорвать. Теперь даже в стороне от дорог мы шли осторожно, молча, зорко приглядываясь ко всему и чутко ловя ухом малейший подозрительный шум. Хотя сплошной линии фронта здесь и не было, хотя мы и полагались всецело на своего проводника, никто не мог дать гарантию, что на нашем пути не встретятся вражеские разведчики или гитлеровские патрули.
Егоров сдержал свое слово: на рассвете мы были уже на берегу Сенежского озера, в нескольких километрах восточнее Солнечногорска и станции Подсолнечная. Вьюга утихла, но тучи по-прежнему плотно закрывали небо, и лишь на востоке, будто силясь приподнять их тяжелый темно-серый полог, у самого горизонта виднелась золотисто-алая полоска зари.
Место для стоянки выбрал Егоров. Это была небольшая ложбина, пересекавшая поляну между озером и лесом. Занесенная снегом, обросшая по краям щетиной приземистых кустов, ложбина могла служить надежным убежищем. Из нее хорошо просматривались вся поверхность зеленевшего озера, его западный берег и шоссейная дорога, пролегавшая невдалеке от этого берега В случае опасности мы могли прямо из ложбины выбраться в лес, а там, в лесу, ищи свищи нас в заснеженных чащобах!..
Посоветовавшись с Якубовым, я решил произвести разведку, не дожидаясь вечера, с тем чтобы к ночи выяснить, где же в действительности располагается штаб вражеского соединения. Дневная разведка была, конечно, сопряжена с большим риском, но она намного облегчала поиск интересовавшего нас объекта: вести этот поиск ночью было делом затруднительным, а возможно, даже и совсем безнадежным.
Якубов предложил создать два разведывательных звена, по три человека в каждом. Одно из них направить в Солнечногорск, второе — к станции Подсолнечная. Я согласился с ним. В первое звено вошли Колесов, Рязанов и я; во второе — Якубов, Бодюков и рыжебровый сержант Кавун из приданной группы разведчиков.
— А мне с кем же прикажете? — спросил Егоров.
Откровенно говоря, я не рассчитывал на его помощь, считая, что он уже выполнил свою задачу проводника, доставил нас на место и что отныне я уже не вправе подвергать его риску. Когда я сказал об этом, Егоров нахмурился, промолвил с обидой в голосе:
— Может, просто не доверяете? Мол, одно дело проводником быть и совсем другое — разведчиком. Вдруг да подведет, что спросишь с него… Так, что ли?
Я улыбнулся.
— Совсем не так, Афанасий Петрович. Ваша помощь была бы нам как нельзя кстати, но только на добровольных началах… Сами понимаете, приказывать вам, гражданскому лицу, я не имею права.
— Какой же я гражданский! — усмехнулся Егоров. — Партизан — это тот же солдат. А меня в штаб дивизии сам командир партизанского отряда направил проводником. Так что прошу вас, приказывайте, ежели нужен я вам.
— Хорошо, пойдете с моим звеном! — ответил я.
Вначале Егоров подробно растолковал Якубову, как лучше всего попасть на станцию, посоветовал ему пройти лесом до шоссе, там же, в лесу, пересечь шоссе и затем уже двигаться по оврагам и перелескам вдоль железнодорожного полотна.
— Осторожность и еще раз осторожность, — предупредил я лейтенанта. — В случае опасности прекращайте поиск и возвращайтесь. Помните одно: если немцы обнаружат нас, операция сорвется.
— Все ясно! — кивнул Якубов.
Когда его звено ушло, мы с Егоровым обсудили маршрут движения к Солнечногорску. Решили идти по льду через озеро, вдоль его южного берега, с тем чтобы попасть в выжженную часть города. Нам казалось, что там, среди руин, будет сравнительно легко пробраться к уцелевшему району, установить наблюдение за ним и уточнить место расположения штаба, если ой находится в самом городе.
Ветер, свободно гулявший над озером, вихрил снег, окутывал нас колючей белой пылью и обнажал зеленоватую поверхность льда, идти по которому было очень трудно: ноги то и дело скользили, расползались в стороны. Если в ложбине, под прикрытием леса, мороз почти совсем не донимал нас, то здесь, на открытой местности, при сильном ветре, он казался чересчур кусачим и злым. Но мы не роптали: и ветер, и поземка, и мороз помогали нам. Наши белые халаты полностью сливались со снегом, а мороз мог служить надежной гарантией тому, что ни один гитлеровец не сунет носа сюда, на озеро.
Через озеро мы перебрались благополучно. Впереди лежала выжженная окраина города. Из-под снега виднелись груды развалин, почерневшие от дыма стены домов, сиротливо торчавшие печные трубы. Это был один из страшных следов гитлеровского нашествия.
По оврагу, глубоко вдававшемуся в берег, мы подползли к руинам первого дома на окраине. За ним начиналась улица, но отнюдь не такая мертвая, как нам казалось с озера. Метрах в ста от нас над низенькой халупой, похожей издали на огромный сугроб, вился сизый дымок. Только теперь мы заметили тропку, тянувшуюся по улице от халупы к озеру.
— Вот это номер! — буркнул Колесов. — Кто это дымит там? Неужто из местных жителей кто остался?
Егоров покачал головой.
— Не может того быть. Тут фашисты все обшарили, даже кошек всех перебили. Не наши там, нет! Скорее всего немцы. Видно, пост, дьяволы, установили…
Рязанов взглянул на меня.
— Разреши, я поближе подползу, посмотрю, кто там.
— Отставить! — возразил я. — Тебя-то могут не заметить, но след твой сразу бросится в глаза. Подождем.
— И сколько ж будем ждать? — покосился на меня Колесов. — Уже второй час дня. Эдак и окоченеть здесь можно.
Я отмахнулся.
Прошло минут двадцать. Мороз все сильнее пощипывал щеки и нос. Пальцы рук и ног коченели.
— А может, через пустырь махнем, в обход? — предложил Егоров.
— Подождем! Если это действительно пост, то он наверняка здесь не один.
Прошел час. Небо потемнело. В воздухе появились первые снежинки, потом повалил густой снег. Усилилась поземка. Халупа едва-едва проглядывалась сквозь снежную пелену.
— Можно двигать! — сказал я. — Теперь-то мы куда угодно проскользнем. Давайте по одному перебираться через улицу, прощупаем, что это за пост…
— Эх, яблочко, ехать так ехать! — оживился Колесов и проворно вывалился через пролом в стене на улицу, в сугроб.
Со стороны халупы донесся какой-то окрик. Колесов обернулся к пролому, бросил глухо:
— Тихо, братцы! Кажись, мы влипли.
Я сжал руками автомат, припал к стене, ожидая, что вот-вот появятся немцы.
Снова окрик, и сразу у меня отлегло от сердца. Порыв ветра отчетливо донес русскую речь. Кто-то орал:
— Сенька! Оглох, что ли? Коромысло, говорю, прихвати.
Никто не ответил, зато на тропке совсем близко от нас показался здоровенный детина в полушубке, шапке-ушанке и валенках. На его груди болтался немецкий автомат, в руках позвякивали пустые ведра. Он шел к озеру, видимо за водой.
— Полицай! — определил Егоров.
«Это же „язык“!» — мелькнуло у меня в голове. Колесов, Рязанов и Егоров глядели на меня, как бы спрашивая глазами, что предпринять. Я приложил палец к губам, затем указал на полицая и махнул рукой в сторону озера — пусть, мол, идет. Знак был понят, а когда скрип снега под ногами полицая растаял в тиши, я сказал:
— Все на улицу. Ползем к берегу и там подстережем гитлеровского холуя. Брать живьем, так чтобы не пикнул.
Быстро добравшись до берега, мы залегли в сугробах по обеим сторонам тропки. Полицай сбивал палкой свежую наледь, образовавшуюся по краям проруби. Покончив с этим делом, он стал на колени, зачерпнул воду одним ведром, затем другим и, неторопливо закурив сигарету, подхватил наполненные водой ведра, направился в обратный путь.
Когда он поравнялся с нами, Егоров, как было условлено, негромко окликнул его:
— Сеня, ты? Здорово!
Полицейский остановился, оторопело обернулся на голос. Колесов тотчас прыгнул к нему сзади, крепко зажал ладонями его рот, а мы с Егоровым повалили его на спину, прямо на Колесова. В следующее мгновение Рязанов воткнул ему в рот кляп из портянки. Полицейский обладал прямо-таки богатырской силой и едва не разметал нас. Ошалело выпучив глаза и громко мыча, он ворочался на снегу, как разъяренный бык, но вырваться все же не смог. Когда руки и ноги его были крепко скручены ремнями, он, поняв, очевидно, что сопротивляться бесполезно, затих и словно замер. Мы оттащили его подальше от тропки, спустились в овраг.
— Вот что, Сенька, — сказал я ему, — если хочешь жить, то не дури. Мы советские разведчики, понял? На днях наши войска выметут отсюда всю фашистскую нечисть. А таких фашистских холуев, как ты, ждет справедливое возмездие. Сейчас тебе представилась возможность искупить свою вину перед Родиной и советским народом. Понял?
Полицай смотрел на меня не мигая, каким-то полубезумным взглядом.
Колесов вынул финский нож.
— Товарищ командир! — обратился он ко мне сугубо официально. — Чего возиться с ним, только время зря терять. Собаке собачья смерть.
Слова Колесова подействовали на пленника. Глаза его наполнились ужасом. Он завертел головой и промычал как-то скуляще, будто моля о пощаде.
— Ну понял, что тебе говорилось? — спросил я его.
Полицейский закивал.
— Смотри, — предупредил я, — если попытаешься обмануть нас, удрать или закричать, сразу прикончим. Договорились, значит?
Детина снова закивал.
Я выдернул кляп из его рта.
— Не убивайте, товарищи, — промолвил он, заикаясь от страха. — Я… я… не хотел… Я постараюсь, товарищи… Это дядька втравил меня… Божьей карой стращал…
— Звать как? — спросил Егоров.
— Семен Терешкин я, — ответил пленник.
— А дядьку?
— Степаном Калистратовичем величают.
— Как же, знаю такого, — брезгливо поморщился Егоров. — Хорошая сволочь, при нэпе в купцах ходил.
От Семена Терешкина мы узнали, что здесь, на окраине, находилось несколько постов, поставленных начальником полиции, чтобы перехватывать бежавших военнопленных и партизанских лазутчиков. Смена постов производилась два раза в сутки: в полдень и в полночь. Между постовыми и полицейским участком поддерживалась телефонная связь…
— Вы, товарищи, того, поторопитесь, — сказал вдруг Терешкин. — Хватится мой напарник, что меня долго нет, шум поднимет.
— А он что за птица, напарник твой? — спросил я. — Договориться с ним можно?
— Нет, то сущий гад, — сказал Терешкин. — Из кожи лезет, чтобы выслужиться у немцев. Надо мной и то измывается. С ним кончать придется.
— Больше на посту никого нет?
— Только нас двое. Я и этот Антон Косой.
Медлить больше было нельзя, мы и так долго провозились с Терешкиным. Надо было срочно принимать какое-то решение.
Я приказал развязать пленника и сказал Колесову:
— Облачайся в полушубок, бери ведра и иди к халупе. Рязанов подойдет к тебе на помощь.
Терешкин замотал головой.
— Не годится… Антон враз догадается, что чужой идет.
— Не догадается, — убежденно бросил Колесов. — За такой метелицей мудрено распознать в двух шагах, свой или чужой.
— Не знаете вы Антона, собачий нюх у него, — заметил Терешкин и просительно взглянул на меня: — Дозвольте мне, товарищ командир. Ежели что, прирежете меня — и баста. Только слово у меня твердое: сказал, не подведу, значит, выполню. Заговорю Антону зубы, покуда ваши ребята сзади к нему подкрадутся.
Колесов дернул его за воротник полушубка.
— Эх, яблочко, хватит тебе баланду травить. Ты, видно, и впрямь мастак зубы заговаривать. Разоблачайся, шкура.
— Выходит, не веришь, браток…
— Какой я тебе браток!
Губы Терешкина горько искривились.
— Прахом матери клянусь, товарищи.
Мне хотелось поверить ему, но можно ли было верить такому?
С тропки сквозь метель донесся хрипловатый голос:
— Эй, Сенька, где ты, леший? Тебя только за смертью посылать.
Терешкин вскинул голову.
— Это Косой… К озеру идет, меня искать.
Решение созрело мгновенно.
— Колесов и Рязанов — к халупе! — скомандовал я. — Афанасий Петрович останется со мной, а ты, Семен, бери ведра и дуй навстречу Косому, на тропу. И учти, мы с Егоровым за спиной у тебя будем.
Терешкин вскочил на ноги, подхватил пустые ведра. Я накинул ему на шею немецкий автомат, вынув из него магазинную коробку.
— Хоть нож в карман мне суньте, — попросил он.
Я дал ему нож.
Колесов и Рязанов уже скрылись. Терешкин бросился к тропе, мы последовали за ним.
— Сенька! Эге-ге-ге! — прозвучало где-то совсем близко.
— Здесь я, здесь! — отозвался Терешкин, выходя на тропу.
— Что так долго, дьявол!
— Лунка до самой воды промерзла.
— Под арест пойдешь, пес непутевый!
Терешкин остановился, поставил ведра на снег.
Мы с Егоровым залегли в сугробе с зажатыми в руках ножами, готовые к схватке. Из-за вихрящегося снега вынырнул невысокого роста, плечистый мужчина в длинном тулупе и меховом треухе.
— Ну, чего стал? — гаркнул он на Терешкина.
— Умаялся я, — ответил тот.
Косой приблизился к нему почти вплотную, взглянул на пустые ведра.
— А вода где же?
— Известно где, в озере, — процедил сквозь зубы Терешкин, рванулся вперед, сбил с ног Косого и, прикрыв широкой ладонью его рот, дважды всадил нож ему в грудь.
Терешкин встал, вытер рукавом вспотевший лоб и промолвил глухо:
— Вот и все, господин фельдфебель!
Втроем мы оттащили труп Косого на озеро и бросили в прорубь…
— А теперь пошли погреемся, — сказал Терешкин. — Да и позвонить надо дежурному в полицию, что на посту все в порядке.
В халупе было жарко, Терешкин выложил все, что знал: и где находится штаб гитлеровской дивизии, и какими приблизительно силами он охраняется, и даже набросал схему размещения отделов штаба по домам.
Егоров отлично знал ту узкую глухую улицу, которую облюбовали гитлеровцы для расквартирования штаба и штабистов. Нас больше всего интересовал оперативный отдел. Он размещался в небольшом деревянном особняке, принадлежавшем некогда псаломщику.
— И это все точно? — спросил я Терешкина, когда он сообщил интересовавшие нас сведения.
— Головой отвечаю, — ответил он. — Если доверяете, то сам провожу вас на место, а потом уйду с вами. Виноват я перед Родиной. Пусть она судит и наказывает меня, предателя.
Чтобы не вызвать никаких подозрений у полиции и не всполошить до срока гитлеровцев, я решил оставить Терешкина на посту под присмотром Егорова и Колесова, а сам с Рязановым отправился к нашей стоянке — на озеро. Якубов со своим звеном был уже там. Пробраться к станции ему не удалось: Железная дорога хорошо охранялась.
Нападение на оперативный отдел штаба мы решили произвести в одиннадцатом часу ночи, то есть еще до смены полицейских постов на городских окраинах, пока еще полицаи не обнаружили исчезновение фельдфебеля Антона Косого и его напарника Терешкина.
Стемнело. Утихшая было к вечеру метель разыгралась ночью с новой силой. В десять часов вечера я вывел бойцов на выжженную окраину, к халупе, где нас ждали Колесов и Егоров. Они доложили, что Терешкин самым добросовестнейшим образом, через каждый час, звонил в полицейский участок и рапортовал дежурному о полном порядке на посту.
— Что будем делать с ним? — спросил я Колесова. — Брать или не брать с собой? Оставлять его здесь одного нельзя — рискованно: все-таки служил немцам. Брать — тоже определенный риск.
— А если он наврал насчет штаба? — в свою очередь, спросил Колесов. — Пусть уж идет с нами. Последнюю проверку учиним.
Я обернулся к Егорову.
— Ваше мнение, Афанасий Петрович?
— По-моему, брать!
Якубов был тоже за то, чтобы Терешкин шел с нами.
— Я понимаю, — сказал он, — оставлять, значит, убить. А зачем торопиться с этим делом? Может, парень и в самом деле не совсем пропащий.
Терешкин стоял у двери халупы, в нескольких шагах от нас. Не знаю, слышал он наш разговор или нет, но, видимо, догадывался, что сейчас решается его судьба.
Я подозвал его, положил руку ему на плечо.
— Ты, Семен, идешь с нами. Это последнее боевое испытание для тебя.
Терешкин вытянулся, козырнул.
— Спасибо, товарищ командир. Можете не сомневаться!..
Рязанов вложил в его автомат полную обойму и дал две запасные.
Еще раз проверив полную боевую готовность каждого бойца отряда, я скомандовал:
— Егоров и Терешкин — головные. Пошли!
Продвигались мы вперед медленно, буквально на ощупь. Нигде ни огонька. В этой тьме неистовствовала, выла пурга. Егоров и Терешкин вели нас через какие-то пустыри, по безмолвным улицам и переулкам, вдоль сожженных домов, груд развалин и исковерканных заборов. Терешкин отлично знал расположение всех полицейских постов, но ни постовых, ни патрульных на улицах не было. Они отсиживались где-то в домах, в тепле, полагая, очевидно, что в такую ночь вряд ли в городе может случиться какое-нибудь чрезвычайное происшествие.
В западной части города, примыкавшей к железной дороге, обстановка была, однако, совсем иной. По улицам, буксуя на снегу, с ревом пробиваясь сквозь сугробы, часто проходили грузовые и легковые автомашины. Тут светомаскировка почти не соблюдалась. В домах горел свет, не выключали свет фар и шоферы. Все чаще попадались патрульные группы из гитлеровцев. Порой они проходили очень близко от нас. Заслышав их приближение, мы ложились на снег, пропускали их, затем двигались дальше, к «штабной» улице. Мы с Егоровым следовали по пятам за Терешкиным. Колесов и Якубов шли слева и справа от него, что называется, впритирку. Кто знает, что было на уме у этого парня?
Ведь он не просто остался в городе, а стал полицейским, иными словами — врагом Советской власти. Не ради ли спасения своей шкуры он так быстро переметнулся к нам, убил своего напарника — фельдфебеля?
Подобные мысли все чаще лезли в голову, и я уже сожалел, что доверил Терешкину автомат. Впрочем, он мог бы прекрасно обойтись и без автомата. Ему было достаточно заорать во все горло, рвануться к патрульным, и сразу завяжется смертельная схватка, из которой вряд ли кому из нас удастся выбраться живым. Конечно, еще не поздно убрать его и сейчас, Егоров доведет нас до штаба и без него. Но найдем ли мы в действительности штаб на том месте, о котором говорил Терешкин? Не провокация ли это?
Мы пересекли какой-то двор, подошли вплотную к невысокому забору.
На улице, по другую сторону забора, стояло несколько грузовиков, крытых брезентом. Впереди в домах тускло светились окна.
Терешкин подошел ко мне, указал на противоположную сторону улицы:
— Вот он, штаб! — И объяснил: — На углу слева — караульное помещение, на углу справа — гараж. В соседних кварталах расквартирована рота охраны. Там же живут и офицеры штаба.
— А где оперативный отдел, не знаешь? — спросил я.
— Прямо перед нами.
— Где стоят часовые?
— Двое у калитки, двое во дворе у крыльца и подвижной пост за домом.
Я взглянул на наручные часы. Светящиеся стрелки показывали десять минут двенадцатого.
К особняку подкатила легковая машина. При свете ее фар мы с трудом разглядели трех. офицеров, подошедших к калитке. Вспыхнули ручные фонарики часовых. Короткий разговор. Прибывшие офицеры вошли во двор. Снова, уже во дворе, зажглись два фонарика. Значит, Терешкин сказал правду: два часовых у калитки, два — у крыльца.
Много ли, мало ли людей находилось в эту позднюю пору в доме — никто из нас, разумеется, не знал. Возможно, там были одни дежурные, а возможно, все сотрудники отдела не прекращали работу и ночью. Ведь это был главный отдел штаба — оперативный.
Вместе с Якубовым я принял следующий план действий: бойцы-разведчики снимают часовых на улице и во дворе, становятся на их место и обеспечивают прикрытие моей группе, которая проникает в дом для захвата документов и «языка». Под грузовиками располагаются Якубов с Егоровым, Терешкиным и двумя бойцами, с тем чтобы обезопасить с улицы наши действия в доме. Операцию надлежало произвести бесшумно. Открывать огонь разрешалось только в самом крайнем случае, если гитлеровцы вдруг обнаружат и попытаются захватить нас.
Нам очень мешал шофер, торчавший у легковой машины. Он то болтал с часовыми, то, пытаясь согреться, прыгал, хлопал себя по бокам. К счастью, из штаба вскоре вышел какой-то офицер, сел в машину, и мы избавились от помехи.
Разведчики Якубова выполнили свою задачу блестяще. Перемахнув через забор, они подползли к часовым у калитки так тихо и так ловко, что те отправились к праотцам, даже не охнув. Затем были уничтожены часовые у крыльца и патрульные за домом.
Путь свободен!
Вся моя четверка поднялась на крыльцо особняка. Я взялся за дверную ручку. Что нас ждало там, за дверью: успех или смерть? Но раздумывать об этом было некогда.
В прихожей, освещенной светом электрической лампочки, за столом у телефона сидел пожилой ефрейтор. Увидев меня на пороге, он, вероятно, не сразу понял, кто скрывается под белым маскировочным халатом, и, только когда я направил на него автомат и тихо вымолвил: «Хэндэ хох!»[4] — он выпучил глаза, широко раскрыл рот, будто онемев от ужаса.
— Хэндэ![5] — повторил я.
Ефрейтор поднял руки. Колесов и Бодюков проскользнули мимо меня в коридор.
— Смотри за этим! — сказал я Рязанову.
Он вскинул автомат, направив его на ефрейтора. Тот дрожал как осиновый лист на ветру.
Я последовал за друзьями.
Захват штаба был проведен быстро. Застигнутые врасплох гитлеровцы не оказали никакого сопротивления ни в одной из комнат. Отобрав у всех оружие, мы согнали их в подвал, за исключением высокого сухопарого майора, восседавшего в отдельном кабинете. Я заставил его одеться и в сопровождении Бодюкова отправил на улицу, к Якубову. Таким образом, половина задания уже была выполнена — «язык», притом, по всей видимости, солидный, находился в наших руках. Оставалось заполучить документы. Мы обшарили ящики всех столов и сейф, стоявший в кабинете майора. Брали все бумаги, папки и тетради без разбора, торопливо рассовывали их по рюкзакам и карманам.
Перед тем как покинуть штаб, мы задвинули тяжелый железный засов на подвальной двери и заложили три зажигательные мины с часовыми механизмами в кабинете начальника отдела, под одним из шкафов в коридоре и у входа в подвал. Мины должны были взорваться через пятнадцать минут.
И все же в самом конце так удачно проведенной операции, нам не повезло. Нежданно-негаданно к штабу подкатили два гусеничных вездехода с солдатами: это шла смена караулов.
Якубов не стал дожидаться, пока разводящий обнаружит исчезновение часовых и поднимет тревогу. В вездеходы полетели гранаты, и их взрывы слились с дружной автоматной пальбой наших бойцов. Выскочив из штаба, моя четверка тоже открыла огонь и проскочила на противоположную сторону улицы.
Где-то вблизи надсадно взвыли сирены.
Караул, прибывший на вездеходах, был, очевидно, перебит нами полностью, но нам грозило окружение, и надо было уходить, не медля ни минуты… Стрельба нарастала, пули со свистом проносились над нашими головами, стучали о капоты и кузова грузовиков.
Если бы не пурга, мы, конечно, не смогли бы уйти. Но пурга и ночная темень мгновенно поглотили нас и прикрыли своей спасительной завесой.
Впереди шел Егоров.
За ним шагали Бодюков и Колесов, держа под руки Терешкина. Надо же было случиться так, что никто, кроме него, не пострадал. Одна из шальных пуль попала ему в ногу, вторая ранила в плечо.
На морозе он быстро терял кровь и слабел с каждым шагом.
— Бросайте меня, товарищи, — то и дело повторял он. — Зачем вам лишняя обуза?
— Тихо, Семен, — глухо покрикивал на него Колесов. — Все равно не бросим. Ты же вон какой здоровенный, выдюжишь…
И Терешкин, превозмогая боль и слабость, шел. Зато «язык» наш изматывал нам все силы. Он упирался, мычал, норовил выдернуть кляп изо рта. Пришлось связать его по рукам и ногам и тащить то волоком, то на плечах.
За озером мы перевязали раны Терешкина, затем с помощью рации передали на Большую землю рапорт об успешном завершении операции и просьбу встретить нас на пути следования.
К вечеру следующего дня мы уже были в штабе танкового дивизиона, машины которого были высланы нам навстречу. Оттуда нас доставили в штаб армии, где мы сдали «языка» и захваченные документы.
Терешкина не судили. Вскоре он выписался из госпиталя и был зачислен разведчиком во взвод Якубова, Не раз бывал он у нас в гостях и каждый раз клял своего дядьку, который толкнул его в ряды предателей.
Глава 7. ЧЕРЕЗ БОЛОТА
Наступило лето 1942 года.
Войска Западного фронта уже вели бои в Смоленской области, тесня противника на запад. Вместе с войсками перекочевывала и наша школа.
На передовых позициях стояло затишье. Днем изредка завязывались короткие перестрелки. Ночью, когда с обеих сторон начинали действовать разведчики, стрельба вспыхивала чаще и порой прокатывалась суматошно вдоль всего переднего края.
Участок, где моей группе предстояло перейти через линию фронта в тыл врага, находился среди болот, пересеченных узкими, извилистыми полосками суши. Кое-где над покрытой ряской, затхлой, застойной водой виднелись островки, густо ощетинившиеся осокой и камышом. Местные жители утверждали, что до войны на этих болотах водилось несчетное множество диких уток и гусей, теперь же, видимо напуганные грохотом пальбы, пернатые покинули родные гнездовья и перекочевали куда-то в более спокойные места. Остались лишь лягушки да пиявки. В жаркую пору дня лягушиное племя почти не проявляло признаков существования, но к вечеру, когда спадал зной, над болотами начинал звучать неумолчный разноголосый хор квакуш, слышный далеко окрест…
Первоначально полковник Теплов намечал перебросить мою группу в тыл противника на самолете, поближе к мосту, который нам надлежало взорвать, но оказалось, что в районе высадки стали сосредоточиваться крупные силы гитлеровцев, и полковник изменил свое решение. Ночи стояли лунные, безоблачные. Немцы без труда обнаружили бы наш самолет вблизи передовой и обязательно бы его сбили. Но даже в том случае, если бы нам удалось благополучно добраться на самолете до района высадки, прыгать с парашютами в такие светлые ночи в местах скопления вражеских войск было совершенно бессмысленно: нас или расстреляли бы в воздухе еще до приземления, или наверняка захватили бы в плен уже на земле…
К исходу короткой летней ночи майор Данильцев доставил меня и моих боевых друзей на грузовике сюда, в район болота, и мы обосновались в прибрежных кустах, в тени двух старых одиноких берез. Здесь нас встретил командир взвода разведчиков, который должен был обеспечить нашу переброску за линию фронта. Место перехода через болото было уже намечено. Два опытных разведчика-проводника должны были ночью вывести нас к цели, а для того чтобы скрыть наше движение, взводу разведчиков было поручено провести отвлекающую разведку боем правее от места перехода.
Томительным и бесконечно долгим показался нам этот день. Солнце припекало вовсю. Дышалось здесь, в болотистой местности, тяжело, по лицу катились струйки пота, пропитанная потом одежда липла к влажному телу.
Мы все изнывали от духоты, и только Колесов держался в этом пекле поистине стоически.
— Ничего, братцы, пар костей не ломит, — посмеивался он. — Есть оказия отоспаться вволю на солнышке.
И он уснул в самый полдень, распластавшись на прижухлой траве навзничь, могуче похрапывая. Горячие солнечные зайчики чуть шевелились на его взмокшем лице, ползали по его векам, а он спал и спал с таким видом, будто испытывал в этом сне истинное наслаждение.
Рязанов долго наблюдал за Колесовым, затем удивленно пожал плечами.
— Просто поразительно! И как он может?!
— Видно, кожа, у него дубленая, — заметил Бодюков.
День уже клонился к вечеру. Солнечный диск медленно опускался за горизонт, охватывая небосклон пламенем вечерней зари. Все громче квакали лягушки, точь-в-точь так, как за Кубанью. В воздухе закружились несметные полчища, мошкары. Она лезла нам в уши, в глаза, в ноздри, не давала покоя ни на минуту.
Лишь в одиннадцатом часу ночи командир взвода разведчиков — шустрый, тщедушный с виду лейтенант — привел нам двух проводников. Это были молоденькие солдаты в куцых шинелях, оба долговязые, в лихо сбитых набекрень пилотках, с закинутыми за спину автоматами.
«Уж больно молоды для: проводников!» — подумал я, критически разглядывая каждого при лунном свете, и хотел было сказать об этом взводному, но он, словно угадав мои мысли, промолвил:
— На этих ребят можете положиться. Они прошли со мной сквозь огонь, воду и медные трубы.
— Хлопцы бравые, сразу видно, — будто желая польстить проводникам, пророкотал баском Колесов и, достав из кармана кисет, протянул им: — Закурим, братцы, по одной.
— А мы некурящие, — отозвался один из них.
— Может, и непьющие? — лукаво спросил Бодюков.
— У меня почти нет курящих, — заметил взводный. — Разведчикам это ни к чему. А насчет выпивки — только фронтовые сто граммов, и то не перед делом.
— Эх, яблочко, вот это дисциплинка! — воскликнул Колесов.
— Такая уж служба у нас, — сказал взводный.
Над болотом одна за другой прошумели ракеты.
Хлопнув в воздухе, они осветили воду, камыш, дальние островки. Это ночные дозоры гитлеровцев начинали вести наблюдение за нашей стороной.
Мы с лейтенантом сверили часы…
Ровно в одиннадцать часов ночи группа вслед за проводниками двинулась сквозь заросли в глубь болота, строго на запад. Шли по узкой кочковатой тропке медленно, осторожно, то и дело останавливаясь и чутко прислушиваясь. Где-то справа от нас двигались два отделения разведчиков, держа направление на большой участок суши, далеко вдававшийся в болото с противоположной стороны. Там размещались основные огневые точки противника.
Лёгкая дымка, висевшая над болотом, несколько ослабляла видимость, но лично мне казалось, что этой ночью лунный свет необычайно ярок и что вокруг все видно почти так же, как днем. При вспышках ракет мы замирали на месте, выжидали, пока они погаснут, потом снова двигались вперед. От лягушиного хора звенело в ушах. Он, этот хор, очень помогал нам, скрадывая шум, тихие всплески воды под ногами, предательский треск камышей.
Наконец мы очутились перед широким открытым плесом. Кое-где из-под ряски проглядывала чистая вода.
— Стоп! — прошептал проводник, шедший впереди. — Теперь будем ждать.
Мы сгрудились на узком клочке суши за редкой стеной камыша, отделявшей нас от плеса. Слева и справа тоже виднелась вода.
— Что же это, братцы! — пробормотал Бодюков, оглядываясь по сторонам. — Дальше ведь чистейший омут. Поди, метров тридцать пять — сорок. Неужто вброд придется топать?
Я молча пожал плечами.
В это время к Рязанову, стоявшему у правого края нашей воистину малой земли, подошел один из проводников и протянул ему конец веревки.
— На, держи, браток… Наматывай помаленьку на руку. А мы с Тимофеем байду подтянем поближе к берегу.
Вскоре из камыша показался нос небольшой плоскодонной лодки. Солдат, которого звали Тимофеем, перебрался на нее, начал бесшумно вычерпывать деревянным ковшом воду, заполнившую лодку чуть ли не до половины высоты бортов.
Внезапно в той стороне, где лежал занятый врагом полуостров, вспыхнула кроваво-красная ракета, и тотчас же там началась оглушительная пальба. Треск автоматов слился с пулеметными очередями. Вокруг нас засвистели пули, и в первое мгновение мне показалось, что это обстреливают нас.
Быстро в байду! — глуховато выкрикнул Тимофей и скомандовал своему напарнику: — Сидор, на весла!
Я подтолкнул в спину Рязанова.
— Пошел, Вася!
В мгновение ока он очутился в лодке. За ним последовали остальные. Сидор оттолкнул лодку от берега, ловко перемахнул на корму.
Стрельба нарастала. Сильными рывками весел Сидор гнал лодку к зарослям, темневшим на противоположной стороне плеса. Слева, справа и впереди в небе вспыхивали ракеты. Сжав в руках автоматы, мы ждали, что вот-вот будем обнаружены и попадем под губительный огонь.
— Ничего, проскочим! — убежденно, с каким-то охотничьим азартом бросил Тимофей. — Тут самая глубь и топь. Немцы не суют сюда носа, трясин боятся…
Лодка со всего разгона влетела в густой камыш и так сильно ткнулась носом в сушу, что Колесов едва не вывалился за борт, благо его вовремя подхватили под руки Бодюков и Рязанов.
— Вперед! — махнул рукой Тимофей и, выпрыгнув из лодки, ринулся в заросли.
Мы едва поспевали за ним. Ноги вязли в тинистом грунте, местами приходилось продвигаться чуть ли не по пояс в воде. Вещмешки со взрывчаткой, казалось, тяжелели с каждым шагом.
Сидор, замыкавший шествие, то и дело поторапливал нас:
— Быстрее, быстрее! Уже недалеко!
Стрельба не утихала. В небе непрерывно полыхал свет ракет. А мы без всяких мер предосторожности мчались как угорелые по чавкающей почве, громко шурша камышом.
Заросли начали редеть, и вскоре мы очутились на совершенно сухом островке, поросшем какой-то невысокой, удивительно жесткой травой. Грунт был твердый, и просто не верилось, что здесь, на болоте, оказался лоскут такой земли. К западу от него раскинулась широкая водная гладь, пересеченная лунной дорожкой, к северу тянулась полоса редких камышей.
— Теперь осторожно! — предупредил шепотом Тимофей. — Глядите в оба!
Вслед за ним мы направились сквозь камыши на север, в ту сторону, где шла ожесточенная перестрелка. Подводная тропа была узкой. Стоило взять чуть левее или правее, ноги сразу теряли опору, погружались в какое-то мягкое бездонье. Это был самый страшный участок трясин, тянувшихся вдоль берега полуострова, занятого гитлеровцами. Немцы считали этот участок болота совершенно непроходимым и поэтому не держали его под наблюдением. И именно здесь разведчики отыскали одну-единственную тропу, которой не раз пользовались для выхода в тыл противника через трясины. Теперь они вели по этой тропе нас.
Трудно сказать точно, как долго мы шли. Занятый опасным балансированием на узкой полосе тверди, я ни разу не взглянул на часы. Берег полуострова приближался. Он то четко вырисовывался перед нами в свете ракет, то снова и снова растворялся во мгле ночи. У самой воды виднелись кудлатые ивы, похожие на каких-то диковинных животных, пришедших в ночи на водопой. За ивами вздымался хребет длинного бугра, на котором торчали стволы зенитных орудий. Стрельба шла где-то за бугром, совсем близко. Все внимание гитлеровцев было, очевидно, сейчас сосредоточено на том участке болота, откуда открыли огонь наши разведчики. Это дало нам возможность благополучно преодолеть непроходимые трясины и выйти на безлюдный, никем не охраняемый берег.
Проводники сопровождали нас до глубокой канавы, пересекавшей перешеек полуострова, и, простившись там с нами, отправились в обратный путь.
Стрелки часов показывали половину первого ночи. Таким образом, с того берега сюда, до канавы, мы добирались полтора часа. Не так уж и много, но эти полтора часа всем нам показались почему-то очень и очень долгими. В те минуты никто из нас и не подозревал, что вскоре нам придется провести всего полчаса в такой обстановке, когда чуть ли не каждая секунда кажется вечностью…
Задерживаться в непосредственной близости от переднего края, под боком у противника, было крайне опасно. Выждав немного и осмотрев из канавы окружающую местность, мы решили уходить на запад, в леса, чтобы отдохнуть там и затем двинуться дальше, в район расположения «нашего» моста.
Метрах в двухстах от канавы, параллельно ей, пролегал большак, уходивший куда-то на север. Южнее перешейка лежало крупное село. Оттуда, несмотря на позднюю ночную пору, почти непрерывным потоком двигались по большаку колонны грузовиков с выключенными фарами. Было похоже на то, что перестрелка, все еще продолжавшаяся на болоте, вызвала в селе панику и заставила немцев произвести срочную эвакуацию каких-то тыловых частей в более безопасное место.
Нам предстояло перейти через большак: иного пути не было. Полуночная луна, как назло, ярко светила. Когда-то я любил подобные ночи, мог подолгу восторженно глядеть на сияющий лик луны, но сейчас я глубоко ненавидел ее. Видимо, то же самое чувство испытывали и мои друзья. Не зря у Бодюкова вырвалось в адрес луны:
— С немцами кокетничает, шельма. Чтоб она лопнула, окаянная.
Хорошо, что хоть пыли было на большаке изрядно. Она вырывалась из-под колес грузовиков, плыла за колоннами длинным шлейфом и медленно оседала на придорожных кустах и траве.
Мы решили воспользоваться этой естественной маскировочной завесой. До большака добирались по-пластунски, ползком, волоча мешки со взрывчаткой по земле. Залегли в придорожном кювете, среди бурьяна, и, выбрав момент, когда мимо прошла одна из колонн, нырнули в пыльный шлейф.
Невдалеке от большака начинался невысокий редкий кустарник. Мы пробрались через него все так же, по-пластунски, и тут нежданно-негаданно очутились перед линией свежевырытых окопов с разветвленной сетью ходов сообщений и углублениями для пулеметных гнезд. Очевидно, немцы подготовили этот оборонительный рубеж на случай, если наши войска потеснят их от болота.
Перестрелка у полуострова уже прекратилась. Все реже и реже там взвивались ракеты. Вокруг снова стояла тишина, нарушаемая лишь кваканьем лягушек да рокотом моторов грузовиков, все еще катившихся по большаку.
Я поручил Колесову и Рязанову проверить, есть ли охрана в окопах и куда можно выбраться по ним. В окопах не было ни души. Они тянулись почти параллельно большаку на север и на юг. Южный край их, видимо, подходил к самому селу, северный — упирался в продолговатый пригорок, где был устроен прочный капонир.
Спустившись в окопы, мы двинулись на север, обогнули по ходу сообщения капонир и вышли на кукурузное поле, примыкавшее к грунтовой дороге. Дальше минут сорок шли по полям, вначале между рядами рослой кукурузы, затем среди подсолнечников. Передний край и болота остались далеко позади, но мы все время держались настороженно.
Начались перелески, а когда забрезжил рассвет, впереди показался лес. Здесь можно было несколько расслабить нервы в обстановке хотя бы относительной безопасности. И мы шли широко, размашисто, предвкушая близость отдыха.
В полукилометре слева на пригорке замаячили избы какого-то хуторка. Пошел низкорослый, молодой, вперемежку с кустами ежевики березняк, под ногами зашуршала высокая сочная трава, покрытая росой. Из травянистого темно-зеленого ковра на нас приветливо поглядывали желтые лютики, голубые васильки, пестрые колокольчики. Где-то стучал дятел, и, словно ведя счет ударам его клюва, куковала кукушка. Среди березок звонко, заливисто запела иволга, вслед за ней заворковала горлица.
— До чего же хорошо, братцы! — тихо воскликнул Бодюков и дважды точь-в-точь повторил крик иволги.
— Благодать! — пробасил с улыбкой Колесов. — Вот так и у нас, на Смоленщине. Выйдешь к Березине на восходе солнца, и душа запоет..
— А ты, Коля, оказывается, тоже поэт! — заметил Рязанов.
— Эх, яблочко, куда мне до Борьки! — отмахнулся Колесов. — У него талант по этой части. А я что, так, только любитель изящной словесности.
Бодюков писал неплохие стихи, теплые, задушевные, до войны печатался в газетах. И теперь не расставался с маленькой тетрадкой, где хранил самое удачное из написанного им на фронте. Но каждый раз, когда мы рекомендовали ему направить что-нибудь в дивизионную или армейскую газету, он неизменно отвечал одно и то же:
— Не для печати это, ребята! Для души. Разведчик я, а не поэт сейчас!..
До леса оставалось шагов двести, не больше. Березняк вдруг оборвался, и мы увидели песчаную дорогу, пролегшую широкой серой лентой между опушкой леса и березняком. К ней под углом примыкала другая, выходившая из лесной просеки.
Невдалеке над лесом взметнулась стая галок и, оглашая воздух тревожными криками, закружилась низко над деревьями. Это насторожило меня. Я поднял руку, давая знак остановиться. Друзья вопросительно уставились на меня.
— Потише, товарищи! — прошептал я. — Галки не зря всполошились. На всякий случай надо разведать, нет ли кого в лесу. Хутор рядом. На дороге свежие следы машины. Как бы на немцев не нарваться…
Произвести разведку мы не успели. Совсем близко, на просеке, громко затарахтел мотор, послышались голоса.
— Ложись! — махнул я рукой.
Мы повалились в высокую траву, среди березок и кустов ежевики. В это время из просеки выехал грузовой «опель», подталкиваемый немецкими солдатами. Колеса машины буксовали на песке, а солдаты с покрасневшими от натуги лицами что-то орали, гикали. Я насчитал их свыше двадцати. Враг был рядом, на развилке дорог, в нескольких шагах от нас.
Мотор ревел все надсаднее, потом оглушающе захлопал и заглох. Из кабины вылез толстый ефрейтор-шофер с лоснящимся от пота лицом, поднял капот и начал рыться в моторе… Солдаты, галдя, окружили его. Шофер обозленно вскинул голову, набросился на них. Не знаю, что он кричал, но надо полагать, это была какая-то самая отборная брань. Солдата огрызались, и тогда шофер, чуть ли не срывая голос, завопил:
— Вэк! Вэк! Вэк![6]
Гитлеровцы отошли от него. Одни начали оправляться, другие полезли в кузов за ранцами с продуктами, третьи задымили сигаретами и расселись на траве. Двое направились по дороге в ту сторону, где лежали мы. Их облик запомнился мне на всю жизнь. Оба в мундирах темно-зеленого цвета, в коричневых сапогах с короткими, расширяющимися кверху голенищами. Распахнутые на груди куртки, рукава, засученные до локтей. У того и у другого автоматы, подвешенные ремнями на шею.
Ближе к краю дороги шагал белобрысый рослый детина лет тридцати. На его взмокший лоб из-под пилотки падали светлые кудри. Сросшиеся на переносице широкие брови, тяжёлый отвисший подбородок и близко посаженные друг к другу глаза придавали его лицу какое-то хищное, выражение. Правая рука его лежала на автомате, левая упиралась в бок. Дымя сигаретой, он с ухмылкой слушал своего дружка, как-то сонно поглядывал по сторонам. Второй солдат — невысокий, тощий, вертлявый — тараторил без умолку, гримасничал и усиленно жестикулировал сухими жилистыми руками. Черноволосый, смуглолицый, с тонкими черными усиками под длинным носом и быстрыми глазами, он чем-то напоминал хорька, выскочившего из норы порезвиться.
Мы лежали, плотно прижавшись к земле, не шевелясь, затаив дыхание и не спуская с них глаз. Наши автоматы были на взводе, под рукой у каждого по паре гранат.
Искоса поглядывая на друзей, я видел, какое напряжение испытывали они. Побледневший Колесов нервно покусывал губы, и на его скулах медленно шевелились желваки. Бодюков, уткнувшись подбородком в землю, узко сощурил глаза, дышал тяжело, прерывисто. Его взгляд то переносился к развилке дорог, то возвращался к немцам, приближавшимся к нам. Рязанов жевал стебелек травы и судорожно, рывками стискивал гранату, лежавшую у щеки.
Белобрысый остановился, посмотрел на лес, затем обернулся на восход, где искрилось поднимавшееся солнце, скользнул взглядом по верхушкам молоденьких берез, под которыми лежали мы, и сел на землю у придорожного куста, спиной к нам. Второй немец последовал его примеру.
— Шэн! — промолвил белобрысый, потянулся и хлопнул своего дружка по плечу: — Шпиль мир этвас![7]
Черноволосый извлек из нагрудного кармана губную гармошку, вытер ее ладонью и заиграл какой-то марш. Играл он мастерски, но каждый звук этого марша отзывался в моей душе каким-то леденящим эхом. «Кто знает, — подумал я, — не в последний ли раз пиликает этот солдат на своей гармошке и не последний ли раз приходится мне слушать музыку…». Разумеется, он, немец, был куда в более выгодном положении, чем мы. Он не знал, что сейчас смерть подкарауливает его сзади, а мы вот уже несколько минут смотрели смерти в глаза.
Задорно звучала мелодий марша.
А мы лежали, точно прикованные к земле, зарывшись в траву, и были вынуждены слушать болтовню и игру заклятых, ненавистных врагов. Каждая секунда казалась вечностью. Хотелось открыть огонь, ринуться очертя голову на врага, чтобы избавиться наконец от этой пытки…
С момента появления гитлеровцев у развилки дорог прошло уже полчаса. Каких чудовищных полчаса! Марши сменялись вальсами, вальсы — польками. Шофер возился с мотором. Солдаты ржали, резались в карты, слонялись вокруг грузовика, но, к нашему счастью, никто из них не составил компанию любителям музыки, сидевшим против нас.
Наконец снова заработал мотор. Клянусь, его тарахтение показалось мне лучшей мелодией из всех, слышанных мною до этого в жизни.
Солдаты засуетились.
— Генуг! Цайт цу фарэн![8] — гаркнул белобрысый, проворно вскочил на ноги и побежал к машине. Музыкант рванулся вслед за ним.
Бодюков крепко стиснул мою руку, лица Колесова и Рязанова просияли.
Гитлеровцы торопливо взбирались в кузов. Шофер опустил капот, вытер тряпкой руки и забрался в кабину.
— Как бы мотор опять не заглох! — промолвил с опаской Рязанов.
— Может, и впрямь отползти на всякий случай? — предложил Бодюков.
— Тише вы, черти! — зашипел на них Колесов.
Нет, на этот раз мотор не подвел ни немцев, ни нас. Грузовик развернулся, выехал на середину дороги и покатил к хутору. Мы наблюдали за ним до тех пор, пока он не скрылся за избами.
Прежде чем перебраться в лес, я все-таки решил произвести предварительную разведку. Минут двадцать Рязанов и Бодюков осматривали чащу вдоль просеки, но ничего подозрительного не заметили.
Бессонная, тревожная ночь и опасность, которую нам довелось пережить у развилки дорог, изрядно вымотали наши силы. Забравшись поглубже в лесные чащобы, мы наспех позавтракали и завалились спать.
Первым дежурил я. Веки слипались. Голова то и дело клонилась книзу, и, чтобы не заснуть, я курил одну папиросу за другой. Через два часа меня сменил Рязанов.
— Смотри, Вася, в оба, — сонно пробормотал я, подсунул под голову вещевой мешок и блаженно вытянулся на перепревших листьях…
Следующая ночь выдалась ветреная, облачная. Луна изредка выглядывала из-за туч, стремительно мчавшихся на запад. Вдали полыхали зарницы, пахло грозой. Но гроза так и не собралась.
Мы шли всю ночь по лесам и лугам, подальше от проселков, большаков, в обход селений. Короткие привалы, и снова в путь. По дорогам в сторону линии фронта двигались вражеские войска — моторизованная пехота, артиллерийские и танковые части, деревни и села кишели гитлеровцами. Сведения агентурной разведки о концентрации сил противника в этом районе полностью подтверждались.
Незадолго до рассвета мы вышли к реке, на которой располагался «наш» мост. Еще с час двигались вдоль берега. Уже занималась заря, когда мы, обогнув излучину реки, увидели впереди двухпролетный мост и железнодорожную насыпь, подступавшую к нему с обоих берегов. Вокруг лежала пересеченная местность: холмы, балки, овраги. За железнодорожной насыпью на левом берегу виднелся лес, на правом — раскинулось село с деревянной церквушкой. От села до насыпи было не менее полукилометра. Широкие приречные полосы с южной стороны насыпи, то есть там, где находились мы, на том и на другом берегу были в основном засеяны рожью, и только вблизи моста тянулись поля подсолнечника и кукурузы. Кое-где в нивы ржи вгрызались извилистые овраги, поросшие по краям терновником и дикой смородиной. В одном из таких оврагов и расположилась моя группа. Сквозь колючий густой кустарник нам хорошо были видны мост, подступы к нему и река на всем протяжении от излучины до моста.
Судя по лесам, еще не убранным с каменного промежуточного быка, мост был восстановлен совсем недавно. Левобережный пролет состоял из высоких клепаных металлических балок, видимо уцелевших после взрыва и извлеченных затем из воды немецкими саперами. Правобережный пролет был построен заново из деревянных балочных ферм.
Река очень напоминала мне Кубань: такая же мутная вода, такое же быстрое течение с бешеными водоворотами и хлопьями пены.
К мосту можно было бы пробраться вплавь, если бы не патрульный катер, довольно часто сновавший в районе переправы. Таким образом, вариант взрыва с воды сразу отпадал. Оставалось одно — действовать с суши, Но как? Чтобы решить этот вопрос, надо было прежде всего изучить систему охраны моста: где находится караульное помещение, каково число часовых, как часто происходит смена постов и где стоят эти посты. Не располагая такими сведениями, невозможно разрабатывать план операции…
День прошел спокойно. До вечера через мост проследовало шестнадцать поездов: одиннадцать на восток, к фронту, пять на запад. В третьем часу дня над рекой на большой высоте пролетела эскадрилья наших бомбардировщиков под прикрытием девяти истребителей. За насыпью захлопали зенитки. Крупнокалиберные били из лесу, легкие, автоматические, — со стороны села. Черные комья разрывов впивались в лазурный небосвод очень близко от краснозвездных самолетов, которые, не нарушив строя, проплыли на юго-запад. Вблизи нас нигде не было ни одной зенитной батареи. Очевидно, нивы низкорослой, отливавшей золотом ржи не устраивали немецких зенитчиков в смысле маскировки. Нам это обстоятельство было, разумеется, на руку и в значительной мере гарантировало нас от возможности случайно попасться на глаза гитлеровцам. Катера мы не опасались днем: он не подходил к берегам. Немцы ограничивались обзором береговых полос в бинокли и уж, конечно, не могли заметить нас, притаившихся в поросшем бурьяном овраге.
Наконец наступили долгожданные сумерки. Разрозненные тучки, весь день бродившие по небу, снова начали собираться в огромные стада и, гонимые ночным ветром, понеслись с севера на юг, заволакивая плотной пеленой звездную россыпь и все ярче сиявший лунный лик…
Пора приступать к исчерпывающей разведке одновременно на обоих берегах. Колесова и Рязанова оставляю на правом берегу, сам вместе с Бодюковым отправляюсь вплавь на противоположную сторону реки. Над мостом время от времени вспыхивает свет ракет. Выжидаю, пока патрульный катер пройдет вниз по течению. Теперь, ночью, он представляет для нас большую опасность, так как на его носу установлен легкий прожектор, шарящий ярким лучом по воде. Плывем налегке — без автоматов, в одних трусах, взяв с собой лишь пистолеты, ножи и по паре гранат. На руке у меня водонепроницаемые часы. Вода приятная, прохладная, какой она обычно бывает по ночам в середине лета. Я плаваю хорошо с детства. Не раз с ватагой мальчишек приходилось мне на спор переплывать без передышки бурную Кубань туда и обратно в районе краснодарских кожевенных заводов, где особенно много грозных водоворотов. За Бодюкова тоже можно не волноваться, плавает он не хуже меня. Когда взвиваются ракеты, мы скрываемся под водой, затем снова плывем то саженками, то брассом, рядом друг с другом, быстро, как на состязаниях.
Вот и правый берег. По траве вдоль нивы направляемся к мосту. Идти босиком, без одежды легко, свободно. Шагов наших не слышно, только чуть шуршит трава под ногами.
Кончилась нива. Дальше приходится двигаться ползком. До насыпи уже рукой подать, и мы замираем в травянистой ложбинке под прикрытием невысокого куста.
По насыпи, у грибка, установленного перед мостом, шагает часовой. Когда из-за туч выглядывает луна, мы видим отчетливо его силуэт. Немец без шинели. На груди автомат. Изредка он сигнализирует карманным фонариком своему напарнику. Тотчас тем же сигналом ему отвечает другой часовой, стоящий на противоположном конце моста. Тот и другой постреливают время от времени из ракетниц.
Мы лежим уже сорок минут. Надо выяснить, как часто происходит смена постовых и откуда появляется со сменой разводящий.
Становится прохладней, нас начинает познабливать, тело покрывается пупырышками.
Внезапно в тишине раздается дребезжание звонка.
Часовой подходит к грибку, под которым висит телефон, и что-то говорит.
Несколько минут спустя до нас долетает шум шагов. Все громче, ближе стучат кованые каблуки по деревянному настилу моста. Часовой включает фонарик, направляет его свет на двух солдат, приближающихся к нему по мосту. Это разводящий и очередной постовой. Происходит смена…
Мне ясно: караульное помещение находится по ту сторону моста. Охрана не напугана, довольно слабая. На самом мосту ни собак, ни патрулей, ни спаренных постов. Проверка караулов ограничивается редкими телефонными разговорами и примитивной световой сигнализацией. Видимо, здесь, в тылу, охранники чувствуют себя в безопасности и вполне спокойны за мост. Что ж, это намного облегчает нашу задачу. Катер можно не принимать в расчет, ведь нам придется действовать с суши. Главное, чтобы он не помешал нам перебраться на правый берег.
Проходит еще час. Снова сменяются часовые. Значит, постовые дежурят по часу. Именно в этот сравнительно короткий промежуток времени и должен быть произведен взрыв.
Можно возвращаться на левый берег. На этот раз мы переплываем реку выше излучины, подальше от моста. Здесь переправляться безопасней и легче: отдаленный свет ракет не так ярок, и, кроме того, с левого берега, чуть ли не до половины реки, здесь простирается отмель, так что плыть, приходится меньше. А ведь нам предстоит перебросить на себе всю взрывчатку.
Следующий день уходит на разработку детального плана операции и на подготовку к ней. Непрерывно наблюдаем за мостом. По-прежнему то к фронту, то в тыл идут поезда. У моста они не задерживаются, лишь значительно снижают скорость. Признаков каких-либо, изменений в жизни переправы и ее охраны не замечается. Все так же патрулирует дозорный катер, и, очевидно, все так же в строго установленное время сменяются часовые. С наступлением сумерек над мостом снова начинают вспыхивать ракеты…
Погода благоприятствовала нам. С вечера заморосил мелкий дождь. Луна совсем не выглядывала из-за туч, будто старалась искупить свою вину перед нами за прошлые ночи. Теперь уж мы не роптали на нее, и, хотя ночь была довольно-таки светлой, на душе у нас было куда спокойнее.
Переправлялись мы на правый берег за излучиной реки, у отмели. Как только катер уходил к мосту, мы пускались вплавь и так, постепенно, перебросили все свое имущество и взрывчатку с одного берега на другой. На долю каждого выпало переплыть реку четыре раза. Что и говорить, плыть с грузом было нелегко, но никто не жаловался на усталость. Нервное напряжение, в котором находились мы в преддверии ответственного и опасного дела, видимо, удесятеряло наши силы.
К насыпи мы подползли во втором часу ночи, вскоре после того, как через мост проследовал один из товарных составов на запад. До смены постов пришлось ждать около двадцати минут.
Часового бесшумно сняли Колесов и Бодюков, Рязанов тотчас занял его место и, дав сигнал ручным фонариком часовому, стоявшему на противоположном конце моста, зашагал взад-вперед у грибка.
Только теперь мы заметили, что за насыпью, совсем близко, стояли палатки зенитчиков. Вполне возможно, что между охраной моста и зенитчиками существовала какая-то условная сигнализация на случай опасности, но раздумывать об этом сейчас было уже поздно. Мы с Бодюковым и Колесовым спустились под настил моста и по нижним поперечным связям дощато-гвоздевых ферм начали пробираться к каменному устою.
Вспыхнула ракета. Не успела она погаснуть, как по стенкам ферм скользнул луч прожектора с катера, приближавшегося к мосту со стороны излучины. Вот он прошел под правобережным пролетом, развернулся у быка и, пройдя под левобережным пролетом, направился снова к излучине. Эти несколько минут мы пролежали, прижавшись к широким доскам нижних поясов ферм, затем двинулись дальше. Теперь наибольшую опасность для нас представлял телефонный звонок. Вдруг он задребезжит у грибка, Рязанов, разумеется, ничего не сможет ответить на телефонный окрик начальника караула или разводящего, и тогда сразу раздастся сигнал тревоги. А это означало бы наш провал, то положение, из которого выйти было почти невозможно. Разве только бросаться в реку прямо с ферм или с устоя… Но пока телефон молчал. Я отчетливо слышал шаги Рязанова, видел свет фонарика, вспыхивавшего по временам в его руке.
И вот наконец промежуточный устой. Мы с Колесовым нырнули под клепаные балки левобережного пролета, начали закладывать заряды под шарнирные опоры средних балок. Бодюков делал то же самое под опорой из дощато-гвоздевых ферм. Главное — обрушить левобережный металлический пролет, восстановление которого отнимет у немцев очень много времени. С дощатыми фермами проще. Две бутылки с горючей жидкостью, заложенные рядом с толом, мгновенно воспламенят во время взрыва дерево, и огонь завершит то, чего не сделает тол.
Телефон все еще молчал. Где-то над нашими головами хлопали ракеты. Вдали, у излучины реки, тарахтел мотор катера. Мы работали с лихорадочной поспешностью, следя, однако, за тем, чтобы в этой спешке не допустить какой-нибудь ошибки. Уж если рисковать жизнью, то не зря.
Затлели бикфордовы шнуры.
Мы уже были у береговой опоры, когда внезапно в ночную тишь ворвался резкий звонок телефона под грибком. Вслед за мной Колесов и Бодюков соскользнули с нижнего пояса крайней фермы на уступ опорной стенки. Тут нас и увидел Рязанов, свесившийся через перила.
— У меня чуть сердце не оборвалось от этого проклятого звонка! — бросил он приглушенно.
— Все в порядке, Вася! — улыбнулся я. — Пусть звенит, хоть треснет! — И махнул рукой. — Спускайся с насыпи.
Телефонный звонок повторился.
Рязанов сбежал с насыпи и помог нам выбраться на берег.
— Теперь, хлопцы, бегом! — тихо скомандовал я.
Мчались мы во всю прыть, а позади, у моста, выла сирена. За насыпью на том и другом берегу зажглись прожекторы. Их лучи заскользили по мосту, по черной речной воде, по железнодорожному полотну. Под тучи скопом взлетали ракеты. Оглянувшись, я увидел, как с левого и правого берегов к каменному устою неслись гитлеровцы. Очевидно, они сообразили, что угрожает мосту.
— Не успеют! — хрипловато пробасил Колесов, и, точно в подтверждение его слов, почти тотчас же произошел взрыв. Левобережный пролет с грохотом полетел в реку, а над вздыбившимися дощатыми фермами заплясали длинные языки огня. Зарево быстро разгоравшегося пожарища все выше поднималось к небу, шевелило тьму, отбрасывало на золотистые нивы ржи и на воду багровые отблески.
Добравшись до излучины реки, мы свернули на север и через час пересекли большак, за которым начинался лес.
Здесь, в лесу, позволили себе немного отдохнуть, затем отправились, дальше, к линии фронта. Сколько мы прошли в ту ночь, трудно сказать. Знаю только, что к рассвету ноги у меня подкашивались от усталости, а в груди хрипело, как у загнанной, лошади…
Весь следующий день отдыхали в тесном, прохладном погребке какого-то сожженного дотла селения. До передовой оставалось километров двадцать. Там все еще царило затишье: ни гула канонады, ни тяжкого уханья бомб.
К вечеру начала собираться гроза.
Когда мы вышли к переднему краю, разразился ливень. Он был как нельзя кстати. Немецкие солдаты отсиживались либо в землянках, либо в окопах, под плащ-палатками, и я полагал, что нам удастся без особого труда проскочить сквозь вражеские цепи.
Больше трехсот метров мы проползли среди редких кустарников, пока отыскали неглубокий овраг, который, вклинившись между смежными окопами немцев, расширялся в сторону нейтральной полосы. Сейчас в нем клокотала вода. Гром, шум ливня, рев потоков, сливавшиеся в сплошной могучий гул, полностью скрадывали тот плеск и шум, который вызывали мы, продвигаясь оврагом чуть ли не по грудь в воде.
На нейтральной полосе мы выбрались из оврага, и тут при вспышке молнии кто-то из вражеских дозорных заметил нас. Раздался резкий крик:
— Хальт!
И сразу уже в два голоса:
— Ди руссэн!
— Алярм!
Застрочил автомат.
Я метнул гранату в ту сторону, откуда стреляли, и вдруг почувствовал, как что-то тупо ударило меня в плечо. «Ранен!» — мелькнуло в голове. Правая рука повисла как плеть, зашумело в ушах.
Немцы открыли сильный огонь. Бодюков, Колесов и Рязанов соскользнули в балку. Превозмогая боль в плече, я последовал за ними, но так и не дополз до балки, почувствовал, что теряю сознание.
— Командир, где ты? — окликнул меня Колесов.
— Валентин Петрович! — встревоженно выкрикнул Рязанов.
Несколько мгновений я ничего не видел, не слышал, не чувствовал, потом очнулся от нестерпимой боли. Меня волок в балку по грязи Бодюков.
В это время одна из вражеских пуль ранила его в ногу.
На помощь к нам спешили наши бойцы, и вскоре мы уже были в безопасности, среди своих.
Бодюкова и меня немедленно отправили в медсанбат.
Глава 8. НЕ ВСЕГДА УДАЧНО
Наконец-то настал тот долгожданный день, когда меня выписали из госпиталя. Вернувшись в команду авиадесантников, я прежде всего явился к полковнику Теплову доложить о своем прибытии.
Полковник встретил меня по-отечески душевно, усадил на диван и, обняв за плечи, сказал:
— Выглядишь ты молодцом, вот только побледнел немного. Отдохнуть тебе, пожалуй, надо, сил снова набраться.
— А у меня, товарищ полковник, и сейчас силы хоть отбавляй, — ответил я. — Отдохнул в госпитале как нельзя лучше. Надоело бездельничать, да и по ребятам соскучился.
— Они тоже, и еще как! — сказал Теплов. — Уши майору Данильцеву прожужжали расспросами: «Как там Игнатов?», «Скоро ли вернется?», «К нам попадет или куда в другую часть?» Хорошие подобрались у тебя друзья. — Он похлопал меня по плечу. — Ну, беги к друзьям. Кстати, расспроси Колесова и Рязанова, как они недавно в тылу противника побывали.
— А Бодюков где же?
— Здесь он. Правда, чуть прихрамывает еще, но уже на дело просится. Такой же, как и ты, непоседа.
Простившись с полковником, я помчался в общежитие.
Бурно-радостной была встреча с боевыми друзьями. Обнимались, тискали друг друга. Разговорам и воспоминаниям о прошлых боевых операциях, казалось, не будет конца.
— Что же вы, братцы, не рассказываете, как без меня тут воевали? — обратился я к Колесову. — Говорят, вы славно поработали в тылу врага.
Колесов насупился.
— Издеваешься?
— Что ты, Коля! Полковник сказал, что вы летали на задание.
— А больше он ничего не говорил? — усмехнулся Рязанов.
— Ничего.
— Да, Коля и Вася наработали тут, — промолвил с ехидцей Бодюков. — Удивляюсь, почему их к наградам не представили на этот раз.
— Хватит тебе! — буркнул недовольно Колесов.
— Это почему же? — насмешливо покосился на него Бодюков. — Ты уж поделись опытом с командиром. Ему еще не приходилось бывать в таких переделках.
Рязанов поскреб затылок.
— Опыт дай боже. Вся учебная команда над нами смеется.
— Почему? — удивился я.
— Пусть Николай расскажет, — прыснул Рязанов. — У него это здорово получается.
Я обернулся к Колесову.
— Ну, Коля, не тяни резину. Выкладывай, что случилось.
Колесов поморщился, смущенно шмыгнул носом и, чувствуя, видимо, что я не отстану от него, пока не узнаю правды, неловко улыбнулся, пробасил:
— Эх, яблочко, слушай уж. Ни я, ни Вася не виноваты в случившемся.
— Опять оправдываешься? — поддел его занозистый Бодюков.
Колесов отмахнулся от него, как от надоедливой мухи, и начал свой рассказ:
— Задание было ответственное. Командование фронта решило высадить танки в тылу врага для выполнения сложной боевой операции, ну а нам, то есть мне и Рязанову, Теплов приказал разведать подходящее место для десанта и сообщить об этом по радио. Радиста нам прикомандировали толкового, знающего свое дело парня и отважного к тому же.
Сам понимаешь, нам хотелось выполнить задание на «отлично». Мы с Васей накануне вылета всю ночь не спали, обдумывали, как и что будем делать, условные сигналы разработали. Словом подготовились, что надо Перед самым отъездом еще раз проконсультировались у майора Данильцева. Он одобрил все наши заметки да еще и сказал напоследок: «Уверен, что вы не подкачаете!» Уж лучше бы он не говорил этого…
Колесов неторопливо достал из пачки сигарету, помял ее пальцами и, закурив, повел речь дальше:
— Ну так вот, доставили нас на аэродром. Погода аховая. Дикий ветрище и тьма египетская. На земле еще терпимо, а в воздухе, сам знаешь, как бывает в такую непогодь. Самолет наш из стороны в сторону болтается, трещит по швам. Может быть, и обошлось все, если бы на ту беду противник не обнаружил нас. Вначале одним прожектором нащупали, а потом еще двумя прихватили. Вокруг снаряды рвутся, дырявят осколками нашу машину. Командир корабля начал маневрировать, чтобы, значит, из слепящих лучей вырваться и из-под обстрела уйти. Самолет то вниз камнем летит, то вверх взмывает. Мы за сиденья уцепились, сидим ни живы ни мертвы. Вдруг нас будто подхватил кто и на пол швырнул. Слышу взрыв, треск и звон какой-то. Потух свет. Командир с трудом выровнял машину. Прожекторы потеряли нас. Их лучи шарили теперь меж туч правее и выше. Штурман с ручным фонариком возился у разбитой приборной доски. Рация самолета тоже вышла из строя. Летим вслепую, как говорится, куда кривая вывезет.
Мы обступили штурмана, посвечиваем ему фонариком, а он то на карту, то на часы поглядывает.
— Ну, что там у тебя? — крикнул ему командир корабля. — Определил, где находимся?
— Да вроде по курсу идем! — отозвался штурман, но в голосе его нет ни твердости, ни уверенности.
«Завезут нас к чертовой бабушке! — подумал я. — Им-то что? Вышвырнут из самолета и назад повернут. А нам каково будет?»
По времени мы уже давно должны были быть на месте, но попробуй разгляди какие-нибудь ориентиры на земле в такую ненастную ночь. Оставалось только на слово штурману верить. Он то лоб рукой трет, то волосы ерошит и что-то в уме прикидывает.
Вася ему:
— Не лучше ли назад вернуться?
А он сразу в пузырь полез.
— Не указывайте мне. Ваше дело приказ выполнять. Доставим на место, тогда сами собой распоряжайтесь.
Больно упрямый. С таким каши не сваришь. Примолкли мы, только смотрим, как он колдует у своей доски.
Наш радист Федюнин предложил свои услуги: давайте, мол, нашей портативной рацией с командованием свяжемся, но в это время штурман крикнул:
— Приготовиться!
Мы сразу к двери бросились. Штурман еще минуты две выждал, потом скомандовал:
— Пошел!
И мы «пошли» один за другим вниз. Небо уже серело. Явно запоздали мы с высадкой, но особого беспокойства я не испытывал. Главное, все же добрались до места, где, судя по данным нашей разведки, немцев было совсем мало, да и те отсиживались в селах, подальше от лесов и болот.
Приземлились мы на какой-то поляне. Кругом лес. Трава по колено. Все вроде чин по чину. Зарыли мы парашюты в землю, подкрепились малость, а когда совсем посветлело, начали карту рассматривать. Надо искать схожие ориентиры: перекресток проселочных дорог, безымянную речушку с мостом и ветряк на пригорке. Вскоре нашлась речушка, но никакого моста на ней поблизости не было. Наконец и перекресток проселков нашелся, а пригорок с ветряком словно сквозь землю провалился.
— Что-то не то! — сказал я.
А Вася и говорит:
— Давай к какому-нибудь селу путь держать. Узнать надо название окрестных сел, тогда уж можно будет сориентироваться по карте.
— Это как же, расспросами заниматься? — спросил Федюнин.
— Зачем расспросами, — ответил Вася. — Может, где на дорожные указатели наткнемся.
Ну и пошли мы по проселку вдоль лесной опушки.
Вдали слева показалась какая-то деревенька. Как назло, на дороге ни одного указателя. Обычно немцы этих знаков и указателей где надо и не надо натыкают, а тут ни одного. Оторвались мы от леса, вошли в кусты, что на берегу речушки курчавились. И вдруг видим — ковыляет по проселку дед с палкой в руке, седобородый, в полотняной сорочке. Лето, а на ногах у него валенки, на голове высокая овчинная шапка. В нашу сторону идет, вот-вот с нами поравняется.
Я обрадовался такой оказии: наш же ведь, советский дед, не немец. Высовываюсь из кустов и кричу:
— Дедусь, подойди-ка на минутку!
Старик остановился, оторопело глянул в нашу сторону, затем как даст стрекача, только пыль из-под валенок летит.
Вася за ним вдогонку, настиг, схватил за руку, к кустам потянул. И мы с радистом тут как тут подоспели.
— Что же это ты, дедусь, от своих драпаешь? — сказал я деду с укоризной.
Запыхавшийся старик испуганно смотрел на нас, и я подумал, что это не иначе как бывший кулак, раз от нашего брата, советских бойцов, улепетывать вздумал.
— Не бойся, папаша, — сказал я как можно ласковее. — Кто ты и куда идешь?
— Я-то? — переспросил старик и промолвил трясущимися губами: — Известно кто: колхозник. В гостях у дочки был, а теперь домой топаю.
— Больно вы напуганы, дедушка, — сказал Вася. — Видно, нет житья вам в неволе.
Старик промолчал.
«Холуй немецкий, — снова подумал я. — Кому неволя, а ему гитлеровцы, видно, по душе пришлись».
— А что это за село впереди? — спросил Федюнин. — Называется как?
— То Кочетовка, — ответил дед.
— И еще есть села поблизости?
— Знамо, есть.
— Какие?
— Леворучь от Кочетовки — Носовка, праворучь — хутор Буденновский, а за Кочетовкой, у самой железки, — Березовка.
— Гарнизоны большие в селах? поинтересовался я.
— Хватает, — ответил старик и, осмелев немного, в свою очередь, спросил: — А вы кто же будете?
— Как — кто? — воскликнул я. — Разве не видишь? Красноармейцы. От части своей отстали, из окружения выходим.
— И документики у вас есть?
Никаких документов у нас не было, и я соврал:
— Были, да мы их сожгли, чтоб врагу в руки не попали.
— Понятно, — кивнул старик и, тоскливо взглянув в сторону деревни, спросил сдавленным голосом: — Вы что ж, кончать меня будете?
— Откуда ты взял?
— Да так… Время такое.
— Запомни, папаша, — сказал Федюнин. — Мы своих не трогаем. Можешь идти на все четыре стороны, но, если вздумаешь выдать нас или сболтнешь кому, что встречался с нами, тогда уж сам пеняй на себя. И под землей не спрячешься.
— Вам что, перекреститься или как?
— Не надо! — махнул я рукой. — Верим, что не выдашь.
— Так мне идти можно?
— Нет, погоди! — сказал я. — Прежде мы уйдем, а ты потом, минут через десять.
— Воля ваша, — кивнул старик. — Могу и погодить…
Мы вернулись в лес, наблюдаем из-за деревьев, что дед будет делать. А он посидел немного, потом медленно поднялся, долго глядел из-под ладони в сторону леса.
— Не решается идти, — сказал Федюнин. — Чудной какой-то. Надо ж было, спрашивает: «Кончать будете?» Видно, фашисты страху ему нагнали.
— Мы-то не фашисты, — заметил я. — Чего же нас он испугался? Значит, совесть не чиста.
— Не думаю, — сказал Вася. — Пуганая ворона куста боится. Может быть, и старик как та ворона…
Постояв минут пять на месте, дед заковылял к деревне. Оглядывается, как вор, будто ждет, что за ним сейчас гнаться будут. Дошел до поворота дороги, еще раз посмотрел на лес и сразу нырь в кусты. Видим только, как его шапка над листвой мелькает. По-спринтерски ноги уносил.
Взялись мы снова за карту. Действительно, вблизи указанного на ней места высадки проходила железная дорога, но ни Березовки, ни Носовки, ни Кочетовки не значилось.
— Все перепутал старик от страха, — сказал Вася.
— Такой не перепутает, — проворчал я. — Наврал, леший, чтобы нас с толку сбить.
— Сматываться нужно, — предложил Федюнин. — Как бы этот дед и впрямь фашистскую свору сюда не привел.
Посоветовались. Решили обойти село, что старик Кочетовкой назвал, не с востока, а с запада, кустами и перелесками, подальше от леса, чтобы обмануть фашистов и деда. Если он и приведет их в лес, то и они, и их проводник в дураках останутся.
Так мы и сделали. Опять в кусты перебрались, потом через нивы метров триста ползли, пока в неглубокую балку попали, и по этой балке двинулись к перелескам. Вскоре Кочетовка к юго-востоку от нас осталась. Вдали, севернее, прямо к востоку другое село. Значит, дед правильно указал их расположение.
«Надо сильнее следы запутать», — подумал я и предложил пробраться между селами снова на восток, к лесам. Вася и Федюнин согласились с такой мыслью. Ну и начали мы обходить Кочетовку теперь с севера. Добрались наконец до невысокого пригорка, к развилке дорог. Смотрим — столб стоит с дорожными указателями. Нет, старик не обманул: правильно назвал села. До Кочетовки — два километра, до Березовки — три, до Носовки — километр.
Я опять за карту… Сущее наваждение: нет на ней таких сел. Всползли мы на поросший бурьяном пригорок, чтобы окинуть взглядом всю округу, и… замерли. Нивы, кустарники, перелески ну просто кишат людом. Кто с вилами, кто с косами, кто с топорами.
— Куда это они? — спросил Вася.
Я сразу понял, в чем дело.
— Не видишь, что ли? — отвечаю. — Нас в кольцо берут. Выдал-таки дед, выследил и на след наш навел.
Растерявшись, мы не обратили внимания на то, что ни одного немецкого солдата среди крестьян не было. Верно говорится: у страха глаза велики. От пригорка до леса, что между Кочетовкой и Носовкой вклинился с полкилометра, не больше. Вижу, вроде в этом направлении людей раз-два — и обчелся. Кричу: «За мной!» — и первым во всю прыть к лесу бросаюсь. Вася не отстает от меня, а вот Федюнин не поспевает: мешок с рацией что-нибудь да весит. Я подбежал к нему, говорю: «Давай рацию мне!» Замешкались мы немного, а когда обернулись к лесу, глядим, прямо перед нами, будто из земли выросши, человек тридцать стоит: мужчины, бабы и тот самый дед, но уже без палки, а с косой в руках.
— Кидай оружию, фашистская сволочь! — кричит высоко, чуть голос не срывая. — Только стрельнете, гады, враз в шматки разнесем всех.
«Вот это номер! — опешил я. — Ведь это нас фашистской сволочью обзывают!»
— Ты что, старый, из ума выжил? — гаркнул я во всю силу своего баса, злостью вскипев. — Или тебе повылазило?
А уже окружены мы со всех сторон. Детвора и та примчалась, и все люто на нас смотрят.
— Товарищи дорогие, красноармейцы мы! — кричу пуще прежнего, обращаясь ко всем. — Где же вы фашистов видите! Сволочь эта уже давно огонь бы по вас открыла.
— Да что с ними рассусоливать? — заорала дородная женщина, а у самой лицо так и пышет жаром. — Хрицы это под красноармейцев ряженые. Бей их, супостатов, раз оружия не кладут.
— Кидай оружие! — полетело со всех сторон. — Разведчики это гитлеровские! Парашютисты к нам в тыл скинутые.
Что было делать? Свои люди по ошибке нас за гитлеровцев приняли. Шутки с разъяренной толпой плохи. И мы сложили оружие, подняли по требованию крестьян руки.
— А теперь к коменданту, на станцию их сволокем! — распорядился дед, верховодивший всеми.
— Какому коменданту? — спросил я.
— Известно, к какому, — ответил дед. — Я сразу распознал вас, шельмы. Документики тю-тю. Из окружения, мол, выбираются. Вот вам и окружение, наше, советское, из него не вырветесь, голубчики.
— Говорится ж вам, что и мы советские! — вырвалось с горечью и досадой у Васи.
Кто-то подтолкнул его в спину.
— Иди, иди! Комендант разберется.
И повели нас по проселку к Березовке, на железнодорожную станцию. Как мы ни пытались завязать разговоры, никто не отвечал нам. Конвой был солидный, пестрый, многоголосый.
Досада меня так и распирает, а Вася вдруг ну хохотать вовсю. Толпа притихла.
— Рехнулся уже один! — услышал я.
А Вася знай смеется и говорит сквозь смех:
— Ну и ну! Вот так вражеский тыл. Потеха!
Подошли к станции. Мы уже не удивились, когда увидели в комендатуре советских бойцов и советского офицера. Я понял все: штурман ошибся и высадил нас не в тылу врага, а в тылу наших войск. Но особенно обидно стало, когда и комендант отнесся с недоверием к нашим словам.
— Выясним, проверим! — сказал он сухо и посадил нас под стражу.
Впрочем, осуждать его не приходится: ведь документов-то, подтверждающих наши слова, не было.
К вечеру все выяснилось. Комендант связался по телефону со штабом армии, и оттуда за нами прибыл на автомашине майор Данильцев.
— Так вот где вы, оказывается! — широко улыбнулся он, увидев нас на перроне. — А мы уж думали, что с вами беда какая-то стряслась. Самолет ведь до сих пор не вернулся. Как только связь с ним прервалась, полковник отправил вторую разведывательную группу. Она уже на месте.
— А нас тут за фашистов приняли и едва не побили, — сказал я, готовый от стыда сквозь землю провалиться. Хотелось мне в адрес штурмана соленое словцо отпустить, но сдержался. Может, человек в плен к гитлеровцам с командиром самолета угодил, а может, уже мертвые оба.
— Ничего, не унывайте, хлопцы! — промолвил ободряюще майор. — Всякое бывает. Главное, что живыми и невредимыми нашлись…
— Эх, яблочко, оно, конечно, так, но все же неприятно. До сих пор нас в школе братва разыгрывает, — сказал в заключение Колесов и, вышвырнув за окно погасшую сигарету, вздохнул: — Одним словом; опозорились.
Выслушав его рассказ, я достал из кармана коробку «Казбека», полученную в госпитале, положил ее на стол:
— Перекурим это дело, братцы, генеральскими.
— И проштрафившимся можно? — занозисто спросил Бодюков, кивнув в сторону Колесова и Рязанова.
— Чем же они проштрафились? — заметил я, стараясь развеять мрачное настроение Николая. — Во всем штурман виноват.
— Вот, вот! — оживился Колесов. — А Борька не хочет признавать этого, все подкусывает. Да я штурману тому скулу бы набок своротил. Мало того что нас опозорил, так еще сам курам на смех самолет в болото посадил, километров за пятьдесят от линии фронта.
— У немцев? — спросил я.
Колесов махнул рукой.
— Где там у немцев, в нашем тылу. К награде его хотят представить, видите ли, самолет он спас.
— И правильно, — неожиданно заступился за штурмана Рязанов. — Ведь человек без приборов, без связи с землей, среди ночи, а нашел дорогу к своим. Дважды раненный к тому же. Мы-то что, Коля, не пострадали, а он все еще в госпитале лежит. И самолет весь в пробоинах, как решето.
Колесов промолчал, но выражение его лица более чем красноречиво говорило о том, что он вряд ли когда-нибудь простит штурману невольно допущенную ошибку.
Глава 9. «ЗАВОД СЕЛЬХОЗМАШИН»
Самолет, груженный боеприпасами и медикаментами, поднялся с аэродрома в первом часу ночи и через двадцать минут благополучно пересек линию фронта. Летел он в глубокий тыл противника на базу недавно созданного партизанского отряда и попутно должен был сбросить меня и Бодюкова в районе Купянска. На этот раз нам предстояло выполнить задание только вдвоем; Колесов и Рязанов были переброшены на несколько дней к партизанам — подучить их минному делу.
Нам с Бодюковым была поставлена довольно сложная задача: взорвать большой артиллерийский склад противника, находившийся в лесах, где-то невдалеке от Балаклеи. По сведениям, полученным от балаклейских подпольщиков, на этом складе, который немцы называли заводом сельскохозяйственных машин, было организовано производство мин и велось восстановление стреляных снарядных гильз. По сути дела, склад являлся одновременно и заводом, изготовляющим артиллерийские боеприпасы для гитлеровцев. В качестве рабочей силы фашисты использовали в основном местное население — стариков, женщин и Даже детей, согнанных сюда из окрестных сел. Чтобы избежать больших жертв среди советских граждан, которых гитлеровцы заставили работать на складе, наше командование не прибегало к бомбардировкам склада с воздуха, хотя прекрасно знало, чем в действительности занимается этот «завод сельхозмашин».
Чтобы лучше маскировать склад и придать ему облик завода, занимающегося сугубо мирным производством, немцы навезли, туда множество поломанных косилок, сеялок, плугов и другого инвентаря. Люди, работавшие на складе, жили в бараках, километрах в тpex от складской территории. На работу и с работы их гнали под усиленным конвоем. Как склад, так и бараки были обнесены двойными изгородями из колючей проволоки. В помощь охранникам использовались сторожевые собаки, а во внешнюю изгородь вокруг склада был включен электрический ток высокого напряжения. Таким образом, рабочие были полностью лишены какой-либо связи с внешним миром и находились на положении узников концентрационных лагерей строгого режима. Учитывая все это, полковник Теплов дал нам с Бодюковым задание осуществить диверсию так, чтобы взрыв не вызвал жертв среди наших советских людей.
Перед вылетом мы сменили военную форму на штатскую одежду и получили паспорта и пропуска, оформленные соответствующим образом в купянской комендатуре и полиции. Документы были заготовлены и переправлены к нам в штаб через линию фронта подпольной группой советских патриотов, которую возглавлял Владимир Сергеевич Чашин. До войны этот болезненный человек, с искалеченными ревматизмом ногами, работал бухгалтером в одной из местных артелей. Он не смог эвакуироваться из-за болезни, но, когда город перешел в руки врага и оккупанты начали жестоко расправляться с мирным населением, этот скромный, неприметный и далеко не воинственный в прошлом человек организовал и возглавил подпольную группу.
Группа была еще немногочисленной, но она установила связь с командованием советских войск, с партизанами и регулярно сообщала им ценнейшие разведывательные сведения. Ежедневно подпольщики слушали радиопередачи из Москвы, сводки из Совинформбюро, а по ночам расклеивали по городу листовки, в которых разоблачалась ложь фашистской пропаганды, и рассказывалось о всевозраставшем сопротивлении Советской Армии. Гестаповцы и полицейские рыскали по городу, пытаясь напасть на след подпольщиков, но они были неуловимы. Больше того, они как-то сумели отыскать лазейки в комендатуру и полицию, о чем свидетельствовали документы, переданные полковником Тепловым мне и Бодюкову. Без помощи подпольной группы мы, разумеется, не могли выполнить задания, поэтому нам после высадки надо было прежде всего связаться с Чашиным…
Самолет, летевший на большой высоте, начал постепенно снижаться.
— Ну, Боря, готовься! — сказал я Бодюкову. — Сейчас будем выбрасываться.
Бодюков весело подмигнул мне.
— Что ж, ехать так ехать! Я готов!..
Приземлились мы в поле, невдалеке от какого-то села. Самолет, сбросивший нас, быстро удалялся на запад, и вскоре его гул растворился в ночной тиши. Земля была окутана густым мраком. Нигде ни огонька. Далеко на юге, словно отблески электросварки, часто вспыхивали грозовые зарницы. На фоне этих голубоватых вспышек отчетливо проступали купола сельской церкви и черные верхушки высоких тополей.
Освободившись от строп и свернув парашюты, мы начали искать место, где бы зарыть или спрятать их. К счастью, вблизи Попался заброшенный колодец с обломанным журавлем и ветхим, перекосившимся срубом. Парашюты полетели на дно колодца, а мы направились к северу, через поле, стремясь убраться подальше от места приземления. Незадолго до рассвета наткнулись на развороченный стог сена.
— Не пересидеть ли нам здесь до утра? — предложил Бодюков. — Идем-то ведь наугад.
Я согласился, и мы улеглись на мягком, душистом сене. Над нами висело звездное небо, по полю с легким шорохом пробегал ночной ветерок, пахло мятой, полынью. Вот так, бывало, возвращаясь с рыбалки или с охоты, отдыхал я в кубанской степи. В те не такие уж далекие ночи думалось и мечталось о чем-то хорошем, радостном. Мог ли думать я тогда, что мне скоро придется стать разведчиком, опускаться на парашюте в тылу врага и встречать рассветы вот так, как этой ночью, вдали от родных мест, от семьи, от всего того, с чем было связано сердце в дни мирной жизни!
Наутро, выбравшись из стога и отряхнув с себя стебельки сена, мы вышли к проселочной дороге и по ней зашагали к пролегавшему невдалеке большаку. У развилки стоял полосатый столб с дорожными указателями. Теперь стало ясно, где мы находимся. Слева, в трех километрах, лежало село Бригадировка, справа — село Нурово, а дорога, по которой мы вышли к большаку, вела, оказывается, в Борщевку.
— Пойдем через Борщевку! — решил я. — Так мы сократим путь, да и идти по проселку безопаснее, чем по большаку.
Бодюков одобрил мое решение, и мы, вернувшись на проселок, двинулись строго на запад.
Борщевка показалась нам вымершей. Ни лая собак, ни петушиного крика. Белые мазанки как-то робко выглядывали из-за пышной зелени садов.
— Где же люди? — недоумевал Бодюков. — Седьмой час утра, а вокруг ни души. Неужели еще спят?
Что и говорить, было чему удивляться. Ведь в летнюю пору, как правило, сельский люд просыпается чуть свет, с первыми петухами. А тут мертвая, гнетущая тишина и поистине жуткое безлюдье. То ли гитлеровцы выселили всех из села, то ли всех поголовно угнали куда-нибудь на работы еще до рассвета.
Мы уже прошли добрую половину Борщевки, когда позади послышался окрик:
— Эй, вы куды йдэтэ?
Мы оглянулись. К нам, будто выросши из земли, приближался низкорослый мужчина в вылинявшем, немецком мундире, с карабином под рукой. Его черные глаза глядели на нас из-под мохнатых бровей подозрительно и настороженно.
— Полицай! — буркнул мне Бодюков. — Стукнуть бы его, гада!
— Молчок! — шепнул я. — И не хмуриться!
Кроме складных ножей, у нас не было никакого оружия, но на самый худой конец и они помогли бы нам избавиться от этого полицая: знать бы только наверняка, что он один.
Полицай подошел к нам, снова спросил:
— Куды йдэтэ?
— В Балаклею! — ответил я. — К коменданту.
— Звидкиля?
— Из Купянска.
— Хто будэтэ?
— Слесаря-водопроводчики.
Полицай пристально посмотрел на меня, затем на Бодюкова и потребовал наши «бумажки».
— Документы? — переспросил я.
— Эге ж, докумэнты и пропуск.
Мы предъявили свои документы борщевскому блюстителю «нового порядка». Он начал вертеть их у себя перед глазами, а мы выжидательно смотрели на него. Бодюков нетерпеливо дергал пуговицу пиджака, и я чувствовал, с каким трудом он сдерживает желание ударом своего тяжелого кулака свернуть скулы полицаю. А тот не торопился с проверкой «бумажек» — продолжал вертеть их и так и этак.
— Да ты, я вижу, неграмотный, — бросил насмешливо Бодюков. — Давай прочитаю, что там написано.
Полицай окрысился:
— Нэ гавкай! Бач, якый грамотный найшовся… Я вжэ трычи прочив всэ… А будэтэ гавкаты, то до старосты видвэду.
«Только этого еще не хватало!» — подумал я и, чтобы утихомирить полицая, сказал ему обиженным тоном:
— Ну чего ты расходился? Шуток не понимаешь? Мы же знаем, что немцы не берут на службу в полицию неграмотных. Жаль, времени у нас мало, а то выпили бы с тобой.
Бодюков, видимо поняв мою тактику, вздохнул.
— Да, не мешало бы промочить сейчас горло первачком.
— Нэ можно мэни, — уже миролюбивее покосился на него полицай. — На посту я зараз.
— Понимаю, служба, — кивнул Бодюков. — Ну ничего, будешь в Купянске, заходи к нам. Тогда тяпнем вволю. Мы люди гостеприимные, не то что ты.
Полицай совсем размягчился. Вернув нам документы, спросил:
— А дэ ж вас шукаты там, у Купянску?
— Вот чудак? — воскликнул Бодюков, — В паспортах указаны наши адреса. Ты же читал.
— Эге ж, читав.
— Ну вот и приходи по адресу.
На том и закончилась наша встреча с полицаем. Выйдя из Борщевки, где нас больше никто не останавливал, мы зашагали к Балаклее. Километрах в трех от города перед нашими глазами предстала такая картина: в придорожном кювете лежал опрокинувшийся набок воз с сеном, возле которого, сильно прихрамывая и ругаясь, суетился пожилой немецкий солдат. Видимо, задремав, немец выпустил вожжи, и лошади свернули к кювету, поросшему высокой сочной травой. Так оно было или иначе, но воз перевернулся, и теперь солдат никак не мог поставить его на колеса.
Немец еще издали заметил нас, крикнул;
— Эй, рус, ходи помогаль! Давай бистро, шнель!
Мы подошли к нему.
— Да, плохи дела! — сказал я с напускным сочувствием.
— Я, я… зэр шлехт! — закивал солдат и ткнул кнутом в сторону распряженных лошадей, пасшихся в кювете. — Ди дрэк пфэрдэ, доннэрвэттзр!..[9]
Немало пришлось потрудиться нам втроем, прежде чем воз очутился на дороге. И вот сено снова погружено, крепко увязано. Солдат запряг лошадей, дал нам по сигарете и только теперь поинтересовался, куда мы держим путь.
— В город! — ответил Бодюков.
— О, нах штадт![10] — воскликнул немец и похлопал меня по плечу. — Ви хорошо помогали. Я буду возить вас нах горот!
Мы, разумеется, не отказались. Въехать в город в обществе хотя бы самого заурядного представителя «высшей расы» было прямо-таки недурно. Немец оказался очень словоохотливым и болтал без умолку, пользуясь малопонятной нам мешаниной немецкого и страшно исковерканного русского. Но мы терпеливо слушали его словоизвержение, изредка поддакивали ему и даже посмеивались, когда он рассказывал нечто такое, что смешило его самого. Надо полагать, гитлеровцы, дежурившие у контрольного пункта на окраине города, хорошо знали нашего возницу, потому что они пропустили беспрепятственно и его и нас вместе с ним.
Так добрались мы наконец до Балаклеи.
Город был сильно разрушен. Вдоль улиц стояли обгоревшие развалины многих домов. На мостовых и тротуарах зияли воронки от бомб. Редкие прохожие, попадавшиеся нам навстречу, жались поближе к руинам, испуганно озираясь по сторонам, будто выискивая глазами, куда бы поскорее скрыться. На облике каждого лежала печать горькой и жестокой неволи.
Чтобы попасть в улицу, где находилась явочная квартира, нам нужно было пересечь городскую площадь.
Тут нас остановил патруль: четыре солдата и офицер. Мы, разумеется, держались браво, с видом людей, которым власть оккупантов пришлась по душе.
— Куда идете? — спросил офицер по-русски.
— В комендатуру, — ответил я.
— Ваши пропуска и паспорта.
Мы предъявили документы. Внимательно просмотрев их, офицер указал рукой в одну из улиц:
— Это там. Улица Гарри Круппа. Недалеко от угла…
Улица, в которую мы вошли, называлась до войны Советской. Кое-где на домах еще остались таблички с этим названием. Гитлеровцы переименовали ее в улицу немецкого короля пушек. Увидев металлическую табличку с именем Круппа, приколоченную к обгоревшей стене углового дома, Бодюков сказал:
— А ведь это символично. Советская улица была цветущей, счастливой. Теперь же она стала улицей горя, слез и руин. Такой ее сделал Гитлер пушками Круппа.
— Ничего, Боря, это ненадолго, — убежденно ответил я. — Название «Советская» вернется сюда, и улица снова станет счастливой.
Бодюков остановился, медленно обвел взглядом руины на противоположной стороне улицы.
Я замедлил шаг, оглянулся.
— Ты чего?
— Хочу запомнить все, — отозвался Бодюков. — Этого нельзя ни забывать, ни прощать…
И вот наконец дом № 34, тот, который нам нужен. Входим во двор, стучимся с черного хода. Никто не отвечает. Оборачиваюсь лицом к Бодюкову, вижу, как настороженно сощурились его глаза. Вероятно, наши мысли совпадают. Что, если явка провалилась и Чашин арестован? Не следят ли за нами гестаповцы? И не ждет ли нас за дверью засада?
Бодюков выглядывает на улицу. Поблизости нет никого. В доме тишина.
Я стучу еще раз. Пять ударов, как предусмотрено паролем.
— Кто там? — долетает из-за двери женский голос.
— Водопроводчики! — отвечаю я.
Дверь открывается чуть-чуть, ровно настолько, насколько позволяет дверная цепочка. На нас изучающе смотрит невысокая женщина с седыми прядями в волосах.
— Владимир Сергеевич дома? — спрашиваю я шепотом.
— Дома, — отвечает женщина, — но он нездоров и не может выйти.
— Нас прислал Юрий Григорьевич, — сообщаю я.
— Из Одессы! — добавляет Бодюков.
Женщина торопливо снимает дверную цепочку, пропускает нас в маленькую прихожую и снова навешивает цепочку, запирает дверь на засов, затем ключом…
Из прохожей мы попали в довольно просторную комнату, светлую, прилично обставленную, с длинными тюлевыми гардинами на двух окнах, обращенных к улице.
— Присаживайтесь, товарищи! — сказала с приветливой улыбкой женщина. — Я жена Владимира Сергеевича. Мы очень опасались, как бы с вами не случилось чего.
— Как видите, все в порядке! — успокоил ее Бодюков.
В это время из соседней комнаты вышел высокий мужчина в светло-сером костюме. Его пышные волосы и острая бородка были тронуты сединой. Сквозь толстые стекла очков поблескивали большие добрые глаза.
Познакомились.
— Прошу ко мне в кабинет, — пригласил нас Чашин в ту комнату, из которой вышел, и сказал жене — А ты, Оленька, поставь чайку и приготовь что-нибудь перекусить гостям. Они ведь с дороги, проголодались, наверное, изрядно.
Этот интеллигентный, аккуратный и весьма предупредительный человек, говоривший мягким, проникновенным тенорком, не производил на меня впечатления подпольщика и тем более руководителя боевой подпольной группы. И все же это был именно тот человек, который, сумев завоевать доверие оккупантов своим лояльным отношением к «новому порядку», вел тайно непримиримую борьбу с ними. Никому из гитлеровцев даже в голову не приходило заподозрить его в каких-то связях с подпольщиками, и он, находясь все время на виду у оккупантов, почти под боком у комендатуры и гестапо, оставался неуловимым для врага. Нелегко бывает порой нам, разведчикам, но Чашину было куда труднее, причем постоянно.
Чашин принадлежал к числу тех скромных и храбрых людей, которые идут на подвиги не ради славы и не любят, когда говорят об их мужестве. Сродни ему была и его жена — Ольга Дмитриевна. Ведь она прекрасно знала, что ждет их в случае провала: гестапо, пытки и виселица на городской площади. Но ничто не выдавало в ней даже малейших признаков беспокойства или страха. Она по-матерински ласково улыбалась мне и Бодюкову, заботливо подкладывала на наши тарелки то жареную картошку, то фаршированный морковью перец, то кукурузные лепешки.
После обеда разговор зашел о «заводе сельхозмашин» и о задании, которое предстояло выполнить нам с Бодюковым.
— На склад вам проникнуть, конечно, не удастся, — сказал Чашин. — Охранники-эсэсовцы очень бдительны и никого не подпускают к нему близко, стреляют без предупреждения. Да вам, собственно, нет никакой необходимости знакомиться с ним даже издали.
Мы недоуменно переглянулись.
— Как же в таком случае мы осуществим взрыв? — спросил я. — Ведь нам надо разведать и изучить все возможности, составить подробнейший план операции.
— План уже разработан нашей подпольной группой, — сообщил Чашин. — Мы познакомим вас с ним, выслушаем ваши советы и рекомендации, как лучше провести его в жизнь.
Бодюков нервно кашлянул.
— Владимир Сергеевич, я что-то не понимаю… Мыто прибыли сюда не в качестве консультантов, а как подрывники-минеры.
— Вот именно, как специалисты минного дала, — подтвердил Чашин. — И без вашей помощи нам никак не обойтись. Затем и вызвали вас сюда. Короче говоря, нам нужна особая мина, такой силы и такой конструкции, чтобы весь склад взлетел на воздух в строго определенное время при наличии сверхбдительной охраны.
— Но, позвольте, как же она попадет на склад? — спросил Бодюков. — Насколько мне представляется, это будет солидный заряд.
— Все будет зависеть от конструкции мины, — сказал Чашин. — Вы предложите несколько вариантов, а наиболее удачный образец и определит способ доставки мины на склад.
— Где будет изготовляться мина? — поинтересовался я. — Не здесь же, надеюсь?
— Нет, конечно.
— Как со взрывчаткой?
— Все заготовлено.
— Тогда не будем терять времени! — заявил Бодюков, поднимаясь из-за стола. — Куда прикажете направляться?
Чашин взял его за локоть.
— Не торопитесь, мой друг. Прежде всего отдохните как следует. Отныне вы, товарищи, переходите на нелегальное положение, поэтому я не выпущу вас до вечера на улицу одних, без провожатых. Даже имея идеальные документы, рисковать зря не стоит.
Я слушал Чашина, и мне казалось, что он преображается на моих глазах. В его словах, в тоне, которым они произносились, ощущался волевой дух несгибаемого человека, заботливого и требовательного командира, опытного подпольщика…
Окруженные заботами и вниманием четы Чашиных, мы не заметили, как пролетело время до вечера. Ольга Дмитриевна закрыла окна на внутренние ставни, зажгла небольшую керосиновую лампу под зеленым абажуром. На столе появился самовар.
Помешивая ложечкой чай в стакане, Чашин сказал:
— Фашисты всемерно пытаются разжигать здесь националистические страсти, сулят Украине «самостийность» и процветание под эгидой гитлеровского рейха. Но им никак не удается восстановить нас, украинцев, против русских. — Он усмехнулся. — Процветание! — И сейчас же его лицо посуровело. — Массовые казни, угон в рабство, голодная смерть в концлагерях, грабежи, насилие, пытки…
И это Геббельс называет процветанием! Да можно ли смириться с этим, можно ли жить так? Для меня, для Ольги весь смысл жизни сейчас заключается в борьбе со зловонным гитлеризмом и его носителями. И если порой в наших сердцах начинает шевелиться страх, нам становится мучительно стыдно перед своей совестью, а укоряющий голос совести сильнее страха и даже смерти.
Он говорил еще и еще, а я, слушая его, испытывал все растущее чувство гордости за нашу Родину, за Советскую власть, взрастившую таких сыновей, как он, и мне казалось, что я все еще нахожусь в неоплатном долгу перед Родиной, что на моем боевом счету значится еще слишком и слишком мало. Те же мысли и чувства владели тогда и Бодюковым. Встреча с Чашиным, день, проведенный с ним, оставили в нашей памяти неизгладимый след…
В десятом часу вечера кто-то постучал в окно. Владимир Сергеевич вышел и через несколько минут вернулся с могучим, коренастым мужчиной, которого никак нельзя было назвать стариком, хотя его волосы и были седыми. Одетый в черную рабочую спецовку, в грубых солдатских сапогах, он походил на грузчика или молотобойца. Видимо, Чашин уже представил нас ему заочно, потому что, войдя в комнату, он запросто обратился к нам:
— Ну, здравствуйте, хлопцы! Будем знакомы. А зовут меня Тихоном Матвеевичем.
Сказал он это густым басом, с добродушной улыбкой и так крепко пожал наши руки, что Бодюков просиял и промолвил не без восхищения:
— Вот это сила! Вы, Тихон Матвеевич, случайно не борец!
— Столяр я! — ответил силач. — Ну а сейчас борьбой занимаюсь, только, конечно, не французской. Сами понимаете, фашистов надо по-иному на лопатки класть, так, чтобы сразу в гроб попадали. И тут уж, как говорится, сила без ума сокровище плохое. — Он кивнул в сторону Чашина. — Владимир Сергеевич с виду вроде и не чемпион, а вот ни один фашист не совладает с ним.
Чашин недовольно поморщился.
— Будет тебе, Тихон!
Тихон Матвеевич взглянул на меня.
— Как документики, не подвели?
— Все в порядке! — отозвался я.
— Опять же он! — Тихон Матвеевич указал на Чашина. — Ну как его после этого чемпионом не величать.
Ольга Дмитриевна предложила Тихону Матвеевичу выпить чаю, но он отказался.
— Благодарствую, Во-первых, не хочется что-то, а во-вторых, уже и времени у нас в обрез. В десять часов и с пропусками не пройдешь.
— Пройдем, я провожу! — заверил Чашин.
Простившись с гостеприимной хозяйкой, мы вышли вслед за подпольщиками на улицу. Было темно и не по-летнему свежо. Со стороны площади долетал глухой гул. По-видимому, там двигались сейчас автомашины и танки. Здесь же было тихо.
На одном из уличных перекрестков нас остановил патруль. Чашин показал офицеру свой паспорт и еще какую-то бумажку. Офицер, посвечивая карманным фонариком, посмотрел на документы, козырнул и указал в глубь улицы:
— Биттэ, зи кэннен дурхгеен![11]
Пропусками остальных он даже не поинтересовался.
«А ведь это действительно здорово!» — подумал я и мысленно согласился с Тихоном Матвеевичем, назвавшим Чашина чемпионом…
Вскоре мы подошли к приземистому, продолговатому дому, стоявшему посредине квартала за зеленым палисадником. Это была столярная мастерская братьев Слепцовых, о чем, как мы узнали на следующий день, официально гласила вывеска над крыльцом дома. Одним из этих братьев-предпринимателей и являлся Тихон Матвеевич. Искусный столяр-краснодеревщик, он бесплатно, в знак «приверженности» к новой власти, как он заявил немцам, сделал коменданту города отличную мебель. Тот, в свою очередь, постарался не остаться в долгу перед «вундервэльтэн кюнстлэр»[12] (именно так назвал комендант Слепцова) и порекомендовал его в качестве мастера военному директору «завода сельхозмашин» как человека, «оказавшего командованию немецкой армии большую услугу». Благодаря столь лестной и весомой рекомендации Тихон Матвеевич получил от завода очень выгодный заказ на поделку заготовок для ящиков под артиллерийские снаряды. Так родилась здесь столярная мастерская братьев Слепцовых с собственной пилорамой и двумя деревообрабатывающими станками, полученными из саперного имущества гитлеровских инженерных войск. Лесоматериал поступал в мастерскую бесперебойно, и так же бесперебойно Тихон Матвеевич отправлял на «завод» заготовки для ящиков, сборку которых там осуществляли рабочие — члены чашинской подпольной группы. Чтобы окончательно упрочить добрую репутацию мастерской и тем самым отвести от себя и от своих помощников даже малейшую тень подозрения со стороны гитлеровцев, Тихон Матвеевич, опять же бесплатно, сделал мебель для заводского начальства. После этого как братья Слепцовы, так и их рабочие получили право свободного доступа в тарный цех артиллерийского склада, примыкавший к упаковочному, где всегда лежали штабелями снаряды и мины. В нескольких шагах от упаковочного цеха находился склад: бункера, навесы, траншеи с боеприпасами и взрывчатыми материалами.
Планом, разработанным подпольщиками, намечалось произвести взрыв в тарном цехе, путем детонации вызвать взрыв в упаковочном цехе и далее на складе. Для этого и нужно было изготовить мину огромной взрывной силы, но небольшого объёма, чтобы ее можно было пронести незаметно в тарный цех буквально на глазах у охранников. Ну и ко всему мина должна была сработать в строго определенное время — в глухую ночную пору, когда на складе остается лишь охрана.
На обсуждение плана ушло немного времени. Ни у меня, ни у Бодюкова он не вызвал особых возражений.
— Итак, Валентин Петрович, будем считать, что план одобрен вами? — спросил Чашин.
— В целом да, — ответил я.
— Мне кажется, у вас имеются какие-то сомнения.
— Скорее опасения. Как бы ни случилось беды во время установки мины на месте. Это надо было бы сделать не вашим людям, а мне и Бодюкову.
— Мы могли бы сойти, за рабочих из мастерской Тихона Матвеевича и проникнуть в тарный цех, — заметил Бодюков.
Чашин задумался, потом промолвил решительно:
— Нет, товарищи, я возражаю против подобного варианта. Прежде чем немцы выдадут вам пропуск на склад, они подвергнут вас тщательной проверке. Это только затянет время, а склад надо уничтожить как можно скорее. Каждый час, даже каждая минута слишком дорого обходится нам. Мины и снаряды ежедневно отправляются на фронт, а вы прекрасно понимаете, что это значит: сотни убитых и раненых советских бойцов. Ваше дело изготовить мину и тщательно проинструктировать тех, кто будет устанавливать ее. И вообще нужно познакомить наших людей с основами взрывного дела, чтобы нам не приходилось каждый раз вызывать минеров с Большой земли. — Он обвел взглядом комнатушку, в которой мы сидели. — Будете жить здесь, у Тихона Матвеевича. А мину будете изготовлять в подвале, под домом.
— Только бы вы, хлопцы, не разнесли в щепы мою мастерскую, — улыбнулся Тихон Матвеевич.
— Оно конечно, может и такое статься! — пошутил Бодюков.
— Не станется, гарантирую! — заверил я.
В полночь Чашин ушел. Тихон Матвеевич оставлял его ночевать, но он не согласился.
— Нет, пойду! Я-то высплюсь здесь, а Ольга всю ночь будет волноваться. Пойду!
Не знаю, спали ли в ту ночь Чашин и Тихон Матвеевич, но мы с Бодюковым не смыкали глаз до утра. Каких только конструкций мин не перебирали мы! Обсуждали их достоинства и недостатки, спорили, придумывали все новые и новые варианты. Остановились было на кислотной мине, но потом отказались и от нее. Концентрация кислоты, имевшейся у Слепцовых, была неизвестна. Отдавать ее на анализ в лабораторию при складе? Не наведет ли это затем гитлеровцев на следы организаторов взрыва? А не располагая данными анализа, применять кислоту было рискованно. Вдруг из-за нее взрыв задержится и склад взлетит на воздух не ночью, а утром, когда гитлеровцы пригонят на работу наших советских людей!
В конце концов Бодюков предложил очень простой и вместе с тем очень остроумный вариант. Суть его заключалась в следующем. В обычный питьевой бак до требуемого уровня наливается вода. Бак устанавливается на один конец доски, уложенной в виде качели на поперечном бревне, с соответствующими креплениями. На другом конце доски размещается ящик с грузом, равным по весу баку с водой. В дне бака пробивается строго калиброванное отверстие, и вода постепенно, едва приметной струей начинает вытекать из бака. Когда вытечет вся вода, ящик с грузом опустится на требуемое расстояние и нажмет на крышку детонатора мины с той силой, которая обеспечит взрыв. Установка мины в данном случае совершенно безопасна, а все остальное сделать очень просто. Главное — рассчитать время, за которое вода вытечет из бака, и определить вес груза, обеспечивающий необходимый удар по взрывателю…
Утром такое устройство было изготовлено. Несколько испытаний подтвердили полнейшую надежность его работы при самых различных загрузках. Теперь оставалось изготовить мину, что уже не представляло для нас особых затруднений: взрывчатку и детонаторы подпольщики заготовили заранее, исподволь вынося их со склада.
«Приемная комиссия» в лице Чашина и Тихона Матвеевича осталась довольна нашей работой. Еще один день ушел на подготовку группы минеров, в которую вошли три плотника и сам Тихон Матвеевич.
Мина, искусно упакованная в двойное днище ящика, была уложена вместе с партией новых заготовок на грузовой «опель» и благополучно перекочевала в тарный цех склада. Таким же образом туда была переброшена затем остальная «механика»: питьевой бак, «качеля», разобранный ящик для груза. Как правило, охранники ограничивались только поверхностным осмотром заготовок, сложенных на грузовиках, и пропускали их на территорию склада без длительных задержек: ведь это была продукция мастерской братьев Слепцовых, пользовавшихся особым расположением со стороны начальства «завода». Заготовки складывались под навесом у входа в тарный цех, а готовые ящики лежали высокими штабелями внутри цеха, вдоль стены из металлической сетки, отделявшей тарный цех от упаковочного. Здесь, в этих многорядных штабелях, и намечалось установить мину…
И вот наступил «боевой» день. Тихон Матвеевич отправился на склад с утра и не возвращался в мастерскую до вечера. Чашин весь день просидел со мной и Бодюковым в мастерской. Внешне он оставался спокойным, расспрашивал нас о жизни и боевых делах разведчиков-диверсантов, даже шутил с нами, но мыто догадывались, что творилось в его душе, потому что и сами страшно нервничали. О чем бы мы ни говорили, наши мысли уносились на склад, в тарный цех. Не допустит ли какой-нибудь ошибки Тихон Матвеевич при установке мины? Не обратит ли случайно внимание кто-нибудь из охранников на подозрительную возню в цехе? И действительно ли так уж надежны все рабочие братьев Слепцовых? Вдруг среди них окажется предатель, который в самый последний момент донесет врагу о готовящейся диверсии! Вопросы один тревожнее другого не оставляли меня в покое ни на минуту.
После полудня Чашин все чаще поглядывал на часы и все чаще доставал из кармана портсигар. Курил он жадно, захлебываясь дымом и кашляя порой до слез.
Тихон Матвеевич вернулся после захода солнца.
— Ну как там у тебя? — бросился к нему Чашин.
— Ждал, пока немцы людей со склада угонят, — ответил Тихон Матвеевич и, вытирая рукавом пот, струившийся по лицу, улыбнулся устало: — Ох, и набрался же я мороки с этой миной. Ставлю ее, а в голове будто туман какой. То ли так делаю, то ли не так… И раз, и другой, и третий проверил…
— Не ошиблись? — нетерпеливо спросил Бодюков.
— Кажись, все точно.
— Кажись или точно?
И снова не совсем уверенный ответ:
— Да вроде бы…
Чашин досадливо махнул рукой.
— Ах, Тихон, ну разве можно так?
Тихон Матвеевич дернул плечом.
— Пойми, непривычное же это дело… Не то что, скажем, гроб фашисту сколотить… Должна сработать мина, а вот головой поручиться не могу…
Настала ночь. Мы сидели в комнатушке, не зажигая лампу. Окно было распахнуто настежь, и ветер чуть шевелил ситцевую занавеску. На стене, отсчитывая время, тихо постукивали ходики…
Чем ближе стрелки подползали к цифре одиннадцать, тем невыносимей становилось ожидание. Взрыв должен был произойти примерно в одиннадцать часов ночи.
Пять минут двенадцатого. Десять, пятнадцать…
«Все! Не сработала!» — почти с отчаянием думал я, боясь сказать об этом вслух. Молчал Бодюков. Молчали Чашин и Тихон Матвеевич. В темноте не было видно их лиц, но мне казалось, что взгляды и Чашина и Слепцова обращены ко мне с немым вопросом: «А может быть, это вы, товарищи минеры, ошиблись в чем-то?..»
Нет, ни мы, ни Тихон Матвеевич не допустили никаких ошибок. Мина взорвалась около половины двенадцатого ночи. Внезапно в комнату ворвался могучий грохот, за которым, подобно непрерывным трескучим раскатам грома или нарастающей орудийной канонаде, последовала серия новых взрывов. Из окон дома со звоном полетели стекла, с потолка посыпалась штукатурка.
Так закончилось существование «завода сельхозмашин». Через два дня мы с Бодюковым были уже в учебной команде…
Забегу вперед и скажу, что Владимир Сергеевич Чашин, его супруга Ольга Дмитриевна и Тихон Матвеевич дождались того радостного дня, когда их город был освобожден Советской Армией. Об этом мы узнали из теплого, дружеского письма Чашина, которое пришло на мое имя в адрес нашей полевой почты. В письме сообщалось также, что вскоре после уничтожения склада партизанам удалось совершить удачный налет на лагерь, где содержались рабочие «завода». Охранники были перебиты, а узники лагеря ушли с партизанами в леса.
Глава 10. ГАЛЯ
Этот вражеский аэродром находился где-то вблизи от линии фронта, но нашим летчикам никак не удавалось установить, где именно. То ли он был «кочующим», то ли так уж искусно и тщательно замаскирован. Наши разведывательные самолеты не прекращали поиск, не раз, казалось, обнаруживали место расположения аэродрома, но бомбежка не давала никаких результатов: аэродром оставался неуязвимым, продолжал действовать. Самолеты, базировавшиеся на нем, совершали частые налеты на наши передовые позиции и наносили ожесточенные бомбовые удары по войсковым тылам.
В конце концов командование решило прибегнуть к помощи нашей школы.
Как-то на зорьке, когда спится особенно сладко, меня разбудил дежурный. Подняв с подушки голову, я спросил:
— Что случилось?
— Пошли, пошли! — бросил дежурный. — Майор ждет.
Через несколько минут я предстал перед майором Данильцевым, который, оказывается, только что вернулся из штаба армии…
На этот раз моей группе предстояло уточнить местонахождение аэродрома, сообщить его координаты для наших бомбардировщиков и с помощью осветительных ракет навести их на цель. А если обстановка и обстоятельства на месте позволят, то и принять меры к полному разгрому всех объектов, связанных с аэродромной службой.
Выслушав задание, я напомнил о том, что в группе все еще нет радиста.
— Радист будет! — пообещал майор. — Прикомандируют из штаба армии.
— Когда?
— Заверили, что сегодня.
Откровенно говоря, эти «прикомандированные» не нравились мне. Группе нужен был постоянный радист, человек не только отлично знающий свое дело, но и отважный боец-разведчик, который пришелся бы по душе всему коллективу и стал бы нашим надежным боевым товарищем. Я сказал об этом майору Данильцеву.
— А я так и ставил вопрос в штабе, — ответил он. — Пришлют постоянного, и пусть вас не смущает слово «прикомандированный». Правда, сейчас в резерве нет специалистов с большим стажем и опытом. Одна молодежь. Придется вам кое-чему подучить товарища, помогать ему.
— За этим дело не станет, — сказал я. — Лишь бы не хлюпик попался.
— Ну, такого-то я и близко к вам не подпущу, — ответил майор. — Сам прослежу за этим!..
Вернувшись в группу, я уже застал всех на ногах. Начались расспросы. Весть о том, что у нас будет постоянный радист, была встречена одобрительным гулом. Разумеется, я не мог еще ничего определенного сообщить о человеке, который должен был прибыть к нам, поэтому ограничился ссылкой на слова майора Данильцева о том, что кого попало к нам не пришлют.
После завтрака мы начали изучать по карте предположительный район высадки. Намечалась она в лесисто-болотистой местности, километрах в сорока к северо-востоку от того места, где, по данным агентурной разведки, должен был находиться сугубо засекреченный аэродром.
Бодюков предложил высаживаться среди болот, Рязанов — поближе к лесу.
— И то и другое не совсем подходит, — возразил Колесов. — Встречать-то нас никто не будет. Угодишь ночью в топь и не выберешься. А на лес напорешься с парашютами, тоже горя хлебнешь. Надо поля пахотные выбирать, в крайнем случае, поляны с редкими перелесками.
— Где же они, твои поля? — усмехнулся Бодюков. — На карте их что-то здесь не видно.
— Эх, яблочко, да ты северо-восточнее гляди, — указал Колесов.
— Так это же дальше намного.
— Дальше, зато надежнее.
— Пожалуй, этот вариант лучше, — поддержал я Колесова.
Бодюков покачал головой.
— Не согласен. Тут кругом деревни, А где деревни, там и гарнизоны врага…
В это время кто-то настойчиво постучал в дверь. Мы все невольно обернулись на стук, я крикнул:
— Кто там? Входите!
Дверь открылась. На пороге стояла невысокая девушка, стройная, подтянутая, в аккуратных, начищенных сапожках, в хорошо подогнанных гимнастерке и юбке цвета хаки. Ее голубые глаза щурились от солнца, на щеках проступал легкий румянец. Темные волосы были подстрижены «под мальчишку», а чуть сдвинутая набок пилотка придавала ее облику вид озорного мальца, который изо всех сил старается выглядеть старше своих лет. Может быть, потому, что солнечный свет из окна падал прямо на нее, она сама показалась нам какой-то солнечной, светящейся.
Неожиданное появление ее вызвало в первую минуту у нас растерянность. То ли мы. огрубели в горниле войны, то ли вообще привыкли видеть в женщинах более слабую половину рода человеческого, но эта девушка показалась нам слишком молоденькой, нежной и уж совсем неподготовленной к тяжелой солдатской службе. И тем не менее она была в военной форме, чем-то напоминая яркий, почти прозрачный цветок, выросший вдруг среди жестких колючих ветвей.
Мы молча смотрели на нее удивленно и не без восхищения.
— Эх, яблочко, вот это да! — вырвалось у Колесова.
Рязанов удивленно хлопал ресницами. Бодюков же, торопливо пригладив свой боксерский «ежик», кашлянул, сказал весело:
— К кому это такая гостья, а?
Девушка окинула нас быстрым взглядом.
— Не в гости я… Мне нужен командир группы Игнатов Валентин Петрович. — Ее грудной голос прозвучал требовательно, даже несколько жестковато.
— Игнатова, говорите? — Колесов хитро прищурился. — Где же вы познакомились с ним?
— Отставить! — бросил я ему и, выйдя из-за стола, направился навстречу девушке. — Я Игнатов. Слушаю вас!
Она переступила порог, вскинула руку к пилотке и четко отрапортовала:
— Радист и разведчица Маркова прибыла в ваше распоряжение.
Я недоуменно уставился на нее. Колесов буркнул свое «эх, яблочко» и, словно поперхнувшись, умолк. Бодюков и Рязанов переглянулись. Заметив, очевидно, наше замешательство, девушка добавила:
— Меня прислал к вам майор Данильцев!
«Тоже хорош! — подумал я с досадой о майоре. — Какой разведчик из этой девчонки? Подшутить решил, что ли?»
Девушка выжидательно смотрела прямо мне в глаза.
— Значит, радист-разведчица? — переспросил я запоздало, чтобы как-то разрядить создавшуюся атмосферу неловкости.
— Не внушаю доверия? — в свою очередь, спросила девушка.
— Нет, почему же? — вымученно улыбнулся я. Проходите, присаживайтесь к столу, потолкуем.
Колесов не выдержал, сказал мне недовольно:
— Эх, яблочко, что тут толковать? Надо идти к майору, выяснить. — И, насмешливо скривив губы, обернулся к девушке. — Вы-то знаете, чем мы занимаемся?
Румянец на щеках Марковой сгустился.
— Кое-что знаю.
— А мышей не боитесь? — съехидничал Бодюков.
Рязанов осуждающе взглянул на него.
— Будет вам, ребята. Нехорошо ведь так…
«И действительно, нехорошо получается, — подумал я, приняв упрек Рязанова и на свой счет. — Кто дал право нам на эти издевки? Девушка-то — наш советский боец, и не ее вина в том, что она так молода и неопытна».
Губы Марковой дрогнули. Казалось, она вот-вот расплачется.
— Разрешите идти? — промолвила она каким-то сдавленным голосом.
Колесов отвернулся к окну, Бодюков склонился над картой. Чем-то они напомнили мне сейчас зло нашкодивших мальчишек. И только Рязанов глядел на радистку по-товарищески тепло, ободряюще.
— Пойдемте к начальнику, — сказал я ей.
Видимо, майор сразу догадался, с чем я пришел.
Впрочем, об этом нетрудно было догадаться, стоило только взглянуть на пылавшие щеки Марковой и на мое лицо, отражавшее крайнее недовольство.
— Что случилось? — спросил он.
— Товарищ майор, — начал я не совсем уверенно. — Надо полагать, произошло какое-то недоразумение… Я просил опытного радиста. Помните наш разговор? Вы обещали… Тем более что нам предстоит очень серьезная операция…
— А тут вдруг девушка… — улыбнулся майор. — Не это ли смущает вас? Слишком, мол, молода для таких операций. Может подвести, неопытная и так далее… — Его взгляд остановился на Марковой. — Значит, отказываются от тебя, Галя?
Маркова молча опустила голову. Пальцы ее нервно затеребили полу гимнастерки. Чувствовалось, насколько ее обидела встреча, которую мы устроили ей.
— А я был уверен, что Маркова вполне устроит вашу группу, — промолвил майор глуховато. — Ее прислал в штаб армии обком комсомола. Она отлично окончила специальные курсы, прошла соответствующую практику у партизан во вражеском тылу и не раз участвовала в боевых действиях.
Мне стало стыдно. Стыдно оттого, что я даже не удосужился поговорить с девушкой, узнать, кто она, где училась, как жила до того, как попала в армию. И не только за себя было стыдно, а и за всю мою «братву». Ни за что ни про что обидели отважную комсомолку. Хорошо, хоть Рязанов вовремя прекратил насмешки Колесова и Бодюкова. Рязанов, а не я, командир группы.
— И в разведчицы Маркова пошла не из романтической прихоти, — продолжал майор. — Брат ее убит на фронте в начале войны. Отец и мять погибли от фашистских бомб. Девушка решила пойти на самые трудные, на самые опасные участки борьбы против гитлеровской нечисти. Она много слышала о делах вашей группы и очень просилась к вам. А вы, Игнатов…
— Товарищ майор, все, точка! — воскликнул я, как бы прося пощады. — Виноват… Вид-то у нее больно обманчивый… Слишком юной, этакой хрупкой показалась.
— Верно, вид нередко бывает обманчив, — заметил майор. — В нашу армию сейчас прибыло немало девушек — связисток, зенитчиц, медсестер. Мне пришлось наблюдать, как две зенитные батареи, в основном укомплектованные из девушек, отражали налет «юнкерсов» на один из армейских складов. Это был страшный налет. Я ждал, что вот-вот девчата начнут разбегаться, завизжат от страха. А они не дрогнули. Отразили налет и сбили три вражеских самолета.
— Ясно, товарищ майор, — кивнул я. — Дали мы маху на этот раз. Пусть уж радистка не помнит обиды. Вместе ведь работать…
Майор взглянул на Маркову.
— Слышали, Галя? Или, может быть, теперь в другую группу пойдете?
Не решаясь обернуться лицом к ней, я ждал, что она ответит: ведь и впрямь обидели мы ее.
— Если можно, то оставьте меня в группе Игнатова, — попросила Маркова.
— Да, да, прошу, товарищ майор, — горячо поддержал я ее просьбу.
Майор весело прищурился.
— Ну, если между сторонами достигнуто такое согласие, то, как говорится, быть посему!
Когда мы вышли от него, я сказал Марковой:
— Ты, Галя, погуляй где-нибудь, пока я подготовлю ребят… Приходи минут через двадцать.
— Есть, товарищ командир!
Друзья ждали меня с нетерпением. Это я понял сразу, как только переступил порог нашей комнаты.
— Ну что, откомандировал? — спросил Бодюков.
Я отрицательно мотнул головой.
— Нет? — вскочил Колесов. — Эх, яблочко, уж не вздумал ли ты вместе с Данильцевым нашу группу в детский сад превратить? — Казалось, негодование так и распирало его. — Что мы будем делать с ней? Попробуй сунься с таким дитем за линию фронта! «Ой, мамочка!» — будет кричать.
Бодюков поддакивал ему, видимо полностью разделяя его возмущение. Рязанов молчал, недовольно косился на Колесова, как бы говоря взглядом: «Да замолчи же ты наконец! Дай командиру хоть слово сказать!»
Я молча подошел к столу, опустился на стул, выжидая, когда утихомирится Колесов. Тот пошумел еще с минуту и в заключение заявил:
— Надеюсь, командир, что ты учтешь наше мнение. Если сорвется операция, то вся ответственность ляжет только на тебя.
— У тебя все? — спросил я сухо.
— Все!
— Ну, тогда садись и слушай!
Я рассказал то, что услышал о Марковой от майора. Никто не перебивал меня. Колесов жадно курил и с каким-то ожесточением грыз мундштук папиросы. Бодюков нервно вертел в руках коробку спичек, нахмуренный, уставившись взглядом куда-то в угол комнаты. Щеки Рязанова порозовели, как у девушки, узнавшей вдруг что-то очень и очень приятное. Разумеется, я не умолчал и о том, какие чувства охватили меня там, в кабинете Данильцева, когда я слушал то, о чем сейчас рассказывал сам. И не те ли самые чувства испытывали теперь мои друзья?
— И как она, Маркова? — тихо спросил Рязанов. — Жаловалась на нас?
— Молчала, — ответил я.
— В другую группу просилась?
— Нет. Решила с нами остаться.
Наступила долгая пауза. Мне было ясно, что Вася Рязанов встретил мое решение оставить Маркову в нашей группе с большим удовлетворением и готов был протянуть ей руку дружбы. Но что скажут Колесов и Бодюков?
Колесов смял недокуренную папиросу и поскреб подбородок.
— Да, дела…
Бодюков искоса поглядел на него.
— Вот тебе и эх, яблочко… А ты разорялся.
— Не лезь! — отмахнулся Колесов.
— И извиняться не будешь?
Я опасался, что эти слова Бодюкова вызовут у Колесова новую вспышку гнева, но ничего подобного не случилось. Наоборот, наступила полная разрядка. Колесов добродушно улыбнулся.
— Придется…
Когда снова раздался стук в дверь, мы, как по команде, вскочили из-за стола и откликнулись вразнобой:
— Да, да!
— Входите!
Это была Маркова. Словно боясь, что мы встретим ее так же холодно и недружелюбно, как и в первый раз, она задержалась на пороге, спросила:
— Разрешите, товарищи, присутствовать на отработке задания?
Надо полагать, что наши виновато улыбающиеся рожи сказали ей больше всяких слов. Она тоже улыбнулась широко, по-дружески, но все еще не переступала порога.
— Что же ты, Галя… Заходи! — крикнул я. — Знакомься с товарищами.
Колесов вышел из-за стола, протянул ей руку.
— Мы тут малость того… Словом, сама понимаешь. Извини. Ну и вообще, кто старое помянет, тому глаз вон. Узнаешь нас поближе, не пожалеешь, что к нам пошла.
Так радистка Галя Маркова стала нашим боевым другом.
Глава 11. РАЗГРОМ ЗАСЕКРЕЧЕННОГО АЭРОДРОМА
Самолет приближался к линии фронта. Могуче гудели моторы. Казалось, вот-вот в иллюминаторы ворвется слепящий свет прожекторов и по корпусу самолета застучит смертоносный горох осколков зенитных снарядов. Да, это может случиться в любую минуту. Но пока небо по-прежнему остается черным.
Украдкой поглядывал на Галю, видел, что этим же заняты и мои друзья. Ведь она впервые летела с нами. Хотелось знать, каково ей сейчас, что она думает, как будет себя вести в случае опасности. У нас, мужчин, уже не раз совершавших подобные рейсы в тыл врага, и то нервы были напряжены до предела. Говорят, у женщин нервы послабее. Должна же как-то проявиться эта слабость на лице, в жестах, в глазах.
Не знаю, чувствовала ли Галя, что мы наблюдаем за ней, но держалась она молодцом, по крайней мере внешне. Отвечала на наши шутки, улыбалась, словом, вела себя так, как бывалый, хорошо обстрелянный и закаленный опасностями авиадесантник.
В тыл врага самолет проник над торфяными болотами, вклинившимися в передовые позиции противника. Прожекторы едва не нащупали нас, а несколько зенитных снарядов, выпущенных гитлеровцами, видимо, наугад, разорвались на почтительном расстоянии от правого борта…
Галя прыгала третьей — после Бодюкова и Рязанова.
Мы очень торопились, чтобы как можно ближе приземлиться друг от друга, тем более что времени до рассвета оставалось не так уж много.
Как только я окликнул девушку, она очутилась у двери, торопливо, будто смахивая пот, провела ладонью по лбу и, цепко ухватившись за вытяжное кольцо парашюта, оглянулась.
Я махнул рукой.
— Прыгай!
Галя кивнула, прижала локти к телу и боком вывалилась из самолета…
Приземлялись среди низкорослого кустарника. Грунт под ногами был мягкий, податливый. Очевидно, полевые карты отличались большой точностью, и мы, выбрав по ним место высадки, попали в намеченный район: на участок высушенных незадолго до начала войны болот. Пока глаза привыкали к тьме, я собрал парашют, затем начал искать своих товарищей. Как было условлено, раз, другой выкрикнул по-перепелиному. Прислушался. Повторил позывные еще и еще раз. Первым откликнулся Бодюков, за ним — Колесов, и вскоре вся группа уже была в сборе. Зато грузовой парашют мы искали не менее часа.
Теперь нужно было пробираться к торфоразработкам, которые находились примерно в полутора километрах от места нашего приземления. Мы надеялись, что там удастся отыскать старые штабеля торфа, выложенного для просушки еще до войны, чтобы укрыться среди них на день.
Шли гуськом по воде вдоль края болота. Топь надежно скрывала следы наших ног, и никакие ищейки гитлеровцев не смогли бы напасть на наш след. Впереди шагал Бодюков, ощупывая дно тонкой жердью, найденной у заброшенного охотничьего шалаша. Я замыкал шествие. Галя шла предпоследней, метрах в двух от меня. Ее силуэт то четко проступал на фоне предрассветного неба, то сливался с контурами прибрежных зарослей. Все мы, в том числе и она, были нагружены изрядно: оружие, термитные заряды, продукты, рация с запасными батареями и сигнальные ракеты. Разумеется, у Гали поклажи было намного меньше, чем у каждого из нас. Могли ли мы допустить, чтобы она надрывалась? И хотя она никого не просила помочь ей, мы, мужчины, даже не сговариваясь, охотно переложили на свои плечи часть ее ноши, причем сделали это украдкой от Гали. В другое время Колесов, например, мог бы идти с более тяжелым грузом без особой усталости не один километр, нынче же он и раз и другой заикнулся о привале. Нетрудно было догадаться, о ком он беспокоился, но я, сделав вид, будто ничего не понял, сказал ему:
— Никаких привалов! Если ты устал, то передай рюкзак со взрывчаткой Борису.
Колесов подошел ко мне, шепнул:
— Не о себе я… Мне-то что. А вот Галя…
— Она такой же боец, как и мы, — нарочито сухо ответил я.
— Эх, яблочко, понимать надо, — бросил с упреком Колесов. — Распорядись, чтоб она батареи мне отдала.
Я подозвал к себе Маркову, спросил:
— Сильно устала?
— Нет, совсем немного. — сказала она.
— Отдай аккумуляторные батареи Колесову.
Галя замялась.
— Их нет у меня.
— Как нет! Где же они?
— Вася Рязанов взял.
Колесов молча вернулся на свое место.
— Пошли дальше, товарищи, — скомандовал я.
Рассвет застал нас уже на торфоразработках. Мы разместились под одним из уцелевших штабелей торфяных брикетов, сложенных в виде пирамиды. Проверили снаряжение, позавтракали и, установив порядок дежурства, легли отдыхать.
День выдался жаркий. Солнце припекало вовсю, и даже в тени было очень душно. На востоке, на косогоре, виднелось село, окруженное небольшими перелесками. Мимо него проходил большак, от которого ответвлялась дорога к торфоразработкам. В насыпи, тянувшейся через болото, зияли три бреши у взорванных мостов. По большаку довольно часто катились грузовые. автомашины то в одиночку, то колоннами. Село казалось безлюдным, вымершим.
Часов в десять утра одна из машин свернула в нашу сторону. Мы насторожились. Гитлеровцы, конечно, могли заподозрить, что самолет появлялся ночью в районе болот не зря. Возможно, в крытом брезентом кузове машины сюда прибыли солдаты охранных войск с ищейками, чтобы пошарить по зарослям, прочесать их огнем и обыскать территорию торфоразработок. Вступать в бой с охранниками мы не собирались. Если уж драться, то лишь на самый худой конец.
Подал команду готовиться к отходу, но отходить не пришлось. Машина остановилась на насыпи невдалеке от первого взорванного моста, постояла немного, потом быстро попятилась к большаку. Ни солдат, ни овчарок. Видимо, шофер свернул сюда по ошибке.
Больше никаких происшествий в тот день не случилось, и мы спокойно пробыли в своем укрытии до вечера.
С наступлением темноты покинули торфоразработки и двинулись к ближайшему лесу, решив, что он будет исходным рубежом для наших разведок. Лес, однако, оказался совсем не таким могучим и густым, каким он выглядел издали. Изреженный варварскими порубками (след хозяйничанья оккупантов), пересеченный широким шрамом просеки, выходившей к большаку, он просматривался насквозь из края в край, поэтому мы не задерживались в нем. За большаком начиналось просторное поле, дальше снова виднелись леса.
Посоветовавшись, мы пересекли большак, зашагали напрямик через поле и вскоре очутились на берегу узкой мелководной речушки, вдоль которой чередовались то молодые березовые рощи, то небольшие дубравы. Дно речки было илистым и топким, и Колесов минут десять бродил по воде, прежде чем отыскал сносный брод. На противоположном берегу березняк и дубравы перешли постепенно в густой смешанный лес. Он не был велик, но вполне устраивал нас тем, что в чаще пролегал глубокий лог, ощетинившийся зарослями и прикрытый старым, полусгнившим буреломом. Здесь, в логу, мы и выбрали место для базовой стоянки. Пакеты с термитными зарядами, рация, батареи и продукты были спрятаны в двух ямах под корнями упавших деревьев. Теперь мы могли действовать налегке и приступить к поиску вражеского аэродрома.
Считая условно нашу стоянку за центр, я наметил четыре сектора разведки. Северо-восточный взял себе, остальные распределил между Колесовым, Рязановым и Бодюковым.
— Товарищ Игнатов, а что же делать мне? — растерянно, с нотками обиды в голосе спросила Галя. — Вы, кажется, забыли обо мне…
— Ты, Маркова, остаешься здесь, — ответил я.
— За сторожа? — разочарованно протянула Галя. — Я такой же боец, как остальные, и настаиваю…
— Ты отвечаешь за все наше имущество, — строго сказал я. — В случае необходимости принимай меры к его спасению. Если же положение будет безвыходным, старайся спасти только рацию и ракеты. Отходи на северо-восток, в мой сектор. Место встречи — торфоразработки, то есть наша прошлая стоянка. Остальное имущество взорвать. Взрыв послужит нам сигналом, что возвращаться сюда, в лес, нельзя.
Отдавая это распоряжение, я был уверен, что нынешняя стоянка не будет обнаружена врагом: если гитлеровцы не искали нас днем, значит, у них не возникло подозрения о высадке ночного десанта в районе нашего приземления. Мне просто хотелось проверить, как Маркова отнесется к первому моему заданию. Впрочем, уже один тот факт, что она, девушка, оставалась в одиночестве ночью в глухом лесу на территории, захваченной врагом, мог служить прекрасной характеристикой ее мужества.
— Есть, товарищ командир, будет выполнено! — ответила она с той решимостью, с которой встречает отважный боец любой приказ командира в боевой обстановке. И эта ее решимость еще больше укрепила во мне веру в нее как в воина, боевого товарища, на которого можно смело положиться везде и всегда…
Через несколько минут мы разошлись в разные стороны. Позади, в лесу, осталась Галя наедине со своими мыслями. Не знаю, о чем думала она, но я не столько думал о том, что ждет меня впереди, сколько об этой простой, мужественной русской девушке.
Тихая безлунная ночь. Над головой раскинулся темный небосклон, усеянный бесконечно далекими огоньками вселенной. Село осталось слева. В мирное время, должно быть, в нем допоздна не смолкали песни девчат, а в перелесках бродили парочки, вели извечный разговор о любви. Где они теперь, эти девчата-певуньи? Прячутся по ночам в погребах или угнаны гитлеровцами в рабство? В селе стоит тишина, как на погосте. Жутью веет от этой тишины. Наше русское село, а мне, русскому, приходится обходить его стороной, идти крадучись, с оглядкой, осторожно, прислушиваясь к малейшему шороху. Больно сознавать это, и оттого еще сильнее вскипает ненависть к захватчикам.
Километрах в пяти к востоку от села большак подходил к болоту и поворачивал на север. Где-то впереди, слившись с темнотой, лежал бывший районный центр. Все время я шел вдоль дороги, то приближаясь к ней метров на 10–15, то отходя подальше. Пахотные участки чередовались с заболоченными низинами, горбы невысоких холмов сменялись мелкими балками и изломанными оврагами. То и дело попадались какие-то цепкие кустарники, так и норовившие ухватить меня колючими ветвями за одежду и за ноги.
Ночью движение автомашин на большаке усилилось. С притемненными фарами они шли преимущественно в сторону фронта. Гул их моторов далеко разносился над полями и болотами.
Я обратил внимание, что некоторые колонны машин сворачивали с большака куда-то влево и, как мне показалось, тотчас выключали свет. Вскоре я подошел к проселочной грунтовой дороге, ответвлявшейся от большака. С полкилометра она тянулась по открытому полю, затем исчезала в лесу. Машины, конечно, не гасили свет, просто-напросто он не был мне виден издали сквозь густые лесные заросли. Я хотел уже было двинуться в лес, чтобы выяснить, куда ведет грунтовая дорога, когда с большака на нее свернули еще три машины. Пришлось прилечь за кустами. Машины, надсадно гудя моторами и грузно подпрыгивая на ухабах, приближались. Вот головная почти рядом со мной. Это бензовоз. За ним следует второй. Третья машина — грузовой «опель» с какими-то длинными громоздкими ящиками.
Бензовоз и эти ящики! «На аэродром! Определенно туда!» — подумал я, чувствуя, как от этой догадки радостно запрыгало сердце. В ящиках могло находиться что угодно, но я убедил себя, что это были авиационные бомбы — и только бомбы. Разумеется, и бензовозы могли везти горючее не обязательно на аэродром и не обязательно бензин, но какой-то внутренний голос упорно продолжал твердить: «Эта дорога ведет к аэродрому!»
Выждав, пока прошли машины, я последовал за ними. Первое время даже забыл об осторожности — шагал прямо по дороге, однако вскоре спохватился, умерил свой пыл и выбрался на узкую просеку, тянувшуюся почти параллельно дороге.
Внезапно где-то совсем близко сверкнул огонь. Раздался выстрел. Тотчас рассыпалась частая автоматная дробь. Я прижался спиной к толстому стволу дерева, вскинул автомат. А вокруг уже снова воцарилась тишина, и я понял, что моя тревога напрасна. Вблизи не было ни души, никто не обнаружил меня. Очевидно, гитлеровцы, стоявшие где-то поблизости на постах, устроили своеобразную перекличку огнём. Впрочем, эта «перекличка» была мне очень на руку: теперь я знал наверняка, что враг недалеко и что надо быть начеку!
Дальше я продвигался по-пластунски. Прошло минут пять, не больше, когда справа, у дороги, хрустнула ветка, потом отчетливо послышался шум шагов. Это ходил часовой.
Метров через сто спаренный пост. Двое часовых прохаживались взад-вперед у небольшой палатки и вели неторопливый разговор.
Я продолжал ползти вперед. Лес заканчивался. На опушке торчали какие-то столбы, между ними угадывались темные горбы невысоких холмиков. Я не сразу понял, что столбы — это стволы крупнокалиберных зенитных пушек, а холмики — брустверы огневых точек и землянки зенитчиков.
Мне очень хотелось пробраться как можно дальше на опушку, но это было связано с большим и не совсем оправданным риском: я мог в любую минуту наткнуться на часового, а рассмотреть в такую темную ночь, что находилось за опушкой, было почти невозможно.
«Что ж, отложим новую разведку на день!» — решил я и направился в обратный путь.
До стоянки добрался в пятом часу утра. Лес и болото были окутаны легкой дымкой тумана. От птичьего щебета звенело в ушах.
Галя встретила меня у расщепленного молнией дерева на восточном краю лога.
— Хлопцы вернулись? — спросил я.
— Пока нет никого. Вы первый! — ответила Галя.
— А здесь как, тихо?
— Все в порядке!
Я не стал расспрашивать Галю, как она провела ночь в одиночестве, но по ее побледневшему, заметно осунувшемуся лицу догадался, что ей было нелегко.
Почти одновременно вернулись Бодюков и Рязанов, а полчаса спустя появился и Колесов. Мне хотелось сразу выпалить им: «Братцы, дело в шляпе! Аэродром обнаружен!», но, как и положено командиру, я решил прежде выслушать донесения подчиненных. И тут началось нечто такое, что я буквально опешил, И Колесов, и Рязанов, и Бодюков, будто стараясь подшутить надо мной, доложили, что аэродромы обнаружены во всех обследованных секторах. Правда, никто, как и я, не видел ни взлетных площадок, ни самолетов, но зато каждый видел и бензовозы, и зенитные батареи, то есть именно все то, что служит признаком аэродрома.
Выслушав всех, я почесал затылок.
— Да, здорово получается… Выходит, тут сплошные аэродромы! Что-то не так, братцы! Кажется, все мы опростоволосились.
Колесов начал было горячо утверждать, что, он не мог ошибиться и что аэродром определенно находится в его секторе, но Бодяков оборвал его:
— Брось, Коля! Тут действительно какая-то петрушка получилась. Очевидно, эти чертовы бензовозы, и зенитки и впрямь сбили нас с панталыку…
Для проверки итогов наших ночных (и столь «успешных») поисков я решил произвести сообща дневную разведку прежде всего в моем секторе. Первая проверка — и первая неудача. Никакого аэродрома, ни даже более-менее пригодной площадки для взлета и стоянки боевых самолетов мы не нашли там, где я побывал ночью. В лесу, стоял резервный автомобильный батальон, готовившийся к переброске в зону боевых действий. Конечно же, у него имелись свои бензовозы, и зенитные батареи были, очевидно, лишь одним из звеньев глубоко эшелонированной противовоздушной обороны прифронтового района.
До самых сумерек продолжали мы проверку в других секторах, и всюду — полнейший конфуз. Усталые, злые, с чувством горькой досады за напрасно потерянное время возвращались мы на свою стоянку.
— Надо перекочевать на другое место, — сказал я. — К западу, километров на двадцать…
— А почему на запад? — проворчал Колесов. — Эдак можно ползать до второго пришествия.
— И верно, вроде на кофейной гуще гадаем, — добавил Бодюков. Громко зевнув, он потянулся так, что у него, казалось, затрещали кости. — Эх, скорее бы храповицкого давануть!
— Никаких храповицких, — бросил я раздраженно, хотя мне самому чертовски хотелось спать. — Отдохнем с час, и в путь. С нашим имуществом днем не перебраться.
— Но почему все же на запад? — не унимался Колесов.
— Потому что восточнее — сплошные болота, — объяснил я. — Уж там-то наверняка аэродромом и не пахнет.
Ровно в полночь мы покинули лесную стоянку. Предыдущая бессонная ночь и минувший день, проведенный в бесполезных поисках, давали себя знать. Ноша оттягивала плечи, казалась неимоверно тяжелой. К тому же ни на минуту нельзя было забывать, что мы находимся в тылу врага, причем сравнительно недалеко от линии фронта. Постоянная настороженность и нервное напряжение еще больше ослабляли и без того изрядно измотанные силы. Все чаще приходилось делать короткие привалы…
Рассвет застал нас на краю болота, густо поросшего высоким камышом. Слева, из-за небольшого леса, виднелась колокольня деревенской церквушки. До деревни было не больше километра. Ветер доносил оттуда гул моторов и лязг танковых гусениц. Километрах в двух правее от нас тянулось шоссе, по одной стороне которого бесконечной шеренгой выстроились телеграфные столбы.
Волей-неволей нам пришлось обосновываться в камышах. Рязанов и Бодюков довольно быстро нашли крохотный островок, чуть высунувший кочковатую спину из зеленоватой, затхлой воды. На этом клочке суши едва хватило места, чтобы разместиться кое-как нам и нашему имуществу. Вокруг тихо шептался камыш, вода кишела головастиками и пиявками.
— А теперь спать! — сказал я и взглянул на Галю. — Первой будет дежурить Маркова.
Рязанов вскинул голову, широко раскрыл слипавшиеся, воспаленные веки и выпалил:
— Командир, разреши мне первому!
— Куда тебе! — покосился на него с усмешкой Бодюков. — Ты же спал на ходу. Уж лучше я подежурю.
Колесов браво кашлянул.
— А вот мне вроде совсем спать неохота. Перехотелось, наверное.
Галя, конечно, все поняла.
— Будет дежурить Маркова, — по-начальнически строго повторил я. — Прекратить разговоры!..
В это время откуда-то из-за болота донесся нарастающий, густой гул самолетов.
— Наши, должно быть, идут! — сказал Рязанов.
— Какой там наши! «Юнкерсы» это! — определил Колесов. — Слышите, «ве-зу, ве-зу, везу»!
Небо уже дрожало от гула, и вдруг прямо над нами совсем низко проплыла стая из девяти «юнкерсов» с черными крестами на крыльях. Они шли на юг, медленно набирая высоту. Мы вскочили на ноги, чтобы не потерять их из виду.
— Братцы! — возбужденно воскликнул Колесов. — Да ведь эти стервятники только-только оторвались от земли. С полным грузом идут, потому и рычат так, гады…
— С грузом к фронту бы шли, а они — на юг, — заметил Бодюков.
— Эх, яблочко, соображать надо, — бросил ему недовольно Колесов. — Для маскировки они так… Вот наберут высоту и повернут к передовой… Голову на отсечение даю, что аэродром где-то здесь, у нас под боком!
Лично у меня эта мысль Колесова не вызывала никакого сомнения. «Юнкерсы» шли не на бреющем полете, а именно поднимались. Значит, они произвели взлет всего несколько минут тому назад, то есть незадолго до того, как мы услышали их гул. Аэродром действительно находился где-то совсем близко к северу от болота. Словом, вышло так, как говорится в пословице: «На ловца и зверь бежит». В данном случае ловцами были мы, а зверем — вражеские самолеты.
По лицам друзей я видел, что усталость с них как рукой сняло и что сейчас им не до сна. Точь-в-точь как азартные охотники, вдруг заметившие дичь, они не спускали горящих глаз с «юнкерсов», которые уже были высоко. Предположение Колесова подтвердилось полностью: поблескивая в лучах восходящего солнца, «юнкерсы» свернули на северо-восток, поплыли к передовой. Вскоре оттуда донеслись глухие взрывы бомб.
Бодюков предложил немедленно отправляться в разведку, чтобы уточнить место расположения аэродрома. Рязанов и Колесов поддержали его. Мне тоже не сиделось, но я опасался, как бы в спешке усталые, невыспавшиеся люди не допустили опрометчивости и ошибок, которые почти неизбежны в таком состоянии. Поэтому я отверг предложение Бодюкова и сказал тоном, не допускавшим возражения:
— Будем отдыхать! Без сна нельзя.
Рязанов вздохнул.
— Разве теперь уснешь?
— Надо уснуть, — сказал я требовательно. — Хотя бы на то время, пока вражеские бомбардировщики находятся в полете. Когда они будут возвращаться, Маркова разбудит нас, и мы засечем направление, в котором они пойдут на посадку…
«Юнкерсы» вернулись через полтора часа. Вначале они держали курс строго на юг, затем, резко снизившись, развернулись к северу и снова; пошли на посадку. Теперь их было уже не девять, а семь. Видимо, два из них были сбиты нашими зенитчиками или истребителями.
В двенадцатом часу дня наш отдых закончился. Подкрепив силы галетами, мясными консервами и сгущенным молоком, мы двинулись в путь. Мы с Рязановым направились прямо через болото, Бодюков и Колесов получили задание обойти его вдоль берега, примыкавшего к шоссейной дороге. Кратчайший путь от нашей стоянки до места посадки «юнкерсов» пролегал, конечно, через болото, но на нем могли оказаться непроходимые топи. Маршрут Бодюкова и Колесова был значительно длиннее и более опасным, но, возможно, он был и более надежным.
К счастью, на болоте оказалось множество небольших островков. Они очень облегчали наш переход. Помогло нам и то, что ни я, ни Рязанов ни разу не наткнулись на трясины, хотя мы порой двигались вперед по грудь в воде. В камышах стояла одуряющая духота, все время страшно хотелось пить, но еще страшнее было пить затхлую болотную воду.
Путь через болото удалось преодолеть за тридцать восемь минут (это с учетом коротких передышек на четырех островках). Наконец впереди показался луг со стогами перегнившего, почерневшего сена. За лугом виднелся молодой лес. На северной опушке его высился бугор, увенчанный вышкой тригонометрического знака. Здесь мы условились встретиться с Бадюковым и Колесовым.
Между лесом и бугром тянулась какая-то старая канава, заросшая репейником. Укрывшись среди лопухов, можно было вести наблюдение за шоссе, за всей северной опушкой леса и берегом болота.
— Оставайся здесь, — сказал я Рязанову. — Дождешься Колесова и Бодюкова, а я посмотрю, что находится за лесом. Если не вернусь через час, то двигайтесь в юго-западном направлении и ждите меня на окраине леса.
Рязанов окинул взглядом мою мокрую одежду.
— Просушился бы малость.
Я махнул рукой.
— Обсохну в дороге.
Чем дальше я углублялся в лес, тем чаще попадались свежие воронки от бомб, поваленные взрывами и иссеченные осколками деревья. На дне воронок стояла вода. На небольших полянах виднелись следы костров, вокруг валялись пустые консервные банки, пачки от сигарет, обрывки газет и пустые винные бутылки. Все немецкое. Создавалось такое впечатление, что гитлеровцы покинули этот лес лишь несколько часов назад. Наконец я добрался до западной опушки. Тут уж земля была буквально перепахана взрывами, и уцелели лишь отдельные деревья.
Пробираясь вдоль опушки, я обогнул березовую рощицу, вдававшуюся широким клином в развороченное поле, и невольно замер от неожиданности: на просторном ровном лугу, окруженном с трех старой лесом, стояли самолеты. У самых деревьев виднелись четыре пестрые камуфлированные палатки, а в двух местах над лесом высились наблюдательные вышки. Кое-где из кустов торчали стволы зенитных пушек, «граммофонные трубы» звукоулавливателей, а вдали поблескивали зеркальные отражатели трех прожекторов.
Перед моими глазами лежал вражеский аэродром, лежал как на ладони. От волнения у меня сперло дыхание. До самолетов — рукой подать. Ни колючей проволоки, ни охраны, ни даже маскировки. Это совсем не было похоже на очень бдительных и очень осторожных гитлеровцев. На этот раз они явно допустили вопиющую беспечность. Все на виду, все открыто, и, кроме часовых на вышках, нигде не видно ни души.
«Что за чертовщина?! — недоумевал я. — Где же обслуживающий персонал? Где зенитчики? Куда запропастилась охрана? Ни голосов, ни шума моторов!»
Внимательно приглядевшись к часовым, стоявшим на вышках, я вдруг понял все. Это были не люди, а куклы. Вместо людей — манекены, вместо боевых самолетов — фанерное, искусно размалеванное подобие их, вместо зениток — деревянные шесты. Словом, все, решительно все ложное, сделанное для отвода глаз. И именно такие «аэродромы» не раз бомбили наши самолеты. Свидетельством тому служили воронки и искромсанный взрывами лес… Стоило только появиться в небе нашим бомбардировщикам, гитлеровцы с помощью лебедок и тросов начинали передвигать по полю фанерные макеты и тем самым вводили в заблуждение наших летчиков. Сейчас, наверное, «обслуживающий персонал» дрыхнул в палатках, нисколько не беспокоясь о своем бутафорском хозяйстве…
«Ну, погодите. Мы постараемся сорвать вам следующий спектакль», — мысленно пригрозил я камуфляжникам и, не теряя времени, направился к месту встречи с друзьями, чтобы сообща продолжить поиски. У меня не было никаких сомнений, что где-то вблизи ложного аэродрома находился настоящий, тот, на котором недавно приземлились «юнкерсы». Если гитлеровцам до нынешнего дня удавалось отвести глаза нашим воздушным разведчикам, то нас, «земных» разведчиков, обмануть не так просто, тем более когда след стервятников уже обнаружен.
Колесов, Бодюков и Рязанов поджидали меня среди воронок на западной окраине леса. Обойдя ложный аэродром стороной, мы снова попарно разошлись в двух направлениях: мы с Рязановым — прямо на запад. Колесов с Бодюковым — на северо-запад.
Основной аэродром гитлеровцев находился в пяти километрах западнее ложного. Он сильно охранялся, был надежно прикрыт мощными зенитными батареями и обеспечен средствами очень искусной маскировки. Найти его с воздуха было почти невозможно, так как поле, на котором стояли бомбардировщики, в несколько минут превращалось в лес, для чего гитлеровцы использовали легкие, подвижные площадки с установленными на них свежесрубленными молодыми деревцами и кустами. Не имея возможности проникнуть на территорию аэродрома (посты располагались с небольшими интервалами), мы не сразу разглядели среди искусственной чащи корпуса бомбардировщиков. Южнее аэродрома находился склад горючего. — емкие, цилиндрические резервуары, врытые в землю и прикрытые сверху маскировочными сетками. В полукилометре западнее склада горючего в просторных ямах лежали штабеля авиационных бомб, рассортированных по весу.
Помимо этого основного аэродрома, обнаруженного нами; Колесов и Бодюков нашли еще два запасных и один ложный. Последний как бы прикрывал запасные с северо-западной стороны.
Как ни бдительны были немецкие часовые, нам все же удалось успешно завершить разведку и собрать исчерпывающие данные обо всех звеньях аэродромной службы. Пожалуй, еще ни разу за всю нашу авиадесантную практику мы не наползались так, как в этот день. Обмундирование изрядно изорвалось, особенно на коленях и локтях. Исцарапанные колючими ветвями лица, ссадины с запекшейся кровью, одежда, насквозь пропитанная потом, смешавшимся с пылью. Что и говорить, нелегкая эта работа — ползать почти под самым носом у врага, когда малейшая неосторожность может привести к гибели. Тут уж прошибает порой до седьмого пота, и не замечаешь ни царапин, ни ссадин, ни боли в сбитых до крови локтях и коленях…
Теперь нам нужно было обдумать и наметить план разгрома неприятельского аэродрома с таким расчетом, чтобы не уцелел ни один бомбардировщик и чтобы одновременно уничтожить склады горючего, бомб и все вспомогательные объекты. Основная роль в этой операции отводилась нашим бомбардировщикам, но и мы не собирались ограничиваться ролью наводчиков, да, откровенно говоря, не так уж просто было давать световые сигналы самолетам ночью в непосредственной близости от объекта бомбардировки. Хотелось дать такой сигнал, чтобы небу стало жарко, и обеспечить абсолютно точную наводку наших самолетов на цель.
Вечером разработка плана была закончена. Вася Рязанов зашифровал мое донесение, и Галя передала его на Большую землю. Оттуда сообщили, что план наш полностью одобрен. Эскадрильи бомбардировщиков должны были появиться над, указанным нами районом в 3 часа 20 минут ночи. В том случае, если нам не удастся совершить к указанному сроку предусмотренных планом диверсионных актов, мы должны были четырьмя световыми сигналами указать границы основной базы «юнкерсов», а в самом начале бомбардировки выпустить две красные ракеты в местах расположения, складов горючего и бомб…
В одиннадцатом часу ночи группа в полном составе, захватив с собой термитные заряды, оружие, электрофонари и ракеты, перебралась с островка на берег болота и двинулась к тригонометрическому знаку тем путем, по которому днем шли Колесов и Бодюков.
В половине первого мы уже были в районе аэродрома. Оставив Галю с двумя фонарями и несколькими ракетами на северном участке, мы с. Рязановым отправились к складу горючего, Колесов и Бодюков — к складу бомб.
Времени у нас оставалось не так уж много. Лезть на рожон мы, конечно, не собирались: ни в коем случае нельзя было вступать в бой с гитлеровцами. Во-первых, это всполошило бы всю охрану и помогло ей принять какие-то меры для подготовки самолетов к подъему в воздух; во-вторых, схватка была бы слишком неравной, и в случае нашей гибели некому было бы навести бомбардировщики на цель. Вот почему мы решили прежде всего тщательно проверить, есть ли реальная возможность совершить диверсии на том и другом складе без особого риска. Если такой возможности не окажется, мы должны были занять предусмотренные планом места: я — у склада горючего, Рязанов — у склада бомб, Колесов — на западной границе аэродрома, Бодюков — на восточной. Галя была уже на месте. Таким образом, при появлении наших бомбардировщиков сигналы указали бы границы аэродрома. Кроме того, мы с Рязановым произвели бы наводку самолетов на склады.
Ночь была звездная, тихая. Легкий ветер чуть шумел листвой, и порой казалось, что это тихо вздыхает уснувший лес. То там, то здесь слышались шаги часовых. Где-то у линии фронта изредка вспыхивали лучи прожекторов. Метнувшись раз-другой по небу, они угасали…
Склад горючего охранялся двумя цепями постов. Внешняя отстояла от него примерно в ста метрах, внутренняя — метрах в десяти. Часовые медленно прохаживались между постами, то идя навстречу друг другу, то опять расходясь.
Рязанов полз к складу по неглубокой ложбине с восточной стороны. За ним в пяти шагах следовал я, как бы страхуя его на тот случай, если часовой услышит шорох, остановится или двинется в его сторону. Рука моя крепко сжимала рукоятку финского ножа, и я был готов в любую минуту нанести смертельный удар тому, кто заметит Рязанова.
Наконец наступил самый опасный момент. Проскользнув мимо постового внутренней цепи охраны, Рязанов скрылся за ближайшим резервуаром. Я приник к земле, замер от напряжения. Мимо прошел часовой. Прошел, буркнул что-то встречному часовому и повернул назад. Мне казалось, что он взял чуть-чуть правее и вот-вот заденет меня сапогом. К счастью, я ошибся. Прошло минуты три, не больше, прежде чем Рязанов вернулся, но мне чудилось, что я прождал его чуть ли не полчаса. Он слегка стиснул пальцами мне плечо, давая знать этим, что две термитные мины с часовым механизмом благополучно установлены, и мы двинулись в обратный путь. Теперь впереди полз я. Часовой внешней цепи охраны и на этот раз не заметил ничего.
Бодюкову и Колесову также повезло. Правда, у склада бомб посты располагались значительно реже, может быть, потому, что бомбы хранились без взрывателей и, по сути дела, являлись довольно безопасными чушками, начиненными толом. Наш расчет строился на том, что тол обязательно сдетонирует при взрыве термитных мин…
До появления наших бомбардировщиков оставалось около часа.
Я лежал в лесных зарослях против склада горючего, прислушиваясь к голосам часовых, которые непрерывно прохаживались по поляне.
Где-то во тьме, так же как и я, притаились мои друзья и, вероятно, так же как и я, нетерпеливо поглядывали на часы, волновались, думали о том, сработают ли мины, не помешает ли что-нибудь успешному завершению операции. Впрочем, не только об этом думалось в те медленно ползущие минуты напряженного ожидания. Перед мысленным взором всплывали образы родных, картины прошлого — все то, что бережно хранилось сердцем всегда и всюду…
В половине третьего на аэродроме внезапно началась суета. Я встревожился. В голову хлынули мрачные мысли. Не перехватили ли гитлеровцы нашего донесения на Большую землю и не удалось ли им расшифровать его? А может быть, кто-либо из часовых случайно наткнулся на установленные нами мины и поднял тревогу? И наконец, не попался ли кто-нибудь из наших в руки гитлеровцев?..
Мне уже не лежалось на месте. Обойдя склад горючего, я выбрался к границе взлетного поля аэродрома и только теперь понял, что происходит. Тележки с маскировочными деревьями медленно оттягивались к лесу. Вокруг самолетов шла какая-то возня. Невдалеке от меня машина провезла два прицепа, нагруженных бомбами. Затем проследовали два бензовоза. Все это свидетельствовало о том, что бомбардировщики готовились к очередному ночному вылету.
Я взглянул на часы. Стрелки показывали сорок семь минут третьего. До взрыва мин оставалось двадцать три минуты, до прибытия наших самолетов — тридцать три минуты. Если «юнкерсы» поднимутся в воздух до взрыва мин на складах, операция сорвется: бомбить пустой аэродром совершенно бесполезно. Но даже если мины взорвутся раньше, «юнкерсы» все равно сумеют покинуть аэродром!
Надо было прибегать к крайней мере, предусмотренной нашим планом: немедленно поднять панику на аэродроме. Но это означало подвергать смертельному риску всю мою группу. Ведь если не сработают мины и наши бомбардировщики чуть запоздают, ни один из нас не уйдет отсюда живым. И все же иного выхода не было.
Чувствуя, как все тело покрывается холодным, клейким потом, я вложил в ракетницу желтую ракету и, крепко сцепив зубы, сделал выстрел. С шумом и свистом ракета взвилась к небу, громко хлопнула и на несколько мгновений осветила весь аэродром: ползущие тележки, распластавшие крылья «юнкерсы», механиков и солдат, возившихся возле них. С лихорадочной поспешностью я метнул одну за другой две гранаты в сторону ближайшего самолета. Две огненные вспышки, два отрывистых взрыва, и тотчас рассыпалась частая дробь моего автомата. Она слилась с грохотом гранатных разрывов и стрельбой на всех границах аэродрома. Это был огонь моих друзей.
Гитлеровцы заметались как угорелые. Их крики, вопли смешались в какой-то дикий вой. Со всех сторон неслось истошное: «Партизанен! Партизанен!»
Я знал, что через минуту-две они опомнятся, поймут, что нас, нападающих, всего несколько человек, и тогда наступит быстрая и трагическая развязка…
И вдруг над складом горючего взметнулся огромный столб желтовато-багрового пламени, а в следующее мгновение небо дрогнуло от взрыва на складе бомб. Стало светло как днем. Казалось, весь лес сразу вспыхнул бушующим, клокочущим огнем.
Еще никогда мне не приходилось наблюдать такой паники, какая царила теперь на аэродроме. Прекратив стрельбу, я бросился в глубь леса. Никто не преследовал меня. Споткнувшись о какой-то пень, я перевернулся через голову и, больно ударившись плечом о ствол дерева, упал навзничь. А в небе уже шарили лучи прожекторов, и где-то, совсем близко, лаяли громко зенитки. Я не слышал гула наших бомбардировщиков, но догадался, что они приближаются. Ноющей, непослушной рукой я вложил в ракетницу красную ракету, пальнул в сторону аэродрома. Почти одновременно такие же ракеты вспыхнули еще в четырех местах. Их ярко-багровый свет как бы возвещал о том, что все мои друзья были целы…
И тут началась бомбежка. Земля заходила ходуном. Оглохший от грохота и рева, я видел, как взлетали в воздух обломки «юнкерсов» и как корчились в огне те из них, которые еще не были уничтожены прямыми попаданиями бомб.
Одна бомба разорвалась невдалеке от меня. Она напомнила, что надо уходить. Боль в плече уже не чувствовалась.
Окрыленный удачей, испытывая какое-то особо чудесное, вдохновляющее возбуждение, я пробирался через заросли, уходил все дальше от грозного пожарища, почти не веря в то, что цел и невредим.
Чудесно-радостной была встреча с друзьями у тригонометрического знака. Радостной потому, что задание было выполнено, что все мы снова собрались вместе.
Весь следующий день мы отсыпались на болотном островке, а ночью двинулись к торфяным болотам, где нам предстояло перейти через линию фронта к своим.
— Ну как, Маркова, по душе тебе наша работа? — спросил я Галю на одном из привалов.
Она кивнула, ответила с улыбкой:
— Да, по душе… И работа, и ваша группа.
— Эх, яблочко, и ты нам по душе, — дружески похлопал ее по плечу Колесов, как бы выразив своими словами наше общее отношение к ней.
Глава 12. ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
Вечерело. Над дальним лесом пламенела заря заката. Откуда-то тянуло прохладным ветерком. Я сидел на ступеньках крыльца «школы», глядел на причудливые, чуть подрумяненные хлопья облаков, медленно плывших на восток, и вспоминал дни быстро закончившегося отпуска, отчий дом и такие же чудесные закаты над рекой Кубанью. Сейчас, словно не было никакой войны, вокруг стояла умиротворяющая тишина.
И вдруг из раскрытого окна голос дежурного;
— Игнатов, к начальнику!
Мечтательного настроения как не бывало. Спустя минуту я уже стоял перед полковником Тепловым.
— Садитесь! — Теплов указал на стул у стола, на котором лежала развернутая карта, спросил: — Как самочувствие?
— Отличное! — отозвался я.
— Это хорошо, — кивнул с улыбкой Теплов и, помолчав немного, сказал: — ну а теперь, после отдыха, за дело. Обстановка на нашем фронте сейчас очень тяжелая. Гитлеровцы сосредоточили здесь большие силы и грозную боевую технику. — Полковник провел карандашом вдоль линии, обозначавшей на карте железную дорогу. — По этой магистрали противник ведет переброску сил для нового наступления. — Карандаш очертил кружком несколько населенных пунктов. — Наша разведка донесла, что концентрация войск немцев происходит в этом районе. Мы получили задание уточнить полученные сведения и, если они подтвердятся, сорвать доставку живой силы, боеприпасов и техники гитлеровцев по этой дороге.
Я не отрывал глаз от карандаша. Вот он скользнул к западу и очертил новый кружок.
— Этот железнодорожный мост находится за линией фронта и имеет большое стратегическое значение. Как видите, вокруг — леса и болота. Здесь базируется партизанский отряд. Вчера оттуда прибыл связной с очень любопытным сообщением. Оказывается, партизаны уже совершали налет на мост, пытались вывести его из строя, но ничего не вышло. Во-первых, гитлеровцы усиленно охраняют все подступы к мосту, и, во-вторых, партизаны слабо знакомы с подрывным делом, у них нет минеров. Надо им помочь.
Полковник оторвал глаза от карты. Наши взгляды встретились.
— Догадываетесь, зачем я вызвал вас?
— Мост? — коротко спросил я.
— Он самый, — подтвердил Теплов. — В лоб его не взять. Все попытки нанести удар с воздуха были неудачны. В небе непрерывно барражируют истребители, на земле — мощная зенитная оборона. Поэтому нужно искать слабое место.
— Ясно, товарищ полковник! — сказал я.
— А раз ясно, то времени терять не будем, — продолжал Теплов. — Послезавтра ночью вас будут ждать вот здесь, в районе села Ольховки. — Новый кружок на карте. — Туда вас перебросят самолетом. На подготовку остается немногим больше суток.
— Успеем, — заверил я.
— Познакомьтесь с паролем. — Теплов чуть приглушил голос. — Вас спросят: «Стой! Откуда?» Ответ: «Хозяин прислал. Поработать здесь можно?» Второй вопрос: «Сколько просите за работу?» Ответ: «Договоримся на месте». Запомнили?
Я слово в слово повторил вопросы и ответы пароля.
— После обстоятельной разведки на месте разработайте детальный план операции, — сказал Теплов. — Уточните обстановку в тылу противника, интенсивность передвижения гитлеровцев к фронту, какие силы и что они перебрасывают, и обо всем этом сообщите мне шифрованными радиограммами. Затем приступайте к выполнению задачи. Если будут изменения, мы вас вовремя известим. О сигнализации при посадке и встрече с партизанами договоритесь с майором Данильцевым. — Полковник как бы припечатал карту ладонью к столу. — Вот и все! Вопросы есть?
— Все ясно, товарищ полковник!
— Порядок! — снова улыбнулся Теплов. — О времени вылета вас предупредит Данильцев. — Он вышел из-за стола, по-дружески пожал мою руку: — Желаю успеха. До скорого свидания!
К выполнению нового задания наша группа основательно подготовилась. Мы тщательно изучили по полевым картам район предстоящей операции, запаслись всем необходимым для взрывных работ, проверили личное оружие. В тылу врага нас подстерегали неожиданности и опасности, поэтому подготовку надо было вести так, чтобы никакие случайности не могли застать нас врасплох.
Некоторые люди склонны думать, что разведчики склеены из какого-то «особого теста» и являются абсолютно бесстрашными людьми, обладающими железными нервами. Это совсем не так. Каждый раз, отправляясь с очередным заданием за линию фронта, мы очень волновались и испытывали чувство огромной внутренней напряженности. Правда, внешне никто из нас не выказывал своего душевного состояния. Мы шутили, смеялись, говорили о своих житейских делах и даже строили личные планы на далекое будущее, стараясь не думать о том, что кто-то из нас, возможно, падет в неравной схватке в тылу врага.
Когда в назначенный срок. мы поджидали майора Данильцева, в нашей комнате, как обычно, было шумно и весело. И хотя впереди нас ждала тревожная, бессонная ночь, никто не думал о сне.
Вскоре пришел майор Данильцев. Выслушав мой рапорт о полной готовности группы к вылету, он придирчиво осмотрел нашу экипировку, сообщил дополнительные сведения о месте высадки и в заключение сказал:
— Ну что ж, в добрый путь, хлопцы! Не будем мешкать. Машина уже ждет нас.
До аэродрома было не менее пятидесяти километров.
Ехали через лес, по узкой ухабистой дороге и на место прибыли в первом часу ночи. Нас познакомили с экипажем самолета, который должен был отправить группу во вражеский тыл.
— Когда вылет? — спросил майор первого пилота.
— Ждем радиограммы от партизан, — ответил тот и взглянул на часы. — Думаю, что долго не задержимся. А пока прошу всех в мою землянку для предполетного инструктажа…
В час ночи была наконец получена команда о вылете. Выйдя из землянки, мы окунулись в кромешную тьму. Галя шла рядом со мной. Случайно прикоснувшись плечом к ее плечу, я почувствовал, как она дрожит, спросил:
— Замерзла?
— Нет, нет, ничего, — послышалось в ответ.
— Страшно?
— Чуть-чуть.
— А дрожишь почему?
— Это сейчас пройдёт… Нервное…
Ответ искренний, без рисовки, без фальшивого бравирования. Да, страшновато и, может быть, далеко не «чуть-чуть». И разве только у нее, у этой хрупкой на вид девушки, сейчас напряжены нервы? Несколько минут спустя начнется путь в неизвестное, в логово фашистского зверя, возможно, навстречу смерти. Могучий Колесов конечно, не испытывает нервного озноба. Бодюков под стать ему.
А вот Вася Рязанов то и дело оступается, что-то тихонько бормочет себе под нос и, наверное, тоже подрагивает.
Милые мои, верные, надежные боевые друзья! У вас не каменные сердца. Не каменные, но настоящие солдатские сердца, которые умеют заглушить в себе все, что мешает им идти на подвиг во имя Родины, во имя свободы и счастья советского народа!
Вспыхнул луч аэродромного прожектора, выхватив на минуту из тьмы большой самолёт.
Прожектор погас. Тьма стала еще непрогляднее. В кабине самолета тускло светила фиолетовая лампочка. Мы заняли места на сиденьях вдоль стен. Сопровождавший нас майор Данильцев поместился у двери. У пилота над приборами и штурманской картой горело несколько лампочек, прикрытых сверху колпаками.
Взревели моторы. Самолет затрясся. На взлетную полосу снова упал широкий луч прожектора. Дверь захлопнулась. Последние минуты на Большой земле. Бодюков прокричал что-то на ухо Колесову. Вася Рязанов, сидевший рядом с Галей, смотрел на нее как-то растерянно, будто не решаясь сказать ей что-то очень и очень важное.
Пилот обернулся, крикнул:
— Готово?
Данильцев вскинул руку.
— Пошли!
И вот мы в воздухе. Круто набрав высоту, самолет лег на заданный курс. Где-то под нами лежала земля.
Через передовые позиции пролетели удачно. Ни слепящих прожекторов, ни огненных вспышек разрывов зенитных снарядов. Видимо, на земле шла артиллерийская перестрелка, в грохоте которой гул нашего самолета не был услышан противником.
Прошло пятьдесят минут полета. Самолет пошел на снижение, затем начал описывать в воздухе большие круги. Мы зашевелились. Нервное напряжение возрастало. Где-то внизу, словно в черной бездне, то вспыхивал, то угасал синий огонек. Казалось, он подмигивал нам ободряюще и зовуще.
Майор Данильцев поднял руку, что означало «приготовиться к десанту». Открылась боковая дверь. Снаружи в самолет ворвался холодный ветер.
Первым прыгнул Колесов. Кивнув нам на прощание, он весело улыбнулся и ринулся во мрак, головой вниз. За ним последовала Галя. На какое-то мгновение она задержалась у двери, затем резко сделала шаг вперед, в пустоту. Бодюков тотчас вылетел за ней ногами вниз — «солдатиком», как прыгают мальчишки с кручи в речку.
Мы с Рязановым с помощью Данильцева сбросили грузовые парашюты. Рязанов взглянул на меня.
— Давай, Вася! — кивнул я.
Он подошел к двери, вытянул руки вперед, будто пытаясь попробовать тьму на ощупь, и выпрыгнул.
Настал мой черед. Мне почудилось, что вместе со струей тугого воздуха в самолет влетел какой-то дикий, залихватский свист. От него невольно сжалось сердце. «Ну, скорее!» — мысленно подстегнул я себя и сразу почувствовал стремительность падения — сладкую и пугающую. Когда прыгаешь с самолета днем, когда видишь землю, купола раскрывшихся парашютов друзей, хочется кричать от восторга. Ночью совсем другое дело. Падение в густой мрак порождает тягостное чувство одиночества. Счет времени кажется обманчивым, замедленным, и невольно ждешь, что вот-вот врежешься в невидимую твердь земли. И все же сдерживаешь в себе мучительное желание выдернуть кольцо парашюта, упорно ведешь счет секундам. Губы шепчут: «…Семнадцать… восемнадцать… девятнадцать… двадцать…». Наконец рука привычно делает рывок. Кто-то будто подхватывает тебя за шиворот на лету, удерживает в воздухе и потом бережно начинает опускать вниз.
Толчок ногами о землю… Откуда-то сверху доносится гул самолета. Времени терять нельзя.
Быстро погасив парашют, я собрал его, наспех обмотал стропами и, перекинув через плечо, двинулся на северо-восток, к месту встречи с товарищами. Светящаяся стрелка компаса ведет меня туда сквозь мрак по незнакомой местности.
Не прошло и часа, как все мы собрались вместе. Вокруг — тишина. Изредка доносились какие-то шорохи, приглушенный писк, шелест крыльев ночных птиц.
— Теперь куда? — спросил шепотом Колесов.
— Никуда, — отозвался я. — До тех пор, пока не увидим сигнала.
Первой его, этот сигнал, заметила Галя. На западе, где в темном небе чуть просматривалась стена леса, то вспыхивал, то угасал огонек. Слабый, едва приметный, но именно тот, который мы искали: синий, манящий, приветливый здесь, во вражеском тылу. Наш родной советский огонек!
Сердце влекло к нему, хотелось броситься туда и закричать: «Мы здесь, товарищи!» Но холодный рассудок удерживал на месте, повторял предостерегающе: «Не торопитесь! Будьте бдительны! Кто может поручиться, что враг не разведал секрета партизанских сигналов? Что произойдет, если синий огонек находится в руках врагов, а не друзей?»
Решил послать Колесова в разведку.
Прошло минут двадцать томительного и напряженного ожидания. В той стороне, куда ушел Колесов, было тихо. Огонек уже не мигал. Мы лежали на земле, молча вглядываясь в темноту, прислушиваясь к каждому шороху.
Бодюков нетерпеливо поглядывал на светящийся циферблат своих наручных часов. Рязанов время от времени приподнимался на локтях, вытягивал шею, будто силясь разорвать какие-то невидимые путы, удерживавшие его на земле. Галя нервно покусывала стебель травинки. Я же думал о том, что предпринять в случае, если Колесов наткнулся на вражескую засаду…
К счастью, все обошлось благополучно. Колесов вернулся с двумя провожатыми. Им было поручено вести нас не на основную стоянку партизан, а на вспомогательную, к той группе, с которой нам предстояло выполнять боевое задание.
Путь показался бесконечно долгим и утомительным. Мы то пробирались сквозь кустарник, то шли вдоль болот по зыбким кочкам, то переходили вброд топкие, сонные речушки.
Восток уже серел, когда у одного из перелесков нас встретил партизанский дозор. К нам подошел мужчина, широкоплечий, немного грузноватый, с посеребренными сединой висками. Это был командир вспомогательной группы — Астафьев. Он крепко пожал нам руки, расспросил, как мы себя чувствуем после полета и марша по болотам, и тут же распорядился полностью разгрузить нас от ноши. От него веяло дружеским радушием, и даже его внушительный бас рокотал как-то особенно тепло и приветливо.
Лагерь группы находился в лесу, окруженном густыми болотистыми зарослями. Нам отвели просторную землянку, вырытую в откосе пологого холма.
— Выпейте чайку, отдохните с дороги, а утром потолкуем о деле, — сказал Астафьев.
Чай, пропахший дымком костра, показался нам изумительно вкусным. В землянку пробивался глухой гомон голосов. Он действовал на нас успокоительно, убаюкивающе. Не верилось, что линия фронта пролегала за сотни километров от этих мест, что где-то рядом в селах и городах хозяйничали оккупанты.
Уже засыпая, я услышал, как Астафьев басовито прикрикнул на кого-то:
— А ну кыш отсюда, не балабоньте! Дайте людям отдохнуть.
Голоса утихли.
Повернувшись лицом к пахнувшей сыростью стене землянки, я погрузился в глубокий, покойный сон.
В десятом часу утра в землянку заглянул Астафьев. Я только что проснулся и хотел было будить остальных, но Астафьев остановил меня, шепнул:
— Пусть еще поспят малость. А мы с вами выйдем, поговорим наедине.
По едва приметной тропке, змеившейся между деревьями, мы направились к опушке леса. Астафьев выбрал травянистую площадку меж кустов. Позади высился лес, впереди сквозь кугу и камыш виднелись небольшие клочки воды, затянутые ряской. Пахло травами и болотной прелью.
Развернув полевую карту, я сориентировал ее на местности и объяснил Астафьеву задачу, которая была возложена на партизан и на мою группу.
— Скажу прямо, задача очень и очень тяжелая, — заметил Астафьев. — Наметить план операции теоретически — одно дело, и совсем другое — исходить из конкретных условий, так сказать, из окружающей обстановки. — Он указал на карте, где располагались посты гитлеровцев, их огневые точки на ближних и дальних подступах к мосту, где находились основные силы противника, в задачу которых входила охрана железнодорожной магистрали и главным образом моста.
Я предложил несколько вариантов проведения операции. Астафьев слушал, подолгу обдумывал каждый из этих вариантов и коротко делал заключения: «Этот не годится!», «Этот, пожалуй, лучше!», «Этот практически неосуществим!»
— Что же предлагаете вы? — спросил я обескураженно.
— Не будем спешить, — ответил Астафьев. — Прежде всего давайте посмотрим натуру — что, где, как. А тогда уж будем решать.
Пришлось с ним согласиться.
Разговор зашел о сведениях, которые интересовали наше командование.
— У меня есть кое-что, — сообщил Астафьев. — В частности, данные о количестве эшелонов, проследовавших по этой магистрали на восток, и об их грузах. Кроме того, мы уточнили места расположения вражеских складов боеприпасов и горючего и численность гарнизонов в близлежащих селах.
— И насколько достоверны эти сведения? — поинтересовался я.
— Они получены от захваченных нами «языков» и проверены нашей разведкой.
— Значит, их можно смело передавать на Большую землю?
— Хоть сейчас, — ответил Астафьев. — Я полностью гарантирую точность этих сведений…
После завтрака мы втроем вместе с Астафьевым собрались произвести разведку в районе моста. Галя и Рязанов настроили рацию и, связавшись с Большой землей, приступили к передаче сведений, полученных от Астафьева. Рязанов шифровал донесения, Галя передавала их в эфир.
Уже выходя из лесу, мы встретили трех партизан, тащивших фельдфебеля гитлеровской полевой жандармерии — тощего, остроносого, с серыми водянистыми глазами. Рыжие волосы его были всклокочены, изо рта торчала тряпка, руки за спиной были скручены веревкой. Он рычал, извивался и никак не хотел идти. Двое дюжих парней с трудом удерживали его за плечи и руки, а пожилой бородач то и дело подталкивал его коленом в зад, приговаривая:
— Иди, иди, басурман! Ждет тебя в пекле бес в свою команду эсэс!
Увидев командира, партизаны остановились.
— Вот поймали субчика, — доложил бородач, смахнув рукавом пот со лба. — Худючий черт, а двужильный, втроем насилу управились.
Фельдфебель тяжело дышал, по-волчьи глядя на нас.
— Где поймали? — спросил Астафьев.
— По ту сторону болота, — сказал бородач. — Недалече от ихнего поста… Присел он, значит, по нужде за кусты, размечтался, а мы тут как тут. И пикнуть не успел. Враз его понос пробрал. Через болото на себе перли. Видать, понравилось ему на руках, не идет ногами ни в какую! Уморил, окаянный.
Астафьев приказал вынуть тряпку изо рта пленного и неожиданно для нас заговорил с гитлеровцем по-немецки быстро, без запинки, будто на родном языке.
Фельдфебель упрямо замотал головой, разразился бранью и заявил, что ни на какие вопросы отвечать не будет.
— Ничего, заговоришь, — усмехнулся недобро Астафьев и приказал доставить пленного к штабной землянке. — Пусть посидит, подумает. Вернусь, допрошу…
Партизаны поволокли гитлеровца в глубь леса. Астафьев проводил их глазами, сказал с улыбкой:
— Удачный нынче день у моих охотников. Дичь подходящая.
Колесов не вытерпел, промолвил восхищенно:
— А здорово вы по-немецки… Ей-ей, как заправский фриц. Где это вы так наловчились?
— Ничего удивительного, — сказал Астафьев. — В школе я историю и немецкий язык преподавал. Так что это, можно сказать, хлеб мой…
До самого вечера не возвращались мы в лес: изучали «натуру», то есть мост, выискивали места, где можно было бы пробраться к нему. Астафьев прекрасно знал местность, каждый овражек, каждую кочку, каждый куст. Не раз мы подползали к железнодорожной насыпи в непосредственной близости от вражеских дозоров, но так и не смогли найти подходящей лазейки к мосту. Нужно отдать должное неприятелю: охрана предмостных участков железной дороги была продумана с большой тщательностью.
— Как видите, этот мост — чертовски крепкий орешек, — сказал Астафьев, когда мы, исколесив бог знает сколько километров и устав донельзя, сделали привал на одном из болотных островков, откуда был хорошо виден «проклятущий» (по мнению Бодюкова) мост.
— Но задание есть задание! — заметил я. — Мы должны выполнить его любой ценой.
— Это не означает лезть на рожон, — сказал Астафьев. — Можно зря сложить головы и не достигнуть цели. А рисковать вашими головами я не имею права. Вряд ли мне вышлют минеров вторично.
С минуту лежали молча. Мост, казалось, был совсем рядом, и в то же время каким далеким и недосягаемым выглядел он. Вот уж воистину — видит око, да зуб неймет.
— Как же быть, черт возьми? — вырвалось у меня с досадой.
Колесов поморщился, поскреб затылок.
— Эх, яблочко, такого еще не бывало в нашей практике. Тяжелый случай!
Издалека донесся гудок паровоза.
— А может, на станцию пробраться? — предложил вдруг Бодюков. — Глядишь, там какой-либо выход найдется. Как по-вашему, братцы?
Мы все вопросительно уставились на Астафьева. Тот не торопился с ответом.
— Попробуем, — промолвил он наконец. — Там в поселке есть наши люди. Один даже в «начальниках» ходит — бригадир ремонтников. Возможно, и впрямь придумаем что-нибудь подходящее.
— Решено! — закончил я, уже не колеблясь…
Ночью Астафьев привел нас в большой поселок, примыкавший к станции. Кварталы вдоль железнодорожного пути были почти начисто сметены немецкой авиацией еще в первые месяцы войны. Кое-где над землей торчали обломки стен и печей. Западная часть поселка сохранилась, и там гитлеровцы расселили своих солдат и русских рабочих, согнанных сюда для ремонтных работ на станции.
Оставив нас в глинистом карьере у развалин бывшего кирпичного завода, Астафьев вначале отправился в поселок один. Ночь снова выдалась темная, беззвездная. Временами начинал идти мелкий дождь. На станции шипели паровозы, лязгали буфера, громыхали колеса. Как светляки, помигивали фонари поездных бригад и осмотрщиков вагонов. Слева и справа от станции тускло горели огни семафоров.
Астафьев вернулся в сопровождении невысокого пожилого мужчины, говорившего осипшим голосом. Это был бригадир одной из ремонтных бригад — Семен Кириллович Никитов.
— Одежа-то у вас какая? — спросил он. — Военная или цивильная?
— Партизанская, — ответил Астафьев. Кто во что горазд.
— Оружия чтоб никакого, — предупредил Никитов.
— Это как же без оружия! — возмутился Колесов.
— Я про винтовки и, так сказать, про видимое говорю.
— А пистолеты, ножи, гранаты?
— Ежели припрятать хорошо, то пожалуй… За рабочих своих выдам вас. Тут недалече шанцевый инструмент сложен у меня. Прихватим для видимости.
Пришлось всё «видимое» оружие — автоматы — оставить с Рязановым среди руин обжиговой печи. Пистолеты, ножи и гранаты рассовали по карманам, за пазухами, в голенищах сапог. Одежда у нас была действительно разношерстная, какую носят гражданские лица во время войны: в основном самая что ни на есть «цивильная», но с некоторой примесью воинской.
На станцию проникли благополучно. Постовые, посвечивая карманными фонариками, проверили пропуск Никитова, а нас, «рабочих», вооруженных ломами, кирками и лопатами, пропустили по счету. Все мы были начеку, и, если бы кто из охранников заподозрил что-либо неладное, наши ножи сделали бы свое дело.
На станции стояло несколько эшелонов. На путях, формируя составы, ползал маневровый паровоз, напоминавший старика, задыхавшегося от приступа астмы: так отчаянно он шипел паром и ухал. Один эшелон готовился к отправке на фронт — в сторону «нашего» моста. На платформах — танки, зачехленные пушки, из вагонов доносился храп и гомон солдатни.
Когда мы проходили невдалеке от хвоста эшелона, с тормозной площадки последнего вагона спрыгнул немец-кондуктор и что-то крикнул осмотрщику вагона, остукивавшему молотком бандажи колес. Тот подошел. Кондуктор попросил огня, закурил сигарету и тотчас вернулся на площадку, где под красным сигнальным фонарем маячила фигура охранника.
Колесов крепко сжал мой локоть, прошептал:
— Видел?
— Что именно? — не понял я.
— Кондуктор и один охранник… — задыхаясь от волнения, сказал Колесов. — Снять их с площадки, переодеться и на мост…
— А дальше что?
— Первым заходом устроить там затор, а следующим — рвануть.
Это была заманчивая и вместе с тем довольно просто осуществимая идея. Я сразу ухватился за нее. Понравилась она и Астафьеву…
Вернувшись на стоянку, мы в ту же ночь разработали детальный план действий и весь следующий день готовились к его выполнению.
Снова ночь. Сильный ветер разметал пелену туч, весь день висевшую над землею. По звездному небу мчались черные косматые облака. Шум леса сливался с шумом камыша, и порой казалось, что где-то невдалеке стонет разбушевавшееся море.
На этот раз мы двинулись в путь, изрядно нагрузившись взрывчаткой. План операции, разработанный нами, был и дерзок и опасен, но настроение было приподнятым. Каждый почему-то проникся верой в успех задуманной диверсии, и эта вера окрыляла нас.
Еще днем Галя с Рязановым и двумя проводниками отправились через болота к невысокому пригорку, откуда хорошо просматривался участок железнодорожного перегона, подходившего к станции с запада. К вечеру мы уже располагали точными сведениями, сколько эшелонов прибыло на станцию, сколько из них ушло к фронту, сколько проследовало с востока на запад. По нашим подсчетам, на станции к полуночи должно было находиться два состава, следовавших на фронт…
Семен Кириллович уже ждал нас с шанцевым инструментом у развалин кирпичного завода. Возник вопрос, как пронести на станцию взрывчатку. Бодюков предложил захватить с собой две одноколесные тачки, валявшиеся среди заводского двора, погрузить на них тол, а сверху сложить костыли, болты и инструменты.
— Не годится! — возразил Никитов. — Ни разу с тачками не являлись мои работяги… Сразу эти тачки бросятся в глаза охранникам.
— Не паникуй, Семен Кириллович, — сказал Астафьев. — Тачка — это тот же рабочий инструмент. Вот увидишь, все обойдется.
— А ежели не обойдется?
— Тогда перебьем постовых.
— Ну, разве что так, — согласился Никитов.
Как и предполагал Астафьев, гитлеровцы не обратили особого внимания на тачки. Их и на этот раз вполне удовлетворили пропуск бригадира и цифра, соответствовавшая числу «ремонтников», проследовавших с ним на ночную смену. Ремонтные бригады дежурили на станции день и ночь, приводили в порядок еще не восстановленные запасные пути, тупиковые ветки и стрелочные переводы…
Мы подоспели к отправке большого эшелона, состоявшего из товарных вагонов и платформ. Часть состава была загружена саперным имуществом — металлическими понтонами, мостовыми фермами, копрами, в головной части размещались крытые брезентом грузовые автомашины, легкие танкетки и мотоциклы. На некоторых платформах стояли зенитные орудия и пулеметы. В вагонах ехали солдаты. Однако охрана эшелона была сравнительно немногочисленной.
На тормозной площадке последнего вагона висели два красных сигнальных фонаря. На одной из подножек сидел охранник с автоматом на груди. Кондуктор стоял тут же, у вагона, и изредка подавал сигналы ручным фонарем в сторону головной части поезда.
Рядом с этим эшелоном, почти у самого его хвоста, стояло несколько пустых пассажирских вагонов.
Эшелон мог отойти с минуты на минуту: паровоз уже был прицеплен и громко пыхтел. Путь в сторону моста был открыт, на что указывал зеленый свет семафора.
Не знаю, как у кого, но у меня от волнения сердце стучало колотушкой. Забравшись в один из пассажирских вагонов, Рязанов и Колесов торопливо укладывали тол в небольшой сундучок, я прикреплял к сундучку веревку с привязанной к ней металлической «кошкой» в виде якоря с шестью острыми загнутыми лапами. От веревки тянулся короткий тонкий шнур к взрывателю, вмонтированному в сундучок-мину.
Пока мы были заняты этим делом, Астафьев и Бодюков тут же, в вагоне, переоделись: первый превратился в немецкого ефрейтора, второй — в солдата эсэсовских войск. (Вражеской униформы у партизан имелось в избытке!)
Все шло точно по намеченному плану. Семен Кириллович и два партизана-«ремонтника» находились у груды обломков водонапорной башни, перегружали основной запас тола с тачек в ящики, припасенные здесь еще днем Никитовым, и вели наблюдение за тем, что происходило на станции, чтобы вовремя предупредить нас, если возникнет какая-нибудь опасность.
Где-то по другую сторону реки, на дальних подступах к мосту, сосредоточивались партизаны. В их задачу входило открыть отвлекающий огонь, но только в том случае, если будет успешно выполнена первая часть плана., о чем их известит вспышка желтой ракеты у моста.
Резко, отрывисто прокричал гудок паровоза.
— Пора! — шепнул мне Астафьев.
Я почувствовал, как стянулась кожа на лице и как в грудь ворвался какой-то холодок. Колесов судорожно стиснул мне плечо, Рязанов тихонько шмыгнул носом. Астафьев и Бодюков покинули вагон, пролезли под ним и внезапно появились в хвосте эшелона.
— Эй, друзья, вы не можете прихватить нас с собой? — спросил Астафьев по-немецки, подходя к кондуктору.
Тот обернулся на голос. Свет фонаря скользнул по Астафьеву, переметнулся к Бодюкову.
— Кто такие? — грубо буркнул кондуктор.
— Отстали в пути, — объяснил Астафьев. — На фронт едем.
Охранник соскочил с подножки, подошел к нему.
— А ну, давайте солдатские книжки.
— Сейчас, одну минуту, — сказал Астафьев, опуская руку в карман.
Бодюков молча сделал то же самое.
Внимание кондуктора и охранника было сейчас всецело приковано к ним. Воспользовавшись этим, Колесов прошмыгнул вдоль стенки вагона и замер за спиной охранника.
Наступил решающий момент.
Левой рукой Колесов зажал рот охранника, правой всадил нож ему в горло. Астафьев и Бодюков действовали так же точно и быстро, обрушившись на кондуктора. Мычание сраженных гитлеровцев было заглушено шумом ветра. Почти одновременно загудел паровоз. Астафьев подхватил фонарь кондуктора, упавший на землю, и несколько раз просигналил им в ответ на световые сигналы машиниста паровоза. Тем временем мы втащили трупы гитлеровцев в тамбур пассажирского вагона, а Бодюков вскочил на тормозную площадку. Рязанов подал ему сундучок с «кошкой».
Паровоз тяжело заухал, эшелон вздрогнул раз, другой и медленно двинулся с места.
Мы отпрянули к стенкам пассажирских вагонов. Красные огни удалялись. Все быстрее, быстрее стучали колеса.
— Теперь готовиться к основной задаче, — бросил мне Астафьев. — Лишь бы у Бодюкова вышло.
— Борис не подведет, — убежденно сказал я, зная отвагу, решимость и сметку Бодюкова. В те минуты все мы мысленно были с ним и горячо желали ему удачи. Ведь от него теперь полностью зависел весь дальнейший ход операции.
Никогда раньше ожидание не казалось мне столь томительным. По времени эшелон уже должен был быть на мосту, но там по-прежнему царила тишина, казавшаяся всем нам какой-то особенно зловещей. Ветер ярился все больше. Где-то далеко на востоке по черному небу расползалось зарево огромного пожарища…
На станции началась подготовка к отправке следующего эшелона в сторону фронта. Маневровый паровоз вывел его с запасного пути на главный. Вскоре гулко застучали буфера: это подали рейсовый локомотив.
— Придется, очевидно, повторить попытку с этим эшелоном, — сказал мне Астафьев.
Голос его заметно дрожал. Я гнал от себя тревожную мысль о том, что с Бодюковым случилась какая-то беда, но беспокойство в моей душе росло. Кто знает, нет ли у немцев какого-либо специального контрольного пункта у самого моста? Вдруг именно там охранники схватили нашего «кондуктора» и теперь подняли переполох! Почему же в таком случае нет переполоха на станции? Мост-то наверняка связан телефонной линией со станцией!
— Что ж, попробуем еще раз! — согласился я с Астафьевым. — Будем готовить запасной заряд.
— Поедем вместе, — заявил Астафьев. — Я за «кондуктора», ты за охранника. Вдвоем, как говорится, веселее и надежнее.
Колесов и Рязанов уже получили от меня необходимые распоряжения, но второй мины готовить им не пришлось. На мосту внезапно полыхнуло пламя, похожее на вспышку зарницы, и тотчас оттуда долетел глухой удар взрыва.
— Это Бодюков, — вырвалось у меня с облегчением.
Астафьев оживился:
— Если так, то всем быть наготове!..
А на станции уже началась неимоверная суета. Комендант приказал собрать всех ремонтников — рабочих ночной смены и срочно погрузить их с инструментами на вспомогательный состав для немедленной отправки к мосту.
К Астафьеву подбежал запыхавшийся Никитов.
— Как быть? Мои-то в поселке… Вас ведь сюда вместо них привел…
Астафьев весело хлопнул его по плечу.
— Это же здорово, Семен свет Кириллович! Давай показывай, где нам грузиться, да поживей. Ящики с толом в первую очередь несите.
Вокруг метались гитлеровцы из охраны. Они истошно орали, подгоняли рабочих. Астафьев тоже закричал во все горло на Никитова и на нас:
— Шнель, шнель, руссише вильдесшвайне![13]
Вслед за Никитовым мы бросились к водонапорной башне, подхватили ящики с толом, инструменты и заняли места в предпоследнем вагоне вспомогательного состава. Астафьев прямо-таки мастерски играл роль ефрейтора-эсэсовца. Размахивая пистолетом, он заталкивал рабочих в соседние вагоны и вскочил к нам только тогда, когда поезд тронулся.
Что же произошло на мосту?
Позже мы узнали об этом из рассказа Бодюкова.
Оказывается, эшелон, на котором он ехал, задержался на десять минут из-за дрезины, перетягивавшей две платформы с автоматическими зенитными установками через мост — с левого берега на правый. Воспользовавшись этой задержкой, Бодюков перебежал со своим сундучком к середине эшелона и устроился на свободной тормозной площадке одного из вагонов. Пока он закреплял сундучок, эшелон тронулся и взошел на мост. Бодюков сбросил веревку с «кошкой» на рельсы, ловко соскочил с площадки и ринулся через перила моста в реку. Высота здесь была изрядная. От удара о поверхность воды Бодюков едва не потерял сознание и с неимоверными трудностями добрался вниз по течению до лодки, где его поджидали партизаны.
А тем временем «кошка» сделала свое дело. Зацепившись за что-то, то ли за металлическую стяжку рельсов, то ли за настил, она дернула веревку. Взрыватель сработал, тол взорвался и разнес вагон. Сразу же образовался затор, загородивший оба пути…
Когда наш вспомогательный состав прибыл к мосту, там еще царила паника и хаос. Всех ремонтников погнали к середине моста растаскивать обломки вагонов и восстанавливать поврежденные пути. На месте аварии ярко горели портативные прожекторы. В начале же моста — у хвоста эшелона — было совсем темно.
Вот где пригодился наш большой опыт минеров. Работали мы быстро, слаженно. Два ящика с толом установили с таким расчетом, чтобы взрыв рассек основные балки моста у береговой опоры и тем самым обрушил бы один конец пролетного строения вниз…
Взрывчатка была заложена. Двух охранников, появившихся внезапно вблизи нашего «рабочего места», бесшумно сняли Астафьев и два партизана. Затем Астафьев пробрался к обломкам вагонов и пальнул из ракетницы. В небе вспыхнул яркий янтарный свет… А спустя какое-то мгновение где-то за мостом, на восточном берегу, поднялась стрельба. Это партизаны начали интенсивный отвлекающий огонь из пулеметов и автоматов, создавая видимость внезапного налёта на мост. Гитлеровцы немедля открыли ответную ураганную пальбу. Паника на мосту усилилась. Видимо опасаясь удара с воздуха, комендант переправы приказал выключить освещение на месте аварии, зато в небо впились мощные световые снопы прожекторов противовоздушной обороны. Захлопали, застучали зенитки.
На береговой опоре, под толщей настила, затлели бикфордовы шнуры: основной и два запасных. Можно было уходить.
Вслед за Астафьевым мы спустились по откосу насыпи под мост и, войдя в воду, чтобы не наткнуться на мины, двинулись вдоль берега к излучине реки. Позади не умолкала перестрелка. Слепящие мечи прожекторов рассекали небо, исполосованное разноцветными следами трассирующих пуль и зенитных снарядов. Внизу же, у самой воды, нас надежно укрывала спасительная тьма.
— Эх, яблочко, вот это фейерверк! — весело воскликнул Колесов. — Любо глянуть!
— А что, если немцы обнаружат взрывчатку? — неожиданно спросил Рязанов.
От его слов меня бросило в жар: вдруг да действительно обнаружат? Заметит кто-нибудь тлеющий огонек шнура — и все!
Я невольно остановился, остановились и остальные. Ноги словно приросли к месту…
И когда наконец желто-багровое пламя разметало тьму и мост рухнул, я почувствовал, как с моего сердца будто свалилась какая-то огромная тяжесть.
Астафьев порывисто обнял меня.
— Порядок! Спасибо, товарищи минеры!
Глава 13. ТЯЖЕЛЫЙ УРОК
Был в нашей школе, в одной из групп авиадесантников, лейтенант Алексей Парфенов. Мне мало приходилось общаться с ним. Скажу только, что это был красивый парень, стройный, всегда подтянутый, обладавший большой физической силой и завидной ловкостью. Десантники, участвовавшие вместе с ним в боевых операциях, отзывались о нем как о смелом офицере. Многие, правда, подшучивали над ним за одну слабость: он был крайне влюбчив, везде пытался ухаживать за девушками. Но никто из нас не придавал серьезного значения его похождениям.
И вот что случилось с Алексеем Парфеновым из-за его на первый взгляд безобидной слабости. Подробности мне стали известны позже, из доклада полковника Теплова, с которым он выступил перед всеми боевыми группами и курсантами школы, и из рассказов товарищей Алексея по группе.
В выходные дни часть «учащихся» — из тех, кто не был занят на боевых операциях и на дежурстве, — получала увольнительные в город. Каждый проводил время по своему усмотрению. То в одиночку, то группами мы ходили в театр, в кино, посещали музей и просто бродили по городу. Никто, разумеется, не возбранял нам завязывать знакомства с местными жителями. Правда, в большинстве случаев круг наших знакомых ограничивался только девушками, которых при любых обстоятельствах мы не посвящали в род деятельности нашей школы и в наши занятия. Это уж являлось военной тайной. Мы для них были просто «курсантами». Впрочем, девушки отлично понимали, что такое бдительность, и, как правило, не проявляли назойливости в расспросах и излишнего любопытства.
Как-то вечером Парфенов вместе с товарищами попал в кино. Накануне они вернулись из глубокого тыла противника, где успешно провели крупную диверсионную операцию, и теперь отдыхали. Парфенов, как говорится, был в ударе и не давал скучать своим друзьям.
Где-то ему удалось раздобыть спиртного, и это сделало его еще более шумливым и даже навязчивым.
Перед самым началом сеанса на свободное место, оказавшееся рядом с Парфеновым, села молоденькая девушка в соломенной шляпке, в коротком цветастом платье, с черным бантом в косе.
Начался фильм, но Парфенов уже не смотрел на экран. Его внимание было всецело приковано к лицу соседки. Очевидно, в те минуты под воздействием выпитого ему казалось, что еще ни разу в жизни он не встречал более привлекательной девушки. Сидеть спокойно он уже не мог. Наклонившись к девушке, спросил тихонько:
— Простите меня за назойливость. Мне кажется, что вы не здешняя.
— Почему? — удивилась девушка.
— Чистейшая интуиция.
— Вы верите в интуицию?
— Профессиональное чутье.
— Вот как! — Девушка улыбнулась и, не отрывая взгляда от экрана, промолвила: — Чутье действительно не обмануло вас. Я из Львова.
— Одна?
— С мамой. Отец на фронте, а мы с ней эвакуировались сюда.
— Как вас зовут?
— Зачем вам мое имя?
— Для знакомства.
— Это не обязательно.
— Очень прошу. — Парфенов сжал локоть соседки. — Я жду.
Она наконец взглянула на него, сказала смущенно, чуть слышно:
— Нина.
— А я Алексей! — представился Парфенов.
Друзья зашикали на Алексея и попросили замолчать.
Девушка приложила палец к губам.
— Мы мешаем другим. Давайте смотреть фильм.
— Я буду нем как рыба, если вы разрешите проводить вас домой после кино, — сказал Парфенов. — Разрешите?
— Нет, не разрешаю! — неожиданно ответила девушка и, резко высвободив свой локоть, снова обернулась к экрану.
Парфенов опять и опять пытался заговорить с ней, но она уже не сказала ни слова.
Окончился сеанс. В зале вспыхнул свет. Зрители шумно повалили к выходу.
Девушка медленно поднялась со стула и, не удостоив своего соседа даже мимолетным взглядом, тоже направилась к двери.
— Здорово она отшила тебя! — сказал Парфенову старшина Петрищев. — Пошли, товарищ лейтенант.
— Идите без меня! — буркнул Парфенов.
— А ты куда же?
— Отстаньте! — Парфенов рванулся к выходу.
Девушка уже успела выйти. На улице он не сразу отыскал ее в толпе, но наконец отыскал-таки, догнал и зашагал рядом с ней.
— Ах, это вы? — как ни в чем не бывало спросила она.
Ни Парфенов, ни его собеседница не заметили Петрищева, шагавшего за ними. Боясь, что лейтенант, еще будучи во хмелю, может учинить на улице скандал, старшина решил понаблюдать за ними. Но все обошлось мирно. Парфенов держался молодцом. И успокоенный Петрищев вернулся к кинотеатру, где его ждали друзья…
Парфенов задержался в городе допоздна. Обычно он спал как убитый, а в ту ночь ему почему-то не спалось. Ворочался на койке и несколько раз выходил во двор курить. Утром все заметили, что он не в своей тарелке. Ни шуток, ни острот. Ходил задумчивый, держался как-то особняком, ни с кем не разговаривал.
Выйдя с ним после завтрака из столовой, Петрищев спросил:
— Что случилось, Алексей?
Парфенов натянуто улыбнулся.
— Ничего.
— Нет, брат, меня не проведешь, — покачал головой Петрищев. — Тебя нынче будто подменили. Похоже, что все это из-за девчонки.
Парфенов вдруг остановился и бросил раздраженным тоном:
— Слушай, старшина, оставь меня в покое. Не нуждаюсь я в наставниках…
Петрищев строго взглянул на него.
— Может быть, и в друзьях не нуждаешься? Или они нужны тебе лишь тогда, когда грудью своей тебя прикрывают, а?
Парфенов как-то судорожно сжал его руку.
— Нет, нет, Игорь… Прости, я, кажется, погорячился. У меня действительно сейчас мозги набекрень. Ты угадал, все из-за Нины. Не такая она, как все…
— Чем же это?
— Сам не знаю… Но тянет меня к ней, как магнитом.
— Тебя к другим так же тянуло.
— Тут что-то другое.
— Никак влюбился с первого взгляда? — Петрищев рассмеялся. — Ох, Алешка, неисправим ты.
Парфенов мотнул головой, промолвил просяще:
— Не надо, Игорь. Не смейся. Клянусь тебе как лучшему боевому другу, что еще ни разу не случалось со мной подобного… За такой на край света пойдешь. Ты же видел, какая она красивая.
— Красота — это еще не все, — заметил Петрищев. — А душа, глядишь, далеко не такая красивая. И уж если ты чувствуешь, что это не случайная встреча, то и приглядись к человеку по-серьезному, головы не теряй. Первое впечатление может быть ошибочным.
Время шло. Шла своим чередом и жизнь авиадесантников. Парфенов с друзьями вылетал на боевые задания, как и прежде, но теперь, возвращаясь на Большую землю, он уже не искал встреч ни с кем, кроме Нины. Она познакомила его со своей матерью — Аглаей Тимофеевной, симпатичной, гостеприимной женщиной, бывшей артисткой драмы. В те дни, когда Парфенов дежурил по школе или попадал в гарнизонный наряд, Нина приносила ему то домашнее печенье, то чудеснейшие пирожки с мясом или вареньем, то бутерброды с колбасой и сливочным маслом. Парфенов, разумеется, делил все поровну между друзьями и довольствовался своей скромной долей.
Как-то после очередного такого дележа сержант Клепиков, мгновенно расправившись со своей порцией и облизнув губы, сказал:
— Спасибо, лейтенант, за угощение. Жаль, конечно, что маловато. Такие пирожки, бывало, мать моя до войны пекла. Одному удивляюсь, откуда мамаша твоей зазнобы эти прелести сейчас достает. Это ж сколько денег надо иметь, чтобы на рынке купить все. Здесь, в тылу, ведь все по карточкам.
— Я свой офицерский паек им отдаю, — ответил Парфенов. — А остальное они в селах на одежду и другие вещи выменивают.
— Выходит, немало прихватили они барахла с собой из Львова, — заметил Клепиков. — Другие без оглядки бежали, все порастеряли, а твои сумели.
Слово «твои» было встречено и Парфеновым, и остальными его друзьями без каких-либо возражений. Ведь Парфенов не раз уже называл Нину своей невестой.
— Не удивляйся, Клепиков, — сказал Парфенов в ответ на замечание. — Отец Нины — известный врач, вместе с женой он зарабатывал большие деньги, а в том, что люди сумели вовремя эвакуироваться и сохранить свое имущество, нет ничего предосудительного…
В конце августа Парфенов обратился к командиру группы старшему лейтенанту Гусеву с просьбой дать ему двухдневный отпуск «по семейным обстоятельствам».
— Объясни, пожалуйста, что это за «семейные обстоятельства»? — поинтересовался Гусев.
— День рождения тещи будет отмечаться, — ответил Парфенов.
— То есть какой тещи? — поразился Гусев. — Разве ты уже успел жениться? Без ведома начальства?
Парфенов замялся.
— Видишь ли, официально брак мой еще не оформлен. Как-то неудобно… военное время, а тут вдруг свадьба.
— Это, конечно, не довод, — заметил Гусев. — И потом, зачем тебе два дня на один день рождения тещи?
— Помочь по хозяйству, достать кое-что нужно, — объяснил Парфенов.
Гусев задумался.
— Да, повод для отпуска, скажем прямо, весьма и весьма сомнительный. Пожалуй, тебе лучше было бы обратиться с этой просьбой к полковнику Теплову или к майору Данильцеву.
Парфенов смутился.
— Стоит ли беспокоить начальство такими пустяками? Тем более что ты можешь в любую минуту вызвать меня в часть. Я-то буду находиться в городе, так сказать, под боком.
Поколебавшись немного, Гусев уступил:
— Ладно, договорились!
Два дня не было Парфенова в школе. О том, как он провел эти дни, никто не знал. Последующую неделю группа Гусева находилась в тылу врага, а когда она вернулась, Парфенов сразу же подал рапорт на имя полковника Теплова, испрашивая разрешения на бракосочетание с гражданкой Ниной Яковлевной Шварц.
Полковник немедленно вызвал Парфенова к себе, спросил:
— Значит, экспромтом решили жениться, лейтенант?
— Нет, товарищ полковник. Я уже давно знаком с этой девушкой.
— Вот как! Почему же я узнаю о таких делах в последнюю очередь? Ведь вы не просто военнослужащий. Несете особую службу!
— Не хотелось беспокоить вас.
Полковник нервно забарабанил пальцами по столу.
— Я очень огорчен, лейтенант.
— Разве жениться воспрещается? — вспыхнул Парфенов.
— Нет, почему же! — пожал плечами Теплов. Дело тут совсем не в женитьбе. Меня огорчает то, что вы, лейтенант, забыли о своей принадлежности к особому роду войск. Кому-кому, а мне уж вы должны были сообщить заблаговременно о человеке, с которым решили связать свою судьбу в военное время, неся к тому же службу в моей части, — Взглянув на рапорт, он спросил: — Кто она, эта Шварц? Кто ее родители? Откуда они? Чем занимались до войны? И разве сама фамилия «Шварц» не вызывала у вас никаких раздумий.
— Никак нет, товарищ полковник, — ответил Парфенов.
— Это же чисто немецкая фамилия.
— Моя невеста не немка — она дочь еврея.
— Расскажите мне, как вы познакомились с ней, и вообще все, решительно все, что известно вам об этой семье.
Выслушав Парфенова, он сказал:
— Придется вам, лейтенант, на некоторое время отложить женитьбу. Почему? Я дам задание произвести проверку. Но, предупреждаю, об этом — ни слова ни вашей невесте, ни ее матери, ни даже Гусеву. Если все окажется в порядке, тогда другое дело. Сам выпью на вашей свадьбе.
Парфенов был явно удручен. Опустив голову, промолвил сдавленным голосом:
— Я никогда не думал, что дело примет такой оборот… К чему эта проверка? Ведь она оскорбительна для честных советских людей.
— Честных, то есть тех, у кого совесть чиста, она не оскорбит, — заметил полковник. — К тому же проверка будет вестись по скрытым каналам. Никто, разумеется, не будет допрашивать ни вашу невесту, ни ее мать.
— Все равно обидно, — вздохнул Парфенов. — Мне обидно. Я могу ручаться за этих людей головой. Почему вы не верите мне?
— Если бы не верил, то этого откровенного разговора не состоялось бы. Я просто-напросто умолчал бы о проверке и провел ее без вашего ведома. Понятно?
— Да, конечно.
— И надеюсь, что вы, как офицер, не нарушите нашего уговора, — напомнил полковник. — Речь идет о соблюдении строгой тайны: семья Шварц не должна знать ничего о проверке.
— Даю слово! — козырнул Парфенов.
Несколько дней группа Гусева отдыхала, потом начала готовиться к выполнению очередного задания. Парфенов почти ежедневно виделся с Ниной. Они то встречались невдалеке от школы, тогда их свидания длились не больше десяти-пятнадцати минут, то Парфенов с разрешения Гусева отправлялся на квартиру к невесте, с ночевкой.
Но вот однажды случилась беда. Одна из групп, сброшенных в тылу врага, пропала без вести. Из партизанского отряда, куда она должна была прибыть, сообщили зашифрованной радиограммой, что авиадесантники не явились к месту встречи и что партизаны, ожидавшие их там, внезапно подверглись нападению со стороны карателей.
Весть о гибели товарищей произвела на нас гнетущее впечатление. Но война есть война. Она не обходится без жертв. Пришел черед лететь моей группе в тот же партизанский отряд. Для высадки был выбран другой район, партизаны встретили нас сразу после приземления, и мы выполнили то задание, которое поручалось исчезнувшей группе, — взорвали склад горючего и авиабомб на одном из вражеских аэродромов!
Мы вернулись в школу в тот день, когда группа Гусева заканчивала подготовку к вылету. Поздно вечером ее перебросили на аэродром. Оттуда на самолете она отправилась в тыл противника. И снова несчастье. Незадолго до рассвета от радиста группы Гусева было принято тревожное, незашифрованное донесение следующего содержания: «Мы окружены, ведем бой. Пытаемся прорваться в лес» Связь вдруг прервалась, и возобновить ее уже не удалось.
А утром нам стало известно об аресте Нины Шварц и ее матери. Для нас это была поистине ошеломляющая новость. Строились самые невероятные догадки. Днем от Гусева нежданно-негаданно снова было получено донесение. Оказывается, ему, старшине Петрищеву и радисту удалось пробиться сквозь вражеское кольцо и попасть к партизанам. О судьбе Парфенова, сержанта Клепикова, и остальных бойцов группы он ничего не знал: то ли они погибли во время перестрелки, то ли были захвачены гитлеровцами.
Это случилось в среду, а на следующей неделе полковник Теплов собрал всех авиадесантников в большом зале школы и сделал тот самый доклад, о котором я уже говорил.
Предварительное следствие установило, что в провале двух авиадесантных групп и гибели наших товарищей были повинны вражеские шпионы, обосновавшиеся в городе. Накануне вылета группы Гусева наши контрразведчики запеленговали работу неизвестной рации, которая вела шифрованные передачи из городского парка. Там, в парке, в подполье пивного ларька, был захвачен вместе с передатчиком неизвестный. Арестованный долго отказывался назвать свое имя и своих сообщников, и только под утро, когда группа Гусева уже попала в засаду, удалось развязать язык предателю. Одними из первых он назвал Нину Яковлевну и Аглаю Тимофеевну Шварц. Из их допроса выяснилось, что семья Шварц была еще до войны завербована немецко-фашистской разведкой. Глава семьи — не еврей, а немец — несколько лет проработал врачом в одной из львовских больниц. Сразу же, как только началась война, он переправил семью подальше от фронта, а сам, дождавшись прихода немцев, поступил на службу в гестапо и через своих агентов установил связь с семьей.
Потерявший бдительность Парфенов стал невольным соучастником шпионской группы. Он доверчиво выбалтывал то, что она старательно выуживала. Впервые это случилось в день рождения «Аглаи Тимофеевны», когда Парфенов сообщил о подготовке группы товарищей к очередному заданию, о дате вылета и о месте высадки. Группа погибла, затем Парфенов рассказал о задании, которое получила группа Гусева… И только, кажется, об одном умолчал он: не предупредил свою возлюбленную, что полковник Теплов решил провести проверку…
— Как видите, товарищи, — сказал полковник в заключение доклада, — бдительность — это отнюдь не отвлеченное понятие. Кто теряет ее, может вольно или невольно стать предателем, как это случилось с лейтенантом Парфеновым. Встреча его со смазливой шпионкой никак не случайна. Подвыпивший лейтенант сразу обратил на себя ее внимание еще у билетной кассы кинотеатра, и Шварц, конечно же, не случайно оказалась рядом с ним в зрительном зале. Я беседовал с Петрищевым в госпитале. Он пожимает плечами: «Кто же знал, что получится такое?» Верно, не знали. И как мог Гусев давать нелегальные отпуска Парфенову, скрывать от меня и майора Данильцева историю с лейтенантом? Не снимаю вины и с себя. Получив рапорт Парфенова, я на время проверки семьи его «невесты» должен был, во-первых, отстранить самого Парфенова от разработки плана боевой операции — благовидный предлог нашелся бы, и, во-вторых, повременить с вылетом группы Гусева, поручив это задание другой группе… И вот результаты — на нашей совести гибель замечательных бойцов и офицеров, наших друзей и товарищей. Запомните этот тяжелый урок. Бдительность и еще раз бдительность…
После этого вечера прошло около двух недель. Однажды у нас в школе побывал в гостях командир партизанского отряда, прибывший на совещание в штаб армии. Партизаны этого отряда подобрали в лесу раненых Гусева, Петрищева и радиста, вырвавшихся из вражеской засады. Оказывается, Парфенов не был убит во время схватки с фашистами. Он попал в плен, в руки гестаповцев, а потом был повешен на площади небольшого белорусского местечка. Подпольщики, видевшие его казнь, рассказывали, как он, окровавленный, едва держась на ногах, уже с петлей на шее крикнул в толпу:
— Смерть немецким оккупантам!
Знал ли он, догадывался ли, по чьей вине группа попала в засаду и кто привел его к гибели на виселице?
Глава 14. БРОВАРЫ
Как-то поздно вечером полковник Теплов вызвал меня к себе.
— Хочу дать вам очень ответственное задание, — сказал он и, развернув на столе карту Киевской области, спросил: — В Киеве вы бывали?
— Бывал, и не раз, — ответил я.
— А с этими местами знакомы? — Полковник указал на поселок Бровары, обведенный на карте красным кружком.
Еще бы мне не знать этих мест! Здесь, в Броварах, работал некоторое время мой отец, и сейчас перед моим мысленным взором возникли улицы хорошо знакомого поселка, дом, в котором мы жили, заводы, раскинувшиеся вдоль широкого шоссе Киев — Чернигов. Очевидно, прежде чем вести разговор со мной, начальник школы снова заглянул в мое личное дело, где в автобиографии я писал о том, что наша семья одно время жила под Киевом. Теперь, услышав от меня, что жили мы в Броварах, полковник сказал:
— Это замечательно! Выходит, я, как говорится, попал в самую точку. — Его ладонь легла на карту. — А дело вот какое: на одном из заводов, в лесу под Броварами, гитлеровцы наладили ремонт своих танков и самолетов. Командование поручило нам лишить врага возможности ремонтировать свою боевую технику на этом заводе. И поскольку вы, Игнатов, знакомы с этими местами, вам и карты в руки. Готовьте свою группу к броварской операции. Дело это, конечно, сугубо опасное и ко всему не совсем обычное для практики нашей школы. Связь с подпольщиками уже налажена, но, как и что делать, вам придется решать на месте. Успех операции будет целиком зависеть от инициативы и находчивости членов вашей группы. Со всеми деталями — я имею в виду связь с подпольщиками, пароли, документы — вас ознакомит начальник штаба, а предварительно поговорите и посоветуйтесь со своими друзьями. Возможно, возникнет необходимость внести кое-какие коррективы в план, намеченный мною и начальником штаба.
Выслушав все это, я сказал:
— Задача ясна, товарищ полковник.
Теплов не стал больше задерживать меня, и я отправился к ребятам. Весть о новом задании, как обычно, сразу вызвала бурную реакцию.
— Эх, яблочко, о цэ дило! — воскликнул, прищелкнув пальцами, Колесов. — У самому сердци Украины побуваемо.
Бодюков взглянул на него удивленно.
— Ты же, Коля, белорус, а украинский знаешь.
Колесов улыбнулся.
— Беларусь и Украина — сэстры ридни. Наши Березина и Десна с Днепром сливаются.
— И я люблю Украину, — заметила Галя. — До чего же песни хорошие там!
— А у меня в Киеве родственники есть, — неожиданно сообщил Рязанов.
«Вот это как нельзя кстати!» — мелькнуло у меня в голове, и я поинтересовался, кто они, его родственники, и сколь близко его родство с ними.
— Тетка родная, — ответил Рязанов, — сестра матери. До замужества и мать моя в Киеве жила. Тетя Клава — учительница, а чем теперь занимается, не знаю.
— Так, может, она эвакуировалась? — вставил Бодюков.
Рязанов пожал плечами.
— Может быть, конечно, и так.
— А как, по-твоему, могла бы она помочь нам? — допытывался я.
— Если осталась там, то поможет, — убежденно заверил Рязанов. — В гражданскую войну петлюровцы расстрелять ее хотели за связь с большевиками, но друзья-подпольщики помогли ей бежать из тюрьмы. Мать рассказывала мне, что тетя Клава одной из первых киевлянок в комсомол вступила.
«На всякий случай будем иметь ее в виду», — решил я.
— Не сомневайся, Валентин Петрович, головой ручаюсь, — продолжал Рязанов. — Я ведь и адрес знаю. Только бы в Киеве она сейчас была…
— Учти, Вася, я буду докладывать об этом полковнику Теплову.
— Докладывайте. Уж кто-кто, а Клавдия Петровна нас не подведет.
Подготовка к операции велась несколько дней. Никто в школе, кроме Теплова, майора Данильцева, начальника особого отдела и, разумеется, моей группы, не знал о ней. На некоторое время, возможно даже длительное, нам предстояло играть роль людей, оставшихся на территории, оккупированной врагом, из-за враждебного отношения к Советской власти. Что и говорить, неприятная роль.
В темную ветреную ночь нас перебросили на самолете в глубокий тыл противника. Район высадки лежал среди лесов и болот, примерно в шестидесяти километрах северо-западнее Киева, между реками Здвиж и Ирпень. Хотя нас снабдили настоящими паспортами со штампами и печатями оккупационных властей, мы старались не попадаться на глаза ни гитлеровцам, ни полицаям, поскольку документы были оформлены на «мертвых душ». На дорогу от места высадки до Киева ушло двое суток. Днем мы отсиживались среди торфяных болот, а по ночам двигались на юго-восток, держась подальше от большаков, проселков и населенных пунктов.
На третий день, утром, смешавшись с сельским людом, который вез на городские рынки всякую снедь, мы вошли в столицу Украины со стороны Беличей, что лежат между железной дорогой Киев — Коростень и шоссе Житомир — Киев.
В кацавейке, широкой юбке, повязанная цветастым платком, и в стоптанных сапожках, Галя ничем не отличалась по внешнему виду от сельских девчат. Колесов, круглолицый, с обросшими колючей щетиной щеками и подбородком, обряженный в телогрейку, высокую баранью шапку и грубошерстные штаны, вобранные в чеботы, смахивал на «дядьку», прибывшего «у мисто дегтю купуваты». Он то и дело завязывал разговоры с селянами и, пересыпая свою речь смешными присказками, чувствовал себя среди собеседников как рыба в воде. Рязанов изображал из себя парубка, искалеченного хворобой, и искусно прихрамывал на левую ногу. Мы с Бодюковым — оба в старых ватниках, полотняных сорочках и дырявых кирзовых сапогах, с небольшими торбами за плечами — походили на сельских жителей, прибывших в город наниматься на работу.
Нам везло. Никто ни на окраине, ни в самом городе нас ни разу не задержал, хотя на улицах встречалось много и полицаев и немцев.
Так вместе с селянами мы очутились на базаре.
— Ну, Вася, иди к тетке, узнавай, в городе ли она, — сказал я Рязанову, — а мы потолкаемся тут, благо что базарный день. Когда вернешься, ищи нас в мясном ряду.
— А вдруг облава случится? — спросил он.
— Тогда будем ждать тебя у Днепра, на Владимирской горке…
Через полтора часа Рязанов вернулся вместе с невысокой полной женщиной в легком сером пальто и темной косынке, из-под которой выбивались тронутые сединой волосы. Подходить к ней сразу всем было рискованно. Поэтому, пока я разговаривал с ней, Бодюков, Колесов и Галя продолжали слоняться от ларька к ларьку в толпе покупателей, а Рязанов, отойдя в сторону, следил за тем, не обратит ли кто подозрительного внимания на меня и на мою собеседницу.
Клавдия Петровна держалась свободно, и в ее больших черных глазах не было ни тревоги, ни страха.
— Я сделаю все, что в моих силах, — сказала она мягким голосом, с той улыбкой, которой встречают добрых друзей. — Васю я пристрою у себя, а остальных — у знакомых и родственников. Квартира у меня просторная, можно было бы приютить всех, но вы, конечно, понимаете, этого делать нельзя. Соседи, дворник… К тому же в доме поселилось несколько немецких офицеров. Слишком много посторонних глаз. Задерживаться здесь, на базаре, тоже нельзя. Я поочередно разведу всех. Вася сам пойдет ко мне. Вы с девушкой отправляйтесь к памятнику Богдану Хмельницкому и ждите меня там. Другие два пусть следуют за мной на некотором расстоянии. Определю их, потом вернусь за вами к памятнику.
— Договорились! — кивнул я.
— Ну вот пока и все, — снова улыбнулась она. — Связь с вами и остальными установит Вася. Я сообщу ему адреса. Пора уходить.
Подождав, пока я переговорил с Колесовым и Бодюковым, Клавдия Петровна направилась с рынка в сторону Днепра. Николай и Борис последовали за ней на расстоянии около полуквартала. Вася заковылял в противоположную сторону, а мы с Галей пошли по Крещатику…
К вечеру все мы были размещены по квартирам у гостеприимных и вполне надежных людей. Они не были подпольщиками и не имели связей с народными мстителями. Никто из них, кроме Клавдии Петровны, не знал правды о том, откуда и зачем мы прибыли в Киев, но, поскольку нашим «квартирмейстером» была их близкая родственница, отрекомендовавшая нас в качестве Васиных друзей, бежавших вместе с ним из плена и вынужденных скрываться, мы нашли у них временное убежище. В тот вечер Рязанов побывал у каждого из нас, и таким образом связь между членами группы была установлена. Чтобы не злоупотреблять гостеприимством людей, приютивших нас, и не накликать на их головы беды, я на следующее же утро отправился на явочную квартиру, адрес которой сообщил мне накануне вылета с Большой земли начальник особого отдела нашей школы. Явка находилась невдалеке от пристани в недавно открывшейся частной гостинице с кафешантаном. Как и положено в подобных заведениях, в небольшом вестибюле, у входной двери, стоял швейцар в ливрее — огромный, пышноусый, с окладистой седой бородой.
Едва я переступил порог, эта туша двинулась на меня и рявкнула густым басом:
— Куда прешься, мазница?
Кроме нас двоих, в вестибюле никого не было.
— Дядя Терентий? — спросил я.
Швейцар остановился, сурово сдвинул брови к переносице.
— Проваливай отсюда поскорее, не знаю я таких племянников.
— Ну что вы, дядя! — промолвил я с обидой. — Я же Гриша, сын вашей сестры Горпыны. Не узнаете? Из Борисполя.
Глаза старика сощурились, подобрели. Быстро оглянувшись по сторонам, он улыбнулся.
— Погоди, дай разгляжу. Неужто и впрямь Гришка?
— Он самый, ей же богу! — подтвердил я. — Приехал работы искать…
Швейцар снова оглянулся, затем, кивнув на лестницу, сказал:
— Второй этаж, номер двадцать шестой. Стучать три раза. — И поторопил: — Давай, давай быстрее.
Двадцать шестой номера находился в самом конце длинного полутемного коридора. На мой стук из-за двери откликнулся мужской голос:
— Да, да, войдите!
Когда я вошел в номер, навстречу мне с дивана поднялся высокий мужчина в полосатых черных брюках, черной жилетке, с галстуком-бабочкой на крахмальном воротнике. Волосы, зачесанные кверху, узкие усики и бородка клином придавали его приятному лицу какую-то старомодность. Окинув меня взглядом с головы до ног, он спросил высокомерным тоном:
— Что вам угодно?
— Мне нужно видеть господина Калошина, — ответил я.
— Вы хотите сказать, коммивояжера фирмы Жигарева?
— Вот именно! Я из Борисполя.
— Что же вы задержались?
— Родственницу встретил.
— И как она вас приняла?
— Замечательно.
Калошин протянул мне руку.
— Ну, здравствуйте. С благополучным прибытием. Товарищ Игнатов, не так ли?
— Валентин Петрович, — представился я.
— А я Сергей Михайлович, — назвал себя Калошин и, снова оглядев меня, неодобрительно покачал головой. — Наряд у вас, с конспиративной точки зрения, не выдерживает никакой критики. Разве можно являться в таком деревенском виде сюда, в гостиницу? Не только шпик, но любой самый тупоумный полицейский заинтересуется, зачем это такому вахлаку понадобилось завернуть в кафешантан, где по вечерам развлекаются немецкие офицеры.
— Что поделать? — пожал я плечами. — Одежда соответствует документу.
Калошин взглянул на мой паспорт.
— Вы ошибаетесь. Вам нужно было одеваться под рабочего, а не крестьянина. Ведь в сельской местности паспорта не выдаются. Вам просто повезло, что вы не нарвались на опытного полицая при проверке бумаг.
Я сообщил, что, к счастью, все обошлось без каких-либо проверок…
У Калошина я пробыл немногим больше часа. Он ознакомил меня с порядком, установленным военной администрацией интересовавшего нас завода при приеме на работу советских граждан. Каждый проверялся самым тщательным образом и в большинстве случаев с запросом по месту довоенного жительства, если эта местность находилась на оккупированной немцами территории.
— Фотографии для паспортов принесли? — спросил он.
Я передал ему снимки, заготовленные за два дня до вылета с Большой земли. Эти снимки были сделаны в особом отделе школы. И я, и мои друзья фотографировались специально для этого случая в гражданской одежде.
Калошин просмотрел их и удовлетворенно кивнул головой.
— Подойдут.
— Когда будут готовы документы? — поинтересовался я.
Калошин пожал плечами.
— Ничего определенного не могу сказать. Зайдите ко мне послезавтра примерно в это же время. А пока старайтесь не показываться на улицах во избежание неприятностей. На всякий случай сообщите мне ваши адреса. Если придется изменить явку или возникнут какие-либо осложнения, мы заранее предупредим вас об этом.
Из объемистого портфеля, лежавшего на стуле, он извлек папки с заполненными и пустыми бланками торговой фирмы купца Жигарева, затем, порывшись на дне портфеля, протянул мне тоненький узкий пакет.
— Здесь биографии людей, на имя которых будут оформлены для вас паспорта и пропуска. В частности, вы, Валентин Петрович, станете на время Константином Ефремовичем Харитоненко. Был такой дальний родственник известного на Украине сахарозаводчика. Сейчас он отбывает наказание где-то в Якутии. Остальные эвакуировались до прихода немцев и работают на Урале. Девушка служит санитаркой в одном из медсанбатов на северо-западном фронте. Надеюсь, вам понятно, насколько важно досконально изучить биографии тех лиц, за которых вы будете себя выдавать в Броварах. И уж, конечно, инженеру Харитоненко никак не подходит ваш нынешний наряд.
— И остальные одеты не лучше, — заметил я.
— Одежда найдется для всех, — сказал Калошин. — Адреса броварских явок и пароли я сообщу вам при следующей встрече. А сейчас мы распростимся. Я вызову швейцара, чтобы он вывел вас черным ходом. Пользуйтесь этим путем и послезавтра. — Он улыбнулся. — Через парадный ход кафешантана я выпущу вас только тогда, когда у вас на руках будет паспорт Константина Ефремовича Харитоненко и когда вы примете надлежащий вид…
Не без опаски добирался я до своей квартиры. Мне казалось, что все встречные слишком подозрительно поглядывают на мой наряд и на мои сапожищи, будто догадываясь, что паспорт, лежавший в моем кармане, оформлен неправильно.
Рязанов уже ждал меня на квартире. Через него я переправил для изучения биографии Колесову, Бодюкову и Гале и поставил их в известность о разговоре с Калошиным.
В тот же день хозяин квартиры раздобыл для меня стеганку, кепку и черную спецовку.
Весь следующий день я не показывался на улице. От Калошина никаких дурных вестей не поступало, и, проведя довольно беспокойно ночь, я в восьмом часу утра снова направился в гостиницу.
Паспорта и пропуска были уже готовы. Калошин припас для меня приличный костюм, в который я переоделся там же, у него в номере.
— Не забудьте заглянуть в парикмахерскую, — напомнил Калошин и, поправив на мне черный в белую полоску галстук, сказал весело:
— С вас причитается, господин Харитоненко. — Он достал из шкафчика бутылку вина. — Выпьем по этому поводу. За ваш счет, конечно!
— Рассчитаюсь из первого же жалованья! — пообещал я. — Лишь бы только попасть на завод.
— Не сомневайтесь, попадете! — сказал Калошин, разливая вино в стаканы. — Кого-кого, а Харитоненко немцы возьмут. Он же ненавидит все советское, предан душой и телом новому режиму, бежал с большевистской каторги… — Подняв свой стакан, Калошин промолвил с учтивым поклоном: — Желаю вам успеха, дорогой мой друг Константин Ефремович!
— Благодарю вас, — в тон ему ответил я. — Можете считать меня своим неоплатным должником, господин коммивояжер.
Осушив стаканы, мы вернулись к деловому разговору.
Калошин сообщил мне уточненные адреса явок, пароли и фамилии лиц, с которыми группе предстояло держать связь в Броварах.
Из гостиницы я вышел на этот раз через парадный ход. В вестибюле находилось несколько человек: то ли приезжие, ожидавшие номерного, то ли работники гостиницы. Я прошел мимо них с независимым видом и сунул чаевые швейцару, когда он широко распахнул передо мною дверь…
В Броварах нам удалось быстро, без каких-либо осложнений связаться с подпольщиками. Встретили они нас поначалу несколько настороженно, но после двух обстоятельных бесед со мной лед недоверия окончательно растаял, и я заручился надежной поддержкой со стороны этих мужественных советских патриотов. Три дня ушло на сбор подробнейшей информации о заводе, о его администрации и на знакомство с людьми, которые составляли заводскую подпольную ячейку, то есть с теми, кто должен был оказывать нам непосредственную помощь при подготовке диверсии.
И вот наконец настал тот час, когда я явился в контору завода и предложил свои услуги в качестве инженера-механика. Меня принял главный инженер Вайсберг — тучный, плешивый немец, отлично владевший русским языком.
Познакомившись с моими документами и внимательно выслушав мой рассказ о мытарствах Харитоненко при Советской власти, он спросил:
— Как же это вам удалось бежать из Сибири?
Я начал сочинять историю о восстании заключенных в лагере и о том, как мне пришлось больше трех недель пробираться через тайгу к ближайшему населенному пункту и как там такие же беглые помогли мне запастись фальшивыми документами и попасть в воинском эшелоне в Москву.
— Значит, и там, в Сибири, большевистский режим уже трещит по швам? — злорадно усмехнулся Вайсберг и, предложив мне сигару, промолвил покровительственным тоном: — Ничего, господин Харитоненко, мы скоро наведем порядок в России и навсегда покончим с коммунистической заразой. — И вдруг его зеленоватые глаза снова недоверчиво сощурились: — А здесь, на Украине, как вы очутились?
— О, это уже не представляло особой сложности, — сказал я без запинки. — Вступил добровольцем в Красную Армию, где сейчас творится сущая чехарда, и в первом же бою, когда красные бросились наутек, я отсиделся в хлеву у одного бывшего кулака.
— Попали к нам в плен?
— Нет, откровенно говоря, струсил сдаваться. Форма-то у меня была красноармейская. Побоялся, как бы ваши солдаты не прикончили меня.
— И что же дальше?
— А дальше обманул мужиков из большевистских прихвостней. Попросил их достать мне гражданскую одежду, чтобы, дескать, удобнее было перебраться к «своим», за линию фронта, а сам махнул в Черниговскую область родственников разыскивать.
— Нашли кого-нибудь?
— Увы, никого. Все были репрессированы еще задолго до войны.
Вайсберг повертел в руках мой паспорт.
— Время такое, Константин Ефремович, что приходится во многом сомневаться. Поэтому не обижайтесь на учиненный мною допрос. Меня тоже допрашивали. Ведь я бежал из Каунаса. В день объявления войны без документов, среди ночи, чуть ли не в том, в чем мать родила. А теперь, как видите, я главный инженер военного завода.
— Вам проще, — вздохнул я. — Вы немец, владеете немецким языком, а я украинец, притом, по сути дела, бездомный. Бог знает, удастся ли мне войти в наследство моих предков!
— Украина уже наша, — сказал Вайсберг. — А раз так, то вы со временем получите свое. Ручаюсь вам в этом именем нашего фюрера и скорой победой его армии.
— Но покажу меня нет и гроша ломаного за душой, — заметил я.
Вайсберг задумался, потер рукой мясистый подбородок. «Неужели откажет?» — подумал я с беспокойством и усомнился в правильности действий Калошина, решившего выдать меня за Харитоненко.
— На заводе есть хорошая вакансия, — заговорил наконец Вайсберг, — должность главного механика, но я пока не предлагаю ее вам. Хочу прежде увидеть, что вы умеете. Поэтому на первое время оформлю вас сменным механиком заводской электростанции, а там будет видно. Как вы смотрите на это?
Я поднялся со стула.
— Искренне благодарю вас, господин Вайсберг. Это большое счастье работать с таким чутким человеком, как вы. Меня устраивает любая должность, и я постараюсь оправдать ваше доверие.
Лесть подействовала на главного инженера. Милостиво улыбнувшись, он написал что-то по-немецки на листке настольного календаря, затем взглянул на меня.
— Выходите на работу завтра, с утра. Пропуск получите у коменданта завода. Я распоряжусь, чтобы вам подготовили аванс. — Он вышел из-за стола и протянул мне руку. — Итак, до-завтра!
— Весьма тронут! — поклонился я и, пожав его руку, вышел из кабинета.
В те минуты я действительно был счастлив: операция начиналась удачно. Калошин не ошибся: для Харитоненко оккупанты сразу подыскали теплое место на заводе. Сменный механик электростанции — это уже многое, это уже широкое поле деятельности. Теперь оставалось протащить на завод остальных членов моей пятерки.
Прошло еще несколько дней, прежде чем они устроились на работу. Маркову зачислили в контору завода рассыльной, Колесов получил место дежурного машиниста на электростанции, а Бодюков и Рязанов попали в механосборочный цех: первый — фрезеровщиком, второй — токарем.
Что и говорить, все мы старались работать с завидным усердием, к начальству относились почтительно и при всяком удобном случае выражали свою приверженность немецко-фашистским властям. К этому нас обязывала цель, стоявшая перед нами, ну и к тому же надо было оправдывать наши документы, в которых значилось, что все мы, в большей или меньшей степени, подвергались гонению при советском строе и поэтому без колебаний перешли на сторону немцев. Никто из нас не завязывал приятельских отношений ни с рабочими, ни со служащими завода, среди которых было немало провокаторов и шпиков. Некоторых из них мне указали товарищи из заводской подпольной ячейки, а кое-кого мы распознали сами по чрезмерной навязчивости и явно провокационным разговорам. Но, конечно, распознать всех шпиков было невозможно.
Однажды во время обеденного перерыва к станку Бодюкова подошел слесарь по фамилии Втюрин, целыми днями суетливо бегавший по цеху. Одетый в замасленную черную спецовку, со всклокоченными черными волосами и быстрыми, колючими глазами, он чем-то напоминал черного паука, непрерывно снующего по болотистой воде. Это был один из самых ярых агентов гестапо. Как нам сообщили подпольщики, по его доносам гестаповцы арестовали шестерых рабочих и всех расстреляли. За это ему заочно советскими патриотами был вынесен смертный приговор.
Хотя гонг, возвещавший обеденный перерыв, прозвучал уже давно, Бодюков продолжал обрабатывать какую-то деталь танкового мотора. Усевшись на бетонном фундаменте станка, Втюрин покосился по сторонам и сказал:
— И есть же такой неблагодарный народ.
— Ты о чем? — спросил Бодюков.
— Да так, вообще.
— Ну если «вообще», то не мешай мне работать.
Втюрин презрительно усмехнулся.
— Стараешься, значит?
— А тебе-то что? — буркнул Бодюков.
— Людей жалко.
— Каких людей?
— Наших. — Втюрин вздохнул. — Ты из кожи лезешь, чтобы танк скорее готов был. А танк этот чей? Чей, спрашиваю?
— Мое дело деньги зарабатывать, — отозвался Бодюков.
— Выходит, так ты отблагодарил тех людей, что научили тебя на этом станке работать? — сказал укоряюще Втюрин. — Может, они сейчас на фронте воюют, Родину-мать защищают. А ты танк на погибель им готовишь.
— Ну и что из того? Ты ведь тоже работаешь здесь же.
— Я только так, для виду. Лишь бы смену отбыть.
— Начальство обманываешь?
— Русский я.
— Я тоже русский.
— А если русский, то чего же стараешься для врага? — вкрадчиво спросил Втюрин и, снова оглянувшись по сторонам, подмигнул: — Разговор у меня есть к тебе. Садись, перекурим.
Бодюков выключил станок.
— Ну говори, слушаю.
Глаза Втюрина заметались.
— Хочешь, браток, я сведу тебя с нашими ребятами?
— С какими «нашими»?
— Неужели не догадываешься? — Втюрин перешел на шепот. — Тут они, на заводе, рядом с нами. Наши, понимаешь?
— Не понимаю.
— Ну… советские… подпольщики.
— Ах, вон оно что? — протянул Бодюков и, схватив внезапно Втюрина за ворот куртки, поднял его с фундамента, затряс, выкрикнул громко, чтобы услышали все рабочие, находившиеся в цехе: — Ты что же это предлагаешь мне, шкура продажная?
— Очумел, что ли? — захрипел Втюрин, пытаясь вырваться. — Пусти, а не то…
— Так ты еще и угрожать мне будешь! — свирепо гаркнул на него Бодюков. — Хлеб немецкий ешь, а сам пакостишь хозяевам? Подпольщик, значит? Вредишь? Так получай, гнида паршивая. — И ударом могучего боксерского кулака в скулу Бодюков отшвырнул Втюрина далеко от станка.
На шум прибежали два охранника и мастер цеха. Вокруг Втюрина, распластавшегося на бетонном полу и скулившего в беспамятстве, столпились рабочие.
— Что случилось? — спросил мастер.
— Да вот стукнул эту сволочь, — ответил Бодюков, вытирая паклей руки. — На предательство меня толкал, чтобы я волынил на работе и вредительством здесь, на заводе, занимался. А я с Германией и никому не позволю обзывать недостойными словами фюрера.
— Забрать обоих! — крикнул охранникам мастер. — Разберемся.
— Бодюкова-то за что брать? — спросил Рязанов, выходя вперед. — Я своими ушами слышал, о чем ему говорил Втюрин.
— И я могу подтвердить! — донеслось из-за спины Рязанова.
— Все слышали! — загудели вокруг.
Бодюкова все же забрали, но к концу перерыва он вернулся в цех. Затем начали вызывать в контору свидетелей. А на следующее утро к Бодюкову в цехе подошел мастер и, похлопав его по плечу, сказал во всеуслышание:
— Администрация завода выносит вам благодарность за добросовестную и верную службу великой Германской империи и ее доблестным войскам.
Втюрин исчез с завода.
Очевидно, гестаповцы перебросили его на другое предприятие. Через несколько дней я узнал, что приговор, вынесенный ему заочно броварскими подпольщиками, был приведен в исполнение. Как-то утром охранники нашли его в лесу, повешенным на суку старой березы.
Вайсберг недолго присматривался ко мне. Видимо, уверив себя в том, что я вполне надежный, знающий свое дело специалист, он не замедлил назначить меня временно исполняющим обязанности главного механика завода. Это открыло мне свободный доступ во все цехи предприятия, и, таким образом, я получил возможность держать связь с Рязановым, Бодюковым и Колесовым, а также с подпольщиками, как говорится, без отрыва от производства. Теперь уже можно было приступать к составлению конкретного плана диверсии. Колесов по-прежнему работал на электростанции, иными словами — в самом сердце завода, Рязанова я оставил в механосборочном цехе, а Бодюкова перевел в цех блоков. Галя как рассыльная имела «сквозной» пропуск во все цехи и помогала мне осуществлять руководство деятельностью моих помощников.
На завод ежедневно прибывали эшелоны с искалеченной техникой гитлеровского вермахта. После сортировки на приемном пункте она распределялась по цехам. Главными узлами производства были механосборочный цех и так называемый «цех блоков», где велась сборка танков, бронетранспортеров, самоходных орудий и фюзеляжей самолетов: бомбардировщиков и истребителей. Чтобы вывести надолго завод из строя, надо было взорвать эти два огромных цеха и электростанцию. Разумеется, одной моей группе решить подобную задачу было не под силу, и поэтому при составлении плана действий я значительную часть подготовительных работ переложил на плечи Подпольщиков — рабочих завода. Непосредственное руководство их деятельностью взял на себя глава подпольной заводской ячейки Горовой — старый коммунист, участник гражданской войны, пользовавшийся большим авторитетом у Вайсберга как опытный мастер литейного и кузнечного дела.
Прежде всего надо было доставить к месту диверсии побольше взрывчатки и вспомогательных материалов. Но как это сделать?
Колесов предложил вести доставку взрывчатки «порционно», исподволь — в карманах, под одеждой, в узелках с едой.
Горовой покачал седеющей головой.
— Если охранники не обыскивают начальство, ну, скажем, таких, как Харитоненко или меня, то рядовой рабочий может подвергнуться обыску в любую минуту. Обнаружат у кого-нибудь тол, арестуют человека и начнут мучить в гестапо. Допустим, что человек умрет и слова не вымолвивши, так немцы ж все равно на заводе такой обыск учинят, что иголки не утаишь.
— Как же быть? — спросил я.
— Взрывчатку надо доставить сразу, одним махом, — посоветовал Горовой.
— Но это же невозможно! — воскликнул Бодюков.
— Подумать надо, — сказал Горовой и, склонившись над планом заводской территории, указал на приемный пункт. — Сюда бы поначалу тол доставить с фашистской битой техникой, по железнодорожной ветке. Охрана пропускает поезда с этим ломом без осмотра. Вот и нужно провезти наш груз в танках или бронетранспортерах, а как попадет он на завод, тогда уж проще будет в цехи его перебросить. Сортировкой-то лома рабочие занимаются. Думаю, что помогут они, если от имени партии попросить их. Дело это на себя беру…
Расчет Горового оказался абсолютно точным. Броварские железнодорожники успешно выполнили задание подпольного центра, и взрывчатка попала на приемный пункт завода вместе с одной из партий самоходок и танков, доставленных на ремонт.
Ночное время было самым подходящим для переброски тола в цехи и для его закладки в местах взрыва. Пришлось кое-кого переместить в ночную смену, особенно в механосборочном и блоковом цехах. Колесов проделал то же самое на электростанции. Всех известных мне шпиков, я, разумеется, оставил в дневной смене, это, однако, не означало, что мы могли несколько ослабить бдительность. Наоборот, она была усилена до предела. Сам я, стараясь еще больше выслужиться перед администрацией, буквально пропадал на заводе.
Заряды устанавливались в труднодоступных для осмотра участках цехов и электростанции, в танках, намеченных к сборке в последнюю очередь, в запасных трансформаторных агрегатах электростанции. Основные заряды намечалось взорвать с помощью часовых механизмов во время перерыва между вечерней и ночной сменами, чтобы избежать лишних жертв среди людей, работавших на заводе по принуждению. Вспомогательные заряды, рассчитанные на уничтожение наиболее ценных станков и агрегатов, должны были взорваться по детонации…
Наконец наступил решительный час.
Часовые механизмы сработали, когда вечерняя смена покинула завод, точно, секунда в секунду. Взрыв был такой сильный, что я, находясь на почтительном расстоянии от проходной, едва удержался на ногах. Казалось, над заводом и окружавшим его лесом пронесся смерч, который со страшным гулом расколол небо и землю. Над взорванными цехами и электростанцией вместе со столбами огня взвились черно-сизые облака дыма, быстро исчезнувшие в ночной тьме. Разгорался грандиозный пожар.
В Броварах завыли сирены, объявляя тревогу. На шоссе, тянувшемся вдоль завода, нарастал гул автомашин. Мешкать было нельзя, и я бросился в сторону железнодорожной ветки, где у тупика был намечен сбор всей группы.
Колесов и Бодюков были уже там, а через несколько минут туда примчались Галя и Вася Рязанов, за плечами которого висел рюкзак с рацией.
— Эх, яблочко, вот это ахнуло! — вырвалось торжествующе у Колесова.
— Не забудьте, господин Харитоненко, премией нас отметить, — пошутил Бодюков.
— Разговорчики! — строго прикрикнул я и махнул рукой: — лес, живее! Будем пробираться через болота между Гоголевом и Борисполем.
За ночь мы ушли далеко. Шли и весь следующий день, делая короткие привалы то в лесах, то среди болот, и лишь к вечеру добрались до того места, куда полковник Теплов обещал выслать по нашему вызову самолет.
Всего несколько минут понадобилось Гале, чтобы настроить рацию и связаться со школой. Я доложил полковнику об успешном выполнении задания.
— Нам уже известно о результатах вашей работы, — ответил Теплов. — Из Киева товарищи сообщили. Молодцы!
Глава 15. НА БЕРЕЗИНЕ
Все было готово: и детально разработанный план операции, и необходимое снаряжение, и самолет, который должен был доставить мою группу к месту высадки в глубоком тылу противника. Но погода никак не хотела читаться ни с планами командования, ни с нашим настроением. Вторые сутки сидели мы в избушке на окраине небольшой деревни Кочетовки и уныло поглядывали из окон на измокшее поле аэродрома, на грязно-серую пелену туч, затянувшую все небо. Дождь не прекращался: то моросил часами, то вдруг переходил в ливень.
Невдалеке от избушки начинался овраг. К нему со всех сторон неслись мутные, шумные ручьи, и вода в овраге клокотала, пенилась, не успевая выливаться во взбухшую и рассвирепевшую речонку, никак не отвечавшую сейчас своему названию — Тихая.
От нечего делать Колесов и Бодюков азартно резались в «козла». Вася Рязанов читал случайно найденные им в избе за иконами тоненькие книжки в пестрых обложках, а Галя сидела у окна и вышивала на красном шелковом кисете голубые васильки. Чудесные васильки! От них веяло чем-то мирным, далеким от войны…
Каждый раз, проходя мимо Гали, Колесов косился на кисет и в конце концов спросил:
— Эх, яблочко, ну и кисет! Кому это ты вышиваешь, Маркова?
Галя подняла на него голубые, лукаво прищуренные глаза.
— Нравится?
— Отменный кисет!
— Значит, не стыдно подарить такой?
— Говорю же, отменный.
— Тогда подарю.
— Кому?
— Одному из вас, — уклончиво ответила Галя.
Бодюков кашлянул, широко улыбнулся. Видимо, он рассчитывал на подарок. Только Вася не оторвался от книги, будто разговор Колесова и Марковой совсем не интересовал его. Ох, притворщик! Не зря же так порозовели вдруг его щеки!..
А за окнами шумел дождь. Время шло, и никто не знал, когда же наконец настанет летная погода и мы сможем избавиться от томительного, вынужденного безделья.
Приближался вечер, второй вечер нашего пребывания в Кочетовке. Постепенно деревня погрузилась в сумерки. Колесов зажег «лампу» — стреляную снарядную гильзу, наполненную керосином, с куском брезента вместо фитиля. Окна завесили плащ-палатками, «Лампа» чадила, огонек ее испуганно метался из стороны в сторону, и на рубленых стенах избы шевелились наши причудливые тени.
— Может, на боковую? — опросил Бодюков.
— Давай еще сгоняем партию! — предложил ему Колесов, перемешивая на столе костяшки домино.
— Хватит! — отрезал Бодюков. — Сколько можно?
— Да, пожалуй, будем спать, — сказал я. — Видно, дождь до утра не уймется.
Вася Рязанов вышел во двор. Вышла и Галя. Я раскинул на полу шинель, положил у стены парашют и рюкзак, начал стягивать с ног сапоги.
Тихо скрипнула дверь, ведущая в сенцы. Я подумал, что это Рязанов или Маркова, но это был майор Данильцев.
— Собирайтесь, товарищи! — сказал он с порога.
Мы удивленно взглянули на него, Поднимаясь со своего жесткого ложа, я спросил:
— Куда?
— На задание.
— А дождь?
— Командир авиационного полка заверил командование, что бомбардировщики вылетят по первому вашему требованию независимо от погоды.
— Эх, яблочко, вот это да! — весело воскликнул Колесов. — Молодцы летчики! Чего, спрашивается, ждать? Может, этот дождь на неделю зарядил!
— Боря! — окликнул я Бодюкова. — Зови Рязанова и Маркову, будем собираться…
Через двадцать минут мы уже были в самолете. Еще ни разу нам не приходилось вылетать в такую непогоду: дождь, порывистый ветер и к тому же такая тьма, что хоть глаз выколи. Два прожектора осветили просторное поле аэродрома. С помощью трактора самолет вырулил на твердую взлетную полосу. Там механики еще раз проверили моторы, и только после этого была отдана команда вылетать.
Два часа провели мы в воздухе, а дождь все шел и шел. Не верилось, что где-то есть чистое небо. Летчики вели самолет по приборам. Линия фронта осталась давно позади. Под нами лежала территория Смоленщины с выжженными селами, разрушенными городами.
В мирное время я ни разу не бывал в этих местах, и сегодня ночью мне впервые предстояло попасть на Березину, которая, по словам Колесова, была изумительной, красивой и самой что ни на есть русской рекой. Уж кто-кто, а Колесов знал ее, Березину. Он родился, вырос на ее берегах и до войны работал здесь трактористом и шофером в колхозе. Ни одно задание он не встречал с такой радостью, с таким энтузиазмом, как это, связанное именно с Березиной, с дорогими его сердцу местами.
А задание было нелегким. Нам предстояло взорвать мост через Березину, большой железнодорожный мост на линии Смоленск — Орша. Он усиленно охранялся с воздуха и на земле. Днем нашим самолетам не удавалось прорваться к нему, а ночные бомбежки не приносили результатов и приводили лишь к потере бомбардировщиков. Тогда наше командование решило послать туда десантников. Выбор пал на мою группу. Перед нами была поставлена задача взорвать мост с воды, для чего надо было пробраться к нему по реке. Чтобы отвлечь от нас внимание противника, наши бомбардировщики должны были в это же время бомбить мост с воздуха. Это требовало установления надежной радиосвязи между нами и штабом авиаполка. Поэтому мы и захватили с собой не одну, а две рации — основную и одну в запас. Их мы берегли как зеницу ока.
Рассчитывать на чью-либо помощь нашей группе не приходилось. В ближайших населенных пунктах стояли крупные гарнизоны охранных войск, которые не давали возможности даже небольшим отрядам партизан просочиться к железнодорожной линии и к шоссейной дороге, пролегавшей вдоль железнодорожного полотна. Все это осложняло нашу задачу.
Низкая облачность, дождь, ночная тьма помогли нам долететь до места высадки без каких-либо осложнений — прожекторы не могли нащупать наш самолет. Но если в воздухе мы чувствовали себя относительно спокойно, то высадка очень и очень тревожила нас. Мы должны были приземлиться на участке между мостом и. лесом, тянувшимся вдоль Березины. Южнее этого места, в нескольких десятках километров протекал Днепр. Прыгать приходилось наугад, в темноте, полагаясь только на показания приборов. Даже самое незначительное, отклонение самолета от курса, какая-то задержка с высадкой могли привести к срыву: вдруг да угодим прямо в реку или приземлимся на улице какого-нибудь села, которые довольно густо лепились на берегах реки. И потом попробуй отыскать быстро друг друга в такую ненастную ночь! Да еще и парашют с грузом надо было искать, а ведь он-то не откликнется, не подаст никакого знака.
Первым прыгнул Колесов. Бодюков вывалился из самолета чуть ли не верхом на грузовом тюке, чтобы приземлиться как можно ближе от него. За Бодюковым тотчас один за другим последовали Рязанов и Маркова. Замыкающим был я.
Когда мои ноги уже коснулись земли, резкий порыв ветра ударил в купол ниспадавшего парашюта и рванул его в сторону. Падая на бок, я почувствовал, что подо мной разверзлась какая-то яма, и в следующее мгновение нырнул в холодную, черную воду.
Не знаю, как мне удалось сдержать крик. Возможно, я и крикнул, но уже под водой. К счастью, это случилось у самого берега, на мелководье. Инстинктивно рванувшись кверху, я стал на колени, и моя голова очутилась над водой лицом к невысокому обрывистому берегу.
Испуг прошел. Теперь я уже думал не о себе, а об остальных. Что, если все очутились в реке? Колесов, Бодюков и Рязанов плавали отлично. А вот Маркова держалась на воде с большим трудом. В обмундировании, в сапогах, при оружии она наверняка сразу пойдет ко дну!..
Выбравшись на берег, я вглядывался во мрак, нависший над рекой, и, затаив дыхание, чутко прислушивался, не донесется ли оттуда стон или приглушенный зов о помощи. Но вокруг было тихо; и это безмолвие действовало успокоительно. В конце концов я утвердился в мысли, что никто из моих друзей не мог попасть в реку. Ведь они прыгали раньше меня, значит, и приземлились значительно дальше от реки, чем я…
Убедив себя в том, что иначе и быть не может, я направился прямо на восток. На пути то и дело попадались какие-то ямы, похожие на старые, уже поросшие травой воронки от снарядов, редкий кустарник, канавы и реже молодые березовые рощицы. Первыми мне встретились Рязанов и Маркова. Они сидели в березняке и, как было условлено, время от времени повторяли крик выпи. Вскоре к нам подошли Колесов и Бодюков, которые уже успели отыскать грузовой тюк…
Опять начался мелкий дождь. В промокшей одежде я чувствовал себя неважно, но заменить ее было нечем. Что поделаешь, такова жизнь разведчиков! Даже на передовой можно на время перебраться из окопов в землянку, обсушиться, а где обсушишься и обогреешься здесь, в тылу врага, когда не имеешь возможности не только что разжечь костер, но даже закурить…
Едва забрезжил рассвет, мы перебрались в лес, который находился километрах в двух севернее места нашего приземления. Не раз и не два мы с благодарностью вспоминали искусство пилота, изумительное мастерство штурмана и чудесные приборы самолета, обеспечившие с такой точностью нашу высадку в намеченном районе. И это в непогоду, при слепом полете!
В родном краю Колесов чувствовал себя действительно как рыба в воде. Он знал наперечет названия всех сел и деревень, лежавших поблизости, а когда мы вышли к реке, он низко поклонился ей, омыл ее водой свое лицо и взволнованно сказал нам:
— Эх, яблочко, вот она, братцы, моя Березина. Верю, что она поможет нам в нашем святом и правом деле…
В эту сырую, пасмурную погоду река не выглядела столь прекрасной, как ее расписывал нам на Большой земле Колесов, и все же было в ней что-то могучее и величавое.
В лесу было безлюдно. Между деревьями виднелись полуразрушенные землянки. Видимо, здесь находили пристанище люди из сожженных деревень, но, судя по всему, оккупанты лишили их и этого пристанища. Сохранились лишь две «норы» в береговой круче с лазами из леса. В одной из этих «нор» мы и обосновались.
Утром мы с Колесовым отправились в разведку поближе к мосту. Бодюков и Рязанов получили задание тщательно осмотреть все прибрежные заросли к северу от леса: может быть, где попадутся прибившиеся к берегу деревья, которые можно было бы использовать как плавательные средства. В противном случае нам предстояло самим изготовить небольшой плот из двух-трех бревен…
В «норе» осталась одна Галя. Ей нужно было проверить рации и подготовить их к работе. Она же выполняла роль хранителя всего нашего боевого имущества.
Знакомство с мостом пришлось вести на почтительном расстоянии. Подбираться к нему ближе не было никакого смысла: нарвешься на замаскированный пост или угодишь на мину — и конец, задание не будет выполнено.
Мост был капитальный. То, что он уцелел во время варварских бомбардировок, которым подвергала все подобные сооружения гитлеровская авиация в начале войны, казалось просто чудом. Береговые пролетные строения были балочными, а два промежуточных — из металлических ферм, покоившихся на трех довольно высоких каменных быках. Чтобы вывести мост из строя надолго, надо было произвести сильный взрыв на среднем быке, у шарнирных опор двух ферм, и этим сбросить концы ферм с быка в воду. Ограничиваться же разрушением шарнирных опор нельзя было ни в коем случае: если концы ферм останутся на быке, то немецкие саперы восстановят мост довольно быстро.
Полученные нами сведения об усиленной охране моста и подступов к нему полностью подтверждались. У железнодорожной насыпи густо стояли камуфлированные палатки, а вдоль обоих берегов были разбросаны батареи крупнокалиберных зенитных орудий. Охраняемая зона ограничивалась двумя оградами из колючей проволоки, вдоль которой размещались прожекторные установки и большие мощные звукоулавливатели. Всюду торчали часовые: у въездов на мост, у колючей проволоки, на берегах, на железнодорожной насыпи. Время от времени по мосту проходили патрульные. Но самое неприятное для нас заключалось в том, что на трех каменных ледорезах, отстоявших метрах в пятидесяти от моста, были устроены площадки с зенитными пулеметами, у которых дежурили солдаты — по два на каждой площадке. У левого берега возле причала виднелись две моторные лодки.
Словом, мало утешительного дала нам разведка. Почти не отрывая бинокля от глаз, я вновь и вновь обшаривал взглядом реку, мост, берега. Все чаще, назойливее в голову лезла мысль о том, что наша попытка добраться до моста по воде неизбежно провалится.
Бодюкову и Рязанову повезло: в одной из заводей среди камыша они нашли большую суковатую карчу, прибившуюся к берегу. Она тихо покачивалась на волнах, как неведомое чудище, выставившее из воды свою черную ослизлую спину.
Похлопав ее рукой, Бодюков сказал мне:
— Прямо-таки «Наутилус», как у капитана Немо. И нас и весь груз выдержит. По-рачьи пристроимся к ней снизу, камышовые трубки в рот — и пошел. С грузом, должно быть, совсем под водой скроется, и мы под самым носом у фрицев пройдем на этом «Наутилусе».
Оптимизм Бодюкова воодушевил и меня. Подумалось: авось и в самом деле проскочим!
— Ладно, «Наутилус» так «Наутилус», — улыбнулся я. — Отдохнем до вечера и будем готовиться.
Когда совсем стемнело, мы подтянули карчу поближе к нашей «норе», на более глубокое место и опутали ее веревками. Рюкзаки с толом, бикфордовым шнуром и взрывателями подвязали к веревкам. Заготовили несколько дыхательных трубок из камыша, укрепили на карче два якорных крюка и три шнура с острыми «кошками». Попробовали вчетвером оседлать наш «корабль». Плавучесть у него была замечательной, к тому же и в отношении маскировки он превзошел все наши ожидания: над поверхностью воды поднималась лишь самая малая часть его горбатого хребта. Нужно обладать поистине кошачьим зрением, чтобы заметить ее в темную ночь на воде.
Дождь, едва моросивший весь день, к ночи усилился. Подготовка к «подводному» рейсу шла успешно. Все это постепенно рассеяло мрачные мысли, которые одолевали меня днем, и уверенность в успешном исходе операции росла.
В десятом часу вечера я отдал распоряжение Гале связаться с Большой землей. Прошло не больше десяти минут, и связь со штабом авиационного полка была налажена. Я доложил о боевой готовности группы. С Большой земли Галя приняла ответ майора Данильцева: «Спасибо за поздравления. Желаю вам сердечной встречи с друзьями на Двинском вокзале». Это означало: «Донесение понято. Бомбардировщики появятся в районе моста ровно в полночь».
Все чаще, чаще дождь переходил в ливень. Опасаясь, как бы в связи с этим не сорвался вылет бомбардировщиков, я в начале двенадцатого ночи запросил штаб полка. Оттуда меня заверили, что самолеты при любых условиях погоды будут на месте к указанному сроку.
— А теперь надо уходить отсюда, — сказал я. — Немцы могли запеленговать наш передатчик.
При свете маленькой лампочки, горевшей над рацией, я заметил, как торопливо и растерянно переглянулись Рязанов и Маркова.
— Собирайся, Галя! — обратился я к ней. — Жди нас у Днепра на левом берегу Березины. Если завтра до полудня не встретимся, иди по маршруту, который тебе дан.
— А передатчики как же? — спросила сдавленным голосом Галя и снова взглянула на Рязанова.
— Сами уничтожим! — ответил я. Во мне все сильнее ворошилась смутная, взволновавшая меня до глубины души догадка о каких-то сердечных нитях, связывавших Васю и Галю.
Когда Галя собралась в путь и мы вылезли из «норы» в мрак, под дождь, я представил себе, как тяжело и страшно будет ей одной брести через лес к дороre и затем в обход селений, по незнакомым местам, измокшей до последней нитки, идти к условленному месту встречи, туда, где Березина впадает в Днепр.
— Ты, Галя, того, не робей! — ободряюще промолвил Колесов.
— А чего ей робеть! — воскликнул Бодюков. — Она у нас не из пугливого десятка. — В голосе его ощущались заботливость и теплота.
Я пожал ей руку.
— Иди, Галя. Желаю тебе удачи.
Рязанов молча стоял, прижавшись спиной к дереву, и не отрывал глаз от Гали. Она подошла к нему, протянула руку.
— До свидания, Вася!
Дрожь в ее голосе как бы подтвердила мою догадку.
— Рязанов, — хрипловато вымолвил я. — Проводи Маркову до просеки…
Вася вернулся минут через десять. Тем временем Бодюков и Колесов испортили рации и утопили их в реке. Все следы нашего пребывания в «норе» были уничтожены.
Приближалась полночь.
Сквозь шум ливня до нас долетел грохот поезда, проследовавшего через мост.
— Пора! — сказал я.
Перекинув автоматы за спину, с пистолетами, гранатами и ножами, подвешенными к поясам, мы вошли в воду, ухватились за веревки, опутывавшие карчу, и поплыли с ней вниз по течению к мосту. Верх нашего «Наутилуса» чуть проступал над водой, а по сторонам от него, как поплавки, торчали наши головы.
Из-за ливня видимость была совсем плохой. Впереди сквозь мглу едва-едва угадывались черные контуры моста.
Мы усиленно гребли руками, пока не вывели карчу на середину реки. Теперь надо было следить только за тем, чтобы она, плывя по течению, не «изменила курса» и вышла точно к главному промежуточному быку.
Лично я уже не замечал ни ливня, ни холодной воды, в которой плыл, и временами испытывал какой-то жар, будто мое тело вдруг попадало в полосу кипящих подводных струй. Внимание было приковано к медленно надвигавшемуся на нас ледорезу. Оттуда все отчетливее доносились голоса охранников. Если они заметят карчу и обстреляют ее из пулемета, вряд ли кто из нас останется в живых. В эти минуты хотелось, чтобы ливень стал воистину ураганным и чтобы мрак сгустился во сто крат сильнее.
Я дважды дернул за шнур, соединявший меня с остальными. Это означало: «Под воду!» Стиснув камышовую трубку зубами и плотно сжав губы, я уже готов был погрузить голову в воду, когда довольно явственно услышал гул самолетов. Он нарастал с каждой секундой, как раскаты приближающегося, непрерывного грома, и заглушал шум дождя.
Где-то вдали один за другим тяжело ухнули три бомбовых разрыва. Почти одновременно в районе моста взвыли сирены воздушной тревоги, а затем оглушительно забахали зенитки. Взрывы бомб повторялись чаще, ближе…
До ледореза оставалось несколько метров. Мои друзья уже были под водой. На площадке ледореза неистово застрочил пулемет. От него в дождливую мглу неба потянулись четыре светящихся пунктира трассирующих бронебойных пуль. Открыли огонь зенитные пулеметы и на площадках других ледорезов. Было очевидно, что внимание охранников теперь приковано всецело к небу, туда, где за толщей сплошных туч гудели советские бомбардировщики. И все же рисковать я не стал, скрылся с головой в реке…
Вынырнул минуты через две. Ледорезы остались уже позади. Карча плыла к среднему устою моста, чуть отклоняясь влево от него.
По моему сигналу вынырнули Колесов, Рязанов и Бодюков. Гул самолетов с трудом пробивался сквозь отрывистую гулкую стрельбу зениток. Гитлеровцы не включали прожекторов. В такую непогодь их свет был, разумеется, совершенно бесполезным и мог послужить хорошим ориентиром для наших бомбардировщиков, которые, судя по их гулу и взрывам бомб, ходили по кругу, вне зоны зенитного обстрела.
И вот наконец наша карча рядом с устоем. «Кошка», ловко брошенная Колесовым, цепко ухватилась за нижнюю скобу металлической лестницы, начинавшейся чуть выше цокольной части устоя. Пока Бодюков закреплял карчу, чтобы ее не унесло течением, мы с Рязановым отвязали рюкзаки со взрывчаткой, а Колесов быстро, бесшумно, как опытный циркач, взобрался по лестнице на верх быка, к опорам ферм. Времени у нас было, что называется, в обрез. Бомбардировщики уйдут в четверть первого, в нашем распоряжении оставались считанные минуты. Бодюков уже тоже наверху. С помощью двух веревок они с Колесовым подняли туда рюкзак за рюкзаком. Отправив к ним весь груз, Рязанов и следом за ним и я перебрались с карчи на «рабочее место».
Работа спорилась. Не беда, что отяжелевшая, мокрая одежда прилипала к телу, что нас хлестал дождь и что порывистый ветер здесь, высоко над водой, буквально пронизывал нас насквозь. Руки действовали во тьме безошибочно. Лишь бы только охранники случайно не обнаружили нас…
Мне прямо-таки не верилось, что все сложилось так удачно. Даже патрульные и те ни разу не прошли по мосту за время нашей работы.
Заряды заложены. Колесов, Бодюков и Рязанов спустились на карчу. Я достал из кармана водонепроницаемый мешочек, извлек из него флакон с самовозгорающейся жидкостью. На самый худой конец, если она не сработает, в мешочке есть зажигалка и спички. Жидкость сработала. Бикфордовы шнуры — основной и запасные — затлели…
Теперь вниз, к друзьям…
Карча отплыла от устоя и медленно двинулась вниз по течению к сторону Днепра. Мы держались за веревки и плыли с ней, обернувшись лицами к мосту. Воодушевленные удачей, мы забыли о том, что опасность еще не миновала. К тому же наша карча уже никак не могла называться «Наутилусом»: освободившись от груза взрывчатки, она теперь торчала из воды.
До взрыва оставалось не больше трех минут, когда на правом берегу Березины внезапно вспыхнул луч прожектора. На мгновение метнувшись кверху, он вдруг упал на реку, скользнул по ней и выхватил из тьмы нашу карчу. Мы успели скрыться под водой. Я убежден, что немцы не заметили нас, ибо в противном случае они обязательно бы направили мотолодки вслед за карчой и перехватили ее. Но, видимо, следуя заведенному у них правилу, они все же решили на всякий случай обстрелять ее из пулемета. Прозвучали две короткие очереди. Прожектор погас, и карча, покачиваясь на волнах, продолжала свой путь.
Я вынырнул. Нас никто не преследовал. Позади чернел силуэт моста. Вот-вот должен был произойти взрыв. Я трижды дернул за сигнальный шнур. Из воды высунулись головы Колесова и Бодюкова. Рязанов не показывался.
— Борис! — тихо окликнул я Бодюкова, плывшего по другую сторону карчи за Рязановым. — Где Вася? Посмотри, что с ним?
Бодюков рванулся вперед, нырнул.
В это мгновение все окрест озарилось красновато-желтым светом, как от вспышки молнии. От грохота могучего взрыва у меня кольнуло в ушах и загудело в голове. Я увидел, как над средним устоем дрогнули края ферм и как затем фермы со скрежетом начали падать в реку. Что-то тяжелое обрушилось на нашу карчу, потянуло ее ко дну. От острой боли в затылке я глухо вскрикнул и полетел в бездну…
Очнулся я на траве, среди кустов. Светало. Дождя уже не было. Кое-где сквозь разорванные серые тучи проглядывало голубое небо. Рядом со мной сидели Бодюков и Колесов. Увидев, что я открыл глаза, они склонились надо мной.
— Фу, наконец-то! — облегченно вздохнул Колесов. — Мы так боялись, что и ты… — Словно поперхнувшись, он умолк, судорожно сжал мою руку.
Я попытался приподнять голову, но не смог этого сделать. Шея будто задеревенела, а в затылке зашевелилось что-то нестерпимо горячее и острое.
Друзья помогли мне сесть.
— А Вася где? — спросил я, едва ворочая языком.
Бодюков мельком, искоса взглянул на Колесова, и лицо его болезненно искривилось. Колесов опустил голову, кивнул влево.
— Тут он…
Превозмогая боль в затылке, я медленно обернулся лицом туда, куда указывал Колесов. Рязанов лежал под ракитой навзничь, со сложенными на груди руками.
Бледные, запавшие щеки, бескровные, плотно сжатые губы, заострившийся нос и полуоткрытые глаза с неподвижным, устремленным к небу взглядом. Он был моложе всех нас и сейчас выглядел совсем юнцом, все таким же красивым и нежным, как при жизни.
Сердце мое сжалось, в горле застрял какой-то удушающий ком. По щекам Бодюкова покатились слезы. Колесов кусал губы, тихо поскрипывая зубами.
— Как же это случилось? — спросил я, все еще не веря в то, что Васи, нашего славного Васятки, уже нет в живых.
Бодюков смахнул ладонью слезы, шмыгнул носом.
— Сразу его… еще тогда, из пулемета. Одна пуля в висок, вторая — в грудь… Схватил я его под водой, а тут взрыв… Карчу перевернуло, оглушило меня. Хорошо хоть сигнальным шнуром были мы связаны. С Колесовым мы вначале тебя к карче подтянули, потом Васю… Так и плыли… И вот причалили…
Васю Рязанова мы похоронили на берегу Березины, похоронили вместе с красным шелковым кисетом, который лежал в кармане его гимнастерки против сердца. Под голубыми васильками, украшавшими кисет, была вышита надпись: «Васильку от Галинки»…
Над могилой Рязанова вырос небольшой холмик из сырой земли. Мы долго стояли над ним в глубоком молчании. В памяти вставало все, что было пережито нами с Васей.
Первым нарушил молчание Колесов. Тяжко вздохнув, он промолвил тихо, чуть слышно:
— Да, горестную весть принесем мы Гале.
Бодюков пожал плечами.
— Даже не представляю, как мы скажем ей…
Я тоже думал о Гале, думал о том, как тяжела и горька была для нее минута расставания с Рязановым там, у лесной просеки, куда он проводил ее последний раз…
В одиннадцатом часу дня мы добрались до берега Днепра. Гали в условленном месте не было, хотя она должна была ждать здесь до полудня. Ее отсутствие крайне встревожило нас. Мало ли что могло случиться с нею ночью, в тылу врага, на незнакомых путях-дорогах!
Мы ждали ее до вечера. Надежда, что она все-таки придет, постепенно угасала и наконец угасла совсем…
Два дня спустя нам удалось пересечь линию фронта и вернуться к себе в школу. Гали не было и там. Полковник Теплов сделал запросы о ней во все воинские части, действовавшие на нашем участке фронта. Следов ее так и не нашли…
Меня сразу же отправили в госпиталь, хотя я упорно отказывался подчиниться требованию врачей.
Пришлось лечиться.
А через неделю, к величайшей радости всей группы, нашлась наконец Галя: ее доставили в тот же госпиталь, где лежал я. Оказывается, ночью, когда она шла к Днепру, на одной из лесных просек ей встретились партизаны, подстерегавшие гитлеровцев. Там же, в лесу, произошла стычка с колонной немецких мотоциклистов. Все фашисты были уничтожены, но во время перестрелки одна из вражеских пуль ранила Галю в грудь навылет. Больше суток несли ее партизаны до своей базы на носилках, а несколько дней спустя отправили на Большую землю самолетом, который привозил в отряд оружие, медикаменты и боеприпасы.
Я немедля зашел проведать ее. Чувствовала она себя еще очень плохо, однако, увидев меня, оживилась, сказала чуть слышно, прерывавшимся от волнения голосом:
— Спасибо вам, товарищ Игнатов!
— За что? — удивился я.
На бледных щеках Гали проступил легкий румянец.
— За ту ночь… за то, что вы дали мне возможность проститься с ним…
— Значит, ты знаешь все? — с трудом вымолвил я.
Галя молча кивнула, и глаза ее наполнились слезами.
Эпилог
Много дорог, лесов и болот исходил Валентин со своими друзьями-разведчиками в тылу врага. Под натиском советских войск гитлеровские орды откатывались на запад. Питомцы нашей школы все чаще вылетали на боевые задания, взрывали мосты, громили аэродромы, склады и штабы противника.
После гибели Рязанова и Валентину, и Колесову, и Бодюкову еще не раз приходилось попадать в госпитали, залечивать раны, полученные во время дерзких диверсионных вылазок. Но смерть обходила их стороной, и они, даже будучи раненными, оставались неуловимыми для врага.
Незадолго до конца войны Валентин был тяжело ранен и уже не смог участвовать в разгроме фашистского логова. Нелегко ему было прощаться с боевыми друзьями, когда они навестили его в армейском госпитале в канун стремительного броска Советской Армии с Сандомирского плацдарма на Одер.
Окончилась Великая Отечественная война. Отгремели салюты в честь славной победы советского народа над фашистской Германией.
Валентина демобилизовали. На костылях вернулся он в Краснодар, к нам, в родной дом. Его возвращение явилось для меня и Елены Ивановны величайшей радостью. Да, величайшей, потому что после смерти Гени и Евгения нашим родительским сердцам было неимоверно тяжко.
В ту пору Краснодар был искалечен до неузнаваемости. Отступая из города, гитлеровцы сожгли и взорвали лучшие здания, разрушили многие заводы, фабрики, электростанции. Нет, Валентин не мог равнодушно взирать на руины и пепелища родного города и заботиться только о своем здоровье. Он и дня не высидел дома: отправился на костылях в горком партии и получил назначение на должность механика одного из крупнейших предприятий. Помню, как он, морщась от боли, поднимался чуть свет с постели, брался за свои костыли и шел восстанавливать заводские цехи…
Те дни остались далеко позади. Нередко и сейчас старые фронтовые раны сильно беспокоят Валентина, но он не хочет чувствовать себя инвалидом. Он остался таким же неугомонным, непоседливым и деятельным, каким был в детстве.
Последние годы Валентин работает в Краснодарском техническом училище, где ведет практические занятия с воспитанниками училища на заводах Кубани. Его питомцы очень любят рассказы из боевой жизни разведчиков-авиадесантников.
Не так давно, отдыхая в Сочи, Валентин случайно встретил своего бывшего начальника Теплова — ныне генерала в отставке. Память этого человека оказалась поразительной. Ведь сколько команд, групп разведчиков находилось в его подчинении, а он сразу узнал сына и, крепко обняв его, сказал:
— А ты, Игнатов, мало изменился, не стареешь.
— Спасибо за комплимент, — улыбнулся Валентин. — Уже в дедах хожу!
— Ну, это звание еще не признак старости, — весело заметил Теплов. — Моя милая внучка уже успела произвести меня в прадеды. Что поделаешь?
Долго просидели они в тот день на берегу моря. И конечно, как водится после долгой разлуки, вспоминали о школе, о боевых операциях, о друзьях-соратниках.
— Да, быстро идет время, — вздохнул Теплов. — Вот я — седой, на пенсии. Данильцев окончил военную академию, уже полковник. — И, помолчав немного, сказал задумчиво: — Хорошие были ребята в твоей группе. Всех помню, до одного. Интересно, где они теперь? Небось из виду потерял?
— Зря вы так, — ответил Валентин. — В моей группе не было таких, которые друзей забывают.
Валентину было что рассказать о своих боевых спутниках. Их дружба, скрепленная в войну, не потускнела с годами. Лучшим свидетельством тому служат письма, которые получает Валентин из Ленинграда и Смоленской области.
Колесов живет в родном селе на Смоленщине и возглавляет бригаду механизаторов. Нет-нет и ввернет он в своих письмах памятное «эх, яблочко», от которого, как и в прошлом, веет то весельем и задором, то грустью и печалью. Каждую весну бывает Колесов в излучине Березины, в том месте, где покоится прах Васи Рязанова. Могила Рязанова не забыта, не затеряна. Жители окрестных сел ухаживают за ней, обсадили цветами и березками.
Бодюков после демобилизации вернулся в Ленинград, на Кировский завод. Работая там, он окончил заочно институт и стал инженером-механиком. Не расстался он и с поэзией, издал сборник фронтовых стихотворений.
Галя Маркова тоже живет в Ленинграде. Она научный работник. Вышла замуж и растит сына Васятку. Бодюков, часто бывающий у нее в гостях, писал Валентину, что на ее рабочем столе стоит маленький фотоснимок Васи Рязанова, тот, который нашли в его кармане вместе с кисетом — подарком Гали…
Жить вечно в сердцах и памяти людей — это ли не высшая посмертная награда тем, кто отдал свою жизнь за свободу и счастье любимой Отчизны!
Примечания
1
Геля — сокращенно Елена (по-белорусски).
(обратно)2
— Что случилось?
(обратно)3
— Подождите немного, я не могу больше.
(обратно)4
— Руки вверх!
(обратно)5
— Руки!
(обратно)6
— Прочь! Прочь! Прочь!
(обратно)7
— Хорошо… Сыграй мне что-нибудь!
(обратно)8
— Хватит! Пора отправляться!
(обратно)9
— Да, да, очень плохо… Дрянные лошади, черт побери!
(обратно)10
— О, в город!
(обратно)11
— Пожалуйста, можете проходить!
(обратно)12
«Исключительно редкий художник».
(обратно)13
— Быстро, быстро, русские дикие свиньи!
(обратно)
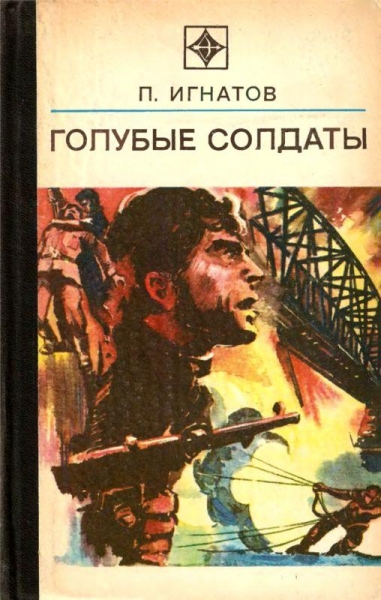





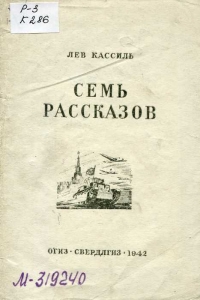

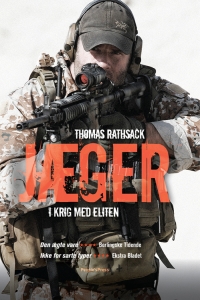
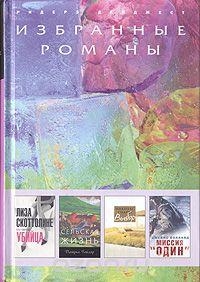
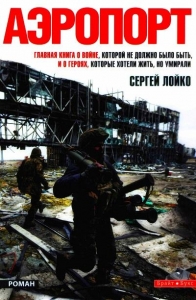
Комментарии к книге «Голубые солдаты», Петр Карпович Игнатов
Всего 0 комментариев