Богдан Сушинский Флотская богиня
Часть первая Операция «Выжженная степь»
1
Каким-то образом война все же пощадила эту дворянскую усадьбу, и древний графский особняк вставал теперь между тремя снарядными воронками и стволами поваленных деревьев, словно фрагмент растерзанных декораций. Да и германские солдаты суетились во время расчистки старинного парка, словно рабочие сцены, кому велено как можно скорее вернуть этому помещичьему гнезду былой аристократический лоск и романтическую мечтательность.
Приказав шарфюреру СС Лансбергу остановить их агитационную «фюрер-пропаганд-машинен» на пологом прибрежном склоне, барон фон Штубер вышел из кабины и, поднявшись на ближайший холм, несколько минут провел там, осматривая широкую, окаймленную гранитными скалами и валунами излучину реки.
Понтонный мост был наведен метрах в двухстах ниже по течению Южного Буга. Стоя на возвышении, оберштурмфюрер с полководческим величием наблюдал за тем, как все новые и новые подразделения вермахта в марш-броске переправляяются на левый, низинный берег, чтобы тут же, рота за ротой, раствориться между подернутыми дымкой степными курганами.
«Итак, еще одна великая славянская река…» — воинственно вскинул подбородок эсэсовец. В эти минуты он чувствовал себя военачальником, по взмаху руки которого целые легионы бросаются в бурлящие воды пограничных рек, и не видел впереди силы, встающей препятствием на его пути к тем землям: «Русским не удалось остановить нас на Южном Буге и вряд ли удастся остановить на Днепре. Судя по всему, настоящее сражение развернется только на берегах Волги, где русские будут сражаться, как на последнем рубеже».
— Как, и вы здесь, барон фон Штубер?! Вот уж не ожидал!
Оберштурмфюрер не заметил, как одна из проходивших мимо машин, свернув в сторону поместья, остановилась у подножия холма. А зря.
— В конечном итоге все мы, господин штурмбаннфюрер[1], движемся в одном направлении — на восток, — напомнил он Фридриху фон Роттенбергу, еще недавно возглавлявшему отдел гестапо, расквартированный в Подольске и действовавший теперь в ближайших тылах группы армий «Юг» на Днестре.
— И путь наш, — речитативно продолжил его мысль фон Роттенберг, — пролегает нынче от одной великой славянской реки к другой!
— Но Южный Буг — река особенная. Можно сказать, знаковая. В течение многих столетий она оставалась пограничной между Едисанской ордой[2] — вассалом Крымского ханства, а значит, и Турции — и землями славян.
— Не усердствуйте, барон, — небрежно обронил Роттенберг, всматриваясь в казачий берег сквозь цейссовские стекла бинокля. — Нам и так известно, что вы считаетесь лучшим специалистом по России во всей группе армий «Юг». Некоторые ученые мужи в Берлине уже называют вас «Великим психологом войны».
— И все же мы с вами, по существу, стоим сейчас, — словно бы не расслышал его слов оберштурмфюрер СС, — на стыке трех империй: Польской, Российской и Турецкой. Некогда, само собой, могучих…
— Спасибо за экскурс в историю. Только вот что я вам скажу, барон: мы для того и пришли на эти берега, чтобы впредь никто и никогда не вспоминал об империях, давно ставших историческими призраками.
— Но пока что мы обязаны знать историю тех земель, которые намереваемся…
— Вы слышите меня, барон?! — прервал его разъяснения офицер гестапо и, опустив бинокль, яростно, «под фюрера», отжестикулировал. — Впредь никто и никогда не должен слышать об этих призрачных империях, их призрачных вождях и не менее призрачных народах!
— В моем лице, господин фон Роттенберг, человечество пока признает самого фанатичного последователя девиза Тамерлана: «Один мир — один правитель!».
— Вот это уже ближе к нашей идеологии. Если только под «единым правителем единого мира» вы имеете в виду не себя.
— Увы, пока что — не себя, — сдержанно и высокомерно, в английской манере, улыбнулся барон.
— Насколько мне известно, на сегодняшний день в армейском журнале опубликовано всего лишь одно ваше научное определение, — слово «научное» штурмбаннфюрер гестапо произнес с неприкрытой иронией. — Уж не помню, какое именно. Зато помню, что само изыскание именуется «Методы психологической обработки населения на освобожденных от коммунистов территориях». Когда это вы успели набраться опыта психологической обработки покоренного населения настолько, что стали поучать других?
— Скорее, делиться размышлениями и прогнозами. Или предсказаниями. Как вам будет угодно.
— Но война только началась. Создается впечатление, что написана она еще до того, как наши войска…
— Естественно, «до того». В этом-то и вся ее ценность. Наши офицеры, особенно те, кто связан с СД, гестапо и полевой жандармерией, должны были получить хоть какие-то навыки работы с населением. Что же касается итоговых исследований, то, как и полагается, они появятся после окончательного покорения России.
Выслушав аргументы оберштурмфюрера, фон Роттенберг слегка растерялся: позиция сопоставления времени нападения на Россию и написания статьи, которую он считал стопроцентно проигрышной для барона, неожиданно оказалась в системе его доводов чуть ли не основным стимулом для исследований.
— В общем-то, в какой-то степени, вы правы… Но мне жаль ваших усилий. А знаете почему? Да потому что очень скоро население этой Славянии напрочь забудет о коммунистических наставлениях, как о кошмарном бреде. Точнее, забудут те, кому все еще позволено будет это население олицетворять. Так что сочувствую по поводу изначальной ненадобности ваших трудов, господин «Великий психолог великой войны».
— Как знать, как знать… — задумчиво парировал барон, придавая выражению своего лица некую прорицательскую загадочность.
— Предаваться подобным сомнениям в разговоре с офицером гестапо… — озадаченно повел подбородком штурмбаннфюрер. — Это небезопасно даже для диверсанта.
— Дело не в реакции офицеров гестапо, — жестко парировал барон, — а в том, что в ближайшие годы спрос на методические разработки, подобные моей, только усилится.
— И на просторах Германии — тоже? Опасное предположение.
— О рейхе пока что речь не идет. Не нужно перевирать факты, господин штурмбаннфюрер. Вы не на допросе у себя в гестапо.
Майор СС замялся. Он и сам понял, что увлекся. Барон фон Штубер, сын генерала Штубера, имеющего прямой доступ к фюреру, — не тот объект, на котором следует испытывать свои гестаповские методы провокаций.
— Это всего лишь предположение, — вежливо попытался он сгладить остроту стычки. — В порядке полемики.
2
Сбитый немецкий самолет каким-то чудом все же приземлился на самом краю степного плато, и теперь, завалившись на разломанное крыло, застыл с приподнятым хвостом, между крутым обрывом и наползавшим на него оврагом.
К дымящейся машине приближалось целое отделение морских пехотинцев, но их вдруг расчленила аллюром лихая наездница на высоком пегом коне.
— Расступись, кавалеры безлошадные! — прокричала она, едва не сбив с ног командовавшего этими «марафонцами» коренастого широкоплечего лейтенанта Лощинина. — Дай дорогу настоящей кавалерии!
— Куда ты?! — прокричал ей вслед командир-«безлошадник» в расстегнутом, насквозь пропотевшем кителе, бежавший с пистолетом в одной руке, — Стоять! Кто-нибудь из пилотов мог выжить!
И хотя наездница даже не попыталась попридержать коня, морской пехотинец успел обратить внимание на оголившиеся крепкие икры в хромовых сапогах и резко очерченные, по-мужски развернутые плечи, охваченные плотной голубой блузкой.
— Это что еще за степная воительница?! — на ходу поинтересовался он у державшегося слева от него краснофлотца Будакова, «первого и неотразимого» кавалера отдельного батальона морской пехоты.
— Именно с ней я вчера и порывался раззнакомиться.
— И чем же это закончилось?
— Отсекла, будто швартовый обрубила. Знаю только, что Евдокимкой кличут.
— Евдокимкой, говоришь? Сдается мне, что именем этим родители будущего сына наречь собирались…
— Однако на свет произвели нечто среднее. И фамилия соответствующая — Гайдук.
— Среднее не среднее, а девка, по всему видать, что надо, — возразил сержант-сверхсрочник Дука, дышавший теперь в затылок им обоим. — Жаль, воительница эта степная слишком уж… молодастая.
— Тоже мне: нашел порок у девки — «молодастая»!
Однако всего этого Степная Воительница уже не слышала. Ударный батальон морской пехоты, сформированный, как поговаривали, в основном из портовиков, а еще — из команды какого-то потопленного немцами эсминца да краснофлотцев из всевозможных береговых служб, только вчера прибыл из Херсона. И Евдокию совершенно не интересовал.
Иное дело — кавалеристы. С одним из них — грозным усатым старшиной эскадрона Разлётовым, — девушка даже успела познакомиться поближе, поскольку тот уже вторую неделю квартировал в доме ее родителей.
— На стременах гарцуй, на стременах, эскадронник! — потомственный донской казак поучал ее, покрикивая и доводя посадку Евдокии в седле до «казачьей выучки». — При такой царственной осанке ты и в седле держаться должна по-царски.
— Легко тебе, мужику, по седлах армейских растоптанному, поучать! — возмущалась мать Евдокии, наблюдая за тем, как на выгоне, начинавшемся прямо у дома сельского ветеринара Гайдука, старый рубака пытается возвести в совершенство верховую посадку ее дочери.
— А она у вас кто? Не казачка разве? Окрестные степи — это же казачий рай!
— Но мы-то ее не в казачки готовим и не в эти твои «эскадронники»! — подбоченилась мать, дородная сельская красавица, на чьем лице еще сохранились следы девичьего румянца. — В педагогическое училище поступила.
— А зачем ее готовить? — подкрутил усы эскадронник, время от времени бросая на Евдокию явно не отцовский взгляд, какой только что бросал и на саму Серафиму Акимовну. Что поделаешь: не он виноват, что рослая, фигуристая дочь просто-таки угрожала вырасти точной копией матери — такой же золотоволосой, полнолицей, с широкими крепкими скулами и выразительно очерченными, чувственными губами… А еще — эти васильковые глаза, под лебединым разлетом бровей, и короткий прямой, прямо-таки точеный, нос — точь-в-точь, как у греческой богини, приглянувшейся ему в книжке на столе у «будущей учительницы». — По ней и так видно, что казачка. Ей ведь только семнадцатый минул, а ты ж посмотри на нее: это же эскадронный аллюр!
— Сам ты «эскадронный аллюр»! — пафосно возмутилась Серафима. — Ты что такое о девчушке говоришь?!
— Но я же — в самом изысканном смысле, — разбросал руки старшина с такой лихостью, словно собирался обнять ими обеих женщин. — Ты посмотри на нее! Такой выправке любой ротмистр-кавалергард позавидовал бы.
Евдокимка и в самом деле старалась постичь мудреную «эскадронную науку» старшины. В распоряжении ее отца-ветеринара, обслуживавшего три колхозных села и два хутора, всегда пребывала бедарка[3]; так вот, в добровольную обязанность Евдокимки входило — каждый день приводить из конюшни и отводить назад беспородного трудягу Буланого, в натуре которого время от времени пробуждалась вольница степного скакуна. И проделывала она эти «променады» только верхом, нередко отклоняясь далеко от маршрута, чтобы добираться до противоположного конца поселка в объезд, по Волчьей долине. Так что верховая выучка у нее все же имелась, что и приводило старого «эскадронника» Разлётова в некий азартный восторг.
Кстати, от него же Евдокимка узнала, что уже послезавтра батальон «морпехов» перебросят в сторону Ингула, чтобы где-то там, на его левом берегу, укрепить позиции обессилевшей стрелковой дивизии…
Набросив повод на сломанную ветку акации и добыв из седельного подсумка плетку, Гайдук храбро подошла к фюзеляжу самолета. Увидев, что летчик, с окровавленным лицом, налег грудью на штурвал, она по-немецки вполголоса позвала его: «Эй, пилот!» Однако тот даже не шевельнулся. Кабинка второго пилота оказалась открыта, кровавый след пролегал от фюзеляжа до густого кустарника.
— Не лезь туда! — попытался остановить ее подоспевший лейтенант. — Фриц ведь и пальнуть может!
Однако, воинственно сжимая в руке нагайку, девушка ступила несколько шагов по следу и увидела на небольшой опушке раненого немца, рядом с окровавленной рукой которого лежали шлем и пистолет. Голова летчика, со слипшимися русыми волосами, покоилась на пологом, порыжевшем от выжженной травы холмике.
— Пилот, вы живы? — спросила Степная Воительница по-немецки.
Возможно, только потому, что до помутненного сознания летчика дошли слова, сказанные на родном языке, он довольно резко покачал головой, то ли пытаясь заглушить боль, то ли убеждая, что еще не умер:
— Кажется, еще жив. Но это всего лишь недоразумение. Где мой пистолет?
— Хотите стрелять в меня? — бесстрастно поинтересовалась Евдокимка.
— Что вы, фройляйн? — простонал пилот. — В себя, только в себя.
— Потерпите. Вас возьмут в плен и… вылечат, — девушка с трудом подбирала слова, хотя до сих пор считала, что немецкий язык в педучилище выучила неплохо.
— Найн плен, найн! — едва заметно покачал головой пилот, стараясь говорить по-русски. — Ихь стреляль себя.
— Зачем же сразу стреляться?! — сочувственно попыталась разубедить его Степная Воительница.
Но в ответ услышала по-немецки:
— Вы прелестны, фройляйн. Вы так прелестны… — сил пилота хватило только на комплимент. Дотянуться до пистолета он уже не смог.
3
Вслед за гестаповским «виллисом» Штубер со своими людьми спустился к усадьбе и уже через несколько минут стоял перед командующим 17-й армией генерал-полковником Куртом Швебсом.
— Мне представили вас, оберштурмфюрер, как командира диверсионного отряда при штабе группы армий, — ни минуты не стал терять командарм.
— Что совершенно неоспоримо, господин генерал, — несколько вызывающе подтвердил фон Штубер, заставив при этом фон Роттенберга снисходительно поморщиться.
Эсэсовец Штубер вел себя, как задиристый новобранец в противостоянии с добродушным фельдфебелем. Но вот, почему он нарывался на конфликт с командующим, этого гестаповец понять пока что не мог: ему казалось, что до сих пор эти два человека знакомы не были.
— Причем отряда, который уже отличился в боях с русскими в районе Могилевско-Ямпольского укрепрайона на Днестре[4], — счел необходимым добавить майор.
— Что еще более неоспоримо, — барон едва заметно прищелкнул каблуками, хотя столь любимое русскими белогвардейцами «щелканье» ни в войсках СС, ни даже среди офицеров вермахта, уже давно не практиковалось.
Офицер гестапо и на сей раз мог окатить Штубера ироничным взглядом, если бы не знал, что во время штурма укрепрайона, как, впрочем, и в борьбе с русскими окруженцами и диверсантами, тот в самом деле проявил себя. К тому же гестаповец не мог не заметить, как этого сорвиголову воспринимает сам Швебс.
Тем временем хрупкого телосложения генерал с уважением оглядел рослую, плечистую фигуру диверсанта, обратив при этом внимание на смуглое широкоскулое лицо, едва уловимый аристократизм которого основательно смазывала перебитая «боксерская» переносица со следами недавней пластической операции. Чего-то такого, исконно арийского, в парне этом просматривалось мало. Скорее он походил на известного корсиканского пирата, какого генералу недавно довелось увидеть в трофейном французском фильме. Зато обер-диверсант поражал не только мощью своего телосложения, но и свирепостью бойцовского обличья.
— И сюда вы тоже прибыли во главе отряда…
— Так точно, господин генерал. Мне приказано командовать десантно-диверсионным отрядом, созданным из бойцов полка особого назначения «Бранденбург».
— …сформированного большей частью из русских и прочих славян-эмигрантов, в основном белогвардейцев, — уточнил сидевший справа от генерала начальник отдела абвера при штабе группы армий «Юг» подполковник Ранке. — Естественно, почти все они прошли специальную подготовку на известных абверовских специальных курсах особого назначения «Ораниенбург».
— Тех самых, расположенных в замке Фриденталь, — кивнул Швебс, давая понять, что ему известно, с кем имеет дело. — Ходят слухи, многие диверсанты почитают за честь оказаться в числе так называемых «фридентальских курсантов».
— Помня при этом, что после обучения они превращаются в «рыцарей Фриденталя», — уточнил офицер абвера.
— Даже так: «рыцари Фриденталя»?.. В последнее время рыцарство входит в моду.
— Само понятие, а не все то, что на самом деле именовалось когда-то «рыцарством», — как бы между прочим обронил Роттенберг.
Все «по-рыцарски» выдержали уважительную паузу, смутно представляя себе при этом, что именно имеет в виду человек, принадлежавший к одной из самых далеких от истинного рыцарства организаций рейха — гестапо.
— Вот только во фронтовых операциях лично я «фридентальских курсантов» пока что не видел, — нарушил это молчание вежливости генерал Швебс. — Извините, не довелось.
— Вообще-то, господин генерал, сами выпускники предпочитают называть себя «коршунами Фриденталя». По слухам, так якобы назвал их Гиммлер, являющийся верховным патроном этой богоугодной школы. Однако адмирал Канарис[5] предпочитает именовать их просто — «коммандос». Впрочем, это не столь существенно.
— И какова же численность отряда этих ваших «коммандос-коршунов Фриденталя», оберштурмфюрер?
— Завтра сюда прибудет шестьдесят бойцов.
— Для операции, которая вам предстоит, маловато.
— Остальные семьдесят участвуют в акциях по очистке тыловых приднестровских лесов от окруженцев, красноармейцев-дезертиров и прочего прифронтового сброда.
— …коего становится все больше, — угрожающе проворчал начальник армейского отдела гестапо фон Роттенберг. — Вопреки всем вашим усилиям.
— Вопреки нашим общим усилиям, господин штурмбаннфюрер, — вежливо огрызнулся Штубер.
— И все же… Почему столь мизерная численность? — обратил пятидесятилетний генерал бледное, иссеченное багровыми капиллярами лицо в сторону подполковника военной разведки. — В тылу что, некому отстреливать русских дезертиров и окруженцев? Насколько мне известно, для этого существуют специальные команды.
— Смею заметить, господин генерал, что этих наших солдат оценивают по особым меркам, — поднялся Ранке. — Они обучены действовать в одиночку, в любых условиях, владея всеми видами оружия, вплоть до лука, топора и бумеранга, а также приемами рукопашного боя.
— Вы, подполковник, расхваливаете своих абвер-диверсантов с такой навязчивостью, словно и меня стремитесь заманить в один из отрядов «фридентальских коршунов».
— Командование курсами гордилось бы таким выпускником! — заверил его Ранке, не избавляясь при этом от суконного выражения лица.
Командующий армией хотел что-то ответить, однако в проеме двери появился адъютант и доложил:
— Только что из зенитного дивизиона сообщили, что в нашем направлении движется два звена русских бомбардировщиков.
Услышав это, офицеры, сидевшие за «совещательным» столом, словно по команде, подхватились, готовые тут же покинуть кабинет, спуститься в подвал или укрыться в ближайшую щель. Однако реакция генерал-полковника заставила их поостыть:
— Разве у русских еще остались какие-то бомбардировщики? — вскинул тот густые, рано седеющие брови. — Странно. Давно не проявляли себя.
— Зенитчиков это тоже удивляет, — подыграл ему адъютант. — Хотя приближающийся гул моторов, который они именуют «зовом небес», уже слышен.
— Вот и прикажите им, — повысил голос генерал, — избавить русских от этого летающего металлолома! Все остальные остаются на местах. Продолжаем совещание, господа, — выждав, пока адъютант скроется за дверью, Швебс как можно раскованнее поинтересовался: — Так что вы там говорили в свое оправдание, Штубер?
— Хотел доложить, что во время крупных операций мой отряд обычно укрепляют разведывательно-диверсионными подразделениями, сформированными непосредственно в частях вермахта, — уточнил оберштурмфюрер.
— Для этого у нас уже нет времени, — проворчал командир авиационного звена, чьи самолеты должны были осуществлять переброску десанта. — Если, конечно, не перенести операцию на более поздние строки.
Все выжидающе взглянули на генерала, но в эти мгновения он уже прислушивался к приближающемуся гулу тяжелых бомбардировщиков. Как и следовало ожидать, самолеты начали штурмовать понтонную переправу. Её, собственно, и прикрывал своим огнем дивизион зенитчиков.
— Так ведь у них еще и фронтовая разведка поставлена из рук вон плохо, — генерал не отказал себе в возможности позлорадствовать по этому поводу. — Иначе они бы знали, что почти рядом с мостом находится штаб армии.
— И, слава богу, что плохо… — обронил кто-то из офицеров-штабистов.
— Переноса операции не будет, — решительно проговорил Швебс, чеканя каждый слог. — Хотите еще что-либо добавить, оберштурмфюрер?
— Скорее, уточнить… Численность армейских групп, которыми укрепляют нашу команду, обычно зависит от характера заданий, — вопросительно уставился он на генерала, полагая, что тому пора бы уже раскрывать карты.
— Солдат вы получите столько, сколько понадобится, — заверил его генерал, воинственно опираясь кулаками о массивный стол.
4
Поручив морякам осмотреть первого пилота, Лощинин пробился по тропке к Евдокии и, вытирая рукавом кителя пот, прямо над ухом девушки прохрипел:
— Этот, по всему видать, еще жив. Что скажешь, Степная Воительница?
— «Степная Воительница» — это что, тоже комплимент?
— С комплиментами потом разберемся, а пока что разговор о немце. Он, спрашиваю, жив?
— Судя по комплименту, только что сказанному, да…
— Что ты заладила со своими комплиментами? — не понял ее лейтенант.
— Потому что он так и сказал: «Вы прелестны, фройляйн», — Евдокимка чувствовала себя задетой.
— Чего только не сморозишь в бреду…
— Почему вы решили, что летчик бредил? — еще сильнее зацепило девушку безразличие этого сухопутного моряка. — Открыл глаза, увидел перед собой… И так и сказал…
— Знала бы ты, какие «комплименты» они посылают с неба, когда десятками набрасываются на наши города или корабли, — буквально прорычал морской пехотинец, грубовато отталкивая Степную Воительницу, чтобы приблизиться к пилоту.
Девушка обратила внимание на его лицо — широкоскулое, с резко выпяченными желваками под смуглой кожей; с почти прямым, слегка утолщенным носом и пухловатыми, по-юношески выразительными губами. Черные, почти антрацитовые глаза блестели под узкими выцветшими на солнце бровями. «Вот о таких мужчинах, все девушки, наверное, и мечтают», — как-то отстраненно подумалось Евдокимке.
Ответить на вопрос о том, какие мужчины нравятся ей самой, Степная Воительница вряд ли смогла бы. После шестого класса она — «сдуру и по ошибке», как определила впоследствии мать, — влюбилась в «мужчину в черном». В того самого, который неожиданно появился в их доме в черном кожаном пальто, черной широкополой шляпе и в черном гражданском костюме военного покроя.
Как оказалось, это был Дмитрий Гайдук, двоюродный брат отца. Отец встретил гостя с холодной вежливостью, как обычно встречают важного, но не очень-то уважаемого гостя. Эта холодность почему-то передалась и матери, на что гость обратил внимание и безмятежно, с наигранной улыбкой на лице, предупредил:
— Могу подумать, что мне тут не рады, брат-ветеринар, — впоследствии он так и называл ее отца «братом-ветеринаром». — Может, так, сразу, взять и уйти?
— Сразу — не положено, — сухо возразил отец. — Во-первых, как-никак, а ты из Гайдуков, а значит, наш.
— Что значит «как-никак», брат-ветеринар? Я действительно «наш», из Гайдуков.
— А во-вторых, — продолжил свою мысль отец, — поселку незачем знать, что мы с тобой нравами, или еще чем-то там, не сошлись. Тем более что в детстве ты, как и надлежит старшему и более сильному, защищал меня.
— Вот видишь, как много поводов у нас для того, чтобы посидеть за обеденным столом и потолковать о жизни нашей распрекрасной, брат-ветеринар.
Выразительнее всего Евдокимке запомнилась тогда эта иронично-загадочная улыбка, которая, казалось, запечатлелась на лице чекиста Дмитрия Гайдука однажды и навсегда.
— Видал, какая у него уверенная, пренебрежительная, прямо-таки чекистская, улыбочка? — уловила эту особенность родственника мать Евдокимки, когда два дня спустя гость отправился дальше, куда-то, как он говорил, «в район Первомайска, на новую должность». — Представляю себе, как он ведет себя на допросах.
— Не о том ты сейчас говоришь, — встревоженно оглянулся Николай Гайдук. — Не наше это дело. Ты же слышала его объяснение: все, что он как чекист делает, он делает по долгу службы!
— Я всего лишь говорю о том, о чем ты думаешь, — осадила мужа Серафима. — Соседка вон вчера спросила, как ядом брызнула: «Уж не арестовывать ли вас приехал этот ваш, из органов?» Вроде бы тихо спросила, остерегаясь, но язвительно.
И только Евдокимку «дядя Гайдук» почему-то сразу же покорил настолько, что после обеда, во время которого отец и гость обменивались какими-то колкими, непонятными девушке выпадами, она предложила:
— А хотите, я покажу вам, сколько новых домов появилось за то время, пока вас не было, и в поселке нашем, и в Степногорске?
— Как же не пройтись по улицам с такой красавицей? — тут же согласился дядя Гайдук, на радость девушке.
Откуда ему было знать, что главное для нее — прогуляться с таким сильным и красивым мужчиной мимо поляны, где сейчас гонял с мальчишками мяч ее штатный школьный воздыхатель Пашка Горовой. И ничего, что, узнавая Дмитрия Гайдука, встречные сельчане тут же сторонились его и бросали вслед — «это и есть тот самый, из органов…». Слыша все это, дядя Гайдук так ни разу и не согнал с лица свою «чекистскую улыбочку».
Впрочем, все это было уже в прошлом…
— Жив, сволочь, — командир морских пехотинцев прощупывал тем временем пульс раненого на сонной артерии. — Хотя крови потерял немало, а на несколько километров вокруг лазаретов не предвидится.
— Если бы у вас нашелся бинт или еще что-нибудь, чем можно было бы перевязать… — обратилась к нему Евдокимка.
— В армейские санитарки попасть не терпится?
— И в армейские — тоже. В педучилище нас этому обучали.
— Но не для того же, чтобы «соколов Геринга» с того света доставать! Тем более что этого ты уже не спасешь.
— Вы же не врач, откуда вам знать?
— К счастью — нет. Врач продлил бы его мучения, я же от них избавлю, потому как — солдат, — лейтенант повертел в руке пистолет сбитого летчика, приказал девушке отвернуться и, не дожидаясь, пока та в самом деле отведет взгляд от обреченного, выстрелил ему в грудь.
— Ну, зачем же вы так?! — одновременно и возмутилась, и ужаснулась Степная Воительница.
— Ты бы лучше спросила немца, зачем он к твоему дому прилетел — с бомбами да пулеметами.
— Но ведь теперь он…
— Цыц, козявка! — осадил ее моряк и, сунув добытое оружие за брючный ремень, спокойно объяснил: — Во все времена и во всех армиях мира это называлось «выстрелом милосердия».
— Вот это убийство вы называете милосердием?!
— Чтобы не мучился, если уж нельзя спасти… Неужели не понятно? — растолковывал морской пехотинец. — И хватит пялиться на меня! На войне «игры в войну» не проходят, у-чи-тель-ни-ца.
— Причем тут «игры», «учительница»?! — сдержанно возмутилась Евдокимка. — Сама понимаю, что мы тут на войне, а не в театре.
— Во как! Оказывается, мы уже все понимаем!.. Ни черта ты пока что не смыслишь; мы, солдаты, и сами вон опомниться не успели, — склонив голову, он выдержал тягостную паузу, а затем совершенно иным, спокойным, доброжелательным тоном поинтересовался: — Иногда милосерднее помочь человеку умереть, нежели обрекать его на муки. В мирное время такое тоже случается… — заметив, что девушка в ужасе пятится от него, морпех процедил: — Привыкай, Степная Воительница, привыкай, коль уж пытаешься ввязаться в эту драку!
— Да ни во что я не ввязываюсь! — обиженно отрубила Евдокимка.
— А не ввязываешься, так сиди дома, желательно в подвале. Целее будешь.
— Не смейте говорить мне «цыц, козявка»!
— Слово «цыц» оказалось лишним, согласен… Карты, документы, оружие — собрать! — приказал офицер бойцам, добираясь до бумаг только что застреленного им немецкого майора. — Самолет не сжигать, вдруг им кто-либо из штабных заинтересуется.
* * *
— Это правда, что ты арестовывал людей, как говорят об этом в поселке? — спросила она, прощаясь с дядей Гайдуком неподалеку от машины, которую за ним прислали из Первомайска.
Услышав этот вопрос, отец запрокинул голову и укоризненно покачал ею: мол, «кто тебя за язык тянет, дурёха?!». Он, наверное, был удивлен, услышав, как брат его спокойно, все с той же иронично-пренебрежительной улыбочкой на лице, произнес:
— Конечно же арестовывал.
— И даже своих родственников, отсюда, со Степногорска?
— Родственники тоже попадались. Тут уж, кого прикажут… Ибо по службе моей — и долг мой.
— И расстреливал их?
— Да замолчи же ты, черт бы тебя побрал! — сорвался было отец, понимая, что майор госбезопасности может воспринять дотошность племянницы, как продолжение всех тех разговоров, которые вели между собой родители. — Разве мы когда-нибудь втягивали тебя в подобные разговоры?!
— Зря нервничаешь, брат-ветеринар… Нет, Евдокимка, лично мне расстреливать по приговору суда не приходилось. Не по моей службе долг, — произнес он фразу, с тех пор так и запомнившуюся Степной Воительнице. — А вот при задержании врагов народа стрелять действительно приходилось. Тут уж как водится в таких случаях…
— И многих постреляли?
— Да как сказать? Одним врагам народа страх мешает браться за оружие, другие же берутся за оружие исключительно из страха, но они тоже не вояки. И потом, ты же знаешь правило чекистов: «Если враг не сдается, его уничтожают».
— Да зачем же ты говоришь все это ей, девчушке?!
— Не столько ей, сколько тебе, брат-ветеринар. И потом, не одна она спрашивает обо всем этом. Многие знать хотят, что тут у нас происходило… Хотя, если по правде, как на исповеди, я не столько для вас это говорю, сколько самому себе объяснить пытаюсь… Вот так-то, брат-ветеринар.
— Объясняй, объясняй; во всяком случае, пытайся, брат-чекист, — отважился отец.
Только тогда Евдокимка поняла, что в отличие от отца его «брат-чекист» свое «брат-ветеринар» дядя Гайдук произносил без какой-либо видимой иронии. Может быть, даже с легкой завистью к непорочной крестьянской профессии, при которой никому ничего особо объяснять не приходится.
5
Выслушав доводы офицера абвера и барона-диверсанта, командарм вопросительно взглянул на доселе молчавшего начальника штаба 257-й пехотной дивизии полковника Ветлинга.
— Насколько я понимаю, господин оберштурмфюрер примет командование отрядом парашютистов, — мгновенно отреагировал тот.
— Естественно, — подтвердил командующий армией.
— В таком случае сообщаю: как и предполагалось, к его шестидесяти бойцам мы добавим одну из рот отдельного парашютного батальона, численностью в сто двадцать солдат. Кроме того, две роты пехотинцев-егерей примут участие в ночном прорыве танкового десанта.
— Так, значит, последует еще и танковый десант?! — оживилось лицо двадцатисемилетнего барона фон Штубера. — Признаюсь, участвовать в операциях, одновременным и с воздушным, и с танковым десантированием, мне еще не приходилось.
— Значит, представится случай пройти и такой курс подготовки. Причем сразу же — в тылу противника, — молвил начальник армейского отдела абвера.
Тем временем Ветлинг пригласил в кабинет майора Кегля — командира танкового отряда и командира егерей капитана Юргенса, происходившего из прибалтийских немцев. Представив их генералу и командиру диверсантов, он самодовольно отрапортовал:
— Вот теперь все в сборе. Считаю, что этих парней можно забрасывать и в более глубокие тылы русских, вплоть до Урала и Дальнего Востока.
Услышав об этом, майор-танкист, безрассудно пробормотал: «О, майн гот! Только не это!»
— Успокойтесь, господин майор, — едва заметно улыбнулся Штубер. — До десанта за Урал дело вряд ли дойдет, а вот что касается подмосковных лесов…
— Только не это! — повторил птенец танкового гения Манштейна[6].
— Напрасно вы столь богобоязненно отрекаетесь от славы, которая буквально сваливается на ваши погоны и орденскую колодку, — саркастически улыбнулся барон.
— Извините, барон… — негромко доверился ему со своими страхами танкист. — Дело не в трусости. Просто я — армейский офицер, и привык действовать по законам военной науки, то есть в составе войск, во взаимодействии с артиллерией, авиацией и пехотой.
— Понимаю: противник — по фронту, а позади и на флангах — свои… Словом, прусская учебно-штабная идиллия.
— Да, я приверженец прусской военной школы, ее канонов и дисциплины, — вдруг с вызовом подтвердил майор. — Мало того, сам происхожу из прусской офицерской династии. Так что все эти ваши десанты и рейды по тылам врага…
Штубер понял, что разговор зашел в тупик, и, напустив на себя туман полководческой тоски, великодушно умолк.
Направляясь в штаб армии, оберштурмфюрер больше всего опасался, как бы его отряд не бросили на прочесывание лесов, открывающихся ему с борта самолета, к северу от Первомайска. «Фридентальцы» конечно же обязаны были оказывать пропагандистско-психологическое воздействие на местное население и русских пленных, не зря же их обеспечили двумя «фюрер-пропаганд-машинами», оборудованными радиовещательными установками, а штабная типография группы армий «Юг» обязана была пополнять их запасы листовок. И все же, все же… Не для того, черт возьми, его диверсантов натаскивали в лучшей разведывательно-диверсионной школе Европы, чтобы затем бессмысленно подставлять под пули трусливых дезертиров и местных грабителей! Теперь его страхи развеялись.
Генерал, движением руки пригласив Штубера и двух других десантников приблизиться к карте, ткнул острием указки в ту местность, где они сейчас находились, и решительно повел ее в глубь степи, в сторону реки Ингул.
— Расчет русских задержаться на берегах Южного Буга не оправдал себя; противостоящие нашим дивизиям части русских с боями отходят сейчас к левому берегу этой обмелевшей степной речушки. Так вот, нам приказано завтра же усилить натиск основным направлением на город Степногорск, после взятия которого открывается прямой путь на промышленно важные районы Украины, окаймленные городами Кривой Рог, Никополь, Марганец, Днепропетровск, Запорожье… Сами названия этих городов должны говорить вам, господа, о многом!
— В этом же направлении пролегает кратчайший путь к Днепру, — задумчиво напомнил Штубер, воспользовавшись заминкой генерала, увлекшегося картографическим паломничеством.
— Правильно подмечено, — поддержал его Швебс. — Это путь к Днепру, выходу к которому фюрер придает огромное пропагандистское значение. Да-да, не только военное, но и…
— И каковым же видится путь к большой славянской реке моего отряда? — барон вновь попытался приземлить командующего.
— Послезавтра, на рассвете, ваш отряд высадят в районе железнодорожной станции Степногорск, вот здесь, — указка ткнулась в станционный поселок, — в каком-нибудь километре от юго-восточной окраины города. В это же время на северо-восточную его окраину ночным рейдом мы перебросим танковый батальон с десантом на броне. Ваша общая задача, господа офицеры: диверсионными атаками перерезать железнодорожную и шоссейную линии, связывающие промышленные районы с югом республики, в частности с Николаевским портом. А затем, посеяв панику, ударами с тыла, помочь нашим войскам, которые к вечеру должны подойти к городку.
— Мои диверсанты уважают такие операции, когда каждый из них получает возможность продемонстрировать всю свою выучку, подкрепленную звериной яростью, — молвил Штубер, имея в виду прежде всего самого себя. Он и в самом деле терпеть не мог заданий, сковывающих действия его бойцов, как, например, выведение из строя какого-нибудь оборонного объекта, прекрасно укрепленного и охраняемого.
— Вот и демонстрируйте, «коршуны Фриденталя», демонстрируйте! — окончательно взбодрил его генерал. — Кстати, авиаразведка донесла, что на запасных путях станций Степногорск и Новополтавка скопилось около двух десятков воинских эшелонов.
Офицеры-десантники многозначительно переглянулись.
— Будет где развернуться моим танкам, — заверил своих коллег майор Кёгль.
— Да и моим «лесным бродягам», — едва слышно напомнил о себе капитан егерей.
— Как вы успели заметить, господа, — вновь заговорил генерал, — уже сегодня наши части начали теснить противника на всем пространстве от Первомайска до Вознесенска. Хотя коммунисты убеждены, что мы станем закрепляться по правому берегу Южного Буга. Корпус соседней с нами полевой армии с упорством также громит красноармейцев, прикрывающих подступы к Кировограду, отвлекая тем самым значительную часть русских сил на себя.
Все уважительно помолчали, в то же время прислушиваясь к «зову небес», который через минуту перевоплотился в бомбовый удар по переправе. Земля и небеса содрогнулись от разрывов и форсажного рева моторов, но ни один из бомбардировщиков на графский особняк посреди старинного парка не позарился; пилоты жестко выполняли приказ своего командования — уничтожить вражескую переправу. Разве что один из подбитых самолетов, уже, очевидно, неуправляемый, врезался в каменистое речное побережье метрах в двухстах севернее штаба.
Как только уцелевшие машины русских ушли на восток, генерал Швебс продолжил:
— Общее командование десантами и самой операцией… — он вопросительно взглянул на начальника штаба.
— «Выжженная степь», — заглянул тот в свою записную книжку.
— Вот именно, операцией «Выжженная степь», возлагается на оберштурмфюрера СС фон Штубера. Все вопросы, связанные с ее обеспечением, возьмет на себя полковник Ветлинг.
— Сочту за честь, господин генерал, — отозвался начальник штаба.
— Постарайтесь, господа, чтобы ход операции полностью соответствовал смыслу, заложенному в ее наименовании.
— Так точно! — решительно заверил его от лица всех присутствующих командир диверсантов.
— Именно поэтому, как уже было сказано, командование операцией возлагается на оберштурмфюрера СС барона фон Штубера, командира диверсионного отряда «Скиф», прекрасно владеющего русским языком и разбирающегося в русских характерах. Связь с ним будете поддерживать по радио. Я ничего не упустил, барон? — едва заметно ухмыляясь, поинтересовался Швебс.
— Никак нет, господин генерал-полковник. Подробности операции мы, полагаю, согласуем в штабе полковника Ветлинга.
О том, что его отряд отныне носит наименование «Скиф», барон услышал впервые, но признал: оно вполне соответствует настрою его десантников, не говоря уже о названии операции. Касательно же того, что ему придется командовать старшими себя по чину, то это обстоятельство особых терзаний не вызывало: он являлся офицером войск СС, и этим все сказано.
6
Когда Евдокимка решила, что пришло время вернуться в седло, морские пехотинцы сразу же забыли о самолете и сгрудились вокруг коня и девушки; кто из любопытства («интересно, как это у местной казачки получится?»), а кто — из желания помочь ей взобраться на рослого кавалерийского скакуна.
— Ну и что, лейтенант? Все они так и будут таращиться на меня? — укоризненно взглянула Гайдук на командира, всё еще не в силах простить ему «козявку». — Не видели, как девушки на коней садятся?
— Так ведь красиво держитесь в седле!
— Непорядок, лейтенант.
— Истосковались, видать, парни, — вновь начал было оправдываться Лощинин.
Однако Евдокимка еще жестче прервала его:
— Сказано ведь: непорядок!
Только теперь, скользнув взглядом по бедру девушки, лейтенант морских пехотинцев вдруг все понял и спохватился:
— Слушай мою команду! Всем до единого — кругом! — и тут же обратился к Степной Воительнице: — Вам помочь?
— Еще чего?! — иронично возмутилась та. — Теперь уж вы сами слушайте мою команду, товарищ лейтенант: ко мне спиной — кругом! А то ведь сплошной лейб-гвардейский непорядок, — спародировала она эскадронного старшину.
Едва офицер отвернулся, Евдокимка уверенно взобралась в седло и, сдерживая тревожно ржущего коня, которому явно не нравился идущий от самолета чадный дух, проделала на нем два небольших прощальных круга.
— В седле, яхонтовая, теперь долго не повоюешь, — тут же оказался рядом с лейтенантом смуглолицый красавец Будаков. Внешне очень смахивающий на цыгана, хотя и не был им, боец и вести себя старался соответственно, словно бы в нем играл зов крови. — Так что мой тебе совет: подгребай к морской пехоте, в обиду не дадим.
— Сам первый и неотразимый кавалер батальона предлагает, — отрекомендовал его лейтенант. — Тельняшку и клеши действительно гарантируем.
— Молиться на тебя будем, — и впрямь, молитвенно вознес руки к небесам «первый кавалер батальона». — Снизойди, Степная Воительница!
Явно входя в роль, Будаков потянулся к ее бедру, однако Евдокимка лихо щелкнула нагайкой рядом с его плечом.
— Я подумаю над вашим предложением, лейтенант, — демонстративно проигнорировала она «первого жениха» батальона. — Однако хорошо думается мне только в седле.
У просеки лесопосадки девушка встретила двух молодых кавалеристов, в казачьих кубанках, которые явно торопились к подбитому самолету. Сообразив, что направляться к машине уже бессмысленно, они с ордынскими криками «Алла! Алла!»[7], озорно погнались за Евдокимкой, имитируя татарский набег, и были обескуражены, когда, оторвавшись от преследователей, девушка вдруг развернула коня и, прорвавшись между парнями в кубанках, успела слегка пройтись нагайкой сначала по крупу коня переднего, а затем — по спине заднего всадника. Кончилось все тем, что, угрожающе размахивая своим оружием, Степная Воительница погнала их обоих к окраине Степногорска.
— Угомонись, бешеная! — прокричал один из них, совсем юный, с выбивающимся из-под кубанки вороным чубом, и выхватил шашку, пытаясь отразить очередной взмах нагайки.
— А сам угомонился? Или завтра снова нападешь?
— Так ведь мы же пошутили!
— Вот и я теперь пошутить решила! — на глазах у выскочившего со двора эскадронного старшины девушка в мгновение ока обвила нагайкой кисть руки кубанца и вырвала из нее шашку.
— А ну, остепенились! — накричал на своих бойцов старый рубака, заметив, что и второй казак схватился за оружие. — Что, уже и к девкам с шашками подступаетесь? К иному подходу не приучены?
— Да это же не девка, это янычар в юбке! — потирал «раненую» руку чубатый.
— Сам ты янычар! — огрызнулась Евдокимка. — Нечего целой ордой по степи за мной гоняться!
— Тебе ведь сказано было, Куренной, — объяснил старшина, — что местечко это от запорожских и бугских потомственных казаков происходит. Что ни девица — то казачка. А со своими — и вести себя следует по-нашенски. Тебя, Бондарь, это тоже касается.
— И все же… — проворчал в ответ спутник Куренного, — наши, кубанские девки, не такие лютые.
— Ты мне побалагурь, побалагурь! — пригрозил старшина. — Самолично так нагайкой отхожу, что черта ангелом называть станешь. Рысью в эскадрон!
Едва несостоявшиеся «ордынцы» умчались, как из-за поворота появилась тачанка, в которой за спиной бойца-ездового, сидел отец Евдокимки. Раненный в Финскую войну и списанный подчистую, он уговорил комдива похлопотать за него в штабе армии, чтобы там закрыли глаза на его диагнозы и восстановили в офицерском корпусе, в должности полкового ветеринарного врача. Судя по счастливому виду, армейской форме и знакам различия старшего лейтенанта, отец своего добился.
— Значится, мы теперь однополчане, товарищ военврач? — отдал ему честь эскадронный старшина.
— Еще как однополчане. Чувствовала душа, что на Карельском перешейке моя война не закончится, — сдержанно ответил Гайдук. — Чей конь? — сурово поинтересовался он у дочери. — Кто тебя осчастливил стременами?
— Старшина вот… А что, нельзя разве?
— Конь без седока остался, резервный он теперь, — объяснил Разлётов, чувствуя себя виноватым перед отцом Евдокимки. — А поскольку всякая казачка должна держаться в седле лихой наездницей, по-военному…
— Слава богу, что хоть без спросу не увела, — вежливо простил ему фронтовое легкомыслие Гайдук. — Видел, видел, как ты за подбитым самолетом с нагайкой гналась, — обратился он к дочери.
— Но ведь я же не одна была, так что, если бы немцы открыли стрельбу…
— Ты конечно же повела бы на них в атаку целый взвод морской пехоты, — едва заметно улыбнулся отец.
— И повела бы, — упрямо подтвердила Евдокимка, горделиво поводя широкими плечами. — Может, когда-нибудь и поведу.
— Только не при моей памяти, — пригрозил отец. — Старшина, коня у наездницы немедленно изъять. Вместе с нагайкой.
— Но ведь он же ничейный, — капризно сморщилась девушка. — И помощь моя может пригодиться; раненых, например, перевязывать могу.
— Изъять! — настоял на своем военврач. — Иначе она с нагайкой не только на германские самолеты, но и на танки пойдет.
— Она — может, да… — признал старшина. — Характера — на эскадронный аллюр. Точно янычар в юбке.
7
Палатки десантного отряда «Скиф» располагались у истоков ручья, рядом со станом охотничьего хозяйства.
Территория стана, охваченная высокой оградой из дикого камня, состояла из большого двухэтажного особняка, трех одноэтажных построек и двух армейских вагончиков. Причем все это формировало внутри усадьбы некое подобие форта, в чьих пределах удобно держать круговую оборону. Вот только барону фон Штуберу доподлинно стало известно, что ни одно из подразделений красных оборону здесь не держало. Об этом свидетельствовало и состояние построек. Русское командование явно рассчитывало отсидеться по левому берегу Южного Буга, в окопах.
Местность здесь была пустынная, однако выбор ее начальником отделения СД и самим Штубером объяснялся просто — неподалеку, окруженный защитными лесополосами, небольшими рощицами и колючей проволокой, располагался некогда секретный полевой аэродром русских. Один из тех запасных, замаскированных под пустыри аэродромов, которые никогда не знали плуга — их грунтовые, хорошо утрамбованные взлетно-посадочные полосы скрывались под слоем дерна.
Да и стан этот, несмотря на соответствующую надпись на арке, никогда таковым не был. Штубер уже знал, что смотрителями его выступали члены семейства лесничего Дмитрия Гайдука. Однако оба сына лесничего были призваны в армию, а жену и двух невесток тот переправил к родственникам. Сам же Гайдук несколько дней отсиживался в подземном тайнике, надеясь, что немцы уйдут со стана так же быстро, как ушли недолго квартировавшие здесь румынские кавалеристы[8], однако понял, что отряд немцев покидать стан не собирается, а незаметно уйти ночью не сумел. Или, может, не захотел?
Теперь, находясь в плену, он, бывший советский офицер, с досадой размышлял о том, как бездарно попался и как не по-мужски встретил свой военный час.
— Сколько лет вы охраняете этот секретный аэродром? — по-русски спросил его Штубер, усаживаясь верхом на стул у массивного стола, по другую сторону которого томился лесничий.
Барон видел перед собой крепкого жилистого мужчину уже хорошо под сорок. Фельдфебель Зебольд, опекавший лесничего, успел «приукрасить» его худощавое, слегка удлиненное лицо, но тем не менее оно оставалось достаточно выразительным и волевым.
— Какой еще аэродром? — иронично и несколько высокомерно переспросил майор НКВД.
— Полевой, запасной и, ясное дело, секретный, — отчеканил Штубер.
— Да нет здесь никакого аэродрома, и при памяти моей никогда не было.
Оберштурмфюрер развернул перед лесничим карту и ткнул пальцем в место у реки, обведенное коричневым карандашом.
— Вот он, аэродром «Буг-12», рядом с которым мы находимся и который вам поручено было охранять.
— Впервые слышу о таком, господин эсэс-офицер, — усталым голосом, глядя себе под ноги, проговорил Гайдук. — Это обычное армейское, «генеральское», как мы его называли, охотничье угодье. Ведомственность его не очень-то афишировалась. Если вы — охотник, могу порекомендовать: заяц здесь водится, перепел, лисы…
— Время от времени в этих местах генералы и партийные работники в самом деле устраивали некое подобие охотничьих забав. Однако все это — лишь прикрытие. На карты абвера аэродром нанесен еще в 1936 году.
— Что-то вы путаете, господин эсэс-офицер, — пожал плечами лесничий.
В ту же минуту Штубер метнул взгляд на ожидавших своего «выхода на арену» фельдфебеля Зебольда и специалиста по пыткам шарфюрера Лансберга. Мгновенно подхватив русского за руки, за ноги, они резким броском «посадили» его на пол, затем швырнули спиной о стенку.
Позволив ему немного прийти в себя, Лансберг, известный в отряде под кличкой «Магистр», в течение пяти минут отрабатывал на нем удары ребрами ладоней, каждый из которых, при более сильном исполнении, мог завершиться для «подопечного» переломом или своеобразным каратистским «нокаутом».
Буквально вырвав лесничего из рук шарфюрера, могучий, гориллоподобный Зебольд ухватил Гайдука за волосы, прижал лицом к шершавой каменной стене и по-русски, с характерным германским акцентом, спасительно проворковал на ухо: «Правду говори, идиот, иначе мой напарник сейчас начнет шкуру с тебя сдирать, с живого, он у нас мастер на выдумки… Тем более что барону и так почти все известно».
— Поскольку неподалеку, по Днестру, проходила румынская граница, — как ни в чем не бывало продолжал допрос оберштурмфюрер СС, когда Гайдука в полуобморочном состоянии вернули за стол, — то в стратегических планах «Буг-12» рассматривался в качестве одного из так называемых «аэродромов подскока», где пилоты дальней авиации могли бы дозаправиться, отдохнуть или взять на борт парашютистов.
— Возможно, и так. В тридцать шестом меня здесь еще не было.
— Знаю, вы прибыли сюда осенью тридцать седьмого, после того, как весь предыдущий состав военизированной охраны, тоже маскировавшийся под егерей, был расстрелян коммунистами. Но ведь последние учения проводились в сороковом году, уже в разгар нападения Советского Союза на Финляндию. Вы были назначены заместителем начальника базы и начальником ее службы безопасности. Можно сказать и так — что вы были начальником особого отдела гарнизона базы.
Гайдук снова вознамерился разубеждать барона, однако, ощутив на своем загривке волчью хватку Зебольда, пробормотал:
— Осенью сорокового здесь действительно проходили ночные учения. Затем всех парашютистов перебросили куда-то под Ленинград.
— Кстати, — без какого-либо интереса воспринял это признание фон Штубер, — один из тогдашних охранников аэродрома был завербован абвером. Всех остальных коммунисты расстреляли — так же, как и десятки тысяч других офицеров и генералов. То есть просто так, — улыбаясь, вальяжно развел руками барон, — на всякий случай: вдруг, среди невинно убиенных и впрямь затесался все еще невыявленный «враг народа».
— Это уже политика, — проворчал Гайдук.
— …от которой вы пытаетесь откреститься? И это вы — кадровый чекист?
— Я никогда не принадлежал…
— Отставить! — буквально прорычал Штубер. — Нам прекрасно известно, что вы — майор НКВД.
— Бывший.
— Сомневаюсь, что бывший, хотя по документам вы и числитесь майором в отставке, уволенным из органов то ли по состоянию здоровья, — иронично осмотрел он рослую, кряжистую фигуру Гайдука, — то ли… А те двое егерей в виде ваших «сыновей» пребывали в чинах лейтенантов НКВД. Такими же служащими являлись и три женщины.
— Ладно, излагайте свою версию, я не собираюсь оспаривать каждое ваше утверждение.
— Это не версия, майор, а жесткая констатация неоспоримых фактов.
— Предположим, — устало, с неистребимым безразличием в голосе, согласился Гайдук.
— Признаю, держитесь вы пока что достойно.
— На этом этапе допросов — да… На этом этапе, — подчеркнул майор, давая понять, что к героям, без стона всходящим на костер инквизиции, он себя не причисляет.
— Пока что вы не даете повода приступить к более изощренным методам. И потом, мы ведь не в гестапо и не в НКВД. — Эсэсовец несколько мгновений напряженно всматривался в лицо украинца, пытаясь уловить какие-то нюансы его внутренней реакции, однако тот оставался невозмутим. — В вашем подчинении находились еще шесть вооруженных егерей, так называемых «объездчиков», из местных партийцев. Четверо из них, оставленных здесь для подпольной работы, уже в наших руках.
— Как я и предполагал, — проворчал майор. — Судя по имеющимся у вас сведениям…
— Нет-нет, — тут же отреагировал барон. — Результаты их допросов мне пока не известны. Я оперирую старыми данными. Из чего как раз и следует, что в двух километрах от аэродрома, чтобы не привлекать внимания, располагался отдельный автомобильный батальон, по сигналу тревоги немедленно прибывавший сюда, на объект.
— Хотите сказать, что все вокруг буквально напичкано вашими разведчиками?
— Так вот, в действительности, — не стал полемизировать с ним барон, — именно этот батальон и являлся секретным подразделением охраны аэродрома. Вы же, вместе с «лесничеством», служили всего лишь своеобразным прикрытием, являясь эдакими гражданскими сторожами.
— Обычная практика режимных объектов, — пожал плечами Гайдук.
8
Виновато глядя на «янычара в юбке», старшина отобрал у нее повод и нагайку, намереваясь отвести Бедового к дворовой коновязи, но в последнее мгновение задержался, наблюдая за тем, как развивается разговор новообращенного офицера со своей дочерью.
— Садись в тачанку, едем, — вместо сдержанных отцовских интонаций, все отчетливее в тоне старшего лейтенанта проявлялись теперь жесткие командирские нотки.
— Так, может, я верхом? — спросила Евдокимка, прежде чем отец объяснил, куда они направляются.
— Никаких «верхом»! Хватит своим женским видом воинскую дисциплину в гарнизоне подрывать.
«Что есть то есть», — почесал затылок старшина, понимая, что и сам, по глупости, чарам девичьим чуть было не поддался.
— Едем на ветпункт, поможешь собрать инструменты и медпрепараты. Теперь все это реквизируется для нужд армии.
— Есть, товарищ старший лейтенант! — Евдокимка постаралась придать своему голосу мужественности и прощально, признательно потершись щекой о морду коня, тут же взобралась на заднее сиденье тачанки. — А почему нет пулемета? — повернулась она к отцу спиной и сжала руки так, словно ухватилась за ручки «максима».
— Какого еще пулемета? — устало переспросил Гайдук.
— Обычного, как в конармии Буденного.
— Понятно: ты себя уже видишь Анкой-пулеметчицей, — иронично улыбнулся отец.
— Только на тачанке.
— Рассказов Гурьки-махновца наслушалась?
— Ты всегда слушал его с куда большим интересом, чем я или кто-либо другой, — обиженно огрызнулась Евдокимка.
«Махновцем» и «первым анархистом» колхозного конюха Гурьку называли давно. По местной легенде, будучи психически нездоровым, он каким-то чудом попал под устроенную атаманом Махно мобилизацию и почти полгода прослужил в его обозе. А просматривался у этого недалекого умом, добродушного паренька один серьезный недостаток — он ко всем любил приставать с одинаково глупыми расспросами и советами по поводу чего угодно, причем всегда не вовремя, всегда «под руку», да к тому же на полном серьезе убеждая: «Я же не дурачок какой-нибудь, я умный, я знаю, что надо…» При всей своей «недалекости» и малообразованности Гурька обладал удивительной способностью запоминать все услышанное — фразы, пословицы, поучения или советы от «умных людей». Даже через месяцы он мог воспроизвести их потом, к месту и не к месту, ошарашивая невольных слушателей своими познаниями.
Стоит ли удивляться, когда случилось с Гурькой то, что могло случиться только с ним: однажды он сунулся со своими советами к самому атаману, основательно подвыпившему. Попытался надоумить его, как с помощью пулеметных тачанок в течение одной ночи отбить захваченное белогвардейцами Гуляйполе и провозгласить городок столицей, а атамана — самого Махно то есть — императором Гуляем Первым. Причем казус заключался в том, что козырные имперские советы Гурьки предназначались убежденному анархисту, противнику всякой монархии, и вообще всякой государственной власти! И хотя «командующий народной армией», не в настроении будучи, лично отходил Гурьку нагайкой, да так, что пришлось бедолаге несколько дней отлеживаться у бабки-знахарки, с той поры в обозе атамана конюха называли не иначе как «личным советником Махно» или «императором Гурькой, первым анархистом Гуляйполя»…
— Будешь огрызаться или в военные дела соваться, отхожу нагайкой, как когда-то Махно отходил «первого анархиста», — незло пригрозил теперь военврач, вызвав этим у Евдокимки озорную детскую улыбку.
…Не судили же потом красные новоявленного анархиста Гурия Смолевского только потому, что, сбежав от «батьки», он каким-то образом тут же оказался добровольцем в красноармейском обозе, чтобы на второй же день службы получить свою очередную «награду» — три нагайки уже от обозного командира. И снова — за свои «полезные» советы. Только оказались они, очевидно, настолько мудреными, что старший обозник одаривал Гурьку плетью от всей своей суровой конармейской души.
Словом, кто знает, чем бы завершилась для Гурия Гурьевича Смолевского его красноармейская карьера, если бы еще через несколько дней не настигло его осколочное ранение. Демобилизовался Гурька уже после месячного лечения в госпитале красных, а значит, вполне заслуженным, кровь за революцию пролившим, красноармейцем — с письменной благодарностью командира полка и прочими бумагами.
Другое дело, что в любой компании, после третьей стопки, кто-нибудь из подвыпивших обязательно подначивал Гурьку: «Нет, ты все-таки повинись перед пролетариатом: как ты там, за одним столом с Махно пировал, да так по душе ему пришелся, что в личные советники выбился?» И сорокалетний уже Гурий Смолевский под общий хохот по простоте душевной в тысячный раз ударялся в неизгладимые «махновские» воспоминания…
— Война сейчас другая, — объяснил ветфельдшер, предававшийся в эти минуты тем же воспоминаниям, что и дочь. — Понимать должна, что с тачанками против танков да самолетов не повоюешь.
— Но ведь кавалерия в нашей армии все-таки осталась. Почему же не может быть тачанок? — не сдавалась Евдокимка.
— Даже не мечтай, — упредил ее дальнейшие конармейские грезы отец. — К эвакуации готовься. Вместе с матерью. Завтра же уходите, пока немцы не успели отрезать путь к Днепру.
— Я и сам просил о пулемете для тачанки, — неожиданно поддержал Евдокимку усач-ездовой из основательно состарившихся обозников. — Так ведь, говорят, не положено: карабином обойдешься.
— Непорядок, товарищи лейб-гвардейцы! — командирским баском проговорила Евдокимка, стараясь подражать эскадронному старшине Разлётову. — Полнейший уставной непорядок. Как только добудем пулемет в бою, так сразу и установим.
«Такой девке — да удальцом-парнишкой родиться бы! — залюбовался тем временем статной девичьей фигурой старшина, садясь на освободившегося рысака, чтобы ехать к дому, где расположился комэск. — Хотя, с другой стороны, родись она мальчишкой, мир без такой девушки бы остался бы! По красавице матери сужу».
Когда ветврач с дочерью проезжал мимо конюшни, оттуда неожиданно вышел Гурий Смолевский. Увидев тачанку, он умиленно как-то уткнулся в нее взглядом и преградил ей путь.
— Тебе чего, Гурьевич? — уважительно поинтересовался Гайдук.
— Коней больше нет, всех война забрала, — заторможенно проговорил тот, приближаясь к ветеринару, но глядя при этом в пространство мимо него. — Конюхов тоже нет — война забрала. А тачанка есть. Я с вами поеду. На войну.
— Домой ступай, Гурьевич; ступай-ступай. Отвоевал ты свое.
Поняв, что брать его с собой ветеринар не намерен, Гурька несколько мгновений переминался с ноги на ногу.
— Не пойду домой, на конюшне буду.
— Что ж вам делать на пустой конюшне? — сочувственно спросила Евдокимка, намереваясь все-таки уговорить эту «живую легенду».
— Коней война взяла, конюхов война взяла, — с необъяснимой, почти блаженной, улыбкой повторял «первый анархист». — На конюшне останусь, пусть меня тоже война возьмет.
9
Гул авиационных моторов на какое-то время заставил всех умолкнуть и с минуту, глядя в потолок, прислушиваться к тому, что творится в поднебесье. Судя по надрывным звукам, доносившимся из-за горизонта, это были тяжелые бомбардировщики и шли они на восток, не встречая никакого сопротивления.
Майор Гайдук мрачно покачал головой: после начала войны он не раз задавался одним и тем же вопросом: «Куда же она девалась, эта непобедимая красная авиация, с ее “сталинскими соколами”»?!
Барон фон Штубер снисходительно ухмыльнулся:
— Откровенно говоря, мне нравится, как ваше командование создавало режим секретности этому объекту, словно находился он на вражеской территории.
— Практически так оно и было, — в сердцах обронил чекист.
Барон вызывающе, напористо хохотнул:
— А что вас удивляет? — проворковал он. — После всех тех бессмысленных репрессий, посредством которых вы буквально залили кровью свою землю…
— Врагов хватало, это точно, — как-то двусмысленно признал Гайдук. — Примером тому — ваши познания о базе.
— Стоит ли расстраиваться из-за пустяков? Все, что мы должны были знать о «Буге-12», мы знали. Например, о секретном подземном хранилище горючего, расположенном вот под этим, — постучал пальцем по карте Штубер, — холмом, рядом с вашим фортом; а еще — о подземном командном бункере, скрытом за бронированными дверями и имеющем тайный подземный ход…[9]
— Неужели все наши игры в «объект особой секретности» на самом деле ничего не стоили?! — раздосадованно покачал головой Гайдук.
Барон понял, что это уже не игра. Это досада профессионала, вынужденного проигрывать так вот, глупо, на поле боя, которое он считал своим победным.
— Даже не стану убеждать вас в этом. Странно, что ваше командование не взорвало базу. С заводами, фабриками и водокачками оно обычно так не церемонится.
— Сам удивляюсь. Здешнее командование, очевидно, не решилось, а московскому оказалось не до нее. Или же все понадеялись, что, пока вы разберетесь, что к чему, наши войска уже вернутся. От меня-то вы чего добиваетесь?
— Для НКВД вы уже, так или иначе, предатель Родины, достойный петли или пули в затылок.
Услышав это, Гайдук поначалу встрепенулся, готовясь яростно возразить. Однако вовремя спохватился и произнес самое благоразумное, что и должен был произнести в данной ситуации:
— Вполне допускаю… Вы намерены завербовать меня, превратив в агента абвера или сразу же в диверсанта?
— Вряд ли вы понадобитесь нам теперь в какой-либо из этих ипостасей. Разве что пожелаете служить в местной полиции.
— Не пожелаю, — решительно покачал головой Гайдук.
Штубер поднялся из-за стола, прошелся по комнате, внимательно осматривая при этом носки своих до блеска надраенных сапог — он всегда придирчиво следил за чистотой обуви, своей и подчиненных, — и, только вернувшись к своему стулу, четко, и почти безукоризненно произнося русские слова, сказал:
— К вопросам вербовки мы возвращаться больше не станем. Сейчас вы откроете нам все тайники этой базы, все бронированные двери. Кроме того, здесь, на поверхности, покажете, где именно расположены замаскированные взлетные и рулежные полосы аэродрома.
— Все это вы сумеете выяснить и без меня, так что…
— Нам некогда заниматься исследованием местных подземелий, майор.
— Ну, если уж такая спешка, и вам нужен Иван Сусанин, — пожал плечами Гайдук, — тогда мне придется побыть и в роли проводника.
— Вам придется предстать перед германским командованием не только в роли проводника. Через час сюда привезут ваших «егерей» и около сотни пленных, все они поступят в ваше распоряжение. С этой минуты вы назначены помощником коменданта парашютно-десантной базы абвера.
— Так сразу? — едва слышно пробормотал Гайдук. — Помощником коменданта?!
— А мы умеем доверять тем русским, которые доверяют нам.
— За что, позвольте спросить, такая честь? — уже по-настоящему вздрогнул Гайдук.
Он конечно же получил задание остаться в тылу немцев и, при возможности, зацепиться за какую-либо должность в лесничестве или хотя бы продержаться пару дней — с одной только целью: разведать, каким именно образом немцы намерены использовать базу «Буг-12». Советское командование допускало необходимость нанести по ней бомбовый удар. Главное, Гайдук при первой же возможности должен был уйти за линию фронта или же присоединиться к местным партизанам.
Наверное, Дмитрий и воспринял бы этот приказ со всей серьезностью, если бы не сомнения в его законности. Дело в том, что отдан он был не его непосредственным командованием, а начальником базы подполковником Ярцевым, подчинявшимся командованию авиации 5-го армейского корпуса. Причем отдан по телефону, прямо в день эвакуации. А посему Гайдук очень сомневался и в продуманности операции «База», а главное — в согласованности ее проведения с высоким командованием НКВД или хотя бы с армейской разведкой. В лучшем случае подполковник в суете отступления кому-то там доложит в штабе корпуса о том, что оставил офицера для разведывательно-подрывной работы в тылу врага. Что тут же будет забыто. Да и кто знает, как сложится судьба и того Ярцева, и уже почти разгромленного 5-го корпуса?
— Или, может быть, вы по-прежнему не доверяете нам? — Штубер поиграл пистолетом у лица Дмитрия. — Предпочитаете сотрудничеству с рейхом виселицу в виде перекладины ворот вашего «лесничества»?
— Да нет, — поспешил избежать ненужного, бессмысленного в его ситуации геройства майор. — Должность помощника коменданта меня вполне устроит.
Уже в эти минуты Гайдук хорошо представлял себе, с каким недоверием отнесутся к нему там, за линией фронта, если он хоть какое-то время прослужит у немцев. Чекист помнил, как жестоко люди Берии, к которым сам он себя не причислял, расправлялись почти с каждым, кто имел хоть какой-либо контакт с иностранными «спецами» во времена «ежовщины»; и как летели головы многих бывших военспецов, перешедших на службу в Красную армию из белогвардейских рядов.
К тому же майор прекрасно понимал, что он не подготовлен к длительной работе в тылу, как не подготовлена и сама эта невесть кем разработанная операция. На вопрос: «Кто её, операцию эту, запланировал и кто в военной разведке или НКВД будет её курировать?» — подполковник Ярцев ответил до грубости нервно: «Это без тебя решат! Твое дело выполнять приказ!»
…Сейчас, услышав согласие майора, барон победно улыбнулся. И не только потому, что отказ Гайдука ударил бы по его самолюбию. Дело в том, что он уже видел всю эту историю с вербовкой майора НКВД, начальника службы безопасности секретной базы «Буг-12», отдельной главой своей будущей книги. Несмотря на гриф «секретного психологического исследования», читаться та должна была, как захватывающий приключенческий роман.
— Под вашим командованием пленные, — неохотно возвращался барон из творческих мечтаний в реалии бытия «Буга-12», — в течение трех часов обязаны полностью подготовить аэродром к приему германских самолетов. А сейчас, — он выждал, пока с ловкостью факира Лансберг ухватит «лесничего» за седеющий загривок и приставит нож к глотке, — вы поведете нас в штабные подземелья, которые, как я предполагаю, могут быть заминированы. Не слышу жизнеутверждающего ответа…
— Да поведу-поведу, — яростно прохрипел новоявленный помощник коменданта. — Куда мне теперь деваться? Будьте вы все прокляты — и те, и эти!..
— Какая черная неблагодарность! — артистично покачал головой барон. — Почему вы проклинаете «тех», то есть коммунистов, понятно. А вот «этих», нас-то, за что?
И фельдфебель Зебольд, обожающий подобные сценки, устраиваемые «первым психологом войны», тут же подыграл ему, скорбно возводя руки к небесам:
— Нет пределов человеческой неблагодарности!
10
Вернувшись после посещения эскадронной коновязи, располагавшейся в степной долине, старшина застал девушку за странным для нее занятием: перебегая от одной хозяйственной постройки к другой, укрываясь то за сеновалом, то за стволами деревьев, она имитировала участие в бою. Понятно, что это была игра, однако в руках у Евдокимки поблескивал под лучами предвечернего солнца настоящий кавалерийский карабин, который перед каждым холостым выстрелом она вскидывала, передергивая при этом затвор. Оружие недавно было подобрано старшиной у железнодорожной станции, где, во время бомбежки, полегло несколько казаков; тогда же привел он в усадьбу Гайдуков и осиротевшего коня.
— А, чтобы по-настоящему, боевыми патронами, стрелять когда-нибудь пробовала? — поинтересовался Разлётов, сходя со своего вороного.
— Так ведь здесь нет ни одного патрона.
— Карабин этот не заряжен, ты права. Разрядил я его, как и положено. До этого, спрашиваю, стрелять приходилось? Во время военной подготовки, скажем?
— Не приходилось. И карабин вы зря разрядили. Вдруг сюда прорвутся немцы, с чем воевать?
— Ты-то здесь при чем?! — мрачно проворчал эскадронный старшина. — Воевать пока что есть кому и есть чем.
Разлётов повернулся, чтобы уйти, но Евдокимка сумела остановить его:
— Как же со стрельбой, товарищ старшина? — иронично напомнила она. — Только по-настоящему, боевыми.
— В обойме оставалось три патрона. Еще два из личного резерва добавлю. Для начала — хватит. Кстати, карабин этой системы — переделка с обычной трехлинейки, так что любой винтовочный патрон для него сгодится.
— Вот это уже мужской разговор.
— Совсем ошалела девка! — эскадронный старшина пожал плечами. — Ладно, садись в седло, отъедем, чтобы всех стрельбой не переполошить.
Через какое-то время они уже спускались в Волчью долину, где на склоне росла старая, короедом иссеченная липа. Разлётов несколько раз заставил Евдокимку наполнить, опустошить и снова наполнить патронами обойму, затем раз пять, словно новобранца, принудил вставить обойму в магазинную коробку карабина. И только тогда, научив, как правильно держать оружие и целиться, позволил сделать первый выстрел.
Тот оказался настолько неудачным, что Евдокия едва не выронила карабин.
— Да, рядовой необученный, стреляешь ты лихо, — иронично покачал головой эскадронный старшина, и тут же посоветовал покрепче прижимать приклад к плечу.
Учителем он оказался хорошим. После нескольких занудных упражнений «прижать — отставить, прижать — отставить», три последующие пули девушка уверенно вогнала в ствол дерева.
— Пусть этот карабин будет моим, — попросила казачка, когда, опустившись на колено, освободила обойму от последнего патрона.
— Передавать оружие гражданским лицам не имею права, — сухо ответил старшина.
— Не сегодня завтра здесь появятся немцы; кто станет интересоваться, куда девался карабин одного из погибших кавалеристов? И потом, вы не передавали оружие, просто я сама изъяла его для нужд будущих партизан-подпольщиков. Ведь наверняка все будет происходить так, как происходило в Гражданскую — подпольщики, листовки, партизаны, диверсии на железной дороге. Надо же как-то с врагом бороться.
— Ну, может быть, мы еще остановим его… — неуверенно произнес старшина, взбираясь в седло.
— Именно в это все и верили, что на Южном Буге остановите. Но я сама слышала, как вчера у лазарета раненые говорили, что немцы уже на левом берегу его и приближаются к Ингулу, нашей маленькой речушке, где… — не договорив, девушка безнадежно махнула рукой.
Разлётов подождал, пока Евдокимка тоже окажется в седле, и мрачно пробубнил:
— Ладно, пусть карабин будет у тебя. Две обоймы для него найду. Да только боже упаси тебя оставаться в поселке!
— Отец тоже настаивает, чтобы мы уходили отсюда. Куда-нибудь подальше, в тыл, на восток…
Старшина с грустью посмотрел вдаль, туда, где располагалась железнодорожная станция, откуда давненько не доносилось паровозных гудков и за которой открывался пологий склон степной возвышенности.
— И правильно отец делает, что в тыл отправляет, — проговорил он, не отрывая взгляда от этого степного пейзажа. — Слишком уж ты хороша собой. Не ко времени, прямо скажем, хороша…
— Что значит: «не ко времени хороша»?! Скажете тоже…
— Да потому что в войну всякая красота — не ко времени. Только не дай тебе бог познать, что на самом деле на войне значит «не ко времени».
— Не настолько уж я и хороша. Мне в школе говорили, что внешность у меня «мальчуковая». Подруга моя, Томка, на весь класс однажды так и объявила: «Стрижку тебе «под Котовского» — и в новобранцы!»
Старшина приблизился к Евдокимке так, что оказался с ней стремя в стремя; прищурил взгляд, очевидно, прикидывая, как она станет выглядеть, когда дело действительно дойдет до стрижки «под Котовского», и рассмеялся.
— Суровая у тебя подруга, — признал он, думая при этом о чем-то своем. — «Под Котовского — и в новобранцы», говоришь? А что?.. Бойца женского полу признал бы в тебе не каждый и не сразу.
— Вот и возьмите в свой эскадрон этого самого бойца, — напористо посоветовала Евдокимка. — Поговорите с командиром…
По тому, как старшина долго и растерянно прокашливался, девушка поняла, что просить о ней своих командиров он не намерен, однако мысль какая-то в голову его все же закралась.
— На Кубани, под Краснодаром, у меня два дома — собственный и родительский, — подтвердил ее худшие опасения Разлётов. — Жене и матери письмо с вами передам, они вас и приютят. Уж куда-куда, а до Кубани фрицы, точно, не дойдут.
— Да как же мы, у чужих людей?..
— Теперь уже не чужих. Раз твой отец стал офицером нашей дивизии, то теперь мы, считай, родня, поскольку однополчане, — и тут же спросил: — Шашку в руках когда-нибудь держала?
— Так вашу же и держала. Подсолнухи в огороде рубила, пока вы отдыхали. В седле, правда, не пробовала.
— Прямо сейчас и попробуешь.
Разлётов тут же извлек свою шашку и сначала медленно продемонстрировал несколько способов боевой рубки, а затем, подъехав к желтеющим у дороги высоким подсолнухам и чертом вертясь между ними, словно оказался в окружении врагов, те же приемы фехтования повторил уже в быстром темпе.
— Только ты горячку не пори, — предупредил он Евдокимку, передавая ей шашку. — Медленно отрабатывай, как положено, чтобы ни коню уши, ни себе коленки не изрубить.
Понадобилось несколько набегов на островок подсолнухов, чтобы и старшине, и самой кавалеристке стало ясно: фехтовальщица из нее, увы, получится нескоро.
— Все равно уйду я отсюда только с вашим полком.
— Уйдешь — отец тебя так отходит… А я не только не посочувствую, но еще и подправлю собственной нагайкой…
— Санитаркой уйду, — прервала его угрозу Евдокимка. — Не с вашим, так с любым другим полком, который встретится. Все, я так решила. С самим командиром полка поговорю. Или, может, сначала вы с ним поговорите?
— Ну, я попробую. Хотя твой отец…
— Мой отец — ветеринар, и у него своя служба. Стоит ли вмешивать его? Обещайте поговорить с командиром.
— Если уж так решила, — неуверенно пожал плечами старшина.
— Только не вздумайте говорить ему, что мне еще нет восемнадцати. Вообще никому ни слова. И еще: почему вы со мной возитесь? Обучаете, наставляете? Будь вы моложе, мне было бы понятно, а так…
Старшина грустно ухмыльнулся и лихо подкрутил усы:
— Годами мы с тобой не сошлись, это точно. Тут, понимаешь ли, другой аллюр: очень уж ты на младшую дочь мою похожа.
— Тогда все ясно, — облегченно вздохнула Степная Воительница, намеревалась совершить еще один, последний набег на уцелевшие подсолнухи.
В это время послышался мерный гул моторов, и на горизонте появилось первое звено самолетов, затем еще и еще одно.
— Судя по моторам, штурмовики идут, немецкие! — прокричал Разлётов, отбирая у Евдокии шашку. — На станцию или еще дальше, на Запорожье идут. Я — в эскадрон! Ты тоже уходи. Все, игры кончились! — и, чтобы сократить путь к эскадронной коновязи, старшина, с шашкой наголо, понесся прямо по курсу штурмовиков, словно пытался их остановить лихой кавалерийской контратакой.
11
В подземелье они спустились лишь после того, как, вместе со своей охраной прибыл начальник отдела абвера при штабе группы армий подполковник Ранке.
Сведения о секретном подземном бункере он получил еще вчера, после допросов двух здешних чиновников. Они взволновали старого военного разведчика: ко всякого рода подземельям тот давно относился с особым пристрастием. В свое время Ранке даже входил в состав поисково-аналитической группы Института Аненэрбе, которая занималась поисками подземных цивилизаций, изучая материалы и легенды, касающиеся всех известных входов во внутренний мир планеты.
Понятно, что искусственные подземелья базы «Буг-12» никакого отношения к легендарной «Стране Туле»[10], к обиталищам гномов или к «пещерным стойбищам великанов» — мечте спелеологов Аненэрбе — иметь не могли. Тем не менее скепсис Ранке не помешал ему тут же связаться со ставкой адмирала Канариса, дабы выяснить, что да, о секретном аэродроме и подземном командном пункте в районе Первомайска там уже знают. Но только как об обычном командном пункте, не более того. А тут вдруг…
Понятно, что сообщение Ранке в берлинской штаб-квартире абвера восприняли, как неприятный сюрприз: получалось, что местная агентура явно недооценила этот объект. Только поэтому начальник Восточного отдела абвера генерал фон Гросс ехидно объявил Ранке по телефону:
— Чем вы хотите меня удивить, подполковник? Если бы — как подобает истинному разведчику — вы узнали бы о некоем тайном подземном логове русских чуточку раньше, когда оно находилось в их тылу, и предназначалось для военно-полевой ставки главкома или хотя бы для ставки штаба военного округа… Тогда — да, возможно, вы прослыли бы героем. Однако то, что я слышу сейчас…
— Видите ли, господин генерал, в общих чертах о командном пункте в районе аэродрома «Буг-12», мы, в штабе группы армий «Юг», знали давно…
— В том-то и дело, что даже о таком объекте вы знали только «в общих чертах», — не позволил ему договорить генерал-майор. — Я уже как-то уведомлял адмирала Канариса, что наши сотрудники обо всем позволяют себе знать «в общих чертах», и в этом трагедия абвера. Вам, Ранке, я готов сказать то же самое: докладывать об обнаружении подобных объектов только после того, как они оказываются за спинами наших передовых колонн — честь невелика.
Фон Гросс принадлежал к группе «бунтарей-реформаторов», и был одним из тех, кто в самом деле мог бросить нечто подобное прямо в лицо шефу военной разведки. Еще накануне сентябрьской «польской кампании» он позволил себе обронить на одном из совещаний у Гиммлера что-то в том духе, что, дескать, «цепь нелепостей абвера как сухопутной военной разведки вовсе не завершается тем, что во главе его находится адмирал; с этого она только начинается». Даже начальник Главного управления имперской безопасности Гейдрих — и тот покачал головой: «Заявить нечто подобное о Канарисе в присутствии самого Гиммлера?!»
Так вот, поговаривали, что мимо ушей рейхсфюрера СС эти слова не прошли; именно с этого дня Гиммлер стал воспринимать фон Гросса как своего единомышленника в стане всесильного адмирала, вотчину которого всерьез намеревался подчинить вверенному себе Главному управлению имперской безопасности (РСХА). Ясное дело, уже без адмирала. И теперь, когда Гитлер не скрывал своего неудовольствия действиями абвера в ходе неудавшейся «битвы за Британию», акции фон Гросса как сторонника создания единой внешней разведки под эгидой РСХА явно возрастали[11].
Да только подполковника Ранке это обстоятельство не радовало. Они с генералом пребывали в разных лагерях.
— Я правильно понял вас, господин генерал: объект «Буг-12» никакого интереса для командования абвера не представляет? — иронично поинтересовался Ранке, уже проклиная себя за то, что поспешил с докладом начальнику Восточного отдела. Эта запущенная болезнь молодости — без какой-либо особой нужды соваться с докладом к высокому начальству!
— Сама постановка вопроса некорректна, — и на сей раз поставил его на место «абверовский бунтарь», как порой называли фон Гросса. — Я всего лишь хотел огорчить вас тем, что, увы, на Железный крест доклад тянет…
— Железные кресты я привык добывать в ходе важных операций по защите рейха, а не на штабных симпозиумах.
— …а заодно, — не желал выслушивать его оправдания фон Гросс, — объявить жесткий приказ: подземелье исследовать, собрать о нем все сведения, в том числе и документальные. Словом, души повытряхивать у всех, кто способен хоть что-либо поведать об этом тайном объекте русских.
— В том районе располагается сейчас особый парашютно-десантный отряд оберштурмфюрера фон Штубера, который как раз и пытается обжить аэродром.
— Фон Штубера?! Речь идет о сыне хорошо известного нам обоим генерала фон Штубера?
— Так точно, о бароне Вилли фон Штубере.
Еще находясь на Днестре, в районе Подольска, подполковник Ранке случайно узнал, что «абверовский бунтарь» хорошо знаком с отцом командира действовавшего в тех местах диверсионного отряда «бранденбуржцев». Такого же армейского аристократа, как и фон Гросс, потомственного военного, так в душе и не смирившегося с нашествием бюргерских выскочек времен восхождения Гитлера. Особенно с появлением на этой коричневой трясине таких организаций, как СС и СД, не говоря уже о гестапо. Не зря же генерал фон Штубер демонстративно не рвался в бой, завершив свое участие в завоеваниях фюрера на полях Франции, и теперь предпочитал коротать дни своего пребывания в резерве главнокомандования вермахта, не покидая стен старинного, чуть ли не времен первых крестоносцев, родового замка.
— Если не ошибаюсь, Вилли — из тех самых, из ораниенбургских курсантов? — продолжал проявлять чудеса осведомленности фон Гросс, не раз бывавший в старинном замке Штуберов.
— Теперь уже — из подчиненного СД диверсионного полка особого назначения «Бранденбург».
— Вот как?! В свое время наши люди пытались переманить молодого барона в абвер, однако тот заявил, что разведка не для него, потому как по складу своего характера, он — штурмовик, диверсант. Одним словом, громило.
— Поэтому-то его отряд придан штабу группы армий «Юг» и подчиняется сейчас командующему 17-ой армией генерал-полковнику Швебсу.
— В таком случае, говорите с генералом от моего имени, или даже от имени адмирала Канариса, которому конечно же будет доложено. Но прежде всего, Ранке, свяжитесь с самим оберштурмфюрером, — преподнес ему генерал еще один урок инициативности. — Не исключено, что никакого вмешательства свыше и не понадобится.
Подполковник недовольно покряхтел в трубку и, воспринимая эти слова начальника Восточного отдела абвера, как «пощечину перчаткой», пробормотал:
— Полагаю, что так оно и будет.
Ранке попросту счел неудобным объяснять генералу от абвера, что позвонил ему вовсе не потому, что Штубер или кто-либо другой не подпускает его к объекту «Буг-12». (Здесь, на месте, он как-нибудь и сам разберется, тем более что отношения с командармом Швебсом у него складываются неплохо.) На самом же деле побуждения, заставившие его взяться за трубку, оказались совершенно иными: Ранке опасался, что этот выскочка Штубер поторопится доложить о своей находке кому-либо из отдела диверсий Главного управления имперской безопасности. А если в штаб-квартире Канариса обнаружат, что сведения об истинном размахе строительства в подземельях «Буга-12» им приходится черпать из источников РСХА… Вот тогда уж он, начальник отдела абвера при штабе группы армий «Юг», действительно окажется в идиотском положении. Причем в настолько идиотском, что оно уже не будет подлежать ни оправданию, ни хотя бы логическому объяснению. А главное, такого упущения — накануне обещанного ему повышения в чине — Ранке потом простить себе не сможет.
Однако снисходить до подобных «извинительных уточнений» подполковник конечно же не решился. Слишком уж воинственно был настроен генерал.
— И не вздумайте докладывать о подробностях своих следопытских изысканий кому-либо кроме меня, — словно бы расшифровал поток его мыслей фон Гросс.
— Этого же я потребую и от оберштурмфюрера Штубера, — с явным вызовом в голосе заверил его Ранке, напоминая тем самым о существовании эсэсовского канала, не подвластного никому, даже всесильному адмиралу.
12
Это была одна из тех изумительных июльских ночей — лунных, теплых, напоенных ароматами степи, — когда, как представлялось семнадцатилетней Евдокии, нельзя, невозможно, просто грешно предаваться сну. К тому же она чувствовала себя достаточно взрослой, чтобы не оставаться в доме в ночь прощания своих родителей.
Отец утром должен был отбыть в штаб дивизии, расположенный в двадцати километрах восточнее их городка. Он не очень-то верил, что обстоятельства позволят ему вернуться в Степногорск, как, впрочем, и в то, что под стенами городка, где-нибудь на берегах Ингула, немцев сумеют остановить. Прощально наставляя Евдокимку по поводу того, как вести себя дальше, отец время от времени отводил взгляд и, наконец, пытаясь пригасить нахлынувшие на него эмоции, произнес:
— Судя по всему, это последний вечер, который мы проводим вместе, втроем, нашей семьей, в отцовском доме.
Он был удивлен, когда в ответ дочь взволнованным, но в то же время твердым голосом произнесла:
— Ничего, после войны мы обязательно соберемся здесь, — а услышав, как мать всхлипывает в соседней комнате, Евдокимка вполголоса надоумила его: — Ты не со мной, ты с ней прощайся. Со мной ничего не случится. К тому же, как видишь, я не плачу.
— Не хватало, чтобы и ты еще плакала, — похлопал ее по предплечью отец. — Ты ведь у нас настоящий боец, Евдокимка.
Имя «Евдокимка» стало тем своеобразным изобретением размечтавшегося о сыне ветфельдшера, с которым и мать тоже вынуждена была смириться. Вроде бы и не мальчишеское, но и не девичье. Тем более что и назвали-то ее в честь прадеда по отцовской линии, Евдокима, первым признавшего «сужденность» Серафимы в качестве будущей невесты своего внука. Прадед приютил беглую — из села за двадцать километров — девчушку в своем доме и благословил молодых на брак.
Правда, в течение какого-то времени, имя «Евдокимка» предназначалось исключительно для семейного, так сказать, употребления. Однако кто-то из девчонок, набивавшихся ей в подружки, растрезвонил это подпольное имя, и Евдокия, готовая наброситься с кулаками на каждого, кто осмелится назвать ее «Дуняшей» или «Дунькой», охотно приняла имя «Евдокимка» уже и в качестве уличного.
— Как настоящий боец — да, — уверенно подтвердила теперь девушка, понимая, какой именно смысл отец вкладывает в эти слова. — Слышал, что эскадронный старшина говорит? «Казачья выучка!»
Николай даже не догадывался, как, в глазах дочери, шла ему командирская форма и как Евдокимка гордилась, что из обычного сельского ветеринара отец ее неожиданно превратился в боевого командира.
— Почти четыре года мы ждали твоего появления, и все эти годы я тайно убеждал себя: «Если у нас когда-нибудь и появится ребенок, он обязательно будет мальчишкой!»
— «Однако родилось то, что родилось», — напомнила Евдокимка отцу его же слова, звучавшие всякий раз, когда, в компании с соседскими мальчишками, она встревала в очередную передрягу — с девичьими волосами, но с мальчишеской бесшабашностью.
Помня, что второго ребенка жене родить не суждено, Николай Гайдук с великодушной иронией наблюдал за тем, как, отвергнув куклы и прочие девчачьи забавы, его «Евдокимка» на равных играет с мальчишками «в беляков и в Чапая»; гоняет вместе с ними мяч и, не задумываясь, откликается на клич «наших бьют!» во время очередной стычки ватаг.
— Лучше признайся, — нежно взъерошил пальцами ее стриженые волосы отец, — что никогда не воспринимала эти слова с обидой…
— А ты признайся, что всегда стремился видеть во мне сына, мальчишку.
— Признаю, — грустновато улыбнулся Гайдук.
— Вот я и старалась постепенно становиться им, быть похожей на тебя. И ведь получалось же…
— Порой мне кажется, ты даже перестаралась.
Как бы там ни было, а большую часть ночи девушка решила провести на лавке, прятавшейся за калиткой, в зарослях сирени: пусть взрослые поговорят, попрощаются, повздыхают…
Евдокимка много раз подмечала, что родители по-прежнему как-то не по-семейному, с непозволительной, как она считала, для их возраста, пылкостью, влюблены друг в друга. Причем так считала не только она; знакомые тоже порой подтрунивали над этой парой, особенно над Николаем, время от времени, под застольную вольность, напоминая ему: «Да успокойся ты наконец, ветеринар! Никто твою Серафиму уже не отобьет, она давно твоя. Что ты до сих пор так обхаживаешь ее, словно до венца потерять боишься?» На что, загадочно улыбаясь, Гайдук многозначительно отвечал: «В самом деле, боюсь. Уже столько лет со мной, а все не верится, что эта женщина принадлежит именно мне, а не кому-то другому, более достойному».
На фоне бытия — то вечно цапающихся, то безразличных к своему семейному житию соседей — Николай и Серафима Гайдуки представали некую старомодную, явно заплутавшую в чувственных дебрях юношеской влюбленности, пару. Сколько помнит себя, Евдокимка гордилась такой любовью родителей, ей нравилось исподтишка наблюдать за их ухаживаниями. Взаимная привязанность отца и матери порой радовала Евдокимку своей лебединой верностью, а порой откровенно забавляла наивной заботливостью. Тем более что их история смахивала на некое провинциальное подобие истории Ромео и Джульетты — с размолвкой родителей, ночным побегом несовершеннолетней Серафимы из родного дома и скитаниями студента-жениха по обителям родственников…
И все же собственную будущую семью Евдокимка видела совершенно не такой, как у родителей. Потому что пылкость и влюбленность свою они проявляли в основном на людях — артистично. На самом деле уживаться со столь властной, почти с презрением относящейся к его профессии ветеринара, женщиной, каковой являлась Серафима Акимовна, отцу было очень трудно. Впрочем, это уже являлось тайной их семьи…
13
Генерал от абвера оказался прав: барон был в достаточной степени предоставлен самому себе, чтобы позволить Ранке разделить с ним славу первопроходца бункер-логова «Буг-12». К тому же в его руки попал начальник службы безопасности объекта, которого барон успел завербовать. «Будь в штате твоего отдела хотя бы один такой проныра, как этот старший лейтенант войск СС, с его подготовкой и знанием русского языка, — сказал себе Ранке, — ты бы чувствовал себя значительно увереннее».
Ко времени прибытия Ранке на аэродром, русский помощник коменданта гарнизона, как официально именовался теперь Гайдук, успел обозначить очертания замаскированной взлетной и рулежной полос секретного аэродрома и снова оказался в полном распоряжении Штубера.
Подполковник Ранке попытался было лично допросить русского, но тот отвечал слишком охотно и почти заученно, давая понять, что обо всем, что знал, уже рассказал офицеру-эсэсовцу, и добавить ему нечего. Сам оберштурмбаннфюрер безучастно наблюдал за попытками Ранке, всем своим видом демонстрируя, что нет ничего бессмысленнее, нежели допрашивать уже основательно допрошенного им и завербованного пленного. «Во всяком случае, факт моего личного допроса бывшего начальника службы безопасности засвидетельствован, — Ранке решил превратить эту неудачу в служебную формальность. — Слова из рапорта “в результате допроса русского офицера удалось установить…” произведут должное впечатление на адмирала».
— Значит, вы утверждаете, что карты-схемы этого подземелья нет? — спросил Ранке, завершая с помощью своего переводчика беседу с русским.
— Это у меня нет карты, — медленно, с безразличным видом объяснил Гайдук. — Но вообще-то она существует.
— И вам приходилось видеть её? — налег подполковник грудью на стол.
— Однажды. Мельком. Во время визита сюда какого-то генерала, то ли энкаведистского, то ли обычного, армейского — точно не знаю, поскольку появился он в гражданском, а представляться на «Буге-12» было не принято. Просто я слышал, как один из сопровождавших военных назвал его «генерал-инспектором». Кстати, возник этот «инспектор» уже после того, как строительство прекратили.
Теперь фон Штубер, сидевший чуть в сторонке, у окна, оживился. На лице его появились проблески интереса к происходящему.
— И что же? — нетерпеливо поинтересовался Ранке, впервые задав вопрос на русском.
— Очевидно, генерал потому и появился здесь, что в Кремле все еще решали: следует ли возобновлять строительство этого бункера, или же окончательно заморозить его, чтобы со временем уничтожить построенное?
— Меня интересует не личность генерал-инспектора в гражданском, а карта здешних подземелий. Говорите же, Гайдук, говорите! Не заставляйте выдавливать из вас по слову.
Прежде чем ответить, русский оглянулся на фон Штубера, как бы испрашивая у того разрешения, а затем пожал плечами:
— Это был огромный чертеж. Он охватывал и старые выработки, то есть катакомбы, оставшиеся здесь с незапамятных времен, и новые, проложенные заключенными. Целый лабиринт ходов, в том числе и под рекой, на левобережье Буга, а также в ближайший лес. Под землей должны были появиться какие-то большие залы, возможно, склады и казармы, а также просто крохотные комнатушки. Да только, в большинстве своем, все это существовало только на бумаге.
— Не все, майор, не все, — обронил Штубер, не желая разочаровываться в масштабах того, что им с подполковником предстояло увидеть под землей.
— Я к тому, что построено было не так уж и много. Грунт в здешних местах твердый: в основном дикий камень да гранит; ни с киркой, ни даже с отбойным молотком особо не разгуляешься.
— Неужели у начальника службы безопасности не имелось плана объекта? — задал Ранке свой последний вопрос.
— Не имелось; очевидно, секретность объекта не позволяла, — Гайдук произносил все это спокойно, как профессионал, понимающий: сведения, предоставляемые им противнику, теперь не стоят и ломаного гроша.
Штубер и подполковник переглянулись. Продолжать допрос не имело смысла — простая потеря времени. Решив, что остальные вопросы зададут уже во время путешествия в бункере, они приказали майору вести их вниз.
14
Оранжевый диск луны то одаривал окрестную степь своим голубоватым сиянием, то неожиданно скрывался за серой вуалью тучки, вместе с которой плыл в вечернем сумраке.
— Это кто здесь лунатизму предается?
Увлекшись своими размышлениями, Евдокимка не сразу обратила внимание на возникшие из придорожных зарослей силуэты мужчин, однако голос признала без всяких сомнений — он принадлежал тому не очень вежливому офицеру морских пехотинцев, с кем она случайно встретилась у подбитого самолета. Да и рослая, плечистая фигура ночного скитальца соответствовала образу, успевшему запечатлеться в ее девичьем воображении.
— Она самая и предается… — с наигранной грустью поведала Евдокимка.
— Позвольте представиться: лейтенант Лощинин. Сергей Лощинин, если помните…
— Да, помню, лейтенант Лощинин, помню вашу атаку. Еще бы: взять штурмом подбитый самолет с погибшим экипажем…
— Э, нет, попрошу без искажения фактов, — столь же наигранно обиделся лейтенант. — Я попросту обязан был появиться на месте падения. По приказу и обстоятельствам военного времени: самолет-то — вражеский.
— Ну да, ну да, — вроде бы согласилась с его доводами Евдокимка, но тут же съязвила: — Не каждому боевому командиру посчастливилось начинать войну с такого геройства.
Она хотела уточнить «…как убиение раненого летчика», но вовремя, и вполне благоразумно, воздержалась. Все-таки речь шла о враге; к тому же лейтенант очень четко объяснил свой поступок, назвав его «выстрелом милосердия». И вообще ему, человеку военному, виднее.
— А вот я вас надолго запомню, Степная Воительница, — постарался сохранить радушие морской пехотинец, пропуская мимо ушей колкость девушки.
— С чего бы это? — с прежней долей язвительности поинтересовалась Евдокимка. Присутствие двух патрульных «морпехов», как называли их в поселке, девушку не смущало. Даже как-то подзадоривало.
— Просто, запомнится, и все тут, — лейтенант явно не ожидал столь беспардонного вопроса, а посему еще сильнее стушевался.
В минуты этого нечаянного свидания он оказался как бы между двух огней: с одной стороны — эта девчушка, кому палец в рот не клади, с другой — сослуживцы, прислушивающиеся к флирту своего командира и «понимающе» посмеивающиеся.
— Еще бы не запомнить: такая амазонка — да на таком борзом коне! — тут же вклинился в разговор один из краснофлотцев. — А как она держалась в седле!
— Отставить!
— Да я ж по факту…
— Только не надо шуметь под нашими окнами, — тут же осадила обоих Евдокимка. — Отец мой отдыхает перед отправкой на фронт.
Исходя из того, что позади лейтенанта переминались с ноги на ногу двое рядовых с винтовками за плечами, Евдокимка определила, что тот командует дозором. Подобные дозоры военных и ополченцев она видела теперь в городке круглосуточно.
— Понял. Уходим. Служба, видите ли, — счел за благо ретироваться морской пехотинец.
— А почему ретируемся, командир?! — вновь не удержался краснофлотец-балагур, правда, теперь уже вполголоса. — Включайте эту красавицу в наш патруль, и я готов мужественно переносить все тяготы службы хоть до самого утра.
— Вот-вот, правильно, включайте, — неожиданно ухватилась за эту подсказку Евдокимка, теперь, по голосу, узнав моряка — это был все тот же Будаков, которого краснофлотцы называли «батальонным женихом». Именно он пытался познакомиться с ней, как только батальон расположился неподалеку от их дома, на территории школы.
— Однако дальнейшее патрулирование, — возрадовался «жених», — доверьте нам, двоим.
— А коней попридержать не хочешь? — саркастически поинтересовался второй краснофлотец.
«Попридержать» самого Будакова оказалось уже непросто.
— Остальные могут быть свободны, — входил он в раж. — При такой охране ни один диверсант в город не сунется. Подтверди правоту, Евдокимка.
— Главное, не успокаивайся, мечтай, — в своем духе напутствовала его девушка, отметив про себя: «Вот проныра! Уже и про “Евдокимку” узнал! Доболтаешься ты у меня — “неотразимый жених”!»
Откуда-то издалека вдруг донеслись приглушенные раскаты, очень похожие на отзвуки грома. Евдокимка уже научилась определять, что на самом деле это эхо орудийных выстрелов.
— Странно… По ночам артиллерия обычно помалкивает, — нарушил напряженное молчание лейтенант.
— И доносятся эти выстрелы не с запада, со стороны Буга, — заметила Евдокимка, — а с севера, куда уходит железнодорожная колея. Видно, через нее и прорываются.
Все четверо вновь помолчали. «Если уже с севера, — подумалось каждому из них, — значит, городок пытаются взять в окружение».
Однако ночь быстро, после двух раскатов, снова вернула себе право на убаюкивающую тишину.
— Так что, товарищ лейтенант? — девушка с вызовом провоцировала Лощинина. — Почему приумолкли? Прикажете вооружаться карабином и идти с вами?
Поняв, что и дальше участвовать в словесной дуэли своего командира с казачкой — «на чужом пиру — похмелье», краснофлотцы неспешно пошли дальше, к окраине села. В такой ситуации лейтенант еще больше занервничал: получалось, что подчиненные несут службу, в то время, как их командир занимается черт знает чем.
— Не прикажу. Не имею права.
— Не имеете смелости, так будет справедливее. Хотя, как говорит наш эскадронный старшина, «даже сломанный клинок — в бою лишним не бывает».
Лейтенант замялся, встревоженно посмотрел в спины своим морпехам, и девушка поняла: «Нет, все-таки не согласится».
— Видите ли, во время патрулирования отвлекаться на женщин не положено, — с явной досадой в голосе объяснил офицер. — Тем более в вечернее время. Однако через каких-нибудь сорок минут нас должны сменить, и тогда, вне службы, мы с вами можем пройтись…
— Не выйдет, товарищ лейтенант, — язвительно отомстила ему Евдокимка. — Вне службы я на мужчин не отвлекаюсь. Тем более — в вечернее время.
— Жаль. Может, все-таки?..
Девушка оглянулась на окна родительского дома и пожала плечами:
— Вообще-то с часик я здесь еще посижу. Независимо от того, появитесь вы, лейтенант, или нет.
Эти слова Лощинин услышал, уже вполоборота пятясь вслед за своими бойцами. Так, на ходу, он и проговорил в ответ:
— Какие сомнения? Обязательно приду! Я знал, что ты, хоть и язвительная, но в душе добрая.
— Ага, только постарайся убедить себя в этом, — ехидно проворчала Степная Воительница.
15
Первые десятки метров, пройденные бетонным подземельем, убедили барона, что на самом деле здесь возводили не подземный командный пункт полевого аэродрома, а нечто грандиозное. Бункер имел свое аварийное освещение, свой колодец, пункт связи, склады и подземную электростанцию. Правда, некоторые ответвления и отдельные помещения перекрывались массивными — бетон и железо — дверями, перед большинством из которых Гайдук только виновато разводил руками. Ключей у него не имелось, а о том, что скрывалось за ними, он представления не имел.
Иное дело то, что строительство прекратили внезапно. И явно не месяца два назад, а значит, не в связи с началом войны. Тут и там встречались покрытые ржавчиной инструменты, металлические конструкции и какие-то механизмы, строительный мусор.
— Так что же здесь строили на самом деле? — заинтригованно спросил Зебольд, когда в одном из тупиков они наткнулись на очередную массивную дверь. Открыть ее удалось бы лишь мощным фугасом.
— Если бы я узнал об этом, — проворчал Гайдук, — меня бы здесь уже не было. Как и всех тех, кто в свое время закапывался в эту землю.
— Следует полагать, все они арестованы и расстреляны? — попытался уточнить барон фон Штубер.
— Их даже арестовывать не нужно было, потому как работали они здесь уже в арестантских телогрейках — местные говорили, но только шепотом, и по большой пьяни.
— Так-так… И что они еще говорили?
— Толком ничего… Слухи какие-то бредовые. Будто здесь планировалось разместить целый подземный гарнизон, в случае войны наносящий удары по вражеским тылам. Другие — что готовилась подземная ставка для Верховного главнокомандующего. Впрочем, все эти слухи уже, очевидно, дошли до местных агентов гестапо и абвера.
— Вы сказали «местных». Сами вы разве не из этих краев?
— Не из этих, ясное дело. А поскольку все равно узнаете, скажу: из-за Ингула. Есть там, неподалеку от речки Ингул, казачий городишко такой, Степногорск.
— Так вы родом из Степногорска?!
— Что вас так удивило, господин эсэс-офицер? Вам знакомо это название? Приходилось бывать?
— Бывать не приходилось, однако с некоторых пор название в самом деле знакомо.
— Понятно, через город проходит и шоссейная дорога к Днепру, и там ведь крупная железнодорожная станция, — майор хотел добавить еще что-то, но вовремя сдержался.
— Все это нам известно, — обронил барон.
«Ну, теперь нетрудно догадаться, — продолжил Гайдук эту мысль уже про себя, — где именно собираются выбросить парашютный отряд под командованием Штубера, который будет тренироваться на этом аэродроме. После того как я узнал все, что можно, об использовании противником базы “Буг-12” в ближайшее время, пора уходить».
— А вон в том закутке, господин эсэс-офицер, — указал он влево от основного прохода, — находится то, что может заинтересовать если не вас лично, то уж точно германских инженеров.
Свет тусклых аварийных светильников не достигал «закутка», и солдаты, сопровождавшие подполковника Ранке, направили туда лучи своих фонариков. Там явственно просматривалась небольшая металлическая дверь.
— И что же за ней скрывается? — недоверчиво поинтересовался барон.
— Какие-то механизмы. Странные такие, назначение их непонятно. Во всяком случае, мне. Правда, я заглянул туда только однажды, как раз во время инспекторского блуждания того самого «генерала в гражданском». Меня тотчас выставили за дверь, которая, кстати, открывается с помощью тайного, замаскированного в стене рычага.
— А вы уверены, что там не заминировано? — встревоженно спросил ефрейтор-минер, взятый Штубером с собой специально для осмотра проходов.
— Здесь все усеяно взрывными зарядами, — без переводчика понял его Гайдук и ответил по-немецки, лучом своего фонарика обводя несколько ниш под потолком выработки, после чего решительно направился в глубь выработки, к двери.
Немного замешкавшись, Штубер приказал двоим солдатам следовать за ним. Однако, воспользовавшись тем, что сумел оторваться от конвоиров, майор неожиданно метнулся куда-то в сторону и исчез в узкой щели, которую добытчики камня обычно называют «лисьим лазом».
Пока конвоиры сообразили, что произошло, пока добежали до лаза, «лесничий» успел проползти несколько метров и оказаться на довольно просторном участке выработки, где у него в вещмешке кроме нескольких сухих пайков хранился целый арсенал: пистолет с запасными обоймами, обрез карабина и четыре «лимонки». Там же находилось удостоверение, выданное майору контрразведки Дмитрию Гайдуку.
Вооружившись, контрразведчик прислушался к возмущенным голосам немцев, доносившимся сквозь щель. Второй «лисий лаз», уводивший отсюда в сторону реки, до следующей выработки, тянулся метров на пятьдесят. Майор знал, что преодолеть его будет трудно, поскольку в нем тесно и душно, а главное, на ровном его участке немцы могут иссечь беглеца пулями своих «шмайсеров». Чтобы не допустить этого, Гайдук затаился чуть в сторонке от выхода и, дождавшись, когда, после густой автоматной очереди, один из солдат решится втиснуться в проход и проползти несколько метров, послал в него две пули из пистолета.
Немец вскрикнул и тут же затих. Фонарик выпал у него из рук и покатился по наклонному проходу так далеко, что Дмитрий рискнул дотянуться до него: в скитаниях по подземельям тот ох как мог пригодиться. Он подождал, пока немцы за ноги вытащат убитого солдата, выслушал угрозы Штубера, обещающего поджарить беглеца на медленном огне, и, лишь убедившись, что оберштурмфюрер и все прочие убрались из выработки, начал пробираться в сторону реки.
На одной из «полок» крутого берега Гайдук отодвинул корневище куста шиповника и вытащил четыре неплотно, с помощью брезентовых ремней и гвоздей, соединенных бревна, представлявших собой небольшой, свернутый в рулон, плот. Два весла, якорек-«кошка» на веревке, топорик и две широкие дощечки крепились к нему бечевками.
Несколько минут Дмитрий осматривался, вдыхая напоенный вечерней речной влагой воздух. После затхлого духа катакомб тот показался ему пьяняще чистым и свежим. Впрочем, наслаждаться красотами бугских берегов и степным благородством воздуха майору Гайдуку было некогда: окончательно стемнеет еще нескоро, но переправляться на ту сторону требовалось уже сейчас, иначе барон успеет послать на берег реки свои патрули.
Тем временем поблизости не наблюдалось ни одной живой души. База «Буг-12» располагалась недалеко, однако она оставалась за грядой прибрежных холмов и за рощей, а потому оттуда видеть беглеца не могли. Убедившись, что барон до сих пор не организовал прочесывание прибрежной полосы, контрразведчик победно ухмыльнулся: очевидно, немцы все еще подстерегают его в бункере. Если русский вышел на поверхность «лесхоза» один раз, — должны были рассуждать враги, — следовательно, выйдет и во второй: куда ему деваться? Если бы «лесничий» знал выход к реке, то воспользовался бы им, не сдаваясь в плен, а, значит, посидит-посидит в своем подземелье и снова попытается прорваться через территорию базы…
16
Слова «постарайся убедить себя в том, что я, хоть и язвительная, но добрая» Евдокимка проворчала с нескрываемым ехидством, но, как только лейтенант отвернулся и поспешил за своими бойцами, тут же упрекнула себя за излишнюю колкость. И не только потому, что боялась обидеть своего нового знакомого.
Как-то Евдокимка точно так же съязвила своей однокурснице по педагогическому училищу. Эта безобидная стычка давно забылась бы, если бы не ее неожиданное продолжение. Моложавая, утонченно-красивая преподавательница педагогики Анна Альбертовна Жерми, носительница очень опасного для революционных времен прозвища Бонапартша, невольная свидетельница ссоры, тут же внушительно заявила ей:
— Как школьная учительница, вы, курсистка Гайдук, — всех воспитанниц училища Жерми именовала исключительно «курсистками», — всю жизнь будете страдать именно из-за той подростковой уличной язвительности, от которой не способны избавиться даже в нашем «пансионе благородных девиц».
— Почему же не способна? Разве я так часто язвлю? Наоборот, стараюсь оставаться сдержанной.
— Почему не способны — это, курсистка Гайдук, вопрос к психологу. По-моему, вы попросту бравируете своей посконной пролетагской невоспитанностью; подобно тому, как это делают многие другие курсистки, вместо того, чтобы проникнуться аристократической интеллигентностью. Я же могу утверждать только очевидное: вы действительно не способны, и в этом вам уже пора признаться, хотя бы самой себе, — твердо парировала преподавательница. В училище давно заметили, что Бонапартша прекрасно справляется со звуком «р», однако предпочитает демонстративно, на французский манер, грассировать, словно бы подчеркивая этим превосходство и в происхождении своем, и в воспитании.
— Тогда кому и зачем нужны мои признания? К самой себе у меня претензий нет.
— В этом-то и разгадка, мадемуазель Гайдук, в этом-то и разгадка! — все курсистки знали: если уж Бонапартша употребляла обращение «мадемуазель», значит, она по-настоящему разочарована воспитанницей. — Человек, не имеющий к самому себе ни претензий, ни вопросов, для общества, собственно, потерян.
— А может, наоборот — он настолько уверен в себе, а поведение его и взгляды на жизнь настолько безупречны, что…
— Увы, потерян, мадемуазель Гайдук, — жестко прервала ее Бонапартша. — Жаль, что вы, дочь педагога с институтским образованием, директора школы, узнаете об этом только сейчас.
После каждого оглашения подобного «приговора» Анна Альбертовна аристократически вскидывала подбородок и воинственно, словно гладиаторским шлемом, встряхивала своим высоким златокудрым париком — предметом зависти всех прочих преподавательниц.
— Так, может, со временем я сама осознаю степень своей «потерянности», но уже после того, как получу диплом учителя?
— Возможно, возможно… Только попомните мое слово, мадемуазель Гайдук: если вы действительно не избавитесь от этой свой мелочной мстительности, то никто и ничто не станет так жестоко мстить вам за посконную пролетагскую невоспитанность, как эта, некстати выбранная вами, профессия педагога.
— Ах, Анна Альбертовна, Анна Альбертовна! — артистично подыграла ей курсистка. — Неужели все так запущенно и безнадежно, как вам кажется?
Жерми внимательно всмотрелась в лицо Евдокимки, стараясь на глаз определить степень ехидства в ее вопросе, как определяют степень отравленности напитка по его цвету, и вновь вскинула подбородок:
— Никак не могу понять, почему самыми сложными в воспитании становитесь именно вы — дочери бывших курсисток? И вообще вся эта ваша, — артистичным жестом повела она рукой, — посконная пролетагская невоспитанность…
Если начальство все-таки многое прощало Бонапартше, то лишь потому, что воспитанницей одного из таких пансионов когда-то являлась она сама. Впрочем, так бывало не всегда.
В свое время ее пригласили на работу в Одессу, в Учительский институт. Но именно из-за старорежимных замашек (шутка ли, позволить себе в приватном разговоре назвать Учительский институт «пролетарским ликбезом»?!), так не понравившихся кому-то из новых коллег, Бонапартшу арестовали и, припомнив не только дворянское происхождение, но и недолгое замужество за учителем-французом, чуть было не отправили на Колыму.
Спасла ее мать Евдокимки, в то время учившаяся на заочном отделении того же института. Прямо там, в городе, она разыскала двоюродного брата своего мужа, чекиста Дмитрия Гайдука, и попросила вступиться за Бонапартшу. Дело это оказалось непростым, тем не менее Дмитрий сумел освободить Анну Альбертовну, усадить в свою машину и лично отвезти назад, в Степногорск, приказав как минимум года два в Одессе не показываться, замереть, затаиться, а главное, «внимательно следить за своей речью».
Как ни странно, Бонапартшу и Ветеринаршу как в местечке называли Серафиму, эта «операция по освобождению» почему-то не сблизила. Анна Альбертовна по-прежнему относилась к Серафиме крайне холодно — то есть держала дистанцию и сохраняла высокомерие. Впрочем, со своими коллегами и соседями она вела себя точно так же. Жерми вообще существовала сама по себе, а станционный поселок, где жила, да и весь Степногорск, — с его советскими реалиями и «пролетагской невоспитанностью» — сам по себе.
Зато с той поры «старый чекист», как называл себя еще далеко не старый Дмитрий Гайдук, делал все возможное, чтобы почаще видеть красавицу Серафиму, и даже не пытался скрывать, что влюбился в нее. Не обращая при этом внимания на то, что избранница — жена двоюродного брата.
…Вспомнив об этом напутствии в порыве раскаяния, Евдокимка по-настоящему поняла, какая глубинная мудрость таится в словах преподавательницы. А еще она вдруг открыла для себя особенность, отличавшую Бонапартшу от остальных преподавателей. Анна Альбертовна никогда не срывалась на крик, не угрожала и не читала нотаций, а главное, никогда не прибегала к тому, что сама называла «пролетагской демагогией».
Из окна, которое родители забыли прикрыть, донесся возглас матери, нечто среднее между стоном и нервным смехом. Затем она радостно как-то вскрикнула, еще и еще раз… После небольшого затишья вновь раздался стон, перерастающий то ли в крик, то ли в некое человекообразное рычание — долгое, пронзительное, какое способна издавать только женщина, оказавшаяся в постели с любимым мужчиной — в минуты наивысшего сладострастия.
Евдокимка не раз слышала подобные стоны после возни родителей, их смеха и задорного упрямства матери, угрожающе шептавшей: «Нет! И даже не пытайся!.. Ну, ты же знаешь, что я снова не сдержусь, снова буду кричать, а дочь уже взрослая… Э-э, так нечестно… Господи, как же мне хорошо с тобой, как будто опять все в первый раз». Так оно и случалось, не сдерживалась, несмотря на то, что отец всячески пытался угомонить ее.
— Кто бы мог подумать, — говорил он потом, поднимаясь и закуривая. — Столько лет прошло, а ты такая же упрямая и такая же страстная. Действительно, все — как в первый раз.
— Разве я виновата, что в такие мгновения просто теряю рассудок? — виновато оправдывалась мать.
— Знали бы другие мужчины, какая ты в постели, давно похитили бы тебя у меня…
Загадочно улыбаясь, Евдокимка метнулась в сторону от окна, поблагодарив при этом судьбу, что лейтенант со своими моряками успел отойти уже достаточно далеко.
17
Взойдя на небольшой холм, Дмитрий Гайдук увидел, что приблизительно в километре выше по течению немцы наладили понтонную переправу. Ниже, сразу же за второй грядой порогов, начиналась околица села Семеновка. И хотя никакого движения там замечено не было, чекист не сомневался, что село тоже наводнено врагами. Каждый клочок земли на восточном берегу реки противник рассматривал теперь, как еще один плацдарм, еще одну точку обороны при возможном контрударе русских.
Столкнув свое сооружение по склону к кромке воды, он с трудом — падая и съезжая, как со снежной горки, — тоже спустился по едва приметной козьей тропе, быстро развернул свое странноватое плавсредство, соединив дощечки с бревнами с помощью освободившейся бечевки. Благодаря тому что метрах в ста ниже по течению находились гранитные пороги, течение в этой части реки как бы притормаживало; главное, требовалось достичь того берега раньше, чем водный поток вынесет плот к порогам.
Усевшись на своё творение так, что ноги оказались в воде, Гайдук изо всех сил начал грести к восточному берегу. Когда течение вот-вот должно было снести его на водопад, майор забросил «кошку» за прибрежный камень, подтянул плот поближе к берегу и, прежде чем якорь сорвался, с вещмешком в руке успел выскочить на каменистое побережье.
Пробираясь руслом полуисчезнувшей речушки, проложенным в глубине кремнистой долины, контрразведчик достиг окраины какого-то хутора и, при свете вечерней луны, увидел немца, наполнявшего у колодца с журавлем реквизированную в колхозе бочку-водовозку.
Заходя как бы со стороны села, Гайдук еще издали спросил обозника по-немецки, вкусная ли вода. Тот, не вглядываясь в жаждущего, проворчал:
— Вода как вода. В этой степи она во всех колодцах одинаково дерьмовая. Напиться бы еще раз воды где-нибудь в Баварии, из альпийского родника! — и продолжал заниматься своим делом.
«Вот и пил бы ее в своей Баварии, — мысленно парировал Гайдук, — а не кровавил бы наши степи».
Когда немец в очередной раз опустил «журавль» в колодец, майор обошел бочку и врубился обухом топорика ему в голову. Оттащив убитого в ближайший овраг, контрразведчик быстро переоделся в его слегка мешковатую одежду, а свой мундир лесничего сложил в вещмешок. Выпустив значительную часть воды, чтобы облегчить бочку, он погнал лошадей в степь, в объезд хутора.
Точно так же, по полевым дорогам, Гайдук миновал еще два села, а затем пристроился к какой-то немецкой колонне, очевидно, сформированной из обозников разных частей. Под утро, заслышав впереди звуки боя, эти машины и подводы начали рассыпаться по лесополосе и придорожным лощинам, а майор погнал лошадей прямо на выстрелы, наудачу…
В прифронтовом, оставленном жителями, хуторе появлению «заблудившегося водовоза» немцы обрадовались, как манне небесной, поскольку, оставляя свои жилища, хуторяне засыпали свой единственный колодец. Со слов фельдфебеля, командовавшего гарнизоном хутора, поскольку один офицер был убит, а двое — ранены, майор понял: впереди ни у немцев, ни у красноармейцев линии фронта пока что не существует. Утром все должно было проясниться: рота этого гарнизона заняла ближайшее село только что, после того как красные без боя оставили его. Впрочем, фельдфебелю оказалось не до тыловика-водовоза; его тут же потребовал к себе раненый командир роты.
Объявив двум патрульным, наполнявшим водой свои фляги, что отправляется на поиски колодца, а заодно разведает обстановку, Гайдук погнал подводу дальше, на восток. Вермахтовцы поначалу пытались образумить его криками, а затем открыли огонь — скорее, для острастки и успокоения совести, однако одна пуля в дубовую бочку все же угодила. Погоняя лошадей, Гайдук слышал, как сквозь трещину уходят остатки воды; верный признак того, что с профессией водовоза придется распрощаться.
Первого уцелевшего дома майор достиг к тому времени, когда уже окончательно рассвело. День обещал быть «жарким»: севернее и южнее села уже разгорались артиллерийские перестрелки.
Старик, только что вышедший из сарая и увидевший у себя во дворе чужака, перекрестился дважды. В первый раз — потому что понял, что перед ним стоит германский солдат, а во второй — потому как этот «германец» вдруг на чистом украинском языке поинтересовался, «есть ли в селе наши», считая своими красноармейцев.
Оказалось, что «свои» действительно есть, около сотни пехотинцев. И окапывались они с вечера в восточной части, по ту сторону оврага, который, перепахивая деревню из конца в конец, уходил далеко в степь. Быстро переодевшись в одеяние лесничего, чтобы кто-нибудь из бдительных пехотинцев не пальнул раньше, чем разберется, Гайдук приказал старику тоже сесть на передок водовозки.
— А меня-то зачем с собой везешь? — испуганно спросил крестьянин.
— Для убедительности. Ты ведь все-таки местный, в случае чего — пойдешь через овраг, чтобы предупредить командира, что я — свой.
— Разведчик, стало быть, или как?! Из окруженцев, может?
— Те, кто много знал и долго расспрашивал, давно в Сибири отдыхают, — проворчал майор.
Старик вскинул брови, ожесточенно поскреб неряшливую бороду и признал:
— Теперь вижу, что свой; из этих, чай, из партейных энкавэдистов…
— Хочешь убедить, что не рад этому?
— Был тут у нас один такой, из пришлых, из тех, что сначала коллективизацию проводили, а затем «врагов народа» по селам выискивали, — погрустнел селянин. — Безземельный, безграмотный, наглый… А самое страшное, что безголовый. Наган под нос кому ни попадя тыкал и все кричал: «Я вас научу, как в “коммунизьму” верить!»
— Судя по твоему настроению, старик, так и не научил.
— Не успел, — покачал головой хозяин, взбираясь на передок водовозки. — В овраге за селом нашли его, с вилами в животе. Уж больно лют был. Кто отважился порешить его, — так и не определили, зато село благодарно вздохнуло.
— Считаешь, что при германцах будет легче, нежели при коммунистах? — спросил Гайдук, во всю стегая кнутом уставших лошадей. Неприязни к этому рослому, костлявому старику он не ощущал, однако понимал: с таким же «благодарным вздохом» тот и ему в спину способен всадить вилы.
Старик свернул самокрутку; даже не намереваясь угостить Гайдука, закурил, и только тогда рассудительно ответил:
— Германцы — они кто? Они — чужие, враги. Убивать да грабить пришли. А чужого ненавидеть всегда проще, нежели своего. Даже если этот «свой» тоже убивать да грабить горазд.
Когда подошли к оврагу, старик прокричал высунувшемуся из своего окопчика пулеметчику, чтобы тот не вздумал стрелять, потому что одна важная птица хочет поговорить с командиром.
— Неужто германцы парламентера в гражданском решили подослать? — осклабился красноармеец.
— Да нет, вроде бы из наших, из особистов, — ответил старик. Затем он немножко помялся, и, недобро взглянув на майора, добавил: — Хотя проверить все-таки надо бы.
— Что ты мелешь, старый упырь? — незло оскорбился Гайдук, уже успевший взобраться на одного из коней, предварительно связав его повод подвернувшейся под руку веревкой с поводом свободной лошадки. — Как только в селе такого терпят?
— А мы ноныча все бдительными стали, — невозмутимо пожал плечами сельчанин и, слегка прихрамывая, побрел назад, в свою часть села.
18
Лощинин появился значительно раньше, чем она ожидала. Он приехал на велосипеде, который скрипел, взвизгивал и тарахтел так, что слышно было за версту.
— Извини, Степная Воительница, за этот «лимузин»; позаимствовал у хозяина дома, где квартирую, — сообщил он, встретив прохаживавшуюся девушку метрах в двадцати от дома.
— Не опасались, что весь поселок на ноги поднимете своим грохотом?
— Опасался, что не дождешься меня.
— Могла и не дождаться.
— Это было бы ужасно. Кто знает, когда и как мы встретились бы потом. И вообще сумели бы когда-нибудь встретиться или нет.
— Вы говорите так, словно мы уже на свидании…
— Разве нет?
Евдокимка открыла калитку, морщась от визга колес, затолкала за нее велосипед лейтенанта и только потом строго предупредила Сергея:
— Никакое у нас не свидание, так что оставьте свои мужские фантазии вместе с велосипедом.
Такого отпора лейтенант не ожидал, немного замялся, однако тут же попытался успокоить девушку:
— Да ни о каком таком свидании я и не думал.
— Что, совсем-совсем не думали?
Лейтенант помнил о язвительности Степной Воительницы и даже уловил в ее вопросе некий подвох, однако не придумал ничего лучшего, чем заверить:
— Просто очень хотелось увидеть тебя…
Они пошли в сторону окраины поселка. Стоило миновать еще три усадьбы, и можно было оказаться на выжженной степной равнине, словно огромным рубцеватым шрамом расчлененной извилистой долиной.
— Но ведь мы уже виделись сегодня, — напомнила Евдокимка. — Причем дважды.
Она хотела добавить еще что-то, но в это время лейтенант сказал то, что могло служить последним аргументом:
— Завтра нас перебрасывают к Ингулу, на фронт.
Это прозвучало так неожиданно, что Евдокимка внезапно остановилась, причем лицо ее оказалось буквально в двадцати сантиметрах от лица офицера. Она вдруг поймала себя на том, что, ожидая Сергея, думала о чем угодно, только не о приближающемся фронте, не о том, что через два-три дня улицы их поселка уже будут патрулировать немцы.
Крайняя хата-полуземлянка стояла пустой и почти разрушенной. Евдокимка знала, что еще весной усадьбу эту оприходовали влюбленные пары. Вот и сейчас какой-то кавалерист в кубанке спешно уводил от чужих глаз свою женщину в глубину сада, за кустарники. Чтобы не мешать им, лейтенант попытался пройти дальше, однако девушка заупрямилась:
— Дальше — степь. Мы туда не пойдем.
— Если не хочешь, то, конечно… — остановился лейтенант под кроной ветвистого клена.
— И потом, мы ведь договорились, что это у нас не свидание. Напрасно вы пошли со мной. Нужно было пригласить какую-нибудь взрослую, опытную женщину, — проговорила Евдокимка, посматривая сквозь густую листву на угасающую луну.
Словно бы подтверждая мудрость ее запоздалого совета, из-за руин донесся взволнованный женский голос: «Да подожди! Ну, куда ты торопишься?..»
Лейтенант заключил в свои ладони обе кисти девушки и нервно сжал их.
— Наверное, ты права, Степная Воительница: так и следовало бы поступить. Однако никогда не простил бы себе, если бы упустил возможность встретиться с тобой. — Не выпуская ее ладони, он провел своими пальцами по девичьей щеке, коснулся уголков губ, нежно погладил подбородок. — Не бойся. Ничего, кроме нежности, — упредил ее упрек, отметив про себя, что Евдокимка вздрогнула и отшатнулась. — И задержу я тебя недолго. Я счастлив уже от того, что ты — рядом.
— Неужто… очень понравилась? — неожиданно спросила Евдокимка.
— Было бы странно, если бы не понравилась.
— Почему же «странно»? — не поняла Степная Воительница.
До сих пор, особенно в школьные годы, она слишком много времени проводила в компании мальчишек, и, может быть, поэтому они относились к ней, как к равному себе. Даже те, которым Евдокимка симпатизировала, рано или поздно увлекались другими девушками, словно считая зазорным влюбиться в нее — «свою в доску». Однако всего этого сказать лейтенанту девушка не могла — и прозвучало бы неправдоподобно, да и гордость не позволяла. Получалось, что только для того и плачется в жилетку, чтобы разжалобить: «Полюбите меня, всеми отверженную и несчастную!»
— Не знаю, как сложится моя фронтовая судьба, но… Словом, — сбился он с мысли, — как тебе все это объяснить?
— Как говорят в таких случаях у нас на лекциях: «А теперь перескажите все это своими словами».
— Еще вчера я чувствовал себя несчастным из-за того, что мне, с детства мечтавшему о море и с таким трудом поступившему в военно-морское училище, по существу, так и не пришлось послужить на кораблях. И даже воевать придется не на море, а сухопутным пехотинцем. Человека, считайте, лишили главной цели его жизни…
— Недавно у Льва Толстого я прочла: «Проявление чувства любви невозможно у людей, не понимающих смысла своей жизни».
— Что, так и сказал?
— Так, — решительно подтвердила Евдокимка. — Вы же, как я понимаю, со смыслом своей жизни давно разобрались.
— А знаешь, как я определил, что ты, ну, словом, что ты для меня не такая, как все остальные?
— То есть что ты влюбился? — все еще не способна была отказаться Евдокимка от своего мальчишеского озорства.
— Точно, — с благодарностью подтвердил Сергей. — Когда понял, что тем последним словом, которое сорвется с моих губ перед гибелью, — будет твое имя. Это очень важно, чтобы у идущего на смерть существовало в душе такое имя.
Евдокимка растроганно помолчала, вздохнула и проговорила то, что просто не могла не сказать:
— Я тоже всегда буду помнить, что есть такой боец, чьи уста произносят мое имя. Причем необязательно перед гибелью.
— Постараюсь, чтобы не перед гибелью, — едва слышно, взволнованно пообещал моряк. — И, если удастся выжить, непременно встретимся под этим же кленом.
Когда лейтенант несмело, едва прикасаясь губами, поцеловал ее в щеку, Евдокимке вдруг совершенно некстати вспомнился его «выстрел милосердия» там, у сбитого вражеского самолета. Этот поцелуй морского пехотинца, идущего завтра в бой, тоже почему-то показался ей своеобразным «выстрелом милосердия».
19
Видимо, старик действительно сумел заронить в сознание и пулеметчика, а через него — и командира роты, какие-то зерна сомнения. Их ростки проявились буквально с первых минут общения.
Командовал подразделением, оставленным для прикрытия на западном берегу Ингула, старший лейтенант. Обосновавшись в одной из брошенных хат, буквально в пятидесяти метрах от передовой, этот офицер не позаботился о том, чтобы обзавестись блиндажом, землянкой или какой-либо щелью, где можно было бы отсидеться во время бомбежки. Не подумал он и о том, чтобы обнести свой командный пункт окопом. Он вообще вел себя так, словно оказался на постое в глубоком тылу.
Ниже среднего роста, невообразимо тощий и столь же невообразимо нервный, старлей встретил Гайдука во дворе, располагавшемся на небольшом плато, в километре от которого виднелся плёс реки, пробивавшейся в этих краях сквозь живописные каменные ворота.
Несмотря на то, что майор представился, как офицер контрразведки, выполнявший особое задание в тылу врага, и даже предъявил удостоверение, старший лейтенант Сердюков неожиданно набросился на него с пистолетом в руке, обличая как вражеского лазутчика, фашистского агента, из бывших белогвардейцев, еще кого-то там… Доведя себя почти до истерики, этот вояка даже объявил, что его, майора, как предателя Родины, он прямо здесь, лично, по законам военного времени…
Рослый кряжистый Гайдук совершенно спокойно выслушал все это, посоветовал почистить и смазать запыленный пистолет и спросил, где в эти минуты находится политрук роты, надеясь, что тот наверняка окажется, если не мудрее, то хотя бы спокойнее.
— Сейчас же позовите его, старший лейтенант, пока не наделали глупостей, за которые придется расплачиваться не только вам, но и всей вашей семье.
Спокойный, уверенный тон контрразведчика явно подействовал на командира роты, потому что настрой его тут же сменился:
— Но ведь по форме одежды и по одному из удостоверений вы всего лишь лесничий, — уже не обличал, а, скорее, оправдывался Сердюков.
— А вы хотите, чтобы я разгуливал по вражеским тылам в мундире офицера НКВД?
— Откуда мне знать, кто вы на самом деле?
— А вам и не положено знать, — резко осадил его майор. — Связь с тем берегом у вас есть?
— Нет, пока что.
— Почему? У вас что, нет телефонистов, нет кабеля?
— Все равно долго здесь не продержимся, — обреченно молвил старший лейтенант.
— Выяснили, кто соседи слева и справа?
— Нет… Если так, по-умному, то нас вообще нужно было перебросить на тот берег Ингула, чтобы оборону занять по водному рубежу.
— А вам не приходило в голову, что роту вашу, старший лейтенант, только потому и оставили здесь, чтобы не позволить немцам с ходу форсировать реку, а значит, дать возможность другим частям укрепиться по левому берегу?
Пока вестовой разыскивал политрука, сам «лазутчик», не обращая внимания на запрет и угрозы комроты, взошел на холм и осмотрел позиции.
— Советую уже сейчас создавать вторую линию окопов, подводя их к самому берегу реки. Устраивайте свои позиции в виде небольшого плацдарма, чтобы иметь за спиной хотя бы метров триста берега — для отступления или для подхода подкреплений.
Политрук появился в те минуты, когда в западную часть села уже входила немецкая колонна, впереди которой двигались два мотоциклиста с разведчиками. Бесстрашно развернувшись на лужке, они остановились, и старший, очевидно, офицер, не спеша вышел из коляски. Он вел себя так, словно был удивлен, что кто-то там пытается мешать продвижению его части.
Сердюков прокричал вестовому:
— Передать по цепи: огонь пока не открывать. Подпустить поближе! Беречь патроны! — и тут же приказал политруку, только что призванному из запаса партработнику в новенькой старательно отутюженной форме: — Разберитесь с этим задержанным.
— Это кто же меня задерживал?! — возмутился Гайдук, однако комроты уже поспешил к своему штабному дому. — Я сам прибыл сюда, чтобы воспользоваться возможностью доложить…
Договорить ему не позволил телефонист, возникнув из ближайшего оврага:
— Товарищи офицеры, есть связь с тем берегом, со штабом дивизии!
— Наконец-то, — ринулся к нему майор, не обращая внимания на политрука, растерянно топтавшегося рядом. — А то я чувствую, что зря теряю время.
Представившись телефонисту, Гайдук выяснил, о какой дивизии идет речь, и тут же потребовал срочно пригласить к телефону начальника разведки или комиссара дивизии. А когда подошел дивизионный комиссар, попросил немедленно сообщить коменданту или начальнику гарнизона Степногорска, любому руководителю, что следующей ночью ожидается высадка немецкого десанта. Скорее всего, это произойдет под утро и в районе железнодорожного поселка, так что пусть готовятся, возможно, придется сформировать отряд ополчения.
— У вас точные сведения? — приглушил голос комиссар, словно рассчитывал, что, доведя его до шепота, убережется от подслушивания. — Рядом со мной находится начальник разведки, полковник Зырянов, поэтому общий вопрос: что, завтра у нас в тылу действительно ожидается высадка десанта?
— Двух десантов, товарищ дивизионный комиссар: парашютного и танкового. И оба — в районе железнодорожной станции Степногорска.
— Совсем обнаглели; не терпится! Преимущество свое, временное, почувствовали, вот и рвутся к Днепру, — почти проскрежетали зубами на том конце провода.
— Замечу, что речь идет не об обычном армейском десанте. Костяк составит отряд диверсантов, обстрелянных, прошедших специальную подготовку в какой-то школе неподалеку от Берлина.
— Я слышал ваше донесение. Откуда у вас эти сведения? — послышался в трубке другой, уверенный, почти нахрапистый голос, конечно же принадлежавший начальнику разведки.
— Все, что должен был сообщить вам по телефону, товарищ полковник, я уже сообщил.
— Вы могли сообщить, что угодно. Почему мы должны верить?
— Обо всем прочем — доложу тому, кому обязан доложить, — в свою очередь, ужесточил тон майор. — Свяжитесь, пожалуйста, с начальником отдела НКВД в Степногорске и сообщите, что вышел на связь агент «Атаман»; он знает, кому докладывать по инстанции. А заодно развеет ваши сомнения.
— Хорошо, свяжусь, — полковник, видимо, слегка колебался. Недоверия майор у него так и не развеял, однако начальник разведки прекрасно понимал, что никаких иных доводов предоставить ему Гайдук не в состоянии. И что, скорее всего, убеждать в правдивости сведений этого информатора придется самим немцам.
— Но прежде прикажите своему старшему лейтенанту Сердюкову наконец-то освободить меня из-под ареста.
— Из-под ареста?
— Притом, что я сам прибыл в расположение его роты. Из-за подозрительности этого офицера я и так уже потерял как минимум два часа. А с минуты на минуту начнется наступление немцев.
— К телефону его.
Прикрыв ладонью трубку, Гайдук тут же передал это распоряжение политруку и снова вернулся к разговору с полковником:
— Мне нужно срочно переправиться на левый берег Ингула. Тогда можем встретиться, и с кое-какими подробностями будущей операции немцев я вас все же ознакомлю. Кстати, вот он, Сердюков, приближается.
Гайдук не слышал, что именно полковник говорил командиру роты, но трубку тот положил с багровым лицом и, стараясь не глядеть на него, прорычал:
— Вы свободны, товарищ майор. Берите своего коня и переправляйтесь на нем. Метрах в пятидесяти выше по течению брод образовался, верхом преодолеете. Или, во всяком случае, до середины дойдете, — а когда Гайдук уже сидел на коне, добавил ворчливо: — Привычку в штабе взяли: чуть что — «разжалую, под трибунал!..». Вот и проявляй после этого бдительность!
— Я поговорю в штабе дивизии, чтобы вас поддержали артиллерийским огнем да подбросили подкрепление, — пообещал Гайдук то единственное, что имел право обещать этому командиру и его обреченным бойцам, чьи позиции — майор видел это — немцы, не прибегая к лобовым атакам, уже брали в клещи.
20
Под вечер на аэродроме приземлились сразу два десантных штурмовика, специально приспособленных к выбросу парашютистов, с последующей поддержкой их с воздуха. По приказу барона фон Штубера, первая группа отряда «Скиф» тут же метнулась к ним. Половине из тех, что погружались сейчас в чрева «десантников», предстояло совершить прыжок впервые, однако оберштурмфюрера это не огорчало.
— Роттенфюрер Вергер, — подозвал барон одного из опытнейших своих диверсантов. — Командуете первой штурмовой группой!
— Есть принять командование группой! — по-русски ответил обер-ефрейтор СС, уже явно входя в роль диверсанта.
— Фельдфебель Зебольд, командуете второй штурмовой группой. Она полетит вторым эшелоном.
— Яволь, я уже познакомился с бойцами группы. Парни в основном надежные.
— Уточняю план учебной операции, — развернул барон на столе, под навесом наблюдательного пункта, карту местности. — Самолеты делают три круга над лесом и базой, а затем выбрасывают вас, роттенфюрер, на этом лугу, за северной окраиной лесной деревни Кузьминки. Насколько мне известно, румынскому батальону, расквартированному там, вчера утром приказано срочно оставить деревню и выдвинуться к Южному Бугу…
— …поскольку Буг должен стать пограничной рекой румынской Транснистрии, а значит, и всего румынского королевства, — проявил знание ситуации роттенфюрер СС.
— Какая утонченная осведомленность, Вергер! — одарил его барон своей традиционной иезуитской ухмылкой. — Забыли добавить, что Антонеску[12] пока запрещает своим солдатам переходить эту реку и участвовать в боях за пределами Транснистрии.
— Не исключено, что на восточный берег Буга нам придется загонять этих «союзничков» под дулами автоматов, — брезгливо поморщился Зебольд, никогда не скрывавший своего презрительного отношения к воинству Антонеску.
— А после высадки нам предстоит прочесать деревню? — проявил нетерпение роттенфюрер.
— Причем это должно быть настоящее прочесывание — каждый десантник действует самостоятельно, соблюдая все меры предосторожности, как если бы Кузьминку заняли солдаты противника. Всякого подозрительного, кто попытается оказать хоть какое-либо сопротивление или выказать недовольство, расстреливать на месте, как партизана.
— Нужно было оставить там румын, — осклабился Зебольд, расправляя свои широкие, слегка обвисающие плечи орангутанга.
— Это еще зачем? — не понял Штубер.
— Тогда, выкуривая их, мы провели бы учения, максимально приближенные к боевым.
— Мне давно известно, что вам, фельдфебель, хотелось бы видеть своими врагами кого угодно, лишь бы не русских, — сурово упрекнул его барон. — Не пытайтесь облегчать себе жизнь, Зебольд; под моим командованием это невозможно.
Хотя Вергер не сомневался, что майор и на сей раз, как обычно, предается ироничному блефу, он все равно победно взглянул на фельдфебеля.
— На окраине леса вы, роттенфюрер, — барон не позволил ему смаковать унижение фельдфебеля, — поджидаете вторую волну высадки, то есть отряд Зебольда, а также отбывший туда на машинах отряд обер-лейтенанта Вильке. И совместно, под общим командованием обер-лейтенанта, прочесываете лес.
— Имеются какие-либо сведения о партизанах или окруженцах? — поинтересовался фельдфебель.
— Не исключено, что НКВД оставило там какую-то группу. А в лесу бродят стаи дезертиров. К особым выяснениям не прибегайте, пленных не брать. Все обнаруженные приравниваются к партизанам и диверсантам.
— Может, нам не стоит прочесывать деревню, а сразу же войти в лес, — поморщился роттенфюрер на скатывающееся к горизонту солнце. — Пока мы, а затем и группа фельдфебеля, будем бродить по усадьбам, основательно стемнеет.
— В этом — истинный смысл учебной операции. Не забывайте, что высаживаться в районе Степногорска нам придется ночью и разворачивать боевые действия — тоже ночью или на рассвете.
— Но в лесу мы сразу же потеряем связь с большинством бойцов.
— А вы и не должны поддерживать ее. При вас останется только радист и два-три диверсанта, в виде резерва и личной охраны. Моя тактика известна: в бою каждый десантник-диверсант действует самостоятельно, исходя из ситуации, а главное, не порождая паники и растерянности.
— Эта тактика, господин барон, — признал Зебольд, — оправдала себя еще на Днестре.
— Перед броском через десятикилометровый лес, сориентируйте бойцов на местности, назовите им пароль, чтобы в темноте не перестреляли друг друга. Место сбора — база «Буг-12».
— Будет выполнено, — отдали честь командиры групп.
— Командир наземного десанта Вильке уже должным образом проинструктирован. Всё, роттенфюрер, — к самолету. Вы, Зебольд, проверьте снаряжение своей группы. Кстати, — успел он предупредить Вергера, прежде чем тот бросился к самолету, — ни один парашют в поле остаться не должен, лично проверю.
* * *
После отправки в небо второй группы Штубер вызвал к себе шарфюрера Лансберга, который до этого с небольшой группой диверсантов занимался прочесыванием местности в поисках майора Гайдука.
— Чем утешите мое самолюбие, любезнейший?
— Русский все-таки ушел.
— Ценнейшее наблюдение! Но меня интересует, куда и каким образом он ушел, шарфюрер. То есть прежде всего нужно выяснить, оставил ли майор подземелье базы или пока еще находится в нем.
— Оставил. Причем сразу же.
— И вы способны убедить меня в этом?
— Мы обнаружили то место на прибрежном склоне, в пещере, где этот диверсант хранил свой плот. К воде он тащил его, оставляя следы на грунте.
— То есть, следопыт вы наш, вы обнаружили подземный ход, которым воспользовался майор?
— Можно сказать и так. Правда, он почти завален и наверняка заминирован. Не хотелось бы терять время и людей. Зато вместе с несколькими солдатами я побывал на том берегу реки, в Семеновке, — уверенно докладывал диверсант, еще со времен прохождения стажировки в охране лагеря польских военнопленных, известный под кличкой Магистр. Поговаривали, что столь «ученого» прозвища он удостоился за склонность к жесточайшим, но всегда «научно обоснованным», пыткам.
— Чтобы еще раз встретиться с майором Гайдуком?
— Майору в этом смысле не повезло. Зато я узнал, что, по имеющимся данным, кто-то из русских разведчиков или диверсантов сумел пройти через расположение одной из наших дивизий и присоединиться к гарнизону русского плацдарма на западном берегу Ингула.
— Ингула или Буга? — попытался уточнить Штубер, заметно мрачнея при этом.
— Я не ошибся, господин оберштурмфюрер. Разведка имела в виду плацдарм на Ингуле, протекающем значительно восточнее Буга.
— Я успел изучить карту местности. Что еще вам известно?
— Буг он форсировал в районе Семеновки, затем захватил какую-то обозную подводу, переоделся в германскую форму. Словом, действовал вполне профессионально.
— Вы сообщаете об этом с таким воодушевлением, словно радуетесь его уходу.
— Говорить о моих чувствах к русскому диверсанту пока что бессмысленно. Они проявятся позже, когда Гайдук окажется в наших руках.
— Не сомневаюсь, — зловеще ухмыльнулся Штубер.
Он помнил, с каким цинизмом и изощренностью умел допрашивать Магистр. По складу характера это был прирожденный садист.
— Другое дело, что я всегда ценил действия диверсанта-профессионала, — попытался шарфюрер прояснить свое отношение к Гайдуку. — Независимо от того, под присягой какой армии он сражается. Впрочем, у вас такие же критерии.
— Ну, цвета армейских флагов я все же различаю.
— В любом случае это вам, господин барон, если только не ошибаюсь, принадлежит термин «профессионал войны». Я встречал его в вашей журнальной статье.
— Давно предвидел, что придется запретить моим подчиненным чтение каких-либо изданий, кроме армейских уставов.
— И все же смею утверждать, что этот русский диверсант ушел от нас мастерски.
— Тогда почему бы вам не констатировать, что в ситуации с этим майором мы действовали непрофессионально? — угрюмо поинтересовался Штубер.
— Просто на каком-то этапе он сумел переиграть нас.
— Но лишь на каком-то этапе, — мстительно подтвердил оберштурмфюрер. Почему-то ему казалось, что судьба еще сведет его с майором-энкавэдистом. Теплилось в нем такое предчувствие, теплилось…
— Скорее всего, этот диверсант направлялся в Степногорск, — словно бы вычитал его мысли шарфюрер. — Именно в Степногорске находятся сейчас штабы дивизии и нескольких отдельных подразделений русских. И все пути к Днепру — тоже пролегают через него.
— Иначе мы не нацеливали бы на этот городишко свои десанты.
21
От планов вернуться за женой и дочкой лейтенанту Николаю Гайдуку пришлось отказаться сразу же. Ситуация на фронте оказалась настолько критической, что ветлазарет, куда он был определен, тут же сам начал отходить. Единственное, что Гайдук успел, так это передать с водителем-земляком, подвозившим боеприпасы в район Степногорска, записку: «Серафима! Евдокимка! Срочно уходите в сторону Днепра. Как можно скорее переправьтесь за Ингулец[13]. Не теряйте ни минуты, враг рвется туда же. Угроза окружения! Нас тоже отводят в тыл. Куда именно — не знаю! Где бы вы ни оказались, тут же сообщайте на номер моей части…»
Чтобы передать записку, водитель грузовика изменил маршрут и оторвался от колонны. Посигналив у ворот Гайдуков, он спешно сунул записку в щель за штакетиной калитки и повел машину дальше. Услышав гудки, Евдокимка сразу же бросилась из дома во двор, но успела заметить только задний борт уходящего грузовика. А ей так хотелось хоть что-нибудь услышать от шофера: вдруг ему известно то, о чем отец не смог или не захотел написать!
Колеса велосипеда пришлось подкачивать, и эти минуты оказались самыми томительными, что отделяли Евдокимку от передачи тревожной весточки матери. В последнее время происходили беспокоящие перемены. Вчера под вечер уехал отец, сегодня утром — старшина и ездовой, квартировавшие в летней кухне. Сегодня же ушел в сторону фронта и батальон морской пехоты, где нес службу Лощинин. Правда, пошел слух, что морякам было приказано пока что занять линию обороны за западной окраиной городка, как бы во втором эшелоне, но так ли это на самом деле, Евдокимка не знала.
Сообщение от мужа Серафима Гайдук встретила мужественно.
— Я предчувствовала, что вернуться в город он уже не сумеет, — сказала она, запрокидывая голову, чтобы, таким образом, скрыть от дочери подступавшие к глазам слезы. — Может, это и к лучшему. Только что привезли большую группу раненых. Все говорят о том, что фронт по Ингулу наши не удержат, уже просто-напросто некому. Немцы непрерывно бомбят и обстреливают их. Много убитых.
Вчера вечером, проводя мужа, Серафима Акимовна, вместе с двумя другими учительницами, осталась в районной больнице, рядом с которой, в парке, теперь развернулся полевой госпиталь — это все, чем они могли помочь и раненым, и фронту. Евдокимка намеревалась дежурить вместе с ними, однако мать оказалась категорически против, тем более что кому-то же следовало и дома находиться, на хозяйстве.
Сейчас Серафима направлялась домой, чтобы несколько часов поспать перед ночным дежурством и в райисполкоме, куда она обязана была явиться как депутат райсовета. Многие организации и жители города уже оставили город. Госпиталь тоже готовился к эвакуации. Однако руководство района, кажется, никак не желало смириться с тем, что враг уже у порога, и, как могло, до последнего дня, старалось наладить жизнь городка с таким видом, словно как раз под его стенами враг и будет в конце концов остановлен.
От велосипеда Серафима Акимовна отказалась, решив пойти напрямик, через парк, а затем — по тропинке между огородами, чтобы заглянуть в школу, оба корпуса которой сегодня утром тоже были оставлены бойцами. Впрочем, Евдокимка и не настаивала; ей и самой велосипед сейчас пригодился бы.
— Так что мы будем делать? — спросила она, прежде чем снова оседлать своего «коня». — Отец требует, чтобы мы эвакуировались. Тебе нужно срочно уходить. Даже страшно вообразить себе, как ты, с твоими регалиями — директор школы, депутат, член партии, жена офицера — сумеешь уцелеть здесь во время оккупации.
— В жутком сне представить себе не могу.
— Почему же тянешь с уходом?
Мать на минуту смахнула с лица усталость и удивленно уставилась дочь:
— Ты ничего странного в речах своих не заметила, о дочь моя?!
Евдокимка давно привыкла к тому, что обращение на восточный лад «о дочь моя!» всегда означает одно и то же — мать пытается иронизировать. Ту же манеру перенял у нее в последнее время и отец, правда, в его устах это не звучало иронично — он попросту копировал супругу.
— Заметила. Я намерена проситься с кавалерийский полк; вчера одну из их санитарок ранило осколком.
Пока мать приходила в себя от такого сообщения, Евдокимка вскочила в велосипедное седло и помчалась в сторону штаба полка.
— Какой еще кавалерийский полк?! — с трудом обрела голос Серафима Акимовна. — Какая санитарка?! Ты что, забыла, что тебе еще нет восемнадцати?! Никто не посмеет зачислить тебя. Я потребую!.. Господи, лучше бы ты в самом деле родилась мальчишкой! — последнее, что услышала девушка, исчезая за углом полуразрушенного во время бомбежки дома. — Тогда по крайней мере я знала бы, как к тебе относиться… Все равно ведь сорванец-сорванцом, — отводила мать душу, уже направляясь в сторону школы.
К счастью, Серафима Акимовна, еще не знала, что Евдокимка уже обращалась к начальнику полкового лазарета, но тот немедленно поинтересовался: «Сколько тебе лет? Только не вздумай врать!» Девушка врать не стала, тем более — в присутствии эскадронного старшины; повернулась и ушла. «Рано тебе пока еще в горе людское погружаться, — бросил вслед ей этот армейский начальник. — И крови людской на век твой еще, ой, как хватит!»
Это происходило несколько дней назад, когда немцы еще оставались по ту сторону Буга. Теперь же, считала Евдокимка, к ней обязаны были отнестись по-иному, как-никак начальная медицинская подготовка у нее все-таки имелась. Другое дело, что сегодня она намеревалась пробиться к самому командиру полка, или в крайнем случае к его заместителю, и конечно же следовало быть более настойчивой. Для важности девушка даже сумку свою санитарную прихватила.
Ее мечтания прервал вой единственной в городке заводской сирены; гул моторов, да крики «Воздух! Все — в укрытие!». Взрывными воздушными волнами девушку дважды сбрасывало с велосипеда, но она все же сумела добраться до центральной площади, рядом с которой, в старинном особнячке, располагался штаб.
Немецкие летчики, очевидно, тоже хорошо знали, где находится и штаб, и военкомат, и прочие районные организации, потому что как минимум шесть самолетов устроили над этой частью Степногорска штурмовую карусель: в центральных кварталах города уже начинали пылиться руины зданий, лежали убитые и раненые. Зрелище было ужасающим, однако девушка резко одернула себя: «А ты что ожидала увидеть, напрашиваясь в санитарки? Терпи! Или же отдай кому-нибудь сумку, а сама отправляйся домой; присоединишься к очередной колонне эвакуированных. Может, действительно рано тебе “в горе людское погружаться”?»
Однако отречься от санитарной сумки она так и не смогла.
22
Десантники все выходили и выходили из леса, поодиночке или небольшими группами: высадка диверсионной группы на сей раз оказалась не такой уж и учебной.
— Господин оберштурмфюрер, — доложил обер-лейтенант Вильке после того, как обе группы построились и была проведена перекличка. — Задание по учебному десантированию выполнено. Потери отряда — один солдат убит, один числится пропавшим без вести, четверо раненых.
— И такие потери вы умудрились понести, даже не вступая в бой? — поползли вверх брови Штубера.
— Ничего не поделаешь, господин оберштурмфюрер: возвращение на базу неожиданно превратилось для отряда в боевую операцию по прочесыванию прилегающих территорий…
— Почему «превратилось» и почему «неожиданно»? — доверительно как-то улыбнулся Штубер, покачиваясь на носках сапог, надраенных до блеска. — Как боевая операция, этот десант и был задуман с самого начала.
— Но нас не предупредили, что деревня, возле которой мы высаживались, и лес на пути к базе оказались наводнены окруженцами, дезертирами и просто беженцами.
— А кто и о чем станет предупреждать ваших солдат завтра, когда нам придется действовать в тылу врага, и не против беженцев и трусливых дезертиров, а против кадровых частей русских? — ожесточился Штубер.
— Но все же речь идет о первой серьезной тренировке…
— А вы обратили внимание, что среди моих «фридентальских коршунов» потерь нет?
— Они более подготовлены к подобным операциям, — развел руками обер-лейтенант. — Уверен, что после второго учебного десантирования мои бойцы тоже станут вести себя намного осторожнее.
— Второго учебного, Вильке, уже не будет.
— Позвольте, мы рассчитывали, что…
— Мы тоже рассчитывали. Однако на рассвете отряд десантируется в Степногорск. Уже есть приказ.
— В таком случае наши потери окажутся значительными.
— Было бы странно, если бы они оказались такими же, как на нынешних учениях. Единственное, чем я могу помочь, так это выделить инструкторскую группу во главе с фельдфебелем, — кивнул он в сторону ветерана своего отряда, стоявшего в двух шагах от них. — Что скажете на это, Зебольд?
— Через пять минут группа из шести диверсантов, имеющих инструкторские навыки, будет сформирована, — без какой-либо заминки заверил тот.
Штубер знал, кого подберет Зебольд, — уже сейчас мог бы назвать их поименно. Барон помнил, как эти диверсанты, входившие в состав полка «Бранденбург», действовали во время захвата моста через Днестр и уличных схваток в Подольске.
— Недалеко, в перелеске, где находится охотничий домик, — объяснил Зебольд смысл деятельности своей инструкторской группы, — мои коммандос, господин обер-лейтенант, продемонстрируют вашим солдатам способы передвижения под огнем противника и приемы рукопашного боя, с использованием любых подручных средств — саперных лопаток, ножей, топоров, и даже обычных палок.
— «Коммандос»! Именно так впредь мы и будем называть наших диверсантов, — подхватил это некстати подзабытое наименование Штубер. Вспомнил, что именно так предпочитал называть выпускников Фридентальской разведывательно-диверсионной школы ее куратор — начальник Главного управления имперской безопасности Гейдрих.
— Кроме того, наши инструкторы, — продолжил фельдфебель, — ознакомят со способами снятия часовых и проникновения в здание, занятое противником.
— Все остальное будете постигать уже в ходе операции «Выжженная степь», — добавил барон. — Она началась, наша авиация сейчас ведет зачистку плацдарма.
Как только коммандос принялись за тренировки, фон Штубер отправился в штаб 17-й армии, чтобы еще раз встретиться с генералом Швебсом. Визит этот оказался очень своевременным, поскольку за несколько минут до появления барона генерал приказал адъютанту для особых поручений Хунке позаботиться о прибытии всех тех офицеров, которые будут связаны с десантом в район Степногорска.
Выяснив, что барон прибыл в штаб по собственной инициативе, адъютант, дежуривший на штабном пункте связи, находившемся здесь же, в подвале здания, приятно удивился:
— Я как раз намеревался дозвониться до вашей базы, — поделился удачей этот совсем юный на вид капитан, эдакий фронтовой херувимчик, встретившись с оберштурмфюрером в приемной командующего. — Хотя сомневаюсь, налажена ли какая-либо связь с «Бугом-12».
— Связист докладывал мне, что налажена. Впрочем, я решил, что согласовывать по телефону детали столь секретной операции не стоит.
— Наши армейские связисты творят чудеса: удалось подсоединиться к местной ими восстановленной телефонной связи.
— Это не такая уж диковина, господин капитан. Отступая, противник уничтожает местную связь далеко не всегда и не везде. Русские все еще не осознают масштабы своего поражения. Они убеждены, что это всего лишь временное военное недоразумение и что скоро им удастся вернуть утраченные территории.
— Общая тенденция мне понятна, — слегка подрумянились щеки херувима. — Но появилась пикантная подробность. Зная о подготовке к операции «Выжженная степь» в районе Степногорска, помощник начальника связи армии поинтересовался, не желаю ли я пообщаться с бургомистром этого города.
— С кем пообщаться? С бургомистром Степногорска?! Вы шутите, Хунке?
— Никак нет. Я не склонен к шуткам. Обер-лейтенант Пайтер действительно убеждал меня, что его связисты установили связь с приемной этого бургомистра.
— Хотите сказать, что после обмена любезностями мэр городка пригласил вас на фуршет по поводу сдачи города? — осклабился диверсант. — Неплохо устроились, господа штабисты!
— К сожалению, ни я, ни сам обер-лейтенант русским не владеем, а то в самом деле попытали бы счастья. Однако я тут же вспомнил о вас, оберштурмфюрер, командире отряда, готовящемся к «Выжженной степи», да к тому же прекрасно, как информировали нашего командарма, владеющем языком этих азиатов.
— Признаю: выпал мне такой крест.
— Так вот я и подумал: «Вот кто с удовольствием поболтал бы с этим бургомистром о текущем положении дел на фронтах!»
На несколько мгновений Штубер пребывал в некоем интеллектуальном ступоре, ожидая услышать от Хунке какое угодно предложение, только не это.
— Во сколько совещание у командующего? — наконец пришел он в себя.
— В вашем распоряжении, — взглянул на часы адъютант, — остается как минимум двадцать минут. Вполне достаточно для великосветской беседы с бургомистром городка, которому в скором времени суждено стать «Меккой диверсантов».
— А вы, Хунке, авантюрист! — излучил приятное удивление обер-диверсант. — Поначалу я вас недооценил. Придется переманить вас у командующего, такие люди не должны прозябать в штабных «предбанниках».
Капитан сдержанно, со снисходительностью, надлежащей адъютанту командующего, ухмыльнулся:
— Так что? Приказать соединить вас с приемной бургомистра?
— Приказывайте, — решился Штубер на этот шаг, словно на опасный блеф.
— Спускайтесь в подвал, на пункт связи. Попрошу, чтобы вас встретили.
23
У штаба полка — с выбитыми окнами и развороченной крышей — девушка оказалась как раз в тот момент, когда несколько командиров и бойцов охраны выходили из убежища, устроенного в подвале под зданием. Через миниатюрный скверик напротив стояла разбитая санитарная кибитка, рядом с ней лежало несколько тел. Одно из них явно принадлежало санитарке или медсестре.
— Я прошла медицинскую подготовку и готова служить в вашем полку, санитаркой, — воспользовалась Евдокимка тем, что сразу три командира тоже задержали свои взгляды на кибитке.
Один из них, приземистый, кривоногий усач-кавалерист, от которого на версту несло табаком и конским потом, тут же метнулся к кибитке. Через какое-то время он известил, что все погибли и что он пришлет сюда похоронную команду.
Выслушав его с каким-то странным, деловым спокойствием, офицеры снова внимательно прошлись взглядами по видной фигуре Евдокимки, а затем утомленно и невыразительно, как люди, страдающие от длительной бессонницы, переглянулись.
— Меня зовут Евдокией, — заторопилась курсистка, понимая, что у нее есть всего несколько секунд для того, чтобы представиться этим грозным дяденькам и убедить их, что лучшей санитарки в этом городе им не найти. — Евдокия Гайдук.
— И что из этого следует, юная леди? — с усталым безразличием поинтересовался моложавый подполковник.
С той поры, когда прифронтовой городок заполонили тыловые части, девушка стала старательно запоминать воинские знаки различия, особенно старших офицеров. Но это странное обращение — «юная леди» и необычная выправка, так не похожая на выправку десятков других командиров, сновавших в эти дни по улицам Степногорска…
— Ваш эскадронный старшина Разлётов знает меня. — Заметив, что на «старшину Разлётова» ни подполковник, ни полковник никак не отреагировали, словно вообще не понимая, чего эта украинская «дивчына» добивается от них, Степная Воительница тут же пустила в ход свой последний козырь: — Мой отец — тоже командир в вашей дивизии. Старший лейтенант Гайдук, военный ветфельдшер.
Мужчины уже намеревались скрыться в штабе, однако упоминание девушки об отце-однополчанине заставило их снова остановиться.
— Отец, оказывается… Вот так вот, — проговорил наконец полковник — небольшого роста, коренастый мужчина, с какой-то неистребимой грустью окидывая Евдокимку близоруким взглядом.
Однако ни сопровождавшие его офицеры, ни сама девушка так и не поняли, что именно тот имеет в виду. Разве что подполковник, стоявший теперь с командиром полка плечо в плечо, согласился с ним. Но тоже как-то слишком уж многозначительно, а потому неопределенно:
— Да уж…
Бесстрастно выслушав заверение Евдокимки в том, что восемнадцать ей уже исполнилось, полковник на ходу бросил кому-то из своего сопровождения: «Разберитесь, примите решение», и протиснулся в проем выбитой, покосившейся двери.
— Начальник штаба Гребенин, — по-белогвардейски, как это бывало в фильмах, склонил голову все тот же аристократически седеющий на висках офицер со шпалами подполковника.
— Учащаяся педагогического училища Евдокия Гайдук, — точно так же склонила голову девушка, едва удержавшись от реверанса, которому ее безуспешно пыталась обучить «классная дама» Анна Альбертовна.
— Так вы, оказывается, местная курсистка? — словно бы прочитал ее мысли Гребенин. — Похвально-похвально, юная леди… Никак воспитанница нашей неисправимой франкоманки Анны Жерми?
— А вы что, знакомы с Анной Альбертовной?!
— Как можно не быть знакомой со столь блистательной леди, единственной достойной леди на все это глубоко патриархальное местечко?
Евдокимка тут же ударилась в курсистскую лесть:
— Я вижу, что вы — тоже человек очень образованный и добрый. Так помогите же мне.
— Разве я могу позволить барышне броситься в этот кровавый ад? — повел подполковник тщательно, до синевы, выбритым подбородком в сторону поверженной санитарной кибитки. — Уже завтра, как только мы вступим в соприкосновение с противником, вы станете проклинать и меня, и свою прихоть.
— Ну, какая ж это прихоть?! Все, кто может, берется сейчас за оружие. Я тоже решила, что могу…
— Хватит, юная леди, обойдемся без дем… — запнулся Гребенин на полуслове, опасаясь назвать ее слова «демагогией». Как и всякий офицер «из бывших», он старался очень осторожно обращаться с теми немногими «интеллигентскими» словечками, которыми любили теперь щеголять пролетарии. — То есть без возвышенных речей. Хотя порывы ваши мне понятны.
«Неужели и этот откажет?! — с тревогой и какой-то наивной влюбленностью всматривалась Евдокимка в благородное холеное и по-настоящему красивое лицо Гребенина. — Нет, этот — не должен! Он слишком умен и благороден, чтобы вести себя, как тот начальник лазарета, который попросту прогнал меня, саму просьбу назвав “мерзопакостной бузой”».
Начальник штаба слишком долго тянул с ответом. Евдокимке казалось, что его молчание длится целую вечность, и из-за этого мысли ее совершенно запутались. Юная курсистка уже не столько заботилась о том, чтобы Гребенин позволил ей остаться в лазарете, сколько о том, чтобы сам он как можно дольше стоял вот так, рядом с ней, на расстоянии вытянутой руки. Дабы она и впредь могла вдыхать аромат каких-то духов, очень не похожих на солдатский одеколон всех прочих офицеров — он напоминал те духи, которыми время от времени овевала своих курсисток Анна Альбертовна. И хотя бы еще разок услышать из уст подполковника это, с особым великодушием молвленное «юная леди»!
— Видели вон там, у кибитки, тело женщины? — сквозь пелену романтического тумана долетели до нее слова начальника штаба.
— Видела. Издали, — убоялась Степная Воительница, как бы подполковник не устроил ей экзамен по поводу ранений той несчастной.
— Так вот, храни вас Господь наблюдать это вблизи. Подобные видения травмируют слабые души на всю жизнь, уж поверьте мне, старому солдату.
Гребенин повернулся, чтобы уйти, однако Евдокимка взмолилась:
— Но у меня-то душа не слабая, и никакой особой травмы там не случится.
— Так уж и никакой… — не спросил, а, скорее, усомнился подполковник.
— Кроме той, что уже случилась, — неожиданно пробормотала курсистка.
Возможно, офицера остановила именно эта, последняя, предельно загадочная фраза. Он резко повернулся и, словно на штык из-за угла, наткнулся на очаровывающий взгляд юной воительницы. Несколько мгновений они попросту не сводили друг с друга глаз.
— «Кроме той травмы, что уже случилась», говорите? — едва слышно произнес теперь уже Гребенин.
Однако в ответ Евдокимка только кивнула. Она боялась произнести что-либо вслух, чтобы нечаянно не порвать ту чувственную паутинку, которая только-только начинала сплетаться между ними. Еще несколько минут назад девушка и представить себе не могла, что в мире существуют мужчины с настолько удивительными, «высокородно одухотворенными» — как сказала бы все та же Анна Альбертовна, — лицами. Во всяком случае, ни в Степногорске, ни даже в кино такого привлекательного лица видеть Евдокимке до сих пор не приходилось.
«А ведь не исключено, что Жерми тоже потянулась к этому мужчине, пораженная его строгой красотой», — с ревнивой тревогой вдруг подумала девушка, открывая для себя, что рядом с подполковником проявляется едва заметная фигура соперницы — самой опасной из всех мыслимых.
— А, по-моему, вы не теми порывами увлеклись, юная леди.
— Не теми? Почему же? Многие девушки в эти дни пойдут в санитарки.
— Когда я говорил о порывах, юная леди, то имел в виду не только желание стать санитаркой походного лазарета.
— Но ведь полковник не против моей службы, разве не так? — молвила девушка то единственное, что сочла в это мгновение наиболее убедительным.
Гребенин высокомерно вскинул подбородок и, свысока взглянув на курсистку, озабоченно покачал головой:
— Ладно, подберите санитарную сумку убитой, поскольку там бинты и медикаменты, и приступайте к службе. К вечеру обмундируем вас, как сможем, и поставим в строй. Пусть начальник госпиталя напомнит о вас.
— Вот спасибочки! — возрадовалась Евдокимка, но, прежде чем метнуться в сторону грузовика, спросила: — А знаете, как мы, курсистки, называем Анну Альбертовну?
— Знаю, — улыбка у Гребенина была какой-то особенной, аристократически сдержанной. — Вы дразните ее Бонапартшей. Сама в этом призналась, только в отличие от меня, англомана, она, напротив, считает себя франкоманкой. При том, что англичане и французы — вечные соперники.
«Господи, — проводила его взглядом Евдокимка, — только бы он не влюбился в эту Бонапартшу-франкоманку! Такая ведь манерами своими кого угодно завлечь может».
24
Некстати располневший ефрейтор взглянул на Штубера с той внутренней раздраженностью, с какой обычно занятые важным делом люди посматривают на праздношатающихся бездельников: «Шел бы ты отсюда!..» Однако вслух ефрейтор спросил:
— Вы действительно хотите говорить с бургомистром, или это… шутка? — ефрейтор стоял с телефонной трубкой в одной руке и с флягой в другой и вообще вел себя с вызывающей раскованностью.
— О том, как именно я шучу, вы, ефрейтор, узнаете в другом месте и в другой обстановке, — сдержанно пообещал барон. — А сейчас оставьте в покое флягу…
— Да нет в ней шнапса. Обычная вода, — без какой-либо острастки объяснил обладатель пивного живота.
— Тем более… Фамилия бургомистра известна?
— Когда мы впервые связались с ним, то услышали в трубке: «Кречетов слушает». Причем отказывался верить, что мы — германцы; решил, что кто-то желает подшутить над ним.
— Все, ефрейтор, все, — взглянул оберштурмфюрер на часы. — Вы слишком многословны. Молча свяжите меня с этим русским чиновником, самое время пообщаться.
Ефрейтор демонстративно пожал плечами, давая понять, что вынужден подчиниться прихоти пришлого эсэсовца и после небольшой паузы начальственным тоном приказал кому-то в трубку:
— Свяжи-ка меня с этим русским висельником. Да с бургомистром, с бургомистром! С кем же еще?!
— Может, тебя сразу со Сталиным связать? — глухо раздалось на том конце.
— Вам бы лучше работать мозгами, а не языком, — буквально прорычал фон Штубер в трубку, предварительно вырвав ее из руки ефрейтора. — Русским хоть немного владеете?
— Как принято говорить у русских, я — «прибалтийский немец». — По тому, как на той стороне трубки протягивали гласные, Штубер определил, что, скорее всего, связист из Эстонии.
— Вот и свяжись с бургомистром. Объяви, что с ним желает побеседовать оберштурмфюрер СС барон фон Штубер. Коротко, но по очень важному вопросу.
— Странная нынче пошла война, если офицер СС запросто может поговорить по телефону с бургомистром тылового города противника.
Несколько секунд тишины, затем линия вновь ожила:
— У телефона. — Голос, возникший в трубке, был негромким, уставшим. Он явно принадлежал человеку, который уже ни на что хорошее в своей жизни не рассчитывал.
— Я правильно понял: вы — бургомистр Степногорска?
— А вы — в самом деле… этот самый… какой-то там немецкий офицер?
— Послезавтра мы возьмем город, и вы сумеете в этом убедиться.
— Ни хрена вы не возьмете. А если и возьмете, то… захлебнетесь собственной кровью.
— Неубедительно вы как-то произносите все это, господин Кречетов. Без идеологического пафоса, как сказали бы в райкоме партии.
— А вы что, из русских, что ли?
— Из эсэсовцев! Слышали о таких войсках?
— Да уж, наслышан. Вы чего линию занимаете? По делу позвонили? Решили сдаться? Тогда чего тянуть?
Штубер хмыкнул. Только теперь он осознал, что в его милой беседе — по телефону, через линию фронта, с бургомистром русского города — просматривается нечто ирреальное.
— Не пытайтесь перенимать инициативу, господин бургомистр. Сегодня — не ваш день. Это я вам должен предложить не оставлять город самому и не делать ничего такого, что способствовало бы эвакуации его предприятий и служб.
— Что значит, «предложить»?
— Гарантирую, что так и останетесь бургомистром украинского города Степногорска, только уже раз и навсегда освобожденного от коммунистического ига.
Штубер слышал, как бургомистр объяснил кому-то, вошедшему в его кабинет, что на проводе немецкий офицер и как тот изумился:
— То есть как это — «немецкий»?! Откуда он взялся?
— Позвонил. Из-за линии фронта.
— Вы что, товарищ Кречетов, уже с фашистскими офицерами перезваниваетесь? — возмутился вошедший. — Каким образом он вклинился в нашу линию?
— Вам, Вегеров, как старшему лейтенанту НКВД, лучше знать, каким образом вражеские офицеры умудряются звонить в горсовет по нашим телефонным линиям. Я-то к этому каким боком причастен?
— Господин Кречетов, — прервал барон этот бессмысленный диалог. — Не отвлекайтесь. Если суть моего предложения вам ясна, дайте трубку этому старшему лейтенанту.
— Кстати, теперь уже вас просят, — не без ехидства сообщил бургомистр своему собеседнику.
— Именно меня? — не сумел скрыть своей встревоженности энкавэдист.
— Именно… Поговорите, а я посмотрю, как у вас это получится. Заодно поинтересуйтесь, откуда и каким таким макаром они дозваниваются до приемной председателя горсовета.
— Господин старший лейтенант, — сразу же захватил инициативу фон Штубер, представившись перед этим. — Майор Гайдук, помощник начальника объекта «Буг-12», уже встречался с вами?
— Майор Гайдук? Это ж как понимать? Абвер теперь собирает сведения о сотрудниках контрразведки противника по телефону? Таким, значится, козерогом работаем?
— Вам следовало бы поинтересоваться, из каких источников я знаю о майоре Гайдуке и его должности.
— Понятно, из каких — из абверовских! Да только я представления не имею, о ком идет речь.
— Охотно верю, — не поскупился на джентльменский сарказм обер-диверсант. — Но если майор все же объявится, ну, скажем, совершенно случайно… уведомьте его, что звонил оберштурмфюрер фон Штубер. И что я считаю его поведение нерыцарским.
— Даже так? Нерыцарским?! Вам ли, оккупантам, говорить о рыцарстве?
— Он дал подписку о верности фюреру и службе в абвере, выдал все секреты базы «Буг-12», но затем почему-то бежал. Так офицеры не ведут себя, существует понятие офицерской чести. Кстати, не торопитесь с эвакуацией. Вы можете оставаться в городе вместе с бургомистром Кречетовым.
— А мы и будем оставаться здесь до последней возможности, чтобы ни один ваш солдат…
— Сейчас не время для патетики, — перебил его барон. — Пост начальника районной полиции вас устроит? Для начала, естественно.
— Это ты мне предлагаешь, сволочь?! — взъярился старший лейтенант. — Придет время, и мы так взбутетеним всю эту вашу эсэсовскую шваль!..
— Отставить! — решительным командирским басом охладил его оберштурмфюрер. — Кто вы, собственно, такой? Как вообще вы оказались в кабинете бургомистра? Мне нужен был офицер абвера подполковник Гайдук.
— Как, Гайдук — уже подполковник абвера?! — послышался изумленный голос Кречетова. — В чине повысили, что ли?
— Да, подполковник абвера. Повысили. И позвольте напомнить вам, старший лейтенант, что вы сами напросились на разговор о предстоящей службе рейху.
Как фон Штубер и ожидал, на том конце швырнули трубку, однако его это не огорчило. Положив свою трубку, барон еще с полминуты смотрел на нее с великосветской ухмылкой на устах: главное — посеять в стане врага раздор и смятение. Ему это, несомненно, удалось.
— Полагаю, мы с вами в расчете, господин Гайдук, — произнес он, обращаясь к телефонному аппарату. — Итоги нашей дуэли судья огласит вам в виде приговора военного трибунала.
25
Поручив свой велосипед знакомому мальчишке из ближайшего к штабу двора, Евдокимка метнулась к кибитке. Санитарке и двоим раненым бойцам, которых та опекала, помощь уже не была нужна.
Сдерживая страх перед мертвыми, Гайдук буквально вырвала лямку санитаркой сумки из конвульсивно зажатой руки женщины и намеревалась тут же поспешить на крики «санитаров сюда, санитаров!», долетавшие из соседнего переулка, но все же на минутку задержалась. Теперь она понимала, что именно имел в виду подполковник Гребенин, спрашивая, обратила ли она внимание на погибших у кибитки. Вид бойцов с развороченным животами и выпавшими наружу внутренностями был не для слабонервных. Конечно, Степная Воительница уже видела двух убитых германских летчиков, однако там, у самолета, все выглядело иначе — сдержанно и по-военному благопристойно. А тут…
В какое-то мгновение Евдокимка вдруг почувствовала, что теряет сознание, однако, вспомнив, что именно сейчас решается ее судьба, нашла в себе силы сдержаться. Возможно, спасло то, что девчушкой она несколько раз оказывалась рядом с отцом-ветеринаром, когда тот дорезал погибающих животных, чтобы сделать их мясо пригодным для употребления в пищу. Впрочем, ей следовало поторопиться…
Возможно, Степная Воительница так и ушла бы от повозки, если бы вдруг не услышала, что под передком ее кто-то стонет. Это был ездовой, мужчина лет пятидесяти. Осколком ему задело бедро, а голову он, очевидно, разбил во время падения на мостовую, сброшенный туда взрывной волной.
Евдокимка как раз завершала перевязку его стянутого жгутом бедра, когда подъехала госпитальная машина и над девушкой склонилась медсестра.
— Эй, эскулапка, ты что, из местной больницы? — поинтересовалась она, принимаясь проспиртованным тампоном протирать окровавленную голову бойца, благо та оказалась почти совершенно лысой.
— Нет, просто из местных. К медицине никакого отношения не имею, однако напросилась к вам в санитарки, вместо этой, убитой.
— Не рановато ли на службу подалась?
— Скрывать не стану: восемнадцати не стукнуло.
— Да тут и скрывать нет никакого смысла, — проворчала медсестра, доставая из сумки пакет с бинтом и принимаясь за перевязку. — Тем более что я вспомнила: тебя наш Буза прогнал, когда ты приходила проситься в лазарет.
— «Буза» — это кто?
— Начальник госпиталя, капитан. Прозвище у него такое.
— Да, капитан в самом деле прогонял. И, помнится, требовал «прекратить мерзопакостную бузу».
— Так ведь он, мерзопакостный, и на сей раз прогнать попытается. Странный человек: все, что не по его воле случается, все — буза. Так что готовься к баррикадным боям, эскулапка.
— На сей раз прогнать не посмеет. Мне сам командир полка разрешил, — кивнула Евдокимка в сторону штаба. — А второй командир, начальник штаба который, поддержал. И поставил на довольствие.
— Если весь чопорный такой, по манерам на царского офицера похожий, то действительно начальник штаба. Гребенин, кажется.
— Он-то и послал меня сюда. Расспросил обо всем, и велел служить. Правда, сумку пришлось подобрать у погибшей. У меня и своя, вон, только пустая.
Вера, как назвалась медсестра, на несколько секунд отвлеклась и заглянула в лицо погибшей коллеги.
— Тоже собиралась отходить вместе с нами…
Потом она критически осмотрела повязку Евдокимки, попробовала жгут и удивленно качнула головой:
— На первый раз неплохо. Очень даже неплохо, эскулапка.
— Я еще подучусь, — Евдокимка не стала поддаваться чарам похвалы. — К ранам и крови тоже постепенно привыкну.
— Если учесть, что крещение бомбежкой ты уже прошла, то привыкнешь, куда денешься? Вот мы с тобой еще под пулями на поле боя поползаем, и считай — всё, настоящие фронтовые эскулапки.
Вместе с мужчинами-санитарами они уложили раненого в кузов машины и, предоставив погибших задержавшейся где-то похоронной команде, поехали на соседнюю улицу, откуда тоже доносились крики о помощи. Тут Евдокимка воздала хвалу случаю, сведшему ее с Верой, поскольку вид тел, представших перед ней рядом с воронкой от бомбы, поверг новообращенную эскулапку в ужас…
26
Когда этот странный разговор через линию фронта завершился, Вегеров и «бургомистр» какое-то время молча прохаживались по просторному кабинету, стараясь при этом не смотреть друг на друга.
— А ведь Гайдук с минуты на минуту должен появиться здесь, — нарушил этот «марш молчания» старший лейтенант. — И как вести себя с ним?
— После такой «телефонограммы» от германской разведки он вообще-то вряд ли появится. Попытается скрыться.
— О звонке он, допустим, пока что не знает, — мрачно заметил энкавэдист — невысокого роста жилистый мужичок, явно призванный в ряды чекистов из числа рабочих, «для пролетарского усиления». На лунообразном лице его все еще просматривались россыпи юношеских веснушек.
— А если все-таки знает?
— Тогда все очень худо.
— Хотя, с другой стороны, именно он сообщил, что следующей ночью в районе Степногорска должны высадить большой десант, — напомнил председатель горисполкома. — Такие сведения враг давать не станет.
— Осталось только дождаться ночи, чтобы убедиться, что майор не солгал.
— Уверен, не солгал. Такие операции противник сдавать не станет. Какой смысл? Ради прикрытия какого-то завербованного перебежчика?
— Который способен основательно внедриться в органы НКВД, — напомнил старший лейтенант.
— Но ведь они сдали Гайдука. Как воспринимать этот звонок офицера-эсэсовца?
— Не исключаю, что это — заранее спланированный ход. Для подстраховки. Скрыть тот факт, что какое-то время он оставался во вражеском тылу, Гайдуку уже вряд ли удастся. Но коль сами немцы решили сдать его, значит, он свой, не предал и не продался.
— Как ни крути, а получается, что майор знал о предстоящем разговоре этого эсэсовца с нами.
Они опять помолчали. Услышав какой-то шорох за дверью, городской голова оглянулся, но, решив, что это суетится секретарша, проверять свое подозрение не стал.
— Если бы не сообщение Гайдука о десанте, все выглядело бы проще, — произнес офицер продолжая разговор.
— А чего оно в реальности стоит? Что мы успеем предпринять? Увеличим гарнизон города? За счет чего, спрашивается? Или, может, сумеем подготовить линию обороны? Так ведь известно, что основной рубеж на этом участке намечено обустроить на Ингульце, а если быть правдивее, то уже на Днепре, так что к серьезной обороне городок наш никто и не готовил. Да и какими силами его защищать нашим военным, не опасаясь попасть в окружение?
— Коменданта города полковника Селиванова вы уже предупредили?
— Предупредил. Он воспринял сообщение майора скептически.
— Таким, значится, козерогом? — исподлобья взглянул энкавэдист на городского голову.
В габардиновом френче армейского образца, с огромными накладными карманами, в неимоверно широких галифе, в очках с маленькими круглыми стеклами, Кречетов чем-то напоминал особисту Льва Троцкого, каким тот запомнил его по документальному антитроцкистскому кинофильму.
— «Это ж из каких таких источников ваш доморощенный разведчик сумел раздобыть подобные сведения?» — поинтересовался полковник Селиванов, однако ночное патрулирование пообещал усилить. Мы же с первым секретарем райкома партии решили вывести на ночное дежурство отряд народного ополчения и отряд гражданской обороны.
Они помолчали и, глядя в окно, покурили. Но при этом не заметили, что, воспользовавшись отлучкой секретарши председателя горисполкома, у приоткрытой двери мается городской юродивый Гурька.
Он уже дважды прорывался к Кречетову с идеей раздать оружие жителям, а всех солдат рассадить по домам, чтобы, как только немцы войдут в город, из каждого дома по ним открыть стрельбу и всех перебить. «Больше ни один немец в город не сунется,» — уверял Гурька, восхищаясь собственным полководческим гением. Да вот беда, городской голова[14], как его называли в Степногорске, глубиной этого стратегического замысла так и не проникся, а потому оба раза выставлял Гурьку за дверь, с угрозой: «Еще раз сунешься со своими идиотскими советами, так отхлещу нагайкой, что сам Махно в аду тебе позавидует». Угроза на блаженного Гурьку не подействовала; «личный советник Махно» снова топтался у двери, и, подслушивая разговор двух вершителей судеб города, ждал своего часа, чтобы предложить еще более гениальный план.
— Кстати, — подался городской голова к телефону, — сейчас тоже надо бы позвонить первому секретарю райкома, доложить о звонке эсэсовца и что немцы способны вклиниваться в наши телефонные линии.
Городской голова уже потянулся к трубке, однако старший лейтенант на какое-то мгновение раньше успел положить на нее свою руку. Кречетов удивленно взглянул на энкавэдиста.
— По этому поводу в райком звонить пока что не нужно, — как можно внушительнее проговорил тот.
— Вообще? — испугался городской голова собственного предположения.
— К чему торопиться?
— Но поставить в известность, подстраховаться нужно бы.
— Обычно вы подстраховывались с оглядкой на «органы». Теперь начальник этих самых «органов» перед вами. И позвольте ему решать — что, кому и под каким предлогом следует доводить до сведения.
— Но ведь фашист этот и со мной тоже говорил.
— Тут, Иван Гаврилович, дело вот каким козерогом оборачивается. Это мы здесь, за двадцать километров от линии фронта, понимаем, как могло случиться, что на связь с нами вышел германский офицер, эсэсовец. А там, за Днепром, особо разбираться в ситуации не станут. И, если вдруг случится, что мы хоть на какое-то время окажемся в окружении, то есть на оккупированной врагом территории, — а при нынешней ситуации на фронте такое исключать нельзя, — тогда уж дела наши будут совсем плохи. Разом всплывут и наши переговоры с немцами, и наше «добровольное» пребывание в тылу врага; и тут уж, по законам военного времени…
— Если и в мирное не очень-то старались вникать в ситуацию, — задумчиво признал «бургомистр», на минутку забыв, что перед ним офицер НКВД. Впрочем, теперь они чувствовали себя заговорщиками, от поведения каждого из которых зависит их общая участь.
— И каков же выход? — спросил старший лейтенант, слегка приглушив голос.
— Это вы меня спрашиваете?! — испуганно отшатнулся городской голова. — Разве не вам решать такие вопросы?
— Но вы же понимаете, что, если мы будем бездействовать, майор Гайдук не только безнаказанно сможет орудовать в нашем тылу, в органах… Он еще и предстанет в облике героя, добывшего важные сведения о вражеском десанте. Причем сведения, подтвержденные ночной атакой противника. Таким вот козерогом все может обернуться.
Кречетов дипломатично прокашлялся, немного пометался по кабинету и, наконец, произнес именно то, что хотел услышать от него энкавэдист:
— По всем признакам, тут дело партийной важности. А в таких делах члены партии всегда прислушивались к тому, что решат «органы».
— Опять затеваете эту словесную канитель? — одернул его Вегеров.
— Никакой канители. На сей раз — никакой. Я соглашусь с любым вашим решением, исход которого конечно же останется между нами.
— То есть в наших общих, государственных и партийных, интересах — убрать этого Гайдука, — не очень-то решительно, как бы размышляя вслух, произнес Вегеров, возводя, таким образом, расправу над майором в ранг обоюдного решения. — Причем сделать это при первой же возможности. Такой, значится, козерог у нас вырисовывается.
Услышав это, Гурька смахнул с лица маску городского придурка и, неслышно перекатываясь с пятки на носок, убрался из приемной.
27
— А, ты опять здесь?! — вяло как-то удивился начальник походного госпиталя капитан Зотенко, увидев Евдокимку въехавшей на территорию госпиталя на санитарной машине.
— Как видите, — без какого-либо вызова, скромно потупив глаза, ответила курсистка. — Я ведь уже говорила, что хочу служить у вас.
Заметив, что вслед за курсисткой на землю спускается медсестра Вера Корнева, эскулап-капитан недовольно покряхтел в ответ, однако поступаться принципами не пожелал.
— Только тебя нам сейчас и не хватало, — пробубнил он.
— Но теперь я появилась по приказу командира полка и начальника штаба.
— Точно, она у самого полковника Селиванова разрешения спрашивала, — тут же подтвердила Корнева.
— Если по приказу, тогда уже не «появилась», а «прибыла», — начальник госпиталя сжал тоненькие, словно шнурки, и почти бескровные губы.
— Так точно. Прибыла. Для прохождения этой, ну, санитарской медслужбы…
— Вот именно: «санитарской медслужбы», — поморщился худощавый, бестелесный какой-то капитан. Затем он долго протирал запыленные очки еще более запыленным носовым платочком, не зная, как вести себя с настырной девицей дальше. — И все же это нарушение закона, — Зотенко неуверенно попытался оправдать свое нежелание видеть Евдокимку в составе госпитального штата.
— Саму войну и все, что на ней сейчас происходит, вы, товарищ капитан, конечно же считаете «законными», — попыталась въедливо усовестить его медсестра Корнева. — Ну-ну…
— Ладно, кончаем эту бузу, — сдался эскулап-капитан. — Если командование полка действительно так решило, то… ему виднее, — осуждающе пожал он своими тощими плечиками-крылышками. Начальник даже не пытался скрыть, что недоволен решением полковника, но вынужден подчиниться.
— И даже не сомневайтесь. По мудрости своей, командование в самом деле зачислило Евдокию Гайдук в личный состав и поставило на довольствие, — победно, с явным намерением хоть в чем-то досадить, дожимала его Вера, наблюдая за тем, как мужчины-санитары снимают с кузова носилки с раненым зенитчиком.
Из небольшого особнячка, наспех приспособленного под операционную, донесся душераздирающий крик какого-то солдатика, судя по голосу, явно мальчишки. Однако встрепенуться он заставил только курсистку, остальные же, в том числе и мужчины-санитары, курившие на ступеньках приемного отделения в ожидании следующей партии раненых, отнеслись к этому всплеску боли без особых эмоций. Когда же вопль повторился, один из санитаров даже проворчал:
— Лучше бы матерился, так оно для души и боли отходчивее.
— Моли Господа, чтобы сам в его шкуре, да на этом же столе, не оказался, — упрекнул его «собеседник по махорке».
Что же касается эскулап-капитана, то он даже не взглянул в сторону операционной, зато стал еще мрачнее и, пусть и запоздало, но все же огрызнулся:
— По мудрости или по глупости назначили эту девчушку в санитарки — мы еще посмотрим, — ответил он медсестре. — И кто ей больше добра желает: я или ты со своим командованием — над этим тоже еще подумать надо.
— Во всяком случае, я уже видела, как эта эскулапка перевязывает. Толковая девчонка; главное, что крови да мяса людского не боится. Сама я, помню, поначалу раз пять сознание теряла. Словом, пусть служит.
— Так ведь восемнадцати ей нет! Наверняка и в штабе соврала.
— Да что вы все годы наши девичьи считаете, эскулап-капитан? Пока вы решитесь звать девушку замуж, она аккурат созреет, — вновь осадила его пышнотелая тридцатилетняя Корнева, давая понять, что с этой минуты Евдокимка окончательно переходит под ее попечительство.
— Ну при чем тут «замуж», Корнева?! — болезненно поморщился начальник лазарета. — Не видишь, что ли? Вокруг — сплошная буза… Как и вся эта мерзопакостная служба, которая тоже — буза.
— А при том, что и сама я когда-то пришла в госпиталь, после медсестринских курсов, птенчик-птенчиком. Однако же ничего, оперилась да остепенилась. В отличие от вас, товарищ капитан, поскольку вы все никак не остепенитесь.
— Прекратить бузу, Корнева!
— Так еще ж даже и не начинала, — язвительно, воинственно подбоченясь, огрызнулась медсестра. — Если уж я в эту самую «бузу» ударюсь, наш эвакогоспиталь, как он теперь именуется, придется расформировывать.
— Его следовало расформировать сразу же, как только ты была зачислена в штат.
Словно бы испугавшись собственной щедрости, с какой он наделил красотой крепкое тело этой рослой женщины, Всевышний тут же уравновесил свои старания скуластым, небрежно вытесанным, а главное, испещренным фурункулами лицом. Однако Евдокимке она как-то сразу понравилась. Причем настолько, что даже доверилась ей своим уличным прозвищем.
— Теперь понимаешь, почему весь госпиталь капитана «бузой» называет? — еле слышно, почти сквозь стиснутые зубы поинтересовалась Вера. — А порой еще и «мерзопакостной»?
— Чего уж тут непонятного?
— Ниспослали же мне вас господь и командиры! — поморщился тем временем капитан, наверняка услышав их перешептывание, и поспешил в канцелярию госпиталя. — Не служба, а сплошная мерзопакостная буза!
Сняв с машины последнего раненого, девушки вместе с санитарами отправились на ней к железнодорожной станции. В тот день немцы бомбили «железку» с особым остервенением, не обращая внимания на то, что с разных сторон ее прикрывали два зенитных орудия и две пулеметные спарки.
Там все еще горел какой-то вагон, который пытались тушить две пожарные машины и несколько десятков солдат. Руины вокзала дымились. Однако раненых осталось только трое — красноармеец и двое путейцев, уже кое-как кем-то перевязанных; остальных успели увезти на армейских машинах.
С помощью санитаров и подоспевших патрульных девушки погрузили страдальцев на устланный сеном и застеленный брезентом кузов и были убеждены, что спасут их, но на обратном пути снова попали под бомбежку. Буквально в двухстах метрах от госпиталя штурмовик устроил на них настоящую охоту. Санитары успели спрыгнуть первыми и кто знает, как сложилась бы судьба Евдокимки… но, воспользовавшись очередным разворотом самолета, Вере удалось схватить сжавшуюся в калачик курсистку и буквально выбросить ее на дорогу.
Едва девушки успели забежать в ближайший двор и упасть за невысокой каменной оградой, как бомба взорвалась почти рядом с грузовиком, буквально в трех шагах от борта, где до этого пряталась курсистка. Вслед за этим раздался еще один взрыв, очевидно, уже бензобака машины…
Когда налет окончился, эскулапки вышли из своего укрытия, однако, приблизившись на несколько метров к тому месту, где стояла машина, испуганно уткнулись лицами в плечи друг друга. Это была единственная возможность не видеть того ужасного месива из дерева, металла и человеческой плоти, которое им открывалось. Немного придя в себя, они бросились бежать от этого страшного места. За углом ближайшего переулка курсистку беспощадно стошнило.
Впрочем, прежде чем свернуть за угол, Евдокимка оглянулась и заметила, что к месту взрыва осторожно приближаются усатые санитары. Она им искренне посочувствовала.
— Вот это правильно. Это хорошо, что вырвало, — похлопала ее по плечу Вера, окончательно приводя в чувство.
— Да что ж тут хорошего? — та стыдливо вытирала губы отрезком бинта.
— В самом начале войны точно в такой же ситуации одна фронтовая фельдшерица сказала мне: «Не тушуйся, эскулапка: для медсестры первая рвота, как для новобранца — первый артобстрел».
— Тоже мне философ-самоучка, — поморщилась Евдокимка.
— Не скажи. Она оказалась права. Буквально через два часа после этого разговора наша Акулина Никитична погибла от осколка какого-то залетного дальнобойного снаряда. Только и оставила мне на память о себе приданое в виде словечка «эскулапка», которым щеголяла еще со времен Гражданской войны.
— Неужели в Гражданскую она уже служила эскулапкой?! — удивилась курсистка.
— Служила. Сначала санитаркой, затем медсестрой. Одно время, за неимением «пролетарски преданного» доктора, даже командовала госпиталем…
Степная Воительница понимала, что Вера занимает ее разговорами, чтобы отвлечь от жутких впечатлений. Но именно эта уловка помогла им обоим войти на территорию госпиталя сдержанными и почти спокойными — настоящими фронтовичками.
28
В течение двух часов Гурька дежурил у перекрестка, где городская улица пересекалась с пролегающим через Степногорск шоссе. Возвращавшийся с фронта Гайдук неминуемо должен был появился на нем, каким бы способом ни добирался до райсовета, неподалеку от которого, в тупиковом закоулке, за высокой оградой скрывался еще и двухэтажный особняк НКВД. На съезде с шоссе чернела свежая воронка с растерзанной лошадиной тушей на склоне: любой машине придется ее медленно, осторожно объезжать. Так что Гурька знал: здесь он обязательно сумеет перехватить майора!
В расчетах своих «первый анархист Гуляйполя» не ошибся. Водитель старого ведомственного грузовичка, доставившего в город каких-то важных беженцев из-за Ингула, охотно подчинился требованию майора НКВД оставаться в его распоряжении, поскольку никакого желания возвращаться к линии фронта у него не имелось. По пути сюда он и так дважды попадал под артобстрел.
Заметив Гурьку, первого знакомого ему человека, майор тут же высунулся из кабины:
— Уж не в должности ли регулировщика вы тут определились Гурий Гурьевич?
— Только для того, чтобы дождаться вас, — спокойным, жестким, а главное, вполне осознанным голосом ответил этот рослый, видный мужчина, в ком трудно было признать сейчас местечкового юродивого, облаченного в истрепанный мундир «белогвардейского» покроя, только без погон и портупеи.
— Именно меня? Опять фантазируем, Гурий Гурьевич? — легкомысленно ухмыльнулся энкавэдист. Он оставался единственным в городке, кто обращался к юродивому по имени-отчеству; все остальные давно забыли их, как и саму фамилию этого потомственного дворянина — Смолевский.
— Вас, господин Гайдук, — одернул свой замызганный китель Гурька. — И, представьте себе, без каких-либо фантазий, — как «городскому юродивому», ему многое прощалось, в том числе и слова, с какими он единственный мог обратиться к кому угодно, от секретаря райкома до уличной торговки семечками. Впрочем, сегодня Смолевский произнес слово «господин» с особой строгостью.
Заметив, что Гурька, выразительно повел выпяченным подбородком в сторону, явно вызывая его из кабины, майор понял: это неспроста, и, приказав водителю ожидать, вышел. Он все еще оставался в форме лесничего, глядя на которую не каждый мог догадаться, кто перед ним на самом деле.
— Ни в горисполком, ни в НКВД вам сейчас нельзя, господин майор, — юродивый увлек Гайдука под крону яблони. — Вас даже арестовывать не станут, а просто так, по-тихому, уберут. Скорее всего — выстрелом в спину, чтобы не возиться и не подставлять самих себя.
— Ты что несешь, Гурька? — особист не сумел скрыть под улыбкой свою растерянность. — Совсем свихнулся от бомбежки?
— Я случайно подслушал разговор городского головы и старшего лейтенанта Вегерова, начальника местного управления НКВД.
— Мне прекрасно известно, кто такой Вегеров. Но по какой такой странности это известно тебе, Гурька?
— Я давно свыкся со своим уличным прозвищем, поэтому не старайтесь оскорбить меня, господин майор.
— Товарищ… майор, — жестко спрессовал Гайдук слово «товарищ». — Однако не в этом дело. Уж не хочешь ли ты сказать, наш юродивый, что тебе известны фамилии и должности всех руководителей города и района?
— Сотрудников местного управления НКВД — тоже, — ничуть не стушевался Гурий Смолевский. — Но мы не о том говорим, а времени очень мало.
— Что именно ты слышал? Кто и почему намеревается убрать меня?
— Я, конечно, могу обращаться к вам «товарищ». Хотя офицер СС, звонивший господину бургомистру Кречетову, а затем беседовавший с энкавэдистом Вегеровым, называл вас именно так — «господином майором».
— Как понимать это ваше «беседовал»? — неожиданно перешел Гайдук на «вы».
— Во время очередного прорыва фронта, германские связисты сумели вклиниться в нашу телефонную линию. Насколько я понял из разговора, один из офицеров СС набрался наглости позвонить городскому голове и предложить ему пост бургомистра Степногорска, который немцы возьмут через двое суток.
— Это фон Штубер, — пробормотал про себя Гайдук.
— Вы сказали «фон Штубер»? Возможно. Фамилии этого эсэсовца я расслышать не мог.
— Что еще? — сурово подстегнул Гурьку майор.
— Заодно фон Штубер потребовал к телефону вас, убеждая Кречетова, что вы согласились служить рейху. Можно не сомневаться, что это всего лишь форма мести. Но для городского головы и Вегерова его извещение — повод для расправы с вами.
— То есть Вегерову захотелось получить орден за раскрытие опасного вражеского лазутчика…
— Он и в самом деле готов превратить вас в давнего агента абвера. Невзирая на то, что вы сообщили о планируемом немцами десанте.
— О десанте вам тоже известно? — подробности раскрывающейся тайны «городского юродивого» интересовали майора сильнее, нежели истоки нависшей над ним самим смертельной опасности.
— Во всяком случае, — не стал отвлекаться на его риторический вопрос Гурька, — старший лейтенант немедленно арестовал бы вас, однако…
— Что же его сдерживает?
— Опасается, что за связь с офицером абвера ему тоже могут основательно потрепать нервы. Словом, появляться сейчас в каком-либо из начальственных кабинетов Степногорска вам не стоит.
29
В госпитале особых разрушений не наблюдалось. Одна из бомб упала чуть в сторонке от металлических ворот, слегка изувечив их. Другая разнесла дом, вплотную примыкавший в больничной ограде. Больницу, а вместе с ней и госпиталь, спасло то, что располагались они вдали от железной дороги и городского центра, а корпуса и армейские палатки были разбросаны по территории старого густого парка, не привлекая особого внимания вражеских пилотов.
— Где машина? — встревожился капитан Зотенко, который вместе с главным врачом, — полноватым, страдающим от бессонницы и гипертонии стариком хирургом из гражданских, уже занимался подготовкой к эвакуации. — Вы почему прибыли «безлошадными»? Где машина, где раненые?
Евдокимка не отвечала. Она наблюдала, как в траве, завалившись на бок, бился в предсмертных судорогах большой старый ворон с толстым, потрескавшимся клювом. Брюхо его было распорото, наверное, осколком, и теперь он призывно каркал, то ли прощаясь с жизнью, то ли моля о помощи.
— Радуйтесь, товарищ эскулап-капитан, что хоть мы с Евдокимкой да санитары уцелели, — устало ответила тем временем медсестра Вера, краем глаза наблюдая, как «новенькая» склоняется над издыхающей птицей. — Бомбой нас накрыло. Шофера, раненых и машину помянем перед отбоем.
— Когда я вижу тебя, Корнева, я всегда радуюсь, — сокрушенно покачал головой начальник госпиталя…
— Я это, ох, как чувствую.
— …причем радуюсь обычно до слез.
— Вот если бы меня не стало, вы, конечно, плакали бы до смеха. Но учтите, — ехидно улыбнулась Корнева, — что без взаимности в таких случаях не обходится.
Евдокимка понимала, что между этими людьми сложились какие-то особые отношения; но вот куда капитан и Вера больше склонялись в своих чувствах — к тайной любви или к откровенной неприязни, — этого она пока что не постигала. Ей не верилось, что медсестра по-настоящему влюблена в эскулап-капитана, но очевидно было, та просто мстила этому офицеру за то, что тот видел в ней только медсестру, не желая видеть женщину.
— Не о том думаешь, Корнева. Лучше думай о том, как нам теперь без еще одной машины обходиться. Опять выпрашивать надо. Неизвестно только, у кого.
Ворон открыл глаза и потянулся клювом к руке девушки, присевшей рядом. Евдокимка ничем помочь ему не могла, но и птица тоже понимала, что обречена. Она слегка ущипнула человеческую руку, потом просунула клюв в полусогнутую ладошку Евдокимки и затихла, теперь уже навсегда.
— А скольких раненых из-за этого потеряем, — невнятно как-то сокрушался главврач, едва совладав со своей вставной челюстью. — Да к тому же опять эта чертова эвакуация. В который раз бежим. Куда, спрашивается? — беспомощно вопрошал он, внимательно присматриваясь сквозь толстые стекла очков к тому, чем занято внимание молоденькой санитарки. — Мы бежим, а они бомбят; мы отступаем, а они…
— Ты, новенькая! Как тебя? — не желал выслушивать его риторические стенания эскулап-капитан.
— Евдокия Гайдук.
— Ты ворона, падальщика этого, в покое оставь.
— Птица все-таки, — оправдываясь, произнесла курсистка.
— Его, воронья этого, знаешь, сколько вокруг госпиталей каркать будет? Потому что настало его, воронье время…
— И быстро иди на склад, — появилась на крыльце дородная, необъятная какая-то сестра-хозяйка. — Обмундируйся да пообедай. Ты у нас росленькая, телом Господь не обидел, так что одежку подобрать будет несложно.
Евдокимка разжала кулак и выпустила из него клюв птицы.
— Дома хоть знают, что ты служишь в госпитале? — спросил капитан, когда курсистка приблизилась к крыльцу.
— Нет пока что.
— И разрешения у родителей ты, понятно, не спрашивала. Вот так вот, взяла, и сама все решила: наврала, год себе приписала… А я хотел уберечь тебя от этого ада.
— Для кого? Для немцев, что ли, вы беречь ее собирались, эскулап-капитан? — вклинилась в их разговор медсестра Корнева, почти вплотную приближаясь к начальнику госпиталя.
— Почему сразу… для немцев?
— Да потому, что не завтра, так послезавтра, здесь уже будет располагаться фашистский госпиталь, по дворам станут шастать наглые «гансы» и прочие швабы. А они свидетельств о рождении не спрашивают, сгребают и насилуют.
— Кор-не-ва! — интеллигентно поморщился Зотенко. — Ну, зачем так сразу?
— Что «Корнева», что «Корнева»?! И вообще, что вы так смотрите на меня, эскулап-капитан? Словно не понимаете, что для этой украинской дивчины служба в госпитале — возможно, единственный способ вырваться из другого, более страшного ада — ада окружения и фашистской оккупации?
— Да нет же, я не только ради того, чтобы уехать из города… — попыталась было объяснить Евдокимка.
Но медсестра жестко пресекла эту ее попытку:
— Ты, эскулапка, иди себе, иди… Игнатьевна подберет для тебя все самое лучшее. Да и весь этот разговор — не для твоих непорочных ушек.
— Хорошо, хорошо, иду. Только вы из-за меня тут не ссорьтесь, — курсистка повертела головой, чтобы одновременно видеть реакцию и капитана, и медсестры.
— Можно подумать, что без тебя мы здесь не каждый день бодались! — неожиданно «успокоила» ее Вера.
30
Заметив неподалеку колодец, водитель, невысокий, чахоточного вида мужичок, взял ведро и, предупредив майора, что нужно подлить в радиатор, направился к «журавлю». Тем временем на испещренном выбоинами шоссе появилась очередная колонна беженцев: вслед за тремя грузовиками тащилось несколько доверху нагруженных подвод, рядом с ними устало брели старики, женщины и дети.
— И что же вы предлагаете, господин Смолевский? — особист с трудом вспомнил фамилию собеседника, быстро потеряв интерес к исходу беженцев.
Юродивый стоически выдержал на себе очередной пронизывающий взгляд майора и спокойно ответил:
— Как вы в будущем намерены нейтрализовать Вегерова и городского голову — это меня не интересует. Но коль уж вы спросили моего совета… На вашем месте я немедленно уходил бы дальше, на восток, — повел он подбородком в сторону хвоста удаляющейся колонны. — Полагаю, ваш чин и статус позволят вам пройти любые тыловые посты. Если, конечно, вы окончательно отказались от намерения остаться по эту сторону фронта.
— Лично у меня никогда подобного желания не возникало, — резко отреагировал Гайдук. — Но был приказ. Впрочем, вас, Гурька… — иронично осклабился майор, произнося кличку конюха, — это не касается.
— Стоит ли реагировать столь болезненно? Что такое война, как не время вселенского выбора?
— Не пытайтесь убедить меня в том, что вы еще и великий философ. Попробуйте ограничиться лаврами великого актера. В течение стольких лет играть роль городского сумасшедшего — это, знаете ли, случай в мире искусства уникальный. Как, впрочем, и в мире разведки. В принципе я должен тут же арестовать вас, господин Смолевский.
По ту сторону шоссе готовились к эвакуации какие-то учреждения. Там суетились и спорили между собой люди, занимавшиеся погрузкой всевозможных коробок и ящиков, матерился водитель машины, мотор которой никак не заводился, и, словно бы предчувствуя беду, испуганно ржали кони.
— Вряд ли мой арест способен изменить отношение к вам местных органов и руководства, господин майор, — молвил Гурька, насмешливо наблюдая за этой суетой. — Подумаешь: разоблачить местного юродивого в минуты временного просветления его разума, которое и раньше случалось не так уж и редко! Я уж не говорю о том, что сама попытка арестовать меня будет связана с определенным риском, — просунул он руку под борт френча, где за брючным ремнем покоился наган.
Воцарилась неловкая пауза, в ходе чего майор сумел изменить и тон беседы, и свое настроение:
— Ладно, отставить горячку. В самом деле, не время… Вопрос по существу: почему вдруг вы решили помочь мне, господин Смолевский? Почему предупреждаете об опасности? Ведь, при любом раскладе, я для вас — идеологический недруг.
— Когда в тридцать седьмом в органах появился донос, где я разоблачался, как скрытый враг и симулянт, именно вы, господин «идеологический недруг», спасли меня от неминуемого расстрела, убедив своих коллег, что они имеют дело с душевнобольным.
— Причем душевнобольным, «получившем не только ранение, но и душевную травму в борьбе с классовым врагом», — уточнил Гайдук.
— Вот именно. Тогда я был немало удивлен вашим заступничеством, поскольку понимал: вы-то прекрасно знали, что я действительно симулирую. Для меня до сих пор остается загадкой, почему вы поступили таким образом.
— То есть своим сегодняшним поступком вы намеревались отблагодарить меня за спасенную вам жизнь?
— Естественно. В этом городе и в этом мире найдется не так уж много людей, которые когда-либо приходили мне на помощь. Однако вы ответили всего лишь вопросом на вопрос.
— Отгадка проста: вместе с вами изобличалась бы известная вам Анна Альбертовна Жерми.
— Наша Бонапартша? — вскинул брови Смолевский. — Этого я не знал. Для меня конечно же не было секретом, что госпожа де Жерми находится под особо пристальным вниманием чекистов. Но о том, что ее имя связывают с моим — видит бог, не ведал.
— Так вот, когда Бонапартша работала в Одессе и пребывала в краткосрочном замужестве, мне, бездомному, пришлось какое-то время квартировать у нее. И даже оказаться одним из героев ее романа, возможно, в какой-то степени виновным в разводе с супругом.
— Но не в его, последовавшем после этого, аресте, как уверяла меня Анна Альбертовна.
— Ему бы оставаться обычным учителем физики, коим являлся по своему диплому, а он подался в университетский кружок философии, памятуя о том, что в молодости отец его тоже выступал со статьями и лекциями по истории христианства.
Водитель уже возвращался с полным ведром, и, краем глаза наблюдая за ним, Гайдук нервно решал, как вести себя дальше.
— О ваших отношениях с госпожой де Жерми в органах, понятное дело, знали, — помог Гурька майору вернуться к сути их диалога.
— Вот и получается, что, спасая вас, я, по существу, спасал и Анну Жерми, и себя. Тем более что наши с вами задушевные разговоры в ГПУ тоже были известны.
— А представать в образе чекиста, проворонившего сразу двух хорошо известных ему «врагов народа», вам не хотелось, — уже в который раз продемонстрировал вполне здравый смысл вчерашний юродивый. — У нас есть два варианта. То ли мы сейчас же едем в здание НКВД и без лишнего шума укладываем всех, кто там находится… — чуть приподнял он кончик рукояти финки, покоящейся у него за голенищем.
— После чего затаимся и будем ждать прихода немцев?
— Нет, я — русский офицер, и к немцам в услужение не пойду. В этом плане мы с вами союзники. Уверен, что наступление вермахта спровоцирует восстание белогвардейских сил на Дону, Кубани и на Тереке, к ним я и присоединюсь. Не исключено, что вместе с вами.
— Значит, вы все же бывший офицер?
— Почему «бывший»? Просто офицер. Прапорщик контрразведки армии Деникина и подпоручик контрразведки при штабе Врангеля. Последний свой чин в армии «черного барона» я получил за сутки до его исхода из Крыма. Не скрою, был тронут. В той ситуации, в которой находилось тогда Белое движение в Крыму, таким образом вспомнить о подчиненных…
— Для вас так важно было, в каком чине оставаться в тылу красных, причем в мирное время?
— Как минимум шесть поколений в моем роду были офицерами. Нужны еще какие-то объяснения?
— Достаточно. Даже предположить не мог, что в наши дни человек, известный в образе юродивого, способен хранить в своей биографии столько тайн.
— Случается, господин майор, случается. Поскольку уходить за море я отказался, то вместе с группой других офицеров разведки и контрразведки был оставлен для подрывной работы в тылу красных. По существу, законсервирован на территории Совдепии до лучших времен, выполняя приказ: укорениться, выжить, ждать дальнейших приказаний. О повышении до чина штабс-капитана узнал уже после завершения Гражданской войны — от связного, прибывшего из Одессы и получившего сообщение из-за рубежа.
— Долгое время там существовал канал, хорошо налаженный с помощью моряков дальнего плавания, — понимающе кивнул Гайдук. — Однако новых приказаний относительно вашей деятельности, господин штабс-капитан, так и не последовало.
— Заключительная часть приказа гласила: «До поступления нового приказа, действовать, сообразуясь с обстановкой». Её-то связник и подтвердил.
— С какой стати столько подробностей?
— Чем меньше останется тайн, тем больше мы станем доверять друг другу. Разве не так?
— Рассчитываете, что я присоединюсь к отрядам белогвардейских повстанцев?
— Вскоре вы откроете для себя, что мы, русские, наконец-то перестали делить свой народ на «белых» и «красных». И что у нас одна цель — свободная демократическая Россия. Помянете мое слово: рано или поздно над Спасской башней Кремля снова взовьется трехцветное национальное знамя России — именно то, под которым шли в бой полки Белой гвардии. А на гербе новой России появится двуглавый имперский орел.
— Стоит ли загадывать… — произнес майор, уже направляясь к машине. — Тем более — сейчас, когда у порога германская орда?
— Сам понимаю, что не время дискутировать. Что же касается нашего ухода из города… Как я понимаю, на истребление Вегерова и его подчиненных вы не решились?
— Из принципиальных соображений.
— Даже учитывая, что из этих же соображений старший лейтенант хоть сейчас готов отправить вас на тот свет, — не спросил, а бесстрастно констатировал штабс-капитан. — В таком случае, садитесь в машину и заезжайте за Серафимой Гайдук.
— Почему именно за… Серафимой?
— Какой ответ вы надеетесь услышать от меня, господин майор?
— Понятно, — вздохнул Гайдук, уясняя для себя, что даже, казалось бы, совершенно тайные отношения между ним и женой двоюродного брата Николая для штабс-капитана Гурьки тайной не являются.
— Кстати, мужа ее призвали, — не стал вдаваться в излишние объяснения и сам «юродивый». — В звании старшего лейтенанта он теперь возглавляет ветеринарную службу при штабе кавалерийской дивизии и находится далеко от Степногорска. Так что позаботиться о ней больше некому, а оставлять ее в тылу — нельзя.
— План принимается.
— Я тем временем подготовлю к уходу нашу дражайшую Бонапартшу. Мой походный чемоданчик уже у нее. Уверен, что вы подъедете к ее дому. Под ваше «слово офицера».
— Считайте, что оно сказано.
— Поскольку ночью здесь уже будет вражеский десант, до темноты мы должны оказаться в районе Ингульца. Только тогда сумеем вырваться из смыкающегося кольца окружения. Наша основная задача — как можно скорее переправиться на левый берег Днепра, где сейчас готовится очередной рубеж обороны. Дальше — исходя из обстановки. Скорее всего, мы с госпожой де Жерми направимся в сторону Дона.
— То есть опять на Дон… — понимающе кивнул Гайдук, имея в виду, что именно туда уходили тысячи бывших царских офицеров, готовясь к формированию Белой гвардии. Он произнес это, уже стоя на подножке грузовика.
— Надеюсь, мой «белый» военный билет и справка из психбольницы, полученная не без вашей помощи, все еще не утратили своей силы, — вполголоса молвил Гурий. — Даже в военное время.
— Однако оставляю за собой право задать вам еще несколько вопросов, господин Смолевский. Уже сугубо из любопытства.
— Во имя укрепления доверия, — деликатно уточнил штабс-капитан.
31
Помогая Евдокимке переоблачаться, сестра-хозяйка, выступавшая здесь и в роли каптенармуса, не могла нарадоваться: «Вот что значит настоящая казачка! Вот что значит “девка в теле”. Еще “теластее” будешь, нежели Корнева. Ну вот, и юбка, будто на тебя шита. И гимнастерка… Ничего-ничего, чуточку приталим, на два пальца укоротим. Главное, сапоги на ходу терять не будешь. Всех прочих женщин обмундировывать — одно сплошное наказание. Но ты-то… ты — настоящая фронтовичка».
— А, по-моему, все какое-то мешковатое.
— Ну, тоже мне претензии! Это ж не на заказ у модного модельера шито. Поносишь, привыкнешь…
Когда минут через двадцать они снова появились на крыльце, эскулап-капитан, дежурный врач Онищенко и Корнева как раз провожали четыре выделенных командиром дивизии крытых грузовика, на которых раненых увозили в тыловой госпиталь за Ингулец. Это было началом эвакуации всей медсанчасти.
— Если я верно понял, о твоей «солдатчине» мать еще не знает? — обратился капитан к Евдокимке, как только госпитальная колонна покинула территорию госпиталя.
— Ничего, я напишу ей об этом в письме, — легкомысленно заверила его курсистка.
— Интересно, куда ты собираешься ей писать, если дня через два здесь уже будут фрицы?
— Тоже правда, — с тем же легкомыслием признала его правоту Евдокимка. В эти минуты ее больше волновало мнение Корневой и мужчин о ее фронтовом одеянии, нежели переживания матери.
— Тебе хватит ночи для марш-броска домой, а также на солдатские сборы и прощание?
— Вполне. Недалеко отсюда, у знакомых, я оставила свой велосипед.
— В таком случае, не будем разводить бузу, — вскинул капитан руку с часами. — Кстати, смотайся в училище, постарайся взять справку о том, что ты училась в нем и проходила медподготовку. Пригодится. Не позже восьми ноль-ноль утра явиться в госпиталь и доложить!
— Хорошо, ровно в восемь утра, как сказано…
— Не «хорошо», а «есть!», — с упреком прервал ее начальник госпиталя. — И не «как сказано», а «как приказано».
— Учту. Скажите, оружие мне положено?
Капитан и Корнева заинтригованно как-то переглянулись.
— Может, тебе еще и пушку-сорокапятку вручить? — на ходу бросил невропатолог Онищенко.
— Лучше бы пистолет или карабин, — вполне серьезно уточнила курсистка.
— Так ты что, и стрелять умеешь?! — удивленно вскинула брови Корнева.
— Если товарищ капитан рискнет доверить мне свое оружие — продемонстрирую на стволе ближайшего дерева.
— Не рискну, — мгновенно отреагировал капитан. — Меня же первого и застрелишь.
— Не-е-ет. Это случится, только когда в руки оружие возьму я, — пообещала медсестра. — Вот тогда уж можете не сомневаться.
— Не разводи бузу, Корнева, — решительно покачал головой капитан. — Не доводи до уставного греха.
— До «уставного греха» — это как? Неужели существует еще и такой грех?
— Кстати, — проигнорировал ее начальник госпиталя, обращаясь к Евдокимке, — подполковник Гребенин только что звонил, судьбой твоей интересовался. Причем так придирчиво интересовался… Ты что, давно знакома с ним?
Степная Воительница замялась лишь на несколько мгновений, ровно настолько, чтобы скрыть свое удивление. Вот уж чего она не ожидала, так это звонка начальника штаба.
— Кажется, я вам уже говорила, что мой отец — старший лейтенант и служит при штабе дивизии?
— Кажется.
— Так вот, майор Гребенин — его двоюродный брат, а значит, мой дядя.
— Что ж ты молчала об этом? — стушевался капитан.
— Разве сам Гребенин не сообщил?
— Значит, еще сообщит, — подыграла ей Корнева. — Так что лучше сразу же наделите ее пистолетом, а то влетит вам, товарищ капитан. Может, даже в звании понизят.
— Опять ты свою бузу мерзопакостную затеваешь, Корнева?
— Кроме того, что подполковник интересовался, как я устроилась, — перебила их курсистка, — он еще что-нибудь сказал?
— Вызова в штаб не было, это точно.
«А жаль, мог бы и вызвать», — про себя отметила Евдокимка. Знал бы этот эскулап-капитан, как ей хотелось сейчас увидеть Гребенина! Просто взглянуть на него, хотя бы издали. Но девушка понимала, что задавать какие-либо наводящие вопросы по поводу начальника штаба было бы нетактично.
— Извините, уходит мое время, — поспешила она к воротам.
— Эй, товарищ капитан! У нас там, в кладовке, в углу карабин кавалерийский пылится, — всерьез восприняла ее просьбу сестра-хозяйка, заставив Евдокимку тут же остановиться. — От конника с оторванной ногой, что на операционном столе умер, остался. Короткий такой. Думаю, в самый раз будет; не то, что винтовка.
— Из такого, кавалерийского, я уже стреляла, — оживилась курсистка. — Неси его. Лучше пойдем вместе.
— Правильно. Теперь, когда все мужское сословие на пальбе помешалось, — поддержала ее Игнатьевна, пока они приближались к кладовке, — нам, бабам, тоже не грех вооружиться.
— Ну и зачем тебе оружие? — сурово поинтересовался капитан, когда, вернувшись во двор вместе с карабином, точно таким же, на каком обучал Евдокимку военному делу старшина Разлётов, сестра-хозяйка протерла его тряпочкой и торжественно передала девушке.
Евдокимка быстро проверила затвор, заглянула в ствол, определив, что его нужно бы почистить и смазать; убедилась в том, что магазин наполнен патронами. И лишь после этого, дав понять удивленным эскулапам, что оружие для нее — не в диковинку, ответила:
— Вдруг немцы прорвутся.
— Ну, теперь-то они вряд ли прорвутся, — заметила Корнева.
— Или десант выбросят, — курсистка демонстративно перебросила перед собой карабин из руки в руку, точно так же, как это делал эскадронный старшина. В руках этой рослой, крепкой девушки оружие вовсе не выглядело таким тяжелым и бесполезным, каким оно обычно предстает в руках многих других женщин. — А то еще на диверсанта немецкого наткнусь, к его несчастью.
— Какой десант, какие диверсанты в этом городке? — опять возник на крыльце лейтенант Онищенко, и только сейчас Евдокимка обратила внимание, что он без портупеи, а значит, и без оружия.
— Считайте, что с этой минуты, товарищ лейтенант, на одного стрелка[15] в стране стало больше. К слову, позавчера летчика сбитого немецкого самолета в плен взяла я. Правда, увидев меня, пилот расщедрился на комплимент и тут же застрелился, — приврала курсистка.
— А что еще ему оставалось делать? — попытался изобразить ухмылку на лице невропатолог. — Завидев тебя в бою, многие тут же будут кончать жизнь самоубийством.
— Угу, причем не только немцы, — тут же согласился с ним эскулап-капитан.
— Вот вы язвите, товарищ капитан, а за немецкого пилота мне уже наверняка медаль положена. Сам командир морских пехотинцев назвал меня Степной Воительницей. Так что взяли бы да походатайствовали о награждении, — и воинственно держа карабин в опущенной руке, словно уставший, только что вышедший из боя солдат, Евдокимка направилась к воротам госпиталя.
— Хотелось бы видеть тебя в бою, — бросил вслед ей невропатолог. — Интересно, под пулями ты будешь такой же бедовой?
— Эта — да, будет, — вступилась за нее Корнева. — Она у нас и в самом деле… Степная Воительница.
32
К тому часу, когда майор направил машину к дому ветеринара, Евдокимка уже находилась там.
Серафима Акимовна теперь не сомневалась, что город вот-вот окажется в руках врага: об этом свидетельствовали и всё приближающаяся канонада, и поспешная эвакуация предприятий… Поэтому решение своей «курсистки» стать санитаркой военного госпиталя она восприняла с тем стоицизмом, с которым всякая мать пытается закрыть глаза на трудный выбор дочери, укрепляя тем самым веру в ее спасение. Уж госпиталь-то эвакуируется в любом случае, рассудила Серафима. И понятно, что он всегда будет располагаться в тылу, а не на передовой. (Больше всего мать опасалась, чтобы дочь не попала на фронт, а слишком усердное влечение к оружию и армейскому быту, наблюдающееея у Евдокимки в последние недели, подводило опытного педагога к мысли об именно таком ее уходе из-под материнского крыла.)
Серафима прекрасно понимала, что ей тоже следует как можно скорее уйти из города, но когда и каким образом — все еще не решила. К тому же сама мысль о том, что придется оставить свой уютный, лишь год назад основательно отремонтированный дом на произвол судьбы, приводила её в ужас.
— Ты ведь можешь работать медсестрой, сама говорила, что у тебя еще институтское удостоверение, — напомнила ей Степная Воительница. — Я постараюсь поговорить с начальником госпиталя. Вдруг и тебя согласятся принять на службу?
— Ну, во-первых, от моих медсестринских знаний давным-давно ничего не осталось…
— По ходу дела подучишься. Там настоящие фронтовые медсестры, они быстро введут тебя в курс дела. Одна Корнева чего стоит.
— Имя этой Корневой ты упоминаешь уже в третий раз, — заметила Серафима, ставя перед дочерью миску с подогретым борщом.
— Если бы не Вера, самой мне уломать нашего эскулап-капитана не удалось бы. Заладил: «Тебе нет восемнадцати, нет восемнадцати…» Знаешь, как медсестра осадила его? «Пока вы решитесь сделать ей — мне то есть — предложение, она как раз подоспеет по возрасту». Или что-то в этом роде.
— А он что, молод?
— Нет.
— Но холост?
— Вот уж чем я не намерена интересоваться, так это его семейным положением.
— Все может случиться, поэтому будь осторожной. Армия — это вотчина мужчин, причем всегда огрубевших и в большинстве своем циничных.
— Вот в кого я действительно могла бы влюбиться, — Евдокимка решила слегка подразнить маму, — так это один подполковник. С таким, знаешь ли, дворянским, аристократическим лицом. И как только энкавэдисты не расстреляли его? За один только благородный вид.
— Речь конечно же идет о подполковнике Гребенине, начальнике штаба полка?
— Так ты что, знакома с ним?! — изумилась дочь.
— За то недолгое время, пока полк квартирует в городе, его командование взяло шефство над нашей школой.
— И что, ты обратила на него внимание?
— В каком смысле? Он бывал и в школе, и в райсовете. Мы решали с ним, как с начальником штаба, разные вопросы…
— И все?! Он совершенно не приглянулся тебе как мужчина?
— Мне уже приглянулся один мужчина, — резко парировала Серафима Акимовна. — Тот, которому я позволила стать твоим отцом!
«Которому я позволила стать твоим отцом» — мысленно повторила Степная Воительница. В этих словах была вся Серафима Гайдук. «Я не виновата, что все, что попадает в поле моего зрения, тут же попадает в поле моей властности», — как-то покаянно повинилась она перед мужем, который ощущал на себе ее «властность» больше кого бы то ни было.
— Хотя, не спорю, вид у него высокомерно-барский, — запоздало признала Серафима Акимовна. — И вообще не кажется ли тебе, что пора бы уняться? Девушке твоего возраста и воспитания неприлично касаться таких тем в разговоре с матерью. Мало того что, будучи ученицей моей школы, ты всячески проявляла свой бунтарский характер, демонстрируя, что тебе как дочери директора многое позволено…
— Мне припоминаются только два подобных случая, — спокойно возразила Евдокимка, поедая борщ вприкуску с зубчиками чеснока. Привычку к чесноку она позаимствовала у отца, не раз вызывая острую насмешку матери, объявлявшей, что не рискует появляться в воспитанном обществе в сопровождении «благоухающих чесночников». — Причем в обоих случаях ты была неправа.
— Даже так? — подбоченилась Ветеринарша.
— Хорошо: мы обе были неправы. В равной мере.
— Боже мой! И это я слышу из уст будущего педагога, — сокрушенно покачала головой Серафима Акимовна. — Какой позор! Лучше бы ты в самом деле родилась мальчишкой. Все равно с раннего детства авторитетом для тебя являлся только отец, которого ты копируешь во всем, даже в походке и повадках.
— Жаль, не всегда получалось.
— И самое странное, что с годами, с твоим девичьим становлением, это не проходит. Знала бы ты, сколько раз я как директор школы попадала в неловкое положение из-за твоих мальчишеских выходок…
О, как же Евдокимке был знаком этот тон! Именно в таком Серафима Акимовна обычно отчитывала и провинившихся учеников, и своих коллег, и чиновников из райисполкома. Как выразился однажды директор школы Харланов, во времена которого Гайдук работала завучем, — «при одном упоминании имени Серафимы Акимовны в нашей школе начинает трепетать всё, вплоть до ученических парт и швабры уборщицы». Причем самое удивительное, что сказал он это инспектору городского отдела образования, упрекнувшему директора в его мягкотелости и в том, что тот безвольно отдал бразды правления завучу. Откуда инспектору было знать, что самого Харланова такая жесткость завуча вполне устраивала. Точно так же, как устраивала его, человека, никогда не имевшего собственных детей, роль вполне добродушного, милостивого отца большого семейства.
Именно этот разговор, свидетелем чего Евдокимка стала совершенно случайно, заставил дочь по-иному взглянуть и на поведение матери дома, и, в частности, на ее отношение к отцу.
— Если ты будешь постоянно напоминать мне о мальчишеских ватагах, я постригусь наголо и запишусь в полк рядовым. В морскую пехоту. Кстати, у меня появился там один знакомый.
— Знаю я твоего знакомого, — ехидно так улыбнулась Серафима. — Он именуется «лейтенантом Лощининым». Заезжал, чтобы попрощаться с тобой перед отправкой на передовую. Поскольку это происходило на рассвете, я принципиально не стала будить тебя. Мало того, предупредила этого сухопутного морячка, что его ждет, если после прошедшего ночного свидания моя несовершеннолетняя дочь окажется обесчещенной.
— Это ты обо мне? — вполголоса уточнила девушка. — Это я могу оказаться обесчещенной?!
— Нет смысла переспрашивать в тех случаях, когда и так все ясно, — отрубила Серафима.
33
После признания матери Евдокимке стоило бы ужаснуться и возмутиться. Но вместо этого она так расхохоталась, что, вызвав благородный гнев Серафимы Акимовны, выпрыснула остатки борща на скатерть.
Степная Воительница всего лишь на минутку представила себе бледный вид лейтенанта Лощинина перед грозной директрисой школы, никакого иного тона, кроме командного, не признающей. Даже эскадронный старшина — и тот с едва уловимым сочувствием, но с еще более уловимой завистью, доверился Евдокимке: «С таким командирским голосом и таким приказным характером твоей матери самое время командовать гарнизонной гауптвахтой».
— Что тебя так рассмешило, Евдокия? — мать уставилась на дочь суровым взглядом.
— Бедный лейтенант! Представляю, как он чувствовал бы себя, выслушивая твои нравоучения.
— Как и должен чувствовать себя развратник, решившийся на ночное свидание с моей несовершеннолетней дочерью.
— Почему бы тебе не предположить, что решал не он, а я? И не вспомнить, что с моим отцом ты начала встречаться уже в пятнадцать.
— Неуместное напоминание, Евдокия. В свои пятнадцать я не была столь легкомысленна, как ты в свои семнадцать, — скрестив руки на груди, Серафима выдержала горделивую паузу и лишь после этого решительно прошлась по комнате.
В ту же минуту послышался такой знакомый обеим женщинам гул авиационных моторов. Поскольку надвигался он с запада, то не оставалось сомнений, что немцы совершают очередной налет на железнодорожную станцию. Увы, за все время налетов ни одного советского самолета, прикрывающего город, они так и не увидели. Евдокимка была уверена, что на обратном пути враги обязательно атакуют центр города, бомбами и пулеметным огнем пройдутся по пролегающему через него шоссе. К счастью, усадьба Гайдука располагалась в отдалении и от центра, и от железной дороги, так что до сих пор судьба миловала ее.
В течение какого-то времени женщины прислушивались к вою сирены, гулу моторов и пальбе зениток, а после каждого взрыва бомбы испуганно посматривали на потолок, словно угроза исходила оттуда. Им бы следовало спуститься в глубокий каменный погреб, находившийся рядом с летней кухней, но они все еще продолжали пребывать в некоем оцепенении.
— Наверное, ты и в самом деле должна держаться поближе к Корневой, — смягчила тон Серафима Акимовна, вспомнив, что находится не на школьной линейке, а перед ней — не провинившаяся ученица. Но, главное, после налета эта властная женщина вдруг осознала всю житейскую мелочность того, о чем они с дочерью только что спорили. — Как ценно покровительство этой женщины, я, кажется, сумела уяснить. Мало того, мне хотелось бы встретиться с ней.
— Только не это! Не рискну потерять такую подругу. Впрочем, стоп. Ты желаешь встретиться с Корневой? — изменила тактику Евдокимка. — Я готова провести тебя. Не будем терять времени, идем прямо сейчас.
— Куда это? — вскинула изогнутые лебяжьи брови Серафима Акимовна.
— Сказала же: поступать на службу в госпиталь. В крайнем случае пристроим тебя санитаркой.
— А… что будет с усадьбой?
— Опять ты о своей усадьбе! — укоризненно пристыдила её дочь. — Сколько можно об одном и том же?
— О нашей усадьбе, Евдокимка; о твоем родительском доме, если ты еще способна помнить об этом после облачения в армейскую форму. Неужели ты решила, что армия заменит тебе все прочее, что до сих пор было свято?
— Ты же не на уроке, мама, и не в своем директорском кабинете, — попыталась остепенить ее курсистка. — А с нашей усадьбой случится то же самое, что уже случилось с тысячами других брошенных усадьб.
— Считаешь, что после такого напоминания у меня перестанет болеть душа за нашу усадьбу и наш сад — о чем ты уже стараешься не думать?
— Я стараюсь не думать о том ужасе, который ждет тебя во время оккупации города фашистами. Если те и пощадят тебя, то заставят работать на рейх.
— Не заставят, потому что я не соглашусь.
— Когда в город вернутся наши, ты будешь встречать их в должности директрисы немецкой школы или переводчицы при бургомистре. В городе мало людей, владеющих немецким языком так же хорошо, как владеешь ты, германский филолог.
— Сказано уже: я не стану работать на немцев!
— В таком случае они объявят тебя врагом немецкого народа и расстреляют. Если же согласишься работать на немцев, то коммунисты, как только вернутся, тут же объявят тебя врагом советского народа и тоже расстреляют.
— Замолчи! — рассердилась Серафима Акимовна. — Как ты смеешь сравнивать: «фашисты — коммунисты»? Ты что себе позволяешь?!
— Всего лишь обрисовала последствия твоей жизни в оккупированном городе. Не веришь мне — посоветуйся с Дмитрием Гайдуком. Или с любым другим энкавэдистом. К твоему сведению, со мной дядя всегда оставался достаточно откровенным.
— Он всегда был непростительно… откровенным.
— Во всяком случае, не увиливал от ответов.
— Потому что не хватало ума приучить тебя не задавать лишних — как правило, идиотских, — вопросов. Все, хватит спорить со мной! — мать хлопнула ладонью по столу так, что тарелка оторвалась от его поверхности. — И впредь — ни слова по этому поводу! — буквально прошипела Серафима Акимовна, встревоженно посматривая в окно, словно опасалась, что кто-нибудь там способен подслушать их разговор.
— Так что ты решила? — ушла от неприятной для них обеих темы курсистка.
— Судя по всему, нужно уходить. Директора других учебных заведений, как и большинство педагогов, уже покинули Степногорск. Правда, почти у каждого из них где-то восточнее проживают родственники. А вот куда деваться мне?
— Со временем решишь. К началу учебного года устроишься учительницей где-нибудь за Днепром.
34
Едва Степная Воительница произнесла это, как от ворот донесся автомобильный гудок. Решив, что приехал муж, Серафима метнулась к двери и чуть было не столкнулась лицом к лицу с майором Гайдуком, облаченным в какую-то странную униформу.
— У тебя час на сборы, — с ходу предупредил ее Дмитрий, не отвлекаясь ни на какие расспросы. — Десять минут из них — на то, чтобы хоть чем-нибудь накормить водителя и меня. У тебя, красавица, еще меньше времени, — обратился он к Евдокимке. — И, для начала, позови в дом шофера.
— Все, накрываем на стол, — засуетилась хозяйка.
— Где-то здесь у меня хранилась парадная форма одежды. Надеюсь, старьевщику вы ее не отдали?
— Не успели, — заверила его Серафима. — Она все еще в шкафу. Вообще-то я пока еще не решила, куда уезжать, а главное, когда…
— За тебя уже все решила война, — жестко, словно новобранцу на плацу, объяснил майор.
— Я все надеялась, что Николай найдет возможность хотя бы на полчасика заехать…
— Тебе хорошо известно, что он уже «ветеринарит», а возможности у него, подневольного, нулевые. Притом под утро здесь уже будет действовать десант; а завтра, к концу дня, в город войдут немцы. Дай-то бог вырваться из этого котла, пока враг не отрезал нас от реки… Ты-то почему в армейской форме? — обратил майор внимание на одежду Евдокимки.
— Потому что служу. Санитаркой в госпитале.
— А не кажется ли, что не по твоей службе долг? Кому пришло в голову?
— Сама уговорила начальника госпиталя, нашего эскулап-капитана. Так что все: к восьми утра мне приказано прибыть в распоряжение.
— Голову бы оторвать вашему капитану.
— Ну, это в любом случае не помешало бы, — кокетливо повела плечами Степная Воительница.
— Причем вместе с тобой, — Дмитрий разгорячился. — По поводу возраста своего соврала?
— Пыталась, но эскулап-капитан догадался и прогнал.
— Почему вдруг передумал?
— Потому что за меня тут же вступился начальник штаба кавалерийского полка подполковник Гребенин.
— Лично знаком с таким. Неплохой мужик, видный, по-старозаветному интеллигентный. Во время великой чистки чудом уцелел. Но почему вступился именно он? — с легкой тревогой во взгляде обратился особист в этот раз не к Евдокимке, а к ее матери. В душе майор был убежден, что в мире не существует мужчины, который бы устоял перед чарами этой кубанской казачки, а посему нисколько не сомневался, что и Гребенин тоже исключением не стал.
— Моей заслуги в этом нет, — предупредила Серафима. — Наносить визиты в армейские штабы моя дочь уже способна по собственной инициативе.
Для ветеринара Николая Гайдука не было секретом, что его разведенный двоюродный брат тайно вздыхает по Серафиме. Но, поскольку Дмитрий сам признался ему в этом в полушутливой форме, то его увлечение так и воспринималось в семье ветеринара, как некая великосветская игра. Знала об этом странном «родовом флирте» и курсистка, списывавшая его на прихоти взрослых.
— И кто же познакомил будущего великого педагога с подполковником? — теперь Дмитрий перевел взгляд на девушку.
— Лично командир полка, к кому я обратилась с просьбой зачислить меня в госпиталь, — объяснила курсистка. — Но решить этот вопрос он поручил Гребенину, в которого прямо там, у штаба, я и влюбилась.
— Ты все слышала, Серафима Акимовна? — подался особист к Ветеринарше.
— Как ты ведешь себя, Евдокия?! — патетически воскликнула Серафима, возводя руки к небу.
— Еще немного, и она поставила бы на ноги половину Генштаба. Теперь ты понимаешь, что на самом деле скрывается под поговоркой «яблоко — от яблони…»?
— У меня впечатление, что к воспитанию этого «ингульского Гавроша» я никакого отношения не имею, — Серафима отвернулась.
— Да вы не поняли меня, — невинно уточнила курсистка. — Я влюбилась в его интеллигентность, в его манеры, а вовсе не в том смысле, в каком вы подумали.
— Все-таки ты доведешь меня до инфаркта, о, дочь моя!
— Кстати, было бы здорово, если бы вы, товарищ майор, хоть на пять минут появились в госпитале, только уже в форме, — решила не упускать своей удачи курсистка. — На эскулап-капитана это произвело бы должное впечатление.
— Не получится. У меня другие планы, — сухо ответил Дмитрий уже из-за двери комнатки, где он, дабы не смущать женщин, спешно переобмундировывался. — По пути мне еще кое-кого нужно подобрать и, как можно скорее, покинуть город. Служба.
— Понимаю. Жаль.
— И потом, я уверен, — окончательно намеревался оправдаться Гайдук, — что своим появлением ты уже произвела «должное впечатление». Причем не только на эскулап-капитана, — заметил он, присаживаясь, вместе с водителем, к столу.
Эта милая беседа была прервана разрывами снарядов. Эхо их доносилось с западных окраин города, по которым сейчас, очевидно, создавалась запасная линия обороны. Прикинув, что немец палит из дальнобойных орудий, Гайдук понял: на этом участке фронт противником пока что окончательно не прорван, но стрелкам из дивизии Коростышева, в которой он намедни побывал, долго не продержаться. Даже, несмотря на то, что на помощь ей переброшен батальон морских пехотинцев. Гайдук помнил, в какой растерянности пребывал начальник разведки дивизии Зырянов, когда майор покидал ее расположение. Зырянов лучше других знал истинную мощь группировки противника, подтягивавшего резервы на территории его части.
Серафиме же разрывы снарядов напомнили, что время, отведенное им войной на раздумья, истекает. Наскоро пообедав, Гайдук приказал ей брать с собой только самое необходимое и быть полностью готовой к его прибытию.
— Постараюсь переправить тебя на Дон, к родственникам своего сослуживца. Я бывал у них в командировке: большая станица, усадьба над рекой, душевные люди, две школы.
— Ты позаботился даже об этом, — трогательно отметила своего деверя Серафима. — Не знаю, как и благодарить тебя.
— Пока еще не позаботился, — бросил майор от калитки. — Это только намерения. Кстати, от станицы этой, Славской, до Дона — рукой подать; если уж нашим совсем худо на фронтах придется…
— Да неужели такое возможно?! — возмутилась Серафима, однако, наткнувшись на суровое командирское «Отставить стенания! Политзанятия тоже отменяются!» — тут же умолкла.
— Для женщины из древнего казачьего рода и с повстанческой фамилией Гайдук станица Славская — самое то, что нужно, — заключил он, уже берясь за дверцу машины. — Так приживешься, что не захочешь возвращаться. Все, появлюсь через тридцать минут.
35
Миниатюрный особнячок, где обитала Анна Жерми, когда-то располагался на территории обширной усадьбы городского архитектора и промышленника и служил ему, заядлому преферансисту, «карточным домиком», где собирались местные картежники.
Сам старинный парк погиб, о двухэтажном доме архитектора напоминали разве что руины, а Бонапартше горсовет, от щедрот своих, выделил для временного проживания этот, еще в Гражданскую пострадавший от пожара, домик. Поначалу пошел слух, что по ее собственной просьбе, но со временем все поняли, что на самом деле — по протекции из областного центра.
Тогда никто и предположить не мог, что с помощью какой-то наемной бригады, работавшей у нее даже по выходным, Анна Жерми в течение двух месяцев умудрится восстановить на домике крышу с небольшим мезонином, служившим ей домашним кабинетом, а также обнести фасад застекленной верандой. Спустя еще месяц она привела все помещения «карточного домика» в жилое состояние, превратив их в уютное, увешанное бессарабскими коврами и уставленное старинной мебелью дворянское гнездышко, которое в городе стали именовать «замком Бонапартши».
Для майора Гайдука не осталось секретом, что помогал ей во всех этих трудах некий состоятельный родственник из Одессы, в свое время подвизавшийся в роли удачливого нэпмана, а теперь, в ипостаси партийного работника, курировавший всю торговлю области. Помнил особист и прощальные слова Анны, сказанные в завершение их непродолжительного, но бурного романа: «Когда вы, господин капитан, — тогда Гайдук еще пребывал в этом звании — решите, что вся та кровь, которую вы как чекист должны были пролить во имя революции, уже пролита, можете рассчитывать на приют в “замке Бонапартши”. Точно так же, как и я, в свою очередь, буду рассчитывать на вашу защиту от вами же сотворенного пролетарского идиотизма… Причем желательно, чтобы к тому времени вы дослужились хотя бы до полковника. Вы же знаете: я всегда предпочитала высший свет».
Ее покровитель, — которого так и называли в Степногорске Нэпманом, — трижды проведывал Анну Альбертовну, появляясь в городе в сопровождении целого кортежа машин, и всякий раз городской голова встречал его, как дорогого гостя. Вот только из всех достопримечательностей этого убогого городка Нэпмана интересовали только руины архитекторского особняка. Даже слух пошел о том, что именно этот человек является хотя и не узаконенным, но наследником усадьбы.
Чтобы выяснить, так ли это и вообще что это за тип, Гайдук попробовал дотянуться до его «личного дела» через своего знакомого из Одесского областного управления НКВД. Однако из генеральских верхов их обоих тут же сурово предупредили, что товарищ Трояновский, каковой являлась настоящая фамилия Нэпмана, неоднократно проверен; а на должность, в свое время, назначен по настоянию самого Дзержинского, в бытность того в Одессе. А еще было заявлено, что «органы» бескомпромиссно накажут каждого, кто всуе посмеет интересоваться прошлым или самой личностью товарища Трояновского. Гайдуку не требовалось объяснять, что предупреждение, высказанное в такой форме, обычно — последнее…
— Вы похвально пунктуальны, господин майор. Впрочем, верность слову всегда оставалась одной из немногих ваших добродетелей, — посреди основательно опустевшей комнаты Анна стояла одна, одетая уже по осенне-походному: в свитер и брючный костюм цвета хаки по образцу костюма «английской наездницы-аристократки». Только вместо традиционного цилиндра темноволосый парик ее венчал желтый берет, украшенный недорогой брошью.
— Насколько я понимаю, этот маленький чемоданчик и солдатский вещмешок, — ткнул майор ногой в вещи, стоявшие у самого порога, — принадлежат гражданину Смолевскому. Вопрос: где их хозяин?
— С минуты на минуту он приведет сюда священника. Поскольку секретов от вас быть не может… — хозяйка обвела комнату многозначительным взглядом. — Поначалу я намеревалась поджечь «замок» вместе со всем, что в нем находится.
— Чтобы после вас — никому и ничего…
— Но, здраво поразмыслив, все, что можно было спрятать — ковры, статуэтки, прочую бытовую мелочь — мы со штабс-капитаном спрятали в подвал и с помощью верного человека замуровали, завалив стенку всевозможным хламом. Ну а поселиться здесь, на время оккупации, я предложила нашему благочестивому священнику, отцу Иннокентию, ютящемуся в недостойном его сана жилище.
— По-моему, идеальное решение.
— Вот и я тоже уверена, что по отношению к христианскому священнику, да к тому же недавно вернувшемуся из коммунистического концлагеря, германские офицеры проявят благосклонность.
При упоминании о «коммунистическом концлагере» Гайдук нервно поиграл желваками. Подобное выражение ему несколько раз довелось слышать от оберштурмфюрера Штубера и кого-то из его подручных. Тогда барон напомнил ему также о секретном советско-германском параде в Бресте, в честь общей победы над Польшей. Гайдук не сомневался, что германская пропаганда обладает массой правдивых, или вполне правдоподобных, фактов, способных повергнуть граждан Советской страны в полное изумление. Майор представлял себе, какой сумбур начнет твориться в умах людей, когда они вновь окажутся на своей территории, сколько убийственных тайн «вооруженного отряда партии», как называли себя чекисты, будет раскрыто.
Однако вслух он произнес:
— Со священником — это вы мудро. Кто бы мог предположить, что вы столь основательно подготовитесь к исходу из города? Почти все убеждали себя, что до наших мест германцы дойти не сумеют.
— Лично я начала готовиться к такому исходу за месяц до начала войны.
— Как всегда, шутите, Анна Альбертовна…
— Штабс-капитан тому свидетель. — Жерми держалась предельно спокойно, как может держаться только воистину волевой человек, в самом деле готовый к любым превратностям судьбы. — Что же касается мудрости… Кому, как не вам, Дмитрий, знать, что это — всего лишь одна из действительно очень многих моих добродетелей, — скромно потупила глаза Бонапартша.
— То есть хотите сказать, что были предупреждены господином Трояновским?
— Естественно, — процедила Анна. — Он ощущал себя достаточно осведомленным о том, что происходит в Румынии, преданной союзнице рейха, и с каким усердием королевские войска копошатся на правом берегу пограничного Дуная. Нэпман, как вы понимаете, опекает не только официальную торговлю своего приморского региона, но и, так сказать, неофициальную…
— Ясно. У контрабандистов свои взгляды на коммерцию.
— Как и свои представления о границе, и свои каналы информации.
— Прелестно, что мы так легко понимаем друг друга. О том, чтобы остаться на немецкой территории, мысль не возникала? Вам, с вашими знаниями языков и вашей родословной…
Жерми подошла к окну и, отодвинув занавеску, задумчиво всмотрелась в пространство за стеклом. Только теперь по лицу ее пробежала едва уловимая тоска человека, которого вынуждают покинуть родные стены. Гайдук понимал, как ей непросто сформулировать житейскую концепцию, заставившую ее, ненавидящую коммунистов, отступать в глубь территории «красных».
36
— Вы, Дмитрий, задали этот свой вопрос как офицер НКВД?
— Нет, — отрубил майор.
— Всегда ценила вашу способность расчленять в себе эти две сущности: энкавэдистскую и общечеловеческую.
— И все же?
— Вряд ли мне удалось бы мирно ужиться с германскими властями. Во-первых, германская культура мне, истинной франкоманке, чужда, а, во-вторых, нацистов я ненавижу точно так же, как и, пардон, коммунистов, — Анна демонстративно прошлась взглядом по портупее энкавэдиста.
Гайдук уловил смысл и покачал головой:
— Успокойтесь, хвататься за кобуру я не собираюсь.
— Если бы можно было обосноваться во Франции, я бы, конечно, рискнула. Мысль об этой стране взращена в моем сознании давно, покойным мужем. Тем более что в раннем детстве мне посчастливилось какое-то время пожить в Париже. Но теперь по Елисейским Полям тоже разгуливают оккупанты, там тоже война. Словом, по крови своей я — славянка, и предпочитаю оставаться в родном и понятном мне славянском мире. Меня вполне устроило бы вот такое, — обвела она руками комнату, — тихое дворянское гнездо, которое чудом удалось свить даже во времена кровавого пролетарского бедлама. И вот теперь, из-за нашествия германцев, меня этого гнезда лишают.
— Это правда, что архитектор Трояновский ваш родственник?
— Как ни странно это звучит, он приходится мне двоюродным дедом по материнской линии. Прелюбопытнейшим оказался субъектом. Получив архитектурное образование в Петербурге и в Париже, буквально помешанный на Венецианской и Флорентийской школах барокко, Глеб Трояновский прибыл сюда по приглашению городского казачьего атамана-романтика, для строительства казачьего собора. Да только, увы, не сложилось у них. Атамана этого вскоре разжаловали и вынудили бежать от суда в Бессарабию. А новоизбранный атаман, со своим окружением, прокутил те немногие деньги, какие удалось собрать предшественником. Однако архитектор Трояновский так и остался здесь, погрязнув в созидании своего имения, в нехитрых заказах скупых окрестных помещиков, и в мечтах о превращении захолустного Степногорска — в величественную столицу не только Бугского, но и вообще всего степного казачества.
Объясняя этот поступок, из-за которого он, по существу, похоронил свой талант, архитектор Трояновский записал в своем дневнике: «Степной Париж в виденьях Степногорска явился мне с оживших чертежей». Согласна, поэтично. Глеб принадлежал к небольшой плеяде петербургских архитекторов, считающих себя «поэтами в архитектуре». Приблизительно из тех же романтических видений-чертежей явился Степногорск и мне, блудной внучатой племяннице архитектора, прибывшей сюда в поисках дворянских корней и гнездовьих руин. Естественно, мой ныне здравствующий родственник «товарищ» Трояновский, которого вы зовете «Нэпманом», принялся всячески помогать мне. Ему очень хотелось спасти родовую усадьбу, чтобы если уж не сам он, то хотя бы внуки… Словом, вы поняли.
— Вот теперь многое в твоей судьбе, Анна, проясняется, — произнес Гайдук, тоже приближаясь у окну.
Ему захотелось обнять женщину, но она деликатно отстранилась.
Второй попытки не последовало, потому что майор заметил, как по тропинке, ведущей от калитки, к дому направляются Смолевский и отец Иннокентий. Причем на сей раз у штабс-капитана хватило благоразумия отказаться от белогвардейского мундира и облачиться в гражданский костюм, выглядывавший из-под старого, явно великоватого Гурьке ватника; на голову он напялил кепку, основательно маскируясь при этом под пролетария.
Майор взглянул на часы: самое время выбираться из «гнезда» мадам Жерми.
— Вам давно стало известно, что Смолевский является бывшим белым офицером и что «юродивость» его — всего лишь маска?
— С того дня, когда в чине прапорщика он, тогда еще совсем юный, окончил школу контрразведки, созданную деникинцами в Одессе при военном училище.
Услышав об этом, майор-особист лишь удрученно осклабился. Знали бы в местном отделении НКВД, каких «зубров белогвардейщины» они все последние годы терпели у себя под боком!
— Да-а, — вздохнул он, — грустная вырисовывается картина.
— Понимаю: все меня «проморгали». Ну, меня — как меня. А вот «юродивого» штабс-капитана…
— Не скажите, не так уж и все, — исподлобья взглянул на нее Гайдук. — Однако никогда больше не возвращайтесь к этой теме.
— Естественно. И вообще разве я когда-нибудь с кем-нибудь была столь откровенной?
По всем канонам энкавэдистской практики, в эти минуты он должен был бы чувствовать себя предателем дела революции, покрывающим затаившихся врагов. Причем покрывающим неизвестно по каким мотивам. Исходя из условий военного времени, ему попросту следовало бы пристрелить сейчас и Бонапартшу, и штабс-капитана. Однако Дмитрий вдруг поймал себя на мысли о том, что никакого особого чувства вражды, или хотя бы неприязни, по отношению к этим людям не ощущает. Мало того, он вспомнил о сговоре старшего лейтенанта Вегерова с председателем горисполкома Степногорска и о той реальной угрозе, которая подстерегает его самого.
— Но, упреждая ваш следующий вопрос, — не уловила истинной сути его душевных терзаний Анна, — скажу, что во времена своей офицерской юности, этот мужчина был страстно влюблен в меня, и даже мечтал о женитьбе.
— Подобных вопросов я задавать не стал бы.
— И все же очень хотелось бы услышать его. Ясно, что детали нашей размолвки вас и в самом деле интересовать не должны. Кстати, штабс-капитан до сих пор считает меня своей гражданской супругой, хотя поводов для этого у него не много.
— Даже так, супругой?! — невольно вырвалось у Дмитрия.
Ведь он помнил, что в городе все считали: о Гурьке, живущем в скромной саманной хате буквально в пятидесяти метрах от «замка Бонапартши», по ту сторону заброшенного парка, Анна заботилась исключительно из христианского сострадания, которое проявлялось к холостяку-конюху не только у нее одной. А еще Гайдук неожиданно открыл для себя, что заброшенную кем-то хату городской юродивый избрал очень удачно: по вечерам ходить в гости к мадам Жерми он мог, не привлекая чьего бы то ни было внимания. Словом, та еще парочка!
— Пусть моя откровенность не послужит вам поводом для ревности, мой майор.
— Не беспокойтесь, — жестко заверил ее Дмитрий. — Никакой ревности ваша близость с гражданином Гурькой у меня не вызывает.
— Не забудьте, что нам еще следует заехать за Серафимой Акимовной, — тут же с ухмылкой соперницы напомнила ему Жерми.
37
Майор лишь сухо поздоровался и, подняв нелегкие чемоданы Анны, направился к выходу, приказав обоим беженцам следовать за ним.
Священник тоже подался было по дорожке сада, явно намереваясь благословить их на далекий путь, однако особист жестко пресек его потуги: «Отставить! Вернитесь в дом. Только этого мне сейчас не хватало!» По инерции отец Иннокентий ступил еще два шага, осенил размашистым крестом уходящих и покорно побрел в помещение.
— О, да у вас крытая брезентом машина, — бодро констатировала Жерми, поднимаясь по самодельной металлической лесенке в кузов и усаживаясь на застеленную каким-то старым одеялом лавку по правому борту. — Как мило! Чувствуешь себя, словно в цыганской кибитке.
— Не самый худший вариант исхода, — согласился Гайдук.
— Предлагаю не расставаться с этой машиной до конца войны, который мы наверняка встретим где-нибудь в районе Свердловска.
— Уймитесь, Анна Альбертовна, — сурово предупредил ее майор. — И никаких словоизлияний во время проверок на пути следования; никаких пораженческих настроений.
— Не волнуйтесь, мой майор.
Дмитрий еще не знал, как офицеры военной контрразведки, наверняка вылавливающие сейчас на дорогах дезертиров, шпионов и уклоняющихся воспримут его удостоверение и грузовик с непонятно какими людьми на борту, а потому слегка нервничал. К тому же он не был уверен, что Вегеров не известил о его «предательстве» коллег из Запорожья, куда майор, собственно, и намеревался прибыть, чтобы доложить генералу Зеленину о выполненном задании. Там же он собирался раздобыть нужные документы и позаботиться о путевом листе для водителя, направляющегося «с семьями офицеров» в Ворошиловградскую область.
— Что же касается вас, Гурька, — с явным сарказмом произнес он кличку штабс-капитана, — то при любой проверке будьте добры соответствовать той личности, о которой речь идет в выданной вам медицинской справке. К тому же возникает вопрос: как долго я сумею объяснять ваше присутствие на этой машине?
— Не извольте беспокоиться, товарищ майор. Мне бы только за Днепр. В Гуляйполе, вотчине Махно, еще есть люди, помнящие меня.
Гайдук посмотрел на него с явным сочувствием. Намерение вернуться туда, где в нем легко распознать бывшего махновца, в самом деле мог высказывать только городской юродивый. «Но именно этот “юродивый” спас тебя сегодня от произвола обнаглевшего энкавэдиста»! — тут же попытался усмирить свою гордыню майор.
Отъезжали они от «замка Бонапартши» уже во время воздушного налета немецких штурмовиков. Однако в этот раз те не только обстреливали станцию и шоссе, но и устроили расправу над всем беззащитным городком, резвясь так, словно находились на полигонном бомбометании. Чтобы спастись от увязавшегося за ними «мессершмитта», водитель резко сошел с дороги и загнал свою машину под развесистую крону ивы, растущей у старого колодца, а Гайдук тут же приказал всем рассредоточиться по руинам заброшенной усадьбы. Немец все же прошелся очередью по кроне, однако толстые ветки и колодезный навес приняли пули на себя.
— Вам не кажется, штабс-капитан, что кое-какие моменты в вашей биографии все еще остались невыясненными? — спросил особист, как только Смолевский оказался рядом с ним, под каменным сводом руин.
Водитель и Анна нашли приют в зарослях, под стеной сарая с провалившейся крышей.
— Вас интересует, каким образом возникли и легенда «о первом анархисте Гуляйполя, советнике батьки Махно», и сам образ Гурьки?
— Так утолите же мою жажду знаний.
— Идея с образом «юродивого» возникла спонтанно. Когда, под чужой фамилией, белые заслали меня к батьке Махно, там, в обозе, оказался некий безродный полуюродивый конюх по фамилии Гурьев и по кличке Гурька. Почти что мой ровесник, он почему-то очень агрессивно воспринял мое появление в обозном отряде, причем настолько, что дело доходило до драки. Так вот, после очередной дуэли на кнутах, возникшей у нас во время выпаса табуна, я в первой же ночной стычке с белогвардейцами убрал этого идиота. А Гурькой, исходя из моего имени, а также из того, что я прекрасно пародировал погибшего, стали дразнить меня.
— И происходило это во времена, когда «батька» числился в союзниках красных? — предположил Гайдук.
— Да, что послужило прекрасным стечением обстоятельств. Поскольку получалось, будто службу я проходил на стороне красных.
— Замысел белой разведки ясен, — кивнул Гайдук. — Дальше?
— Получив новое задание, я сумел без труда, вместе с еще одним старым конюхом-махновцем, перейти в красноармейский обоз. Но и там, по моей просьбе, махновец этот стал называть меня не иначе как Гурькой, помогая тем самым создавать легенду, о самим Махно избитом «личном советнике». При этом, до самого выстрела в спину, старик оставался уверенным, что делает доброе дело, помогая мне избежать строевой службы у красных. Ну а потом очень кстати «подвернулось» ранение, а значит, и госпиталь, излечиваясь в котором я пережил крах черного барона Врангеля. Последнее же слово осталось за справкой, выданной начальником госпиталя на вполне законном основании…
— Что и было в свое время старательно проверено, — мрачно, как будто весь провал с проверкой Смолевского лежал на его совести, подтвердил майор, скомандовав при этом: — Всем вернуться к машине!
* * *
Серафима с дочерью уже ждали их во дворе, по ту сторону ворот, дабы не привлекать излишнего внимания и не вызывать вопросов у соседок. Как только грузовик остановился, женщины прощально прильнули друг к другу.
Майор и водитель метнулись к калитке, давая понять, что время для прощания истекло. Они забросили два чемодана и небольшую сумку с едой в кузов, сразу же помогли подняться туда и их владелице.
— Ты-то сама какое решение приняла? — сдержанно поинтересовался особист у Евдокимки.
— Пока что остаюсь, из города уйду с госпиталем.
— Только обязательно.
— Если попаду в окружение, стану партизанить. Карабин у меня уже есть. Пистолетом разживусь у какого-нибудь немецкого офицера.
— Нет, ты только послушай, Дмитрий, что она говорит! — склонилась над задним бортом Серафима. — Карабин у нее есть, а пистолетом она «разживется»! Кого я воспитала на свою голову и как я могу оставлять ее одну?!
— Сидеть! — упредил майор попытку Серафимы покинуть кузов машины. — Прекратить истерику! А ты, — обратился к Евдокимке, — перестань доводить мать своими фантазиями до инфаркта.
— Вот теперь-то она и начала проявляться, истинная сущность прозвища-фамилии Гайду»[16], — не унималась Серафима.
— Но-но, попрошу не преувеличивать! Я ношу ту же фамилию, — ухмыляясь, напомнил ей особист.
— Да ну вас! — махнула рукой Серафима. — «Гайдуки», одним словом. Поступайте, как знаете. Я бессильна.
— Оставаться здесь на ночь не советую, — Дмитрий вновь обратился к Степной Воительнице. — Поскольку ночью немцы намерены высадить десант и на окраинах, наверняка развернется бой, тебе лучше находиться в охраняемом госпитале, вместе с остальным медперсоналом. Тем более что там ты понадобишься и как санитарка.
— Уже как медсестра, — с подростковым апломбом похвасталась девушка. — По совету нашего эскулап-капитана, я успела взять справку в училище об окончании двух курсов и о том, что во время учебы прошла медподготовку.
— Смотри, как бы на фронте не переквалифицировалась из педагога в медработники, — предупредил майор, уже направляясь к кабинке.
— Вообще-то я мечтаю стать боевым командиром, а не возиться с ранеными и больными.
— Господи, ну, зачем ты послал мне этого гайдука в юбке?! — взмолилась Серафима. — Знал бы кто-нибудь, как я устала от этого гайдуцкого характера! Родился бы сын, может, и смирилась бы, и даже гордилась бы им…
— Как ты, Евдокимка, уже поняла, — подытожил стенания Дмитрий, — мы с твоей матерью мечтаем только об одном — встретить тебя после возвращения живой и невредимой. А потому главная твоя задача — наш ты командарм и великий полководец — уцелеть. Все, мы уехали!
38
В нескольких километрах от города, на окраине какого-то хутора, Серафима увидела двух учительниц из своей школы. Они — одна с шестилетним внуком, другая с десятилетней дочкой — топтались у подводы, к которой возница с деревяшкой вместо правой ноги пытался приладить отвалившееся колесо. Опасаясь накликать на себя гнев деверя, Серафима все же постучала по кабинке, а когда машина остановилась, объяснила, в чем дело.
— Еще две учительницы, да к тому же с детишками — это уже убедительно, — неожиданно отреагировал майор. — Получается, мы везем в тыл работников народного образования и членов их семей. Для постов — как раз то, что нужно. Сдай назад, — приказал он водителю. — В машину их! Только быстро, быстро. Серафима Акимовна, — Дмитрий не обращал внимания на слова благодарности, расточаемые осчастливленными беженками, — с этой минуты вы у нас — старшая по кузову. Поддерживайте железный порядок; обычно у вас это получается.
Ночевали они в небольшой деревушке, в доме, недавно брошенном хозяйкой, оставшейся без мужа и перебравшейся к родителям в ближайший поселок. Тем более что, как объяснил хромоногий сосед, в округе бродит шайка дезертиров.
Этот селянин, представляясь, пояснил: «Если по-уличному, то меня все Унтером зовут. Из-за того, что в мировую до унтер-офицера дослужился. Для тогдашнего крестьянина это был высокий чин. Правда, к лычкам моим немцы тотчас же присовокупили осколок в ногу».
Майор поинтересовался у него про шайку:
— И много их там собралось?
— Да человек шесть их. Но мужики крепкие и бесшабашные. К тому же на вооружении у них — трехлинейка и берданка. Остальные — при ножах, вилах и прочем хозяйственном орудии. Но мечтают вооружиться по-настоящему, — «Унтер» выразительно прошелся взглядом по кобуре майора. — Узнают, что появились эвакуированные, — и тут как тут, добро ихнее «оприходовать» спешат.
— Следовательно, базируются они недалеко, а в селе у них имеются свои глаза и уши. Правильно мыслю, унтер-офицер?
— Сугубо фронтовой расклад, — подтвердил тот. — Здесь неподалеку урочище наблюдается, с тремя глубокими оврагами. Основной лагерь их, наверное, там. Хотя при нынешнем безвластии и по хуторам отсиживаться можно, прихода немцев дожидаясь. Вчера в нашей деревне на ночном привале находился какой-то батальон, так нападать на село дезертиры не рискнули. А сегодня — поди, знай. В центре, вон, целая колонна беженцев в себя приходит. А приближается к деревне шайка обычно по склону оврага, что как раз подводит к вашей усадьбе, так что…
— Колонну, которая в центре, сопровождает охрана?
— При одной из машин двух охранников с винтовками видел. А дезертиры — они любят пограбить, но очень не любят пальбы. Трусливые, словом.
Майор тут же приказал водителю увезти женщин в центр села, полагая, что там те окажутся в большей безопасности.
— Нападать на большую колонну с охраной шайка вряд ли осмелится, — объяснил он свое решение. — Мы же устроим на нее засаду и, в случае чего, немедленно придем вам на помощь. Машину загоните в какую-нибудь усадьбу, чтобы не привлекать внимания к ней, и замаскируйте, обязательно предупредив охрану о возможном нападении.
Анна Жерми наотрез отказалась садиться в машину. Майор попытался уговорить ее, однако, улучив момент, Смолевский вполголоса обронил:
— Бессмысленное занятие. Пусть остается. У нее имеется пистолет, а стрелок Бонапартша — отменный. И вообще поймите вы, что наша Жерми — настоящий боец.
— Это вы — об Анне Альбертовне?! — не сумел скрыть своего удивления особист и, пораженный сообщением штабс-капитана, тут же угомонился — дескать, пусть остается.
Как только машина отъехала, Бонапартшу он оставил в доме, играть роль хозяйки. Смолевский же, вооруженный лопатой с перебитым черенком и финкой, затаился в кустах неподалеку от оврага, чтобы ударить по дезертирам с тыла.
— Попытаюсь вспомнить навыки, полученные когда-то в разведшколе, в том числе и по рукопашному бою, — азартно объяснил он, самостоятельно выбирая для себя место засады.
— Тем более что снимать придется «краснопёров»? — не упустил случае подколоть его Гайдук. — Как не вкусить такого наслаждения?
— Ну, «красноперы» как-никак — идеологические противники, а эти — так себе, банда горлорезов.
Унтеру майор вручил свой трофейный пистолет и приказал засесть в руинах соседнего дома. Сам спрятался у кованой, открывающейся внутрь двери подвала, из-под карниза которого просматривался весь двор и подходы к нему.
— Вы что, действительно вооружены? — поинтересовался он у Жерми, после неудачной попытки дать ей напутственные советы — как следует вести себя во время нападения.
Та встретила это со снисходительным сарказмом:
— Вы еще спросите, владею ли я оружием, — иронично парировала Анна.
Они стояли в тесных сенцах старой мазанки и говорили вполголоса. В обеих комнатах светилось по керосинке, а на кухне — дымилась свеча. Вся их крайняя хата представляла теперь посреди степи приманку для любого из проходимцев.
— И что странного вы нашли бы в этом вопросе?
— У меня — наган с полным зарядом, плюс шесть запасных патронов. Понимаю, что для боя маловато, но стрелять намерена без предупреждения, в упор и без каких-либо расспросов.
— А мне казалось, что я неплохо знаю тебя, Анна, — переходом на «ты» Дмитрий пытался напомнить женщине о днях в Одессе, проведенных вместе, чью весеннюю прелесть забыть никак не мог.
— Всем так казалось, — спокойно заметила Жерми. — В этом и заключается один из способов маскировки, а значит, и само искусство выживания в тылу противника. Кстати, в тылу белых я вела бы себя точно так же.
— Кого же вы в таком случае представляете?
— Саму себя. Но, по убеждениям своим, я — яростная монархистка, у которой есть все основания ненавидеть и белых, и красных, не говоря уже о махновцах и прочей сволочи.
— Как я и предполагал, — проворчал Гайдук.
— Может быть, поэтому, — не обратила Бонапартша внимания на его слова, — единственно приемлемым и актуальным лозунгом Гражданской войны для меня до сих пор остается лозунг незабвенного, хотя и презрительно нелюбимого мною, Нестора Махно: «Бей белых, пока не покраснеют; бей красных, пока не побелеют!»
— Очевидно, атаман-анархист даже не догадывался, как любо будет монархистке идти в бой под его лозунгами. Что ж вы, Анна Альбертовна, так и намерены до конца дней своих прожить на советской территории, как на вражеской?
— Я до конца дней своих намерена прожить на территории Российской империи. Пусть даже и лишенной на какое-то время короны, герба и флага.
— И вам не страшно произносить эту крамолу в присутствии офицера НКВД?
— Лично я пустилась в эти откровения только потому, что, как оказалось, словесным недержанием отличился наш дражайший штабс-капитан. Разве я давала хоть малейший повод заподозрить во мне монархистку и вообще человека, настроенного антисоветски?
— Моим друзьям, — уклончиво ответил Гайдук, — особенно коренным одесситам, вы казались живым воплощением французской революционерки, эдаким подобием Жанны Лябурб[17]. Только почему сейчас вы напропалую столь откровенны? Уже не считаете меня офицером НКВД?
— Потому что вы, лично вы, Дмитрий Гайдук, никогда им и не были. А сейчас — тем более. Лично я воспринимаю вас, как обычного русского офицера, оказавшегося в двух шагах от линии фронта и готового сражаться против германцев точно так же, как тысячи офицеров сражались против них в прошлую мировую.
— Ну, слава богу, — с искренним облегчением вздохнул Дмитрий. — А то я уж было решил, что вы пытаетесь склонить меня на свою сторону. К измене присяге.
— В случае с вами это бессмысленно. Достаточно того, что теперь мы — союзники и перед нами общий враг. Уверена, что к такому же решению придут многие белые офицеры, как, впрочем, и офицеры-монархисты.
39
Нет, это совещание у командующего армией, последнее перед операцией «Выжженная степь», оптимизма фон Штуберу не придало. Генерал Курт Швебс как-то рассеянно выслушал доклады самого барона, а также командира танкового отряда майора Кегля и командира егерей капитана Юргенса и, впав в несвойственное ему забытье, молчаливо смотрел куда-то в пространство перед собой.
В общем-то, командиры всех трех отрядов подтвердили свою готовность к танковому и воздушному десанту в район Степногорска. Стало ясно: само их появление в тылу вызовет у русских панику; кроме того, десантники отвлекут на себя и уничтожат значительные силы противника. Но все их жертвенные усилия приобретали смысл только в том случае, если основным силам удастся с ходу прорвать оборону русских и, войдя в город, соединиться с остатками десанта.
Таковым, собственно, и виделось поначалу генерал-полковнику Швебсу завершение «Выжженной степи». Но, пока шла подготовка к десанту, ситуация в районе действия армии резко изменилась.
Догадавшись, что основной удар будет нацелен на крупнейший промышленный район, с центром в Кривом Роге, русские сосредоточили на этом направлении несколько дивизий, перебросили танковый полк, начали цепляться за каждый, даже самый мизерный, водный рубеж, за любую складку местности. К тому же в подольских лесах то тут, то там обнаруживались подразделения окруженцев, не спешивших сдаваться, как это происходило в самом начале войны. Они не пытались во что бы то ни стало вырваться из окружения, а продолжали действовать диверсионно-партизанскими методами. В итоге немецких солдат, необходимых на фронте, приходилось бросать на охрану дорог и прочесывание местности, а главное, терять их в бессмысленных стычках.
— Как вы уже убедились, — наконец-то мысленно вернулся в кабинет генерал Швебс, — чем ближе части армии подходят к промышленным районам, к Днепру, тем сопротивление русских становится все более упорным. И я очень сомневаюсь, что завтра нам удастся захватить Степногорск, а значит, воспользоваться действиями десанта.
Услышав это, командиры групп переглянулись. Опасаясь, как бы Швебс вновь не впал в летаргическое молчание, оберштурмфюрер СС театрально, стараясь привлечь внимание, прокашлялся:
— Следует полагать, операция, господин генерал, отменяется?
— По данным разведки, никаких значительных резервов у русских на этом направлении больше нет, теперь они спешно создают оборонительный вал на восточном берегу Днепра. Но у меня их тоже нет. Для переброски нужно время. — Он замолчал, несколько мгновений вдумчиво рассматривая тот квадрат на карте, в пределах которого находился Степногорск. — Решение будет таковым. Десантирование состоится в намеченное время. Однако цели его сузятся. Танковому десанту, — метнул он взгляд в сторону майора Кегля и капитана Юргенса, — усиленному еще пятью машинами и взводом егерей, предстоит взять под свой контроль железнодорожный поселок, надежно перерезав при этом железнодорожное и шоссейное сообщение.
— Смею заверить, господин генерал, что танковая группа приказ выполнит.
— Что же касается парашютистов, фон Штубер, то им отводится роль вольных стрелков при полной свободе действий.
— Любимая роль каждого парашютиста, — склонил голову барон.
— Усиленная отделением снайперов, ваша группа, истребляя живую силу и технику противника, еще до рассвета должна посеять панику во всем Степногорске. Главное внимание уделяйте той части города, которая расположена со стороны станционного поселка, отделенного от города, если верить карте, лоскутком холмистой степи. К полудню все ваши люди должны отойти к поселку железнодорожников и, вместе с танкистами, надежно оседлав обе дороги, держаться там до подхода наших войск. Все это время передовые части будут поддерживать вас огнем дальнобойной артиллерии и силами штурмовой авиации. Пехота станет всячески имитировать активность.
Пока генерала отвлекал телефонный звонок, Штубер достал топографическую карту и внимательно изучил расположение станционного поселка, а также часть местности, отделявшую его от окраин города. Как оказалось, всю ее изрезали овраги и усеяли холмы, часть их даже заползала за черту города. Именно эта холмистая гряда, очевидно, определила и название города — Степногорск.
«Неужели русское командование не превратило эти холмы в оборонные высоты? — удивился оберштурмфюрер. — Где еще держать оборону в здешних степях, если не на такой гряде?» Однако он тут же уяснил для себя, что это потребовало бы значительных сил и что созданием подобной «линии Маннергейма»[18] местного пошиба следовало заняться давно, притом что она имела бы смысл только при организации серьезной обороны города. Русские же войска, почти с ходу отброшенные от Южного Буга, теперь спасительно оглядывались на берега Днепра. Причем это уже было ясно и без данных армейской разведки.
Впрочем, он со своим десантом тоже вряд ли сумеет использовать преимущества гряды, поскольку «ночной бросок» будет нацелен на равнину северо-восточнее городка, где пролегает степная дорога, уводящая на юг, в сторону Запорожья. Но спасти кое-кому из его «скифов» жизнь, при отходе к станционному поселку, она, несомненно, может.
Судя по нервным ответам Швебса, звонил начальник штаба группы армий «Юг»; требовал он как можно скорее захватить Кривой Рог, с его заводами и рудниками, нацеливаясь при этом на выход к Днепру.
— Терпеть не могу, — проворчал генерал-полковник, швырнув трубку на аппарат и ни к кому конкретно не обращаясь, — когда штабисты подгоняют меня, поучая, что и как делать. Хотя и так ясно, что мои дивизии продвигаются почти походным маршем, на пределе возможностей. — Он вновь выдержал паузу, достаточную для того, чтобы пренебречь штабными наставлениями, и только тогда угрюмо спросил: — На чем мы остановились, господа?
— Что во время десанта пехота станет имитировать активность, — подсказал ближе всех сидевший к Швебсу начальник штаба армии.
— Но только имитировать, — уточнил оберштурмфюрер СС.
— Наступление начнем ровно в полдень. По всему участку 257-й дивизии. Однако прорыв обороны русских штурмовая группа будет производить севернее Степногорска, на том же участке, где намечен и прорыв танкового десанта. Время и место основного удара должно храниться в тайне.
— Оно будет храниться, господин генерал, — угрожающе заверил его начальник армейского отдела гестапо штурмбаннфюрер фон Роттенберг.
— И еще… — демонстративно не обратил на него внимания командарм. — Объясните приданным вам, оберштурмфюрер, снайперам, что на сей раз никто не требует от них выбора каких-то особых, командных целей. Огонь по любой вооруженной мишени. Кстати, проследите, чтобы ранцы у них были наполнены патронами, а не шнапсом.
— Видно, придется огорчить их еще раз, — воинственно ухмыльнулся барон, подразумевая, что первым огорчением стало для них включение в состав десанта.
Когда совещание завершилось, уже в приемной генерала Штубер задержал командиров танкового десанта и сообщил, что его «скифы», в основном переодетые в красноармейскую форму, начнут отход в одиннадцать ноль-ноль, поэтому все бойцы их десанта должны быть предупреждены.
— Кстати, напомните своим танкистам, что мои парашютисты обуты в сапоги, в то время как рядовой и сержантский состав красных щеголяет в известных вам обмотках. При фронтовом десанте подобное несоответствие простительно.
40
Как Унтер и предполагал, дезертиры пришли со стороны оврага, вот только вооружены они оказались значительно лучше, чем надеялся старый солдат. По саду они шли в открытую, переговариваясь; по хохоту их улавливалось, что грабители навеселе.
— Ты смотри: хату уже кто-то обживает. Раньше-то она вроде пустовала, — сюсюкающим голосом произнес один из бандитов, помочившись у самого входа в подвал, где затаился майор Гайдук.
— Какой же ты у нас наблюдательный, Киря. Беженцы обживают, кто же еще? — сипловатым баском просветил его другой, направляясь прямо к двери.
— Ты у нас теперь атаман, тебе и предвидеть.
— Эх, оказалась бы там парочка городских молодух, как тогда, в Крутояровке, — тут же размечтался атаман.
— Не надо было под ножи их пускать, — вмешался в разговор третий. — Сходили бы к этим мадамам еще разок-второй.
— Хозяин, открывай! — постучал в дверь атаман. — Гости пришли.
— Чего стучите? — тут же открылась перед ним дверь. — Здесь никто и не думал закрываться.
— Твою мать! В самом деле, мадама! — буквально взвизгнул Киря и поспешил к двери, очевидно, забыв застегнуть ширинку.
Под сиянием восходящей луны майор видел, как у входа в дом сгрудилось пятеро дезертиров. Еще двое вышли за калитку и осматривали улицу, словно бы прицениваясь, хозяев какого из домов избрать следующей жертвой.
— А вы кто такие, хлопцы? — решительно спросила Анна замершего перед ней от удивления главаря. — Не многовато ли вас явилось на один самовар?
— Не на один самовар, а на одни сиськи, — с вызовом уточнил главарь. — Ты откуда такая взялась, шмара грудастая?
Судя по всему, он попытался обнять Анну, однако она отбила руку, и тут же прозвучал выстрел. Затем, почти без промедления, второй и третий. Как потом выяснилось, стреляя от бедра, она все три пули сумела всадить трем грабителям почти точно в солнечное сплетение.
Те двое, что стояли у ворот, тут же открыли огонь по дому, но их отвлек на себя Унтер.
Еще двое, которые топтались во дворе, у летней кухни, пригнувшись и с криками «Делай ноги, братки! Засада!» попытались скрыться в глубине парка. Одного из них майор ранил в бок, тот упал, однако продолжал отстреливаться из пистолета. Второй же попытался скрыться в кустах, где и нарвался на дожидавшегося своего часа Смолевского. Там сразу же разгорелась схватка, прогремел выстрел, но и после него возня и стоны продолжались.
Расправившись второй пулей с бандитом, залегшим у подвала, майор крикнул: «Анна, свой!» Ответа не последовало. Метнувшись к углу дома, Гайдук подключился к перестрелке с теми двумя бандитами, что все еще вели огонь из-за живой изгороди. Когда один из них упал рядом с калиткой, второй, на ходу отстреливаясь, хотел скрыться за руинами дома напротив. Однако уйти ему не удалось: Жерми, сумевшая выбраться через окно в задней стене, сначала ранила его в спину, а затем подбежала и выстрелом в солнечное сплетение добила.
— Как ты, Анна? — поспешил майор к воротам.
Выстрелом в живот Жерми добила еще и дезертира, корчившегося у калитки, и только тогда спокойно, деловито ответила:
— Воюю, как видите, господин майор.
— Да ты и в самом деле воюешь. По-настоящему.
— Чего нельзя сказать о вас, майор. Не говоря уже о бывшем унтер-офицере — с десяти шагов в человека не сумел попасть.
— Да не стрелял я никогда из пистолета, — оправдываясь и старчески кряхтя, выбирался из своей засады Унтер.
Однако выслушивать его Жерми не стала.
— Какой же ты беспокойный, — с укором произнесла она, на ходу добивая бандита, все еще стонущего у подвала, и перемещаясь от дерева к дереву, устремилась к кустарнику.
Майор поспешил за ней.
Смолевский сидел, прислонившись спиной к стволу дерева, на россыпи подгнивших яблок. Он был ранен выстрелом в плечо и истекал кровью.
— Он выстрелил, но передернуть затвор я ему не позволил, — сквозь стон проговорил Гурий.
— Я так и поняла, — заверила его Жерми, спокойно заполняя ячейки наганного барабана запасными патронами. Ногой, обутой в легкий сапожек, она рывком перевернула лежавшего на боку дезертира, выстрелила ему в живот и только после этого вновь обратилась к Смолевскому: — Вы храбро сражались, господин штабс-капитан. Свидетельствую. Это делает вам честь.
— Я же прошу «выстрела милосердия», подполковник. Вместо Георгиевского креста.
Гайдук склонился над раненым, пытаясь сообразить, как бы ему помочь, и даже успел обнадежить Гурьку, что рана несерьезная и сейчас его перевяжут. Однако резким рывком за предплечье Жерми тут же отстранила сердобольного особиста.
— Вы дрались, как подобает русскому офицеру, штабс-капитан. И вот вам заслуженная награда. — Она чинно наклонилась, поцеловала Смолевского в лоб и тут же, не разгибаясь, выстрелила в его приоткрытый рот.
— Да ты что, совсем озверела?! — взорвался Гайдук.
Однако Жерми ткнула ему дуло пистолета в живот и по слогам, словно смертный приговор зачитывая, произнесла:
— Следующий «поцелуй Изиды»[19] вместе с «пулей милосердия» будут твоими, майор. Быстро находим нашу машину и немедленно убираемся отсюда. Для водителя и прочих наших попутчиков версия такая: мы в этой бойне не участвовали, но, отдыхая в доме Тимофеича, стали свидетелями столкновения двух бандитских групп. Но это — для попутчиков. Для всех остальных — нас здесь вообще не было. Впрочем, дня через два здесь уже появятся немцы, а вместе с ними — столько трупов, что разбираться с телами русских дезертиров станет недосуг. Вы слышали, что я сказала, унтер-офицер? — обратилась она к неспешно приковылявшему к ним Унтеру.
— Так точно-с! — мгновенно отреагировал тот, и даже потянулся рукой к несуществующему козырьку. — В овраге есть большая вымоина. Я позову соседа, и мы стащим тела в нее. Все равно ведь прикажут похоронить.
— Самое мудрое решение. У них было два пистолета. Один отдашь мне, другой, если хочешь, оставь себе для успокоения нервов. Да не забудь о патронах. Обрезы собери и надежно спрячь. Война будет длинной, авось пригодятся.
— Пригодятся, судя по всему, — с готовностью старого служаки подтвердил унтер-офицер.
— Чего ждем, майор? — уже направляясь к калитке, жестко поинтересовалась Анна у замешкавшегося особиста. — Пока сюда прибудет местный участковый, с десятком мужиков из ополченского отряда «истребителей диверсантов»?
Словно бы подтверждая ее слова, со стороны центра донеслось несколько выстрелов, судя по всему, в воздух. Затем раздались чьи-то панические крики: «Немцы прорвались!»
— Да не через калитку уходим, майор. Улицей продвигаться нельзя, свои же пристрелят. Напрямик идем, садами. На дорогу выйдем только после того, как минуем несколько усадеб…
Почти всю дорогу они шли молчаливо, лишь время от времени перебрасываясь несколькими фразами. Подходя к стоявшему на возвышенности зданию сельсовета, Гайдук все же не выдержал:
— Если так, не для протокола… Уж не ту ли белогвардейскую школу контрразведки вы закончили, что и штабс-капитан Смолевский?
— В той, одесской, школе я была инструктором.
— Шутить изволите, госпожа Жерми?
— Когда, после прибытия из Лондона, совсем еще молодой женщиной, я представлялась начальнику школы полковнику Жердинскому, как специалист, прошедший подготовку в секретной британской школе по методам конспирации и выживанию в тылу врага, реакция его оказалась точно такой же. Со временем ситуация сложилась так, что из Одессы нашу школу перебросили в Крым, и вскоре она оказалась в подчинении штаба генерала Врангеля.
Глубокое молчание майора полностью соответствовало глубине шока, в котором он какое-то время пребывал.
— Неужели вы не понимали, что война вами уже проиграна?
— А кто вам сказал, что мы готовили диверсантов и контрразведчиков для той войны? Почти все они получали задание раствориться в массе гражданского населения, выжить, получить доверие красных властей и… ждать сигнала. Впрочем, вы это уже поняли, исходя из откровений штабс-капитана Смолевского. Во времена агонии «Черного барона», нас тайно перебрасывали контрабандистскими шаландами: кого на Тамань, а кого — в направлении Очакова и Николаева.
Они уже нашли машину, к чьим бортам жались напуганные стрельбой женщины, когда Гайдук неожиданно вспомнил:
— С просьбой о «выстреле милосердия» Смолевский обращался к какому-то подполковнику. Бредил, что ли?
— Да нет, вполне осознанно обращался ко мне, подполковнику Подвашецкой. Такова моя настоящая фамилия. Упреждая дальнейшие вопросы, объясню, что на самом деле перед вами — дочь адъютанта Его Императорского Величества, генерала от инфантерии Владислава Подвашецкого. Сразу же после мировой войны он стал военным атташе в Великобритании и личным представителем императора при британском императорском дворе. Как вы понимаете, такие полномочия открывали ему двери кабинетов и салонов самых высокопоставленных чиновников Британской империи.
— Уж в этом-то можно не сомневаться.
— Предвидя революционный взрыв в России, он так и остался в Туманном Альбионе, решив, что больше пользы Отечеству и, в частности, Белому движению, принесет, используя свои связи в Лондоне, Париже и в Стокгольме. С наследником генералу не повезло, поэтому с самых юных лет он воспитывал меня, как кадета: закалка, умение владеть оружием, история русской армии и русских войн. Ну а примером для меня служила «кавалерист-девица», офицер русской армии, штабс-ротмистр Надежда Дурова[20]. Слышали о такой?
— Приходилось, — неохотно подтвердил Гайдук.
— Впрочем, первый свой офицерский чин — лейтенанта по ведомству медицины, я получила после окончания Королевской школы военных фельдшеров. Однако медицина меня не привлекала, и вскоре, по личной протекции герцога Виндзорского, близкого с моим отцом, меня определили в школу контрразведки, которая на самом деле являлась разведывательно-диверсионной.
У машины их заметили. Серафима окликнула майора, однако тот велел ей и остальным женщинам погружаться в кузов, а сам, остановившись, попросил Жерми:
— Продолжайте, все это крайне любопытно.
— Подробности, с вашего позволения, майор, опускаю, но замечу, что в Одессу я прибыла в чине капитана британских вооруженных сил, что соответствовало чину штабс-капитана русской армии. В капитаны же меня произвели за успехи в подготовке курсантов.
— Ну и послужной списочек у вас, госпожа Подвашецкая. В самый раз — возгордиться. Однако продолжайте.
— Да, собственно, уже все сказано. Чин подполковника[21] дарован был мне лично бароном Врангелем, уже накануне и его, и моего, бегства с полуострова. Так что даже примерить погоны подполковника мне, увы, не довелось.
— Вы хоть представляете себе, Жерми, какой потрясающий сюжет для «белогвардейской драмы» погибает на страницах вашей биографии?
— Вы хотели сказать: на страницах «дела военного трибунала красных».
— И на страницах «дела» — тоже.
— Зато представляю себе, как зачитывались бы этими страницами ваши коллеги из НКВД.
«Не исключено, что еще будут зачитываться», — мысленно парировал Гайдук.
41
Когда Штубер вернулся на базу «Буг-12», десять снайперов уже находились там, но, как тут же уведомил озадаченный их командир, унтер-офицер Кренц, ни один из его «зоркоглазых» представления не имел о том, что такое парашютная подготовка и вообще как в действительности выглядит парашют.
«Вот это-то в штабе армии в расчет и не взяли! — понял барон. — Обычная фронтовая спешка». Однако о том, чтобы начать готовить снайперов к прыжкам прямо сейчас, не могло быть и речи. После тренировочных десантов механики готовили самолеты к ночным полетам, а сами летчики отдыхали. Всему личному составу отряда Штубер тоже намерен был объявить отбой до двадцати трех ноль-ноль.
Выход был найден после совещания с командиром летной группы обер-лейтенантом Зегелем. Поскольку его самолеты могли садиться на любой более или менее ровный участок степи, то решено было, что парашютисты из первой машины прежде всего подберут участок необходимых размеров и обозначат его огнем фонариков.
— Может быть, тогда вообще отпадет необходимость в прыжках, — ухватился за эту идею фон Штубер. — Куда эффективнее просто высаживаться, оставляя парашюты на борту. В таком случае группа сохраняет мобильность, а главное, с первых минут она готова к бою за удержание плацдарма.
Выбрав по карте пригодный участок в километре от створа окраин станционного поселка и города (основным ориентиром служила водонапорная башня), офицеры пришли к выводу, что двух заходов авиагруппы из четырех самолетов будет вполне достаточно, чтобы перебросить «скифов», не позволяя русским расстрелять парашютистов еще в воздухе. К тому же наземная высадка позволит летчикам заходить на посадку на бреющем полете, спасаясь от зениток, а Штуберу — усилить вооружение команды еще двумя пулеметами и огнеметом, гранатами и взрывчаткой.
— Я сейчас же свяжусь со штабом полка и попрошу провести воздушную разведку этого участка, — воодушевился замыслом обер-лейтенант. — Восточнее города вообще никаких частей русских не наблюдается. Притом что гарнизоны поселка и города небольшие, ибо все силы брошены на удержание фронта по Ингулу.
— Только разведку свою обязательно замаскируйте под обычную штурмовую атаку, — предупредил его барон. — А заодно — присмотрите площадку под полевой аэродром.
В штабе авиаполка понимали значение операции «Выжженная степь», поэтому самолеты подняли в воздух немедленно. Пока одни пилоты давили пулеметные гнезда и уничтожали машины с солдатами и снаряжением, другие, на минимальной высоте, прощупывали предполагаемый район высадки. Вернувшись, они указали на поле со скошенной люцерной.
Прежде чем предоставить своим бойцам отдых, барон всех их построил. Определив первую группу, которая должна была высадиться на парашютах и световыми сигналами указывать место посадки, он сказал:
— Все остальные прямо из чрева машин уходят в рейд. Никаких команд не ждать, каждый действует, как и умирает, в одиночку. Истребляйте, взрывайте, жгите, сейте панику. Любые очаги сопротивления подавляйте гранатами, стараясь при этом не задерживаться у тех точек, взять которые с первого удара не удается. Пленных не брать, дабы не связывать себе руки. Это ваша ночь, солдаты! Ведите себя, как подобает диверсантам, чья основная задача — выжить, истребив при этом как можно больше врагов.
— Слава богу, на сей раз недостатка в них не будет, — важно поддержал его фельдфебель Зебольд.
— Нагло пользуйтесь тем, что ваша красноармейская форма будет сбивать с толку не только солдат противника, но и мирное население. Любое жилище можете превращать в свой персональный бункер, однако женщинами не увлекаться, ими займемся после того, как город окажется в наших руках.
— Когда именно начнется наступление наших частей? — поинтересовался командир снайперов.
— Вы узнаете это по мощной артподготовке, которая основательно взрыхлит вражескую оборону, — молвил Штубер. — Прорывайтесь как можно ближе к центру города, действуйте самым яростным образом.
— …стараясь держать под прицелом шоссе и все выезды из города, а также казармы и всевозможные учреждения, — уточнил Зебольд, на правах наиболее опытного диверсанта и помощника командира десантного отряда.
— К утру попытайтесь сосредоточиться на северо-восточной окраине, — продолжил наставление Штубер, — ориентируясь по водонапорной башне у станционного поселка. Летчики специально не бомбили ее. К двенадцати все собираемся в поселке, в районе вокзала, где уже будет наш танковый десант. Ваш пароль: «Выжженная степь», ответ: «Буг-12».
42
Самолет с оберштурмфюрером СС на борту приземлился сразу же, как только одна часть парашютной группы Зебольда обозначила фонариками посадочную полосу, а вторая окружила место высадки в сотню метров по периметру.
В городе не оказалось ни одного прожектора, который бы мог осветить заходящие на посадку самолеты, а два зенитных орудия, расположенные в районе станции, сначала открыли огонь на звуки моторов, но потом словно бы стушевались и умолкли. Становилось ясно, что зенитчики попросту не уверены, что в воздухе не свои, а германские машины. Пилоты-разведчики оказались правы, утверждая, что к серьезной обороне этот городок не готов.
— Пошевеливайтесь, пошевеливайтесь, скопище бездельников! — поторапливал барон своих «скифов», поглядывая при этом на небо, где между туч пробивался предательский свет луны. — Рассредоточиться и быть готовыми к бою! Как только высадится последняя группа, мы ворвемся в этот город, подобно орде Чингисхана.
Последний самолет еще только заходил на посадку, когда Штубер увидел то, что больше всего надеялся сейчас увидеть, — две красные ракеты, выпущенные одна за другой в той части города, где находилась его секретная явочная квартира. Они означали, что ни о каких засадах и ловушках красные не позаботились. «Неужели в этой провинциальной степной глуши у Канариса в самом деле укоренился агент, уже более двух лет работающий под носом у энкавэдистов?» — умиленно удивился фон Штубер.
Только позавчера утром барон обратился к Ранке с каверзной просьбой:
— Не могу поверить, господин подполковник, чтобы в этом городке абвер не обзавелся ни одним агентом. Так, может быть, шепнете его адресок? Мало ли что произойдет в течение суток, которые нам придется вести бои в тылу врага…
— Грешно было бы не обзавестись им на железной дороге, связывающей промышленный центр Украины сразу с двумя черноморскими портами, — признал подполковник Ранке.
— Неужели обосновался еще до начала войны?
— Задолго до ее начала. Раньше мы по мелочам его не тревожили, однако раз в месяц получали основательные радиосводки по поводу всего, что происходит на железнодорожной станции и в самом городе. Радист она, кстати, превосходный.
— Речь идет о женщине?
— Причем о такой, какую никому и в голову не придет заподозрить в сотрудничестве с абвером. Она обладает почти божественными секретами естественного перевоплощения. Местные чекисты скорее поверят в существование Христа, нежели в то, что эта особа является давнишним резидентом германской разведки, имеющим к тому же в местных структурах власти ценнейшего информатора, работающего на нее вслепую.
— Так почему мы не подослали к ней пару моих диверсантов, которые взяли бы этот городишко под контроль задолго до подхода дивизий вермахта?
— Потому что уже через час после высадки эти ваши «бессмертные» оказались бы в руках местных энкавэдистов, после чего тут же выдали бы лучшего из моих агентов, — отрубил подполковник. — Причем не исключаю, что они сами сдались бы чекистам.
— Прошу прощения, господин подполковник, но не забывайте, что речь идет о выпускниках Фридентальских курсов, репутация которых…
— Эту репутацию еще следует подтвердить, оберштурмфюрер.
— Позволю себе не согласиться. Большинство наших курсантов еще до появления в замке Фриденталь побывали в таких переделках…
Ранке окинул барона снисходительным взглядом и высокомерно отвернулся. Оберштурмфюреру была знакома эта манера офицеров абвера свысока поглядывать не только на созданную Герингом разведку люфтваффе[22], но и на попытку подчинить себе всю разведку и контрразведку адмирала Канариса, предпринимаемую службой безопасности СС.
— Если кто-то там из ваших взрывников и поработал в деморализованной Польше или в безвольной Франции, — брезгливо поморщился подполковник абвера, — это еще ни о чем не говорит. Истинный агент познается здесь, в России. Кстати, агент Аристократка послужит еще и в нашем тылу, взрывая местное подполье.
Координаты агента подполковник дал неохотно, с жестким условием, что о его существовании будет знать только он, барон фон Штубер, и к помощи его прибегнет только в самом крайнем случае.
— Один этот агент, — снисходительно предупреждал Ранке, — стоит всей вашей группы.
— По этому поводу у нас в СД говорят: «Никто так не склонен к преувеличениям, как «птенцы адмирала Канариса», — прокомментировал его заявление Штубер как офицер службы безопасности СС. — Порой мне кажется, что молва права…
И вот сейчас, только что, Аристократка дала знать о себе двумя сигнальными ракетами, обозначившими главное направление натиска диверсантов, рвущихся к центру.
Высадка десанта незамеченной все-таки не осталась. В гарнизоне объявили тревогу, и какие-то подразделения начали выдвигаться к восточным окраинам города. Авангардная группа диверсантов уже вступила в перестрелку, и барон приказал остальным в бой не ввязываться, а, рассредоточившись, просачиваться в город, обходя места стычек по флангам.
— Нам не нужен бой на окраине. В наших руках должен оказаться весь этот городишко, — напутствовал он своих «скифов-кочевников». — Отныне он ваш, я дарю его вам! — жестом великого завоевателя указывал оберштурмфюрер на предместье, оглашавшееся звуками хаотичной стрельбы и дружным собачим лаем. — Пусть пепелища этого Содома объяснят миру истинный смысл операции «Выжженная степь».
43
…И вой пикирующих бомбардировщиков, и пулеметная пальба — все это зарождалось в идиллическом полусне, и постепенно, сквозь постельную негу, заполняло ее встревоженное сознание.
Осознав, что родители надолго, возможно, навсегда, покинули и ее, и свой дом, Степная Воительница всплакнула. Правда, она тут же устыдилась своей слабости, но лишь для того, чтобы, проявив «гайдуцкий характер», в конце концов по-настоящему разреветься.
Причем больше всего ей было жаль не родителей, и даже не себя, а дом, где она, вопреки наставлениям, проводила последнюю свою ночь и который уже завтра будет брошен на произвол судьбы. В сознании Евдокимки дом неожиданно предстал в образе некоего воодушевленного существа, члена семьи — преданного остальными ее членами. Ей выпало стать последним из Гайдуков, кто покидает эти стены. Расчувствовавшись, она почти до полуночи переходила из комнаты в комнату, стараясь дотронуться рукой и мысленно попрощаться со всем, что здесь оставалось.
Однако все это происходило еще до того, как Степная Воительница погрузилась в сон. А теперь, буквально сброшенная с кровати воем «мессершмиттов», мощными взрывами и ружейной пальбой, она поспешно облачилась в свое военное одеяние; прихватила санитарную сумку, карабин, подсумок с патронами и, закрыв дом на замок, оставила ключ в условленном месте.
Рассвет еще не наступил, но где-то на востоке небо уже слегка просветлело; воздух казался теплым, но предельно влажным, словно бы пропитанным ночной росой. Он вбирал в себя аромат вишнево-древесной смолы, настоянный на горьковатом запахе полыни.
Евдокимка помнила предупреждение майора о десанте и теперь смогла убедиться, что дядя не ошибся. Судя по стрельбе, доносившейся с разных сторон, нетрудно было догадаться: десантники разбрелись чуть ли не по всему городу. Но основной бой все же завязался в районе железнодорожной станции, которая, очевидно, являлась конечной целью немцев.
Девушка понимала, что вся дальнейшая жизнь ее зависит теперь от того, успеет ли она появиться в госпитале, прежде чем санитарный обоз покинет его. По извилистой тропинке промчалась она через сад, протиснулась сквозь через щель в заборе, пробралась в соседнюю усадьбу. Однако появляться на улице не спешила. Долго петляя по едва проторенным тропинкам, Евдокимка прокралась вдоль живой изгороди; несколько минут выжидала неподалеку от угольного склада, пытаясь понять, что за фигурки перемещаются вдоль его полуразрушенной стены… В конце концов девушка обошла склад, осторожно пробираясь по бурьяну и зарослям шиповника среди долины, где в глубине едва теплилась жизнь какой-то забытой богом и людьми речушки.
Поднебесный вой самолетов уже затих, однако с севера, оттуда, где находилась станция, доносился теперь тяжелый, скрежещущий гул, которого Степная Воительница уже не могла спутать ни с каким другим — это приближались танки. Знать бы только чьи — свои или немецкие?
До больничной усадьбы оставалось метров двести, когда Евдокимка заметила возле какого-то здания два силуэта. Решив, что это красноармейцы, она уже хотела окликнуть их, но в это время один из них скомандовал кому-то, скрывавшемуся по ту стороны ограды, по-немецки: «Продвигайтесь вперед, к центру города. Нужно найти удобное строение, где мы смогли бы держать оборону до подхода основных сил». И сразу же последовал ответ: «Яволь! Уходим!»
Девушка находилась в это время во дворе через дорогу, прячась за точно такой же оградой. В Степногорске всегда было туго с древесиной, зато в окрестностях, и даже в каждом огороде, имелось великое множество дикого камня. Из него-то и возводили в городе дома и всевозможные постройки; из него же выкладывали невысокие, традиционные для здешних мест ограды.
Убедившись, что совсем рядом затаились немцы, Степная Воительница осторожно уложила карабин на камень перед собой и, почти не целясь, выстрелила. Убрав оружие, она тут же присела. Яростный крик раненого на самом излете был прерван автоматной очередью ей в ответ. Пули впивались в верхний слой камней рядом с девушкой и рикошетом улетали куда-то ввысь.
Не успели они отзвенеть, как Евдокимка, уже переместившись к кустам сирени, вновь вскинула карабин и выстрелила в спину солдату как раз в ту минуту, когда тот собирался перемахнуть через ограду. Он навзничь упал, даже не вскрикнув.
Силуэт второго немца четко вырисовывался рядом с упавшим. Он тоже полулежал, привалившись к ограде, и не двигался. «Ну, вот… — мысленно произнесла девушка, сдерживая нахлынувшую на нее необъяснимую дрожь во всем теле. — На двоих врагов в этой войне стало меньше».
Она вспомнила, как после первого же урока стрельбы, пораженный ее меткостью, старшина Разлётов удивленно воскликнул: «Это же не девка, а настоящее дитя войны!» Евдокимке очень хотелось, чтобы ее учитель оказался здесь. Увидев первых двух убитых ею врагов, он, наверняка, остался бы доволен — и собою, и своей ученицей. Знать бы, где он сейчас…
В городе стрельба постепенно затихала, становилось ясно, что захватить его немцам не удалось, а вот на станционном поселке и на западных окраинах разгорались настоящие бои. Оттуда доносились орудийная пальба и слегка приглушенные взрывы гранат.
44
Перебежав дорогу, Евдокимка остановилась. После опыта, полученного при «захвате» сбитого немецкого самолета и вчерашней медсестринской практики, страх перед мертвыми уже не сковывал ее мысли и действия. Зато она удивилась: один из подстреленных ею диверсантов был в германской форме, а другой — в красноармейской, с кубарями лейтенанта на петлицах и с советским автоматом в руках.
Тот, что в немецкой форме, застонал, однако добивать врага «дитя войны» не стала; пусть им займется кто-нибудь другой, если только диверсант продержится еще хотя бы с полчаса. Она же вынула из кобуры «лейтенанта» пистолет и запасные обоймы — до сих пор о таком оружии Евдокимка могла только мечтать, — и бросилась бежать в сторону парка, за которым располагалась больница.
— Эй, медсестра, сюда! — повелительно позвал ее кто-то из-за сарая крайнего дома у основательно запущенного уголка парка.
Обходя тела убитых, Евдокимка приблизилась к тому месту, где, между стеной сарая и оградой, лежал звавший ее человек.
— Вы ранены?
— В ногу, как видишь. Быстро перевяжи, — раненый оказался старшим лейтенантом.
— Здесь рядом госпиталь.
— Госпиталь — потом, когда уничтожим десант. Вон, видишь, пока выбивали парашютистов из этой усадьбы, пришлось потерять немало своих. Немцев где-нибудь поблизости видела?
— На соседней улице, теперь они где-то неподалеку.
— Ничего, мы с тобой вооружены. Доставай нож, нужно разрезать штанину.
— Нет у меня ножа. Не успели выдать. Даже не знаю, положен ли он санитарке.
— Ты сколько дней в госпитале служишь, красивая?
— Всего второй день.
— Тогда ясно. — Раненый достал из-за голенища сапога кинжал с граненой рукояткой, и протянул Евдокимке. — Действуй быстро, иначе кровью истеку.
Девушка неумело вспорола галифе, неловко обработала рану и принялась перевязывать. Рана оказалась неглубокой, пуля навылет прошла мягкие ткани чуть выше колена.
Стрельба в районе вокзала то затихала, то вспыхивала с новой силой. Через парк уже проходили красноармейцы, прочесывавшие окрестности госпиталя.
— Что тут у вас? — озлобленно прорычал какой-то сержант, на минутку приостановившись рядом с санитаркой.
— Не видите, что ли? — в том же тоне ответила Евдокимка. — Раненого командира перевязываю.
— Раненые — это потом; санитары и похоронщики пойдут вслед за нами, — обронил сержант и поспешил к бойцам, осматривавшим соседний дом.
— Только после боя обязательно обратитесь в госпиталь или в медсанбат, — посоветовала Евдокимка, помогая старшему лейтенанту подняться. — Операция не понадобится, но рана основательно загрязнена.
— Оказывается, в медицине ты кое-что смыслишь, — проговорил офицер, осматриваясь и прислушиваясь к тому, что происходит вокруг. — Вон, в сторонке, жилой дом, — указал он на крышу, выглядывавшую из-за высокой ограды.
— Не советовала бы заходить в него. Хозяйкой там — вредная и грязная старуха Фонюргина, которую, по-уличному, «Фу-Нюркой» кличут; злая и богомольная. Лучше отведу вас…
— Да не собираюсь я жениться на вашей, как ее там, Фу-Нюрке! Вон, бойцы только что проверили ее жилище. Помоги дойти до него, мне бы с часик отлежаться, а там…
С хозяйкой дома Евдокимка была знакома плохо. Нелюдимая, всегда неопрятная с виду, Фонюргина появилась в городке года два назад, чтобы присмотреть за больной родственницей. От нее она и унаследовала этот небольшой, неухоженный, как и сама хозяйка, домик. В городке ее считали полоумной сектанткой. По слухам, такие же сектанты помогали ей одеждой и едой.
Вот и сейчас она встретила незваных гостей, стоя лицом к иконе в углу комнаты, и, кажется, даже не оглянулась.
— Наверное, вы немного знаете меня: Евдокия Гайдук. Моя мать работала директором школы здесь неподалеку.
— Не знаю такой, — угрюмо ответила Фонюргина. — Ни тебя, ни матери. Чего тебе?
— Раненого командира нужно на несколько часов приютить, пусть отлежится. Фашистов уже отогнали, так что бояться нечего.
— В соседнюю комнату его, там лежанка, — сухим и жестким, почти мужским, голосом ответила старуха, усердно крестясь при этом. — Что фашисты, что коммунисты, все — отродье сатаны.
Когда, усадив раненого на лежанку в маленькой комнатушке, санитарка уходила, старший лейтенант придержал ее за руку и вручил свой кинжал, о котором она уже забыла.
— Это тебе на память от старшего лейтенанта Волкова. У пленного немецкого офицера отнял. Кстати, на конце рукояти — родовой герб его бывшего хозяина, барона фон Штубера.
— Даже так, барона?
— Не забудь — фон Штубера. Возможно, когда-нибудь этот кинжал спасет тебе жизнь, красноармеец Евдокия Гайдук.
— У нас, в полевом госпитале, мы называем друг друга «госпитальерами».
— Чудное наименование. Вы хотя бы знаете, что «госпитальерами» называли себя рыцари-крестоносцы, основавшие в Иерусалиме свой первый в мире рыцарский орден?
* * *
Как только санитарка ушла, Фонюргина появилась в проеме двери, освещенном утренним солнцем и, ни слова не произнося, сурово уставилась на привалившегося к стене офицера.
— Честь имею представиться: оберштурмфюрер СС…
— Вы уже представились, барон фон Штубер, — процедила старуха, переходя на немецкий. — Во время обмена любезностями с этой юной коммунистической стервой.
— В таком случае приведите себя в порядок, баронесса фон Юрген, — слегка улыбнувшись, окинул оберштурмфюрер фигуру старухи иронично-презрительным взглядом. — Спектакль с переодеванием окончен.
— Он будет окончен, когда германские войска войдут в город, — вскинула подбородок баронесса. — А пока этого не произошло, поскольку десант ваш разбит, а основные силы вермахта топчутся у западных окраин, — моя внешность служит лучшей защитой. Могу напомнить вам, оберштурмфюрер, что в перечне конспиративных приемов этот называется «щитом брезгливости».
— По-моему, на сей раз вы со своим «щитом брезгливости», баронесса, явно переусердствовали.
45
Когда Евдокимка добралась наконец до своего полевого госпиталя, на территории его уже выстраивались две походные колонны: одна — из машин, другая — из крытых санитарных повозок. Та и другая оказались довольно большими, несмотря на то, что почти всех тяжелораненых отправили в тыл накануне, а многие легкораненые либо вернулись в строй сами, либо вчера вечером были подсажены на транспорт тыловых подразделений дивизии, отходивший «в общем направлении на Запорожье».
— Где тебя носит, Гайдук? — тут же окликнула ее Корнева, помогавшая санитарам поднимать по трапу в кузов только что поступившего больного. — Быстро в машину, горе ты мое! — подтолкнула она Евдокимку.
— Отставить! — в ту же минуту прозвучал грозный окрик начальника госпиталя. — Ты почему опоздала, Гайдук? Тебе когда было приказано явиться? В моем госпитале еще только дезертиров не хватало!
— Это кто дезертир?! Это я, что ли, — дезертир?! — изумилась Степная Воительница. — Да я двух немцев-десантников уничтожила! Они на рассвете сюда, к госпиталю рвались!
Зотенко закрыл глаза и, молитвенно запрокинув голову, отчаянно повертел ею.
— Ты, Корнева, слышала чушь этой фантазерки? Кстати, твоя выучка.
— Я действительно убила их! — еще яростнее возмутилась Евдокимка. — Из этого вот карабина. У меня даже трофеи есть.
На сей раз доводы Евдокимки прозвучали настолько убедительно, что эскулап-капитан, хоть и вяло, но все же удивился:
— Что, в самом деле с диверсантами воевала?!
— Да ни с кем я не воевала, — с детской непосредственностью возразила Евдокимка, словно в учительской перед завучем оправдывалась. — Они первыми стрелять начали.
— Ну, если первыми, — под общий смех, признал ее правоту капитан, — тогда, конечно. И даже трофеи имеются?
— Это же наша Степная Воительница, эта может, — тут же пришла ей на выручку Корнева. — Сами видели, как она стреляет. Снайпер — и все тут. Да если бы она…
— Отставить бузу! — прервал Зотенко. — Не от тебя доклада требуют.
— А после этого, — обиженно продолжила свой рассказ Евдокимка, — еще и перевязала раненного в ногу старшего лейтенанта. Волков — его фамилия, нетрудно проверить. Я его в дом к старухе Фонюргиной пристроила. Он и сейчас там, пойдите, убедитесь. Кстати, вот, — вынула она из-за голенища небольшой кинжал с резной рукоятью. — Он подарил, из благодарности. Трофейный, у пленного немецкого офицера отобрал, у какого-то барона.
Эскулап-капитан и Корнева переглянулись.
— Ладно, «баронесса», некогда с тобой возиться, — проговорил начальник госпиталя. — Коль уж ты у нас такой лихой стрелок, садись вон в тот грузовик с бельем и прочим имуществом. Поступаешь в распоряжение сестры-хозяйки Игнатьевны. Кроме всего прочего — и в роли охранника. Если учесть, что боеспособной охраны у нас почти не осталось…
— Мы троих бойцов ночью потеряли, когда сюда группа немцев прорвалась, — объяснила Корнева.
— Уложу каждого, кто попытается… — уже на ходу заверила эскулап-капитана Степная Воительница.
Едва она добежала до стоявшего почти у самых ворот грузовика, как мимо него проехал открытый армейский «газик», где сидел подполковник Гребенин. Заметив девушку, подполковник беспомощно как-то оглянулся на нее, однако остановить машину на виду у начальника госпиталя не решился.
Зато Евдокимка вернулась на несколько шагов назад и, затаившись у заднего борта грузовика, принялась выжидать. Очень уж хотелось ей знать, заговорят ли эскулап-капитан и Гребенин о ней, но еще больше ее прельщала возможность самой побеседовать с подполковником.
Тем временем начальник штаба поинтересовался, как идет подготовка к эвакуации, пообещал выделить еще две машины и отделение мотоциклистов для сопровождения…
— Они проведут вас километров десять, чтобы обезопасить от нападения десантников, — услышала она грудной, бархатный голос подполковника. — Однако уходить будете на юго-запад, в сторону реки. На запад повернете только в районе Павловки. Да, это крюк, и дорога там не ахти, зато она находится под нашим полным контролем и не простреливается диверсантами.
— Неужели они все еще в городе?! — возмутился Зотенко.
— У нас нет столько людей, чтобы обыскать каждый двор и выбить их из всех тех нор, куда они заползли. И потом, следующей ночью мы так или иначе обязаны оставить город и отойти за Ингулец; соответствующий приказ уже поступил.
— Вот оно как ситуация разворачивается… — многозначительно протянул начальник госпиталя.
— Как чувствует себя ваша новая санитарка Евдокия Гайдук? — сменил болезненную тему начальник штаба.
— Прекрасно служит, — нехотя ответил эскулап-капитан. — И только что даже успела отличиться в боях с диверсантами.
— Еще как отличиться! — тут же включилась в разговор Корнева, старавшаяся дальше, чем на три шага, от своего кумира-капитана не отходить. — Она ведь у нас — заправский снайпер. Пока на рассвете добиралась от дома до госпиталя, двоих диверсантов уложила. Теперь трофейным кинжалом щеголяет.
Выслушав еще несколько восхищенных реплик медсестры, Гребенин уведомил «госпитальеров», что мотоциклисты присоединятся к ним в пути, на выезде из города, и решительно направился к Евдокимке, которая уже поняла, что прятаться бессмысленно.
— Все то, что я только что слышал, правда?
— Похоже, что правда, — пожала плечами девушка, поправляя заброшенный за спину карабин. — Один диверсант был в немецкой форме, а другой — в нашей, красноармейской, но стреляли из засады они вместе, по нашим, и переговаривались тоже по-немецки. Наверное, где-то там, у ограды, и лежат.
— Верю, верю… — сдержанно, с едва уловимой улыбкой на губах, произнес подполковник. — Ты явно не из тех, кто станет приписывать себе чужие подвиги.
Его благородное, с удивительно правильными чертами, лицо… Его голубоватые, с легкой поволокой, глаза… Его гладко выбритый, раздвоенный ямочкой, подбородок, который, даже при разговоре, кажется неподвижным… Как же ее тянуло к этому деликатному, худощавому, но столь великолепно сложенному, крепкому на вид мужчине! Каким совершенным казался он сейчас Евдокимке!
В те мгновения, когда Гребенин стоял перед ней, девушке не хотелось помнить ни о том, что ей только-только исполнилось семнадцать, ни о разнице в возрасте… Она даже не способна была понять, влюбилась ли в этого мужчину. Или же он всего лишь обладал какой-то неизвестной, непостижимой силой притяжения — не только ее, но, увы, и многих других женщин. Вон, даже преданная эскулап-капитану Корнева на какое-то время позабыла о своем кумире и пялилась на подполковника, стараясь уловить каждое его слово, каждое движение…
Гребенин говорил и говорил… Негромко так, по-отцовски заботливо — чтобы старалась быть осторожной, чтобы берегла себя, чтобы оставалась в госпитале, а не рвалась на передовую… Однако Евдокимка плохо воспринимала его слова, а еще хуже соображала, как на них реагировать. Она взирала на «своего тайного мужчину» с таким искренним поклонением, с каким далеко не каждый верующий смотрит на икону святого заступника. Глаза девушки подобострастно ловили каждый встречный взгляд его, всякое, даже самое малейшее, шевеление губ; в собственных глазах ее сквозила только одна мольба: «Говори же, говори! И, ради бога, не уходи!» А если бы он еще и позвал ее за собой; если бы усадил в машину и куда-нибудь увез — не важно, куда именно: на какой-либо тыловой, штабной хуторок или прямо на передовую, в самый ад… Даже пекло рядом с «её тайным мужчиной» казалось сейчас этой девчушке небесным раем.
Впрочем, какой «тайный», а главное, для кого именно — этот её мужчина? Вон, почти весь медперсонал глаз с них двоих не сводит. Раненые, из тех, что до сих пор пальцем пошевелить не могли и вообще пребывали в полном беспамятстве, теперь поднимали головы и до бесстыжести откровенно наблюдали за этим, наверное, очень странным для них, неестественным каким-то свиданием.
Гребенин все еще продолжал говорить, когда, по-прежнему не отрывая от него взгляда, Евдокимка вдруг спросила:
— Вы напишете мне?
— Простите, что… вы сказали? — на полуслове запнулся офицер.
— Хотя бы одно письмо, — с мольбой уточнила девушка, ощущая, что и губы, и сознание отказываются подчиняться ей. Казалось, еще одно слово, и она попросту, как в старых «дворянских» романах, упадет в обморок, только не в девичий, притворный, а в самый настоящий.
В ворота госпиталя въехали две полковые машины. И хотя подполковник предупредил Зотенко, что тот может рассчитывать на них только до Кривого Рога, а затем, до темноты, водители обязаны вернуться в часть, тем не менее медики им очень обрадовались: и раненых можно разместить комфортнее, и кое-что еще из хозчасти прихватить. К тому же на каждой машине находилось по бойцу — хоть какое-то да усиление охраны.
— Номер госпиталя вы знаете, почтальонам найти его будет нетрудно, — переведя дух, вновь осмелела Степная Воительница.
Намереваясь сесть в машину, подполковник то ли забыл о ее просьбе, то ли решил не отвечать.
— Вряд ли у меня будет время писать вам, Евдокия, — до обидного сухо, произнес Гребенин уже на ходу. — К тому же в последние годы мне приходилось иметь дело только со штабными бумагами. Да и то, как водится, только подписывать. Но, со временем, обязательно поинтересуюсь у вашего командования, как идет служба, — объявил он, уже сидя рядом с водителем.
Последние слова его долетали до помутненного сознания Евдокимки как раз в те мгновения, когда, пристыженная черствостью мужчины и собственной нескромностью, оскорбленная в своих лучших чувствах, она пыталась взобраться на борт подоспевшего «своего» грузовика. Причем самое ужасное, — что за этими ее попытками, пусть даже издалека, из продвигавшегося к воротам «газика» наблюдал «ее тайный мужчина».
А тут еще оказавшийся рядом солдатик, засмотревшийся на ее стан, на ноги, так что под пристальным взглядом подполковника она окончательно оробела. Вместо того чтобы попросту взять да подсадить девушку, солдатик растерянно суетился рядом с ней и при этом сбивчиво, с крестьянским простодушием, пытался давать полезные, но в то же время совершенно идиотские по форме советы: «Да ты ногу, ногу на него, на борт-то, забрасывай! Да не так, раскарячься посильнее — тогда и забрасывай!»
46
На берегу Ингульца, у полуразрушенного моста, где возились саперы и местные умельцы, майор Гайдук, под большим секретом, узнал от старшего по переправе, что в трех километрах выше по течению какая-то саперная часть наводит понтонный мост. А еще этот офицер добавил, что только что туда двинулась легковая машина офицера НКВД, вместе с которым ехал некий гражданский начальник.
— Вы документы этого офицера проверяли? — сразу же насторожился Гайдук.
Майор-автомобилист, из запасников, протер грязными пальцами красные от усталости и бессонницы глаза с распухшими веками и тяжело вздохнул:
— Говорю же: он был в форме офицера НКВД, как и вы, представился…
— Старшим лейтенантом Вегеровым?
— Точно, старшим лейтенантом. Фамилии не припоминаю. Во всяком случае, прозвучало похоже. После трех суток в роли начальника переправы, — похмельно покачал головой майор, — я уже и свою фамилию вспоминаю с трудом. Кстати, эта женщина — кто? — тут же кивнул он в сторону Анны Жерми, державшейся чуть позади Гайдука.
— Со мной, из внештатных сотрудников.
— Видать, из особо ценных, — не без иронии предположил автомобилист.
— Из очень… «особо», — вежливо огрызнулся Дмитрий.
Впрочем, он понимал, что подобная реакция на «внештатного сотрудника» возникала не только потому, что речь шла о женщине. Порядка шести постов он проходил ранее, отрекомендовывая таким же образом и штабс-капитана Смолевского, но всякий раз реакция была идентичной. На одном из постов какой-то офицер даже рискнул бросить им вслед:
— Во дают! Уже и «стукачей» за Днепр с собой увозят! Будто в глубоком тылу местных не хватает. К стенке их — и все дела!
Штабс-капитан тогда не упустил своей возможности прокомментировать такое поведение:
— Заметили, господин энкавэдист, как фронтовики осмелели?
— Будем считать, что заметил. Но между собой мы как-нибудь разберемся. Сейчас нужно остановить нашествие тевтонцев, штабс-капитан, — уклончиво ответил Гайдук, напоминая Смолевскому, что враг у них теперь общий.
Как ни странно, после гибели штабс-капитана Гайдук, невзирая на «идеологическую сумеречность» этой личности и огненную круговерть пути беженца, все же довольно часто вспоминал о нем. Причем пытался не только анализировать все факты, известные ему о жизни этого странного человека, многие годы бытия которого пожертвованы были на алтарь образа местечкового юродивого; но и философски осмысливать их, сопоставляя с некими армейскими и общечеловеческими ценностями — такими, как воинская присяга, верность Родине, — именно Родине, а не партии, не какому-то политическому движению; а еще — способность к самопожертвованию.
— Я заметила, майор, что теперь вы стараетесь представлять меня точно так же, как еще недавно представляли штабс-капитана Смолевского, — проговорила Анна, когда стало ясно, что рассчитывать на скорое восстановление моста не приходится, и они возвращались к машине. — Оказывается, теперь я вынуждена представать в облике внештатного агента, общественного информатора, короче, закоренелой энкавэдистской «сучки-стукачки».
— Хотите сказать, что вам известен более изысканный способ, благодаря которому я мог бы отбивать интерес от личности Гурьки? Да и от вашей — тоже. Впрочем, с вами проще. В какой бы роли я ни представлял вас, все равно, так или иначе, воспринимают, как мою любовницу.
— Нагло врите, что мне уже под шестьдесят и что любовниц предпочитаете подбирать из более молодых «внештатных сотрудниц».
— Не гневите бога, Анна. Вам всего лишь…
— Стоит ли уточнять, когда беседа ведется без протокола? Разве что замечу: совсем недавно у меня был очередной день ангела.
— Когда именно? — голосом провинившегося ухажера спросил Дмитрий. — Надо было бы отметить.
— А мы с вами отмечали, — успокоила его Жерми, по-пролетарски прикрывая ладонями папиросу, чтобы прикурить. — Отменной пальбой у дома унтер-офицера, где мне наконец-то позволено было отвести душу.
— Вот оно как! В таком случае застолье у нас получилось слишком уж… кровавым.
— Вот и у меня не уходит из памяти Смолевский. Это ж в какую «мертвую петлю» должна завязаться судьба человека, чтобы всю юность готовиться к борьбе с красными, всю молодость юродствовать под их сапогом, а закончить жизнь в стычке с людьми, дезертировавшими из красноармейских рядов!
— «Мертвая петля» судьбы, точку в которой вы поставили своим спасительным «поцелуем», — задумчиво продолжил ее мысль Гайдук.
— Но, согласитесь, далеко не каждому выпадает случай погибнуть на поле брани с прощальным поцелуем такой… женщины.
Грохот, доносившийся откуда-то с запада, сначала был воспринят ими, как раскат артиллерийского залпа. И только надвигавшаяся оттуда туча да озоновая свежесть влажного ветра подсказали, что на самом деле это раскаты грома; фронт дождя проходил значительно южнее их несостоявшейся переправы.
— Вы бы не выходили вслед за мной из машины, — обронил Гайдук то, о чем, из деликатности, не решался просить Анну раньше. — Вы ведь не ради репутации любовницы, которую офицер НКВД позволяет себе возить по дальним тылам, стараетесь держаться поближе ко мне?
— Не льстите себе, «не ради…». Просто штабс-капитан поведал мне о звонке некоего барона фон Штубера и об угрозе энкавэдиста Вегерова. И мы не знаем, когда именно этот старший лейтенант даст официальный ход своим подозрениям. Так вот, я именно для того и стараюсь находиться поблизости от вас, чтобы в критический момент отбить от энкавэдистов, обеспечить возвращение к машине или в крайнем случае дать прощальный бой.
Услышанное из уст Жерми настолько поразило майора, что какое-то время он стоял с отвисшей челюстью и смотрел на женщину, словно на некстати ожившую Джоконду.
— Вы это… всерьез? — лишь усилием воли Дмитрий сумел превозмочь охватившее его оцепенение.
— Как же вы занудны в своем болезненном недоверии, господин энкавэдист!
— Сами вы поверили бы подобному объяснению?
— Никогда. Поскольку не существует человека, способного в подобной ситуации рисковать жизнью во имя моего спасения. После гибели Смолевского — не существует. Однако же речь идет не о моем спасении, а о вашем. Впрочем, если вам все же хочется воспринимать мою готовность прикрывать вас во время схватки огнем из пистолета — в виде шутки, то ради бога!
47
Следуя совету подполковника Гребенина, госпитальная колонна в самом деле без потерь и особого риска сумела выйти из охваченного перестрелкой утреннего города под прикрытием тумана, неожиданно накатившего из глубины степи. Но стоило «госпитальерам» свернуть на запад, как уже через несколько километров они оказались перед разрушенным мостом через болотистую речную низину.
Доводы шоферов и топографическая карта подсказывали начальнику госпиталя, что нужно в таком случае уходить проселочными дорогами еще дальше, прямо, километров на восемь — десять. Однако с той стороны, как и с запада, со стороны фронта, уже доносилась настоящая канонада, перемежающаяся сильной ружейной пальбой. Трудно было понять, что именно там происходит: то ли это разгоралась очередная перестрелка, то ли немцы уже прорвали оборону, пытаясь взять весь степногорский регион в обширные клещи.
Посоветовавшись с командиром взвода охраны младшим лейтенантом Вербным, эскулап-капитан принял-таки решение снова вести колонну на север, возвращаясь, но теперь уже за пределами города, к Старой Херсонской дороге.
Чем ближе колонна подходила к ней, тем отчетливее слышны были взрывы снарядов и противотанковых гранат. Это зенитчики неожиданно подожгли на подходе к поселку, в просвете между холмами, два первых танка немецких десантников. Они открыли огонь по бронированным машинам просто из отчаяния, поскольку к борьбе с танками их никогда не готовили.
От прицельного выстрела третьего танка весь зенитный расчет погиб, однако железнодорожники и бойцы охраны станции успели ввести в бой три полевых орудия и самоходку — их только вчера вечером доставили сюда последним пробившимся эшелоном; и в это утро орудия должны были отправиться на передовую. К тому же немецкие десантники даже предположить не могли, что в руках небольшого гарнизона поселка окажется такое количество ручных пулеметов и противотанковых ружей. Предупрежденные о возможном десанте, бойцы вооружились всем, что только смогли обнаружить в прибывших ночью оружейных вагонах.
В конечном итоге десантники все же взяли под свой контроль большую часть поселка, но сам вокзал, вместе с примыкающей улочкой, оставался в руках красноармейцев и небольшого отряда ополченцев…
Однако обо всем этом эскулап-капитан и Евдокимка узнали уже со временем, перед переправой через Днепр. А пока что их движение по едва накатанной проселочной дороге проходило спокойно, словно по некоей заколдованной подкове, внутри которой, между тремя грохочущими сторонами света, «госпитальеры» до поры до времени казались защищенными, непонятно только кем — слепым случаем или всевидящим оком небесным.
Группа десантников, из тех, что продвигались к городу, оказалась у изгиба Чертова Яра, неподалеку от дороги. Нарвавшись у города на засаду милицейского взвода «чоновцев»[23], они, теряя своих убитыми и ранеными, отошли в степь, чтобы где-нибудь здесь оторваться от преследователей, притаиться у речушки и дождаться передовых частей вермахта. Напасть на колонну «госпитальеров» шестеро егерей не решились, да и какой смысл? Они вполне удовлетворились захватом чуть поотставшей машины русских, открыв по ней огонь осторожно, так, чтобы изрешетить кузов, но при этом не повредить мотор и колеса.
Когда раненный в плечо водитель вывалился из кабины, грузовик еще немного протащился по ухабистой обочине, пока не уперся в один из прибрежных холмиков. Степную Воительницу от пуль спасли узлы с подушками и прочим госпитальным имуществом, между которыми она так комфортно устроилась. Поняв, что их обстреливают, она перекатилась через какой-то мешок и буквально выпала из кузова.
— Кто стреляет? Откуда? — спросила она у Корневой, которая залегла с противоположной стороны оврага.
— Вон, в овраге; там их несколько человек.
Чуть дальше, за изгибом Чертова Яра, тоже велась стрельба, и Евдокимка прикинула, что, очевидно, несколько десантников остались там, чтобы сдерживать преследователей. В открытой степи они неминуемо попали бы под пули.
Лежавший в придорожном кювете водитель пошевелился, и у лица его тут же вспахала землю автоматная очередь.
— Он что, без карабина? — спросила Евдокимка.
— Без. В кабине остался. Бросил руль и, с испуга, как сиганет в канаву… А ведь мы могли бы уйти вместе со всеми.
— Это — вряд ли. Немцы специально отсекали нас, поскольку им нужна машина.
Евдокимка вспомнила, что водителя зовут Никитой и что это тот самый недотёпа, который во время посадки настоятельно советовал ей «раскорячиться». Впрочем, сейчас девушке было не до уязвленного самолюбия, парень оказался ранен, и каким-то образом его нужно спасти. Страх Евдокимки заглушался неким животным инстинктом: главное, у нее есть оружие, так что пусть только немцы сунутся…
Вера вдруг выстрелила из пистолета в сторону десантников, однако Степная Воительница тут же прокричала:
— Не стреляй зря! Береги патроны. Стрелять будем, только когда побегут на нас!
«Жаль, патронов у меня маловато, — подумала она, — Мне, растяпе, следовало брать у убитого на рассвете немца автомат, а не пистолет», — а вслух объявила Корневой:
— Я пошла за карабином, а ты следи. Если десантник высунется, стреляй прицельно.
— Он там не один. Человек пять — не меньше. А прицельно у меня не получится. Это ты у нас заправский снайпер.
С тоской взглянув вслед удалявшейся колонне, где, возможно, даже не заметили, что одна из машин отстала, Гайдук рванулась к открытой кабинке. Запрыгнув на подножку, она дотянулась до стоявшего в углу, в пирамидке-зажиме, карабина, и спрыгнула назад как раз в ту минуту, когда пуля просвистела у нее над головой.
— Скатываемся с обрыва и уходим, — предложила Корнева. — Прикрой меня двумя выстрелами — и следом!
— Одна беги, — припомнив уроки старшины, Евдокимка проверила обойму. Та оказалась полной, но все равно патронов было маловато. Еще как минимум две обоймы, вероятно, находились в патронташе шофера. Заполучить бы их. — Беги же, говорю, — подогнала она Веру. — Десантников я придержу. И водителя попытаюсь спасти.
— Что же, мне оставлять тебя прикажешь?
— Если считаешь, что вдвоем умирать веселее, — пожалуйста, лежи себе.
— Руссише Иван, сдавайся плен!
— Это вы сдавайтесь! — по-немецки ответила Евдокимка. — Вы у нас в тылу, и вы окружены!
— Фрау хорошо говорит по-немецки! Сдавайтесь, и будете служить великому рейху. Я помогу вам!
Диверсант, заявивший это, слишком увлекся, и как только Евдокимка заметила над краем оврага часть его лица, прикрытого каской, она тут же выстрелила. Десантник дернулся — слегка, конвульсивно — и исчез. На какое-то время в овраге воцарилось смятение, его как раз хватило для того, чтобы девушка велела шоферу:
— Переползай через дорогу, а я прикрою, — она использовала новое для себя словечко из солдатского лексикона Корневой.
— Не сумею, подстрелят.
— А ты раскорячься, раскорячься, и тогда уж ползи! — со всем возможным ехидством в голосе отомстила ему Евдокимка, хотя уже признала, что парню лучше пока что оставаться в канаве.
В то же мгновение немцы, очевидно, убедившись, что их товарищ мертв, открыли огонь сразу из трех стволов. Под их прикрытием двое десантников отошли подальше от машины, выбрались из оврага и попытались перебежкой добраться до дороги. Евдокия выстрелила в того, что бежал первым, и, хотя промахнулась, все же заставила их обоих залечь. «А вот по бегущим немцам у тебя не получается, — с горечью признала девушка, замечая, что, после некоторой заминки, немцы явно намеревались обойти их с Корневой. — Недоучилась, значится. Непорядок».
— Эй, шофер, патронташ с тобой?
— Со мной.
— Перебрось сюда обоймы, они тебе ни к чему! Под передок бросай. Вера, попытайся достать их, я прикрою.
Она не видела, ни как Никита перебрасывал медсестре патронташ, ни как та мужественно доставала его из-под правого, ближнего к ней колеса. Уловив тот момент, когда десантник пытался переползти небольшую возвышенность, Евдокимка прицелилась и выстрелила.
Раненный в бедро, немец яростно взревел и, перевернувшись на спину, принялся кататься по траве. Второй трусливо бросил его и, яростно работая локтями, пополз обратно к яру. Евдокимка прикинула: «Не попаду», — и тратить зря патрон не стала.
— Фрау снайпер! Не стреляйте, уходите! — прокричал десантник, из тех, что оставались напротив их с Корневой укрытия. — Мы вас не тронем. Оставляйте машину — и уходите. Мы стрелять не будем.
— А вы стреляйте! — ответила Евдокимка, с надеждой подумав о том, что со стороны города должны появиться свои, они ведь знают, что диверсанты все еще у них в тылу. — Я посчитаю, сколько вас там еще осталось!
— Если они швырнут гранату, нам конец, — предупредила ее Корнева, передавая пояс с патронташем, обоймы из которого Степная Воительница тут же переложила в санитарную сумку. — А они обязательно швырнут, потому что поняли: иначе машина им не достанется, — и пригнувшись, Корнева исчезла за спасительной кромкой прибрежного обрыва.
Евдокимка на четвереньках двинулась вслед за ней, таща за собой оба карабина и санитарную сумку.
— Ты, русская стерва! — взъярился вдруг тот самый немец, который только что увещевал Евдокимку. — Сейчас я приготовлю из тебя корм для воронья!
Что он имел в виду, девушки поняли, только когда раздался оглушительный взрыв, и над каменистым карнизом, где они, свернувшись калачиками, притаились, пронеслись сотни осколков гранаты, деревянных и металлических частей машины и просто камней.
48
У понтонного моста майор помог переправиться на левый берег колонне сводного детского дома — из двух бывших, накануне попавших под бомбежку. В городке, где воспитанников разместили на отдых, по его же рекомендации обе учительницы, коих Серафима подобрала по пути, были оформлены воспитательницами вместо погибших. Для беженок из Степногорска такое решение стало идеальным, поскольку «пристроенными» оказались и их дети.
Из этого же местечка Гайдуку удалось связаться по телефону с днепропетровским управлением НКВД, а благодаря тамошним чекистам — и со своим непосредственным начальником, полковником Шербетовым.
— Так ты, майор, все-таки уцелел? — обрадовался тот, услышав голос офицера, которого считал своим лучшим сотрудником.
— Разве были другие сведения?
— Да сведения, как всегда, поступали разные, — уведомил его полковник. — Особенно после того, как противник прорывным ударом сумел выйти на берега Южного Буга.
— Это в самом деле оказалось неожиданным, — мрачно вздохнул Гайдук. — В том числе — и для командования объектом.
— Об объекте разговор отдельный. В нашей ситуации важно, что два дня назад со мной связался начальник разведки известной тебе дивизии, с кем ты встречался после выхода из окружения. — Гайдуку не составляло труда понять, что Шербетов имел в виду полковника Зырянова. — Так вот, он поведал целую легенду о том, как ты очень решительно проявил себя, пробираясь вражескими тылами, и какие сведения добыл. Благодаря твоим данным о наступлении противника с применением танкового и парашютного десантов, дивизия сумела вовремя отвести свои тыловые подразделения, чем резко уменьшила потери.
— Полковник явно преувеличил мои заслуги.
— Не знаю, не знаю. А вот то, что, от имени командования дивизии, просил тут же представить тебя к ордену Красной Звезды, — факт. Что мною уже сделано. Такой фронтовой опыт, какой появляется у тебя, сейчас, понимаешь ли, очень нужен.
— Спасибо, конечно, — стушевался Гайдук. — Неожиданно как-то.
Знал бы Шербетов, как признателен был майор доброте и душевной щедрости полковника Зырянова, человека, с кем он и общался-то один раз в жизни, в течение всего нескольких минут! К тому же Гайдук помнил, что где-то неподалеку, словно коршуны, поджидают старший лейтенант Вегеров и городской голова Степногорска Кречетов, готовые обвинить его во всех расстрельных грехах этой войны.
— А что тут неожиданного? — молвил тем временем Шербетов. — Еще древние говорили: «Кому нужны подвиги, о которых никто не узнает?» И что это за боевой офицер, у которого на груди не красуются гирлянды орденов и медалей? Не исключено, что указ об ордене поступит вместе с приказом о присвоении тебе подполковника. Сам знаешь, соответствующие бумаги командованию давно представлены.
Дмитрий слышал об этом впервые, но знал, что в характере Шербетова все делать тайно от подчиненных, а потом удивляться, дескать, что это ты будто слышишь о моих стараниях впервые?
— Значит, десант в районе Степногорска немцы все-таки высадили? — спросил майор.
— Да, прошлой ночью. Станционный поселок был захвачен еще на рассвете. Теперь город в полном окружении. Впрочем, сам городок интересует противника мало; основные свои усилия на этом участке немцы направляют на выход к Ингульцу, имея конечной целью захват днепровских плацдармов.
— Жаль, что город с такой казачьей историей, пропитанный духом степной вольности, слишком легко достался врагу, — вздохнул Гайдук.
— Выражайтесь точнее: жаль, что городов, доставшихся врагу, становится все больше. Но мы неминуемо вернем их и дух вольницы тоже возродим. — Пауза была короткой, однако достаточно красноречивой, как раз такой, которая позволила покончить с воспоминаниями и сантиментами. — Кстати, тебе известно, что теперь наш отдел подчинен другому, сугубо армейскому, ведомству?
— Так точно. Только что я встретился с майором Безноговым, он, собственно, и помог связаться с вами.
Именно этот майор сообщил ему: теперь полковник Шербетов, вместе со всем своим отделом охраны секретных военных объектов, подчинен военной контрразведке округа; и что Шербетов вот-вот должен получить генерал-майора. Но все эти подробности телефонному разговору не подлежали. Достаточно того, что полковник объявил:
— В таком случае уяснить ты должен только одно: ты по-прежнему остаешься в моем подчинении.
— Уже уяснил, — бодро заверил его Гайдук.
— И еще, — сделал многозначительную паузу полковник. — В окружении ты никогда, ни одного часа не был. Вообще забудь. Ты до последней возможности выполнял задание и выбрался из объекта по подземному ходу, как только туда ворвались солдаты противника. В арьергарде отошел вместе с бойцами прикрытия. Это принципиально важно. Понял, о чем я?
— Еще как понял, товарищ полковник, — с признательностью подтвердил Дмитрий, не сомневаясь в том, что офицерам, выходящим из окружения, предстоит специальная проверка, а значит, нервотрепка.
— То-то же! Как можно скорее добирайся сюда. У тебя двое суток. Иначе искать меня придется уже в Харькове, — о чем бы ни шла речь, в какое бы настроение Шербетов ни впадал, его ворчливый баритон всегда звучал с такой лихостью, словно полковник находился в состоянии игрового азарта.
— Постараюсь настичь вас еще здесь, на берегу Днепра, — в таком же тоне пообещал капитан.
Еще часа два ему понадобилось, чтобы накормить водителя и двух своих женщин в гарнизонной столовой, выбить сухие пайки, заправить полный бак и запасную канистру горючим. Несмотря на нервозность, воцарившуюся во всех административных структурах и в поредевшем гарнизоне городка в связи с приближающейся линией фронта, авторитет формы и удостоверения офицера НКВД все еще оставался непререкаемым, и Дмитрий эксплуатировал его самым нахрапистым, но вполне законным образом.
Не случись этой беседы с полковником Шербетовым, он, конечно, дал бы возможность основательно отдохнуть и себе, и водителю. Но теперь майор без каких-либо обиняков заявил:
— Я понимаю, что ты смертельно устал, Терентьич, но уже завтра утром нужно во что бы то ни стало оказаться на левом берегу Днепра. Поскольку сам понимаешь: попадать туда с каждым часом будет все труднее.
— Что ты меня уговариваешь, майор? Ты приказывай: надо — так надо. Минут сорок я подремал, так что за баранку держаться способен.
— Если уж совсем начнешь засыпать за рулем, — подменю. Одно время водил неплохо.
— Можно и подменить, да только баранка — как верная жена: одни руки признает.
49
Оглушенная взрывом, совершенно обескураженная, Евдокимка все же нашла в себе силы выкарабкаться из-под спасительного козырька и тут же увидела, что немцы тоже выбираются из оврага. Распрощавшись с надеждой заполучить транспорт, десантники теперь явно намеревались переправиться через речушку, чтобы спрятаться в видневшемся на той стороне ее плавневом кустарнике.
Они с Корневой выстрелили почти одновременно. Немец, уже приподнявшийся над краем яра, считая, что с русскими покончено, тут же упал навзничь. Его товарищ на какое-то время застыл в обезьяньей позе, упираясь руками о выжженный травяной настил и вглядываясь в пространство впереди себя — часть раскуроченных тюков с бельем продолжала гореть, скрывая холм и девушек за дымовой завесой. В этот раз Гайдук выстрелила вновь, почти не целясь. Десантник вскрикнул от боли и, пока Евдокимка передергивала затвор, успел сползти в овраг.
— Что же красноармейцы, те, что в яру, все еще мешкают?! — вслух возмутилась «снайпер», словно подмога способна была услышать ее. — Ведь могли же обойти вояк сзади, ползком по полю! Там вон пригорки, деревья!..
— Возможно, из наших в яру уже никого не осталось, — вступилась за бойцов Корнева.
— Как же не осталось? В кого-то же немцы в канаве этой чертовой стреляют!
— Очевидно, так, для острастки, постреливают.
Тем временем, выбравшись из оврага, двое немцев уходили в сторону речки, двое других поливали свинцом пространство у холмика, не позволяя девушкам выглянуть из-за него. Степная Воительница понимала: если десантники обойдут их под прибрежными кручами, — это конец!
Она уже хотела вернуться на спуск, под козырьком которого пересидела взрыв гранаты, как вдруг Вера заметила, что из-за рощи выезжают мотоциклисты, явно те самые, которых подполковник Гребенин выделил для сопровождения госпитальеров.
Евдокимка продолжала стрелять и по тем десантникам, что уже успели залечь у реки, и по тем, что, под их прикрытием, пытались преодолеть расстояние от оврага до прибрежного склона. Однако по ним уже вели огонь и красноармейцы, выбивавшие противника из оврага, и четверо спешившихся мотоциклистов.
Последние пули в этом бою послала Евдокимка. Одну — в прихрамывавшего диверсанта, который умудрился перейти вброд речушку и теперь уходил в заросли. Еще две — в камышовые заросли, где, как ей показалось, пробирался второй. Послала их наугад и скорее из ярости, нежели из желания настичь притивника.
— Двое десантников — уже на том берегу речки! — сообщила она группе бойцов, наконец-то появившейся из оврага. — Один из них ранен в ногу.
— Э, братцы, да здесь, оказывается, девка сражалась! — некстати оживился какой-то рослый солдат, вооруженный ручным пулеметом. Едва высунувшись из оврага, этот пулеметчик так яростно поливал пространство перед собой пулями, словно выкашивал идущую на него орду. Причем делал это явно не от избытка храбрости.
— Неужели сама сдерживала? — поинтересовался другой красноармеец, в изорванной на предплечье гимнастерке.
Корневу, уже спрятавшую пистолет в кобуру, они в расчет как бы и не принимали — видели перед собой только рослую русоволосую девицу, которая один карабин забросила за спину, а с другим наперевес, слегка пригнувшись, пристально осматривала открывавшуюся ей часть оврага.
— Нет! Она тебя, защитничка нашего непоколебимого, ждала! — напомнила о себе Корнева. — Что, вояки, увидели двух недобитых десантников, и сразу же подштанники вспотели?
— Ничего себе «двух»! — изумился тот, с пулеметом. — Их тут, вокруг города, как воронья!
— Потому что воюете так, словно с палками на них бросаетесь.
Все еще опасаясь выстрелов в спину, девушки обошли догоравшие узлы с бельем, и, приблизившись к дороге, увидели по ту сторону ее, в кювете, жуткое кровавое месиво, оставшееся от тела водителя.
— Не скрылись бы мы под каменным козырьком, с нами было бы то же самое, — назидательно произнесла Вера. — Представляю себе зрелище!
— Спасибо, что догадалась, — проговорила Евдокимка, с трудом сдерживая тошноту. — О том, что они могут бросить гранату, я как-то не сразу сообразила.
— Как видишь, только на это меня и хватило, — покаянно произнесла Корнева. — В остальном же солдат из меня никакой.
— Ничего, научимся. Как говаривал в таких случаях эскадронный старшина Разлётов, «войны на всех хватит, причем с излишком».
…В колясках мотоциклов, увозивших их к остановившейся у ближайшего хуторка колонне «госпитальеров», обе неожиданно разревелись. В таком виде, зареванными, их и увидел выехавший навстречу на командирском грузовичке эскулап-капитан.
— А ну-ка, сейчас же прекратить бузу! — с напускной грозностью прикрикнул он вместо того, чтобы возрадоваться, что девушки живы. — Ты посмотри на них! Машину с государственным имуществом погубили, так еще и слезой разжалобить меня намереваются! Трибунал по вам плачет, по обеим!
Спустя несколько часов, во время ночного привала, благодаря Корневой в госпитале стали известны все подробности боя с немцами. Вот тогда начальник «госпитальеров» объявил девушкам благодарность перед строем, и даже пообещал представить их к медалям, а Евдокимку — еще и к званию ефрейтора. И хотя в серьезность данных намерений обе девушки так и не поверили, все же почувствовали они себя героинями этого, во всех отношениях жаркого, дня.
Их госпиталь еще трижды разворачивался рядом с какими-то местечковыми больницами. Но всякий раз через пять-шесть дней его приходилось сворачивать и, под бомбежками, переносить все дальше и дальше на восток.
В последний раз они встали в Томаковке, бывшем казачьем поселении, буквально в нескольких километрах от Днепра. Как сообщили армейские командиры, фронт, проходивший в десяти километрах западнее, вроде бы стабилизировался. Южнее их расположения, в районе городов Марганец и Никополь, река круто поворачивала на юго-запад, образуя полуостров, отсеченный теперь от Большой земли огромной дугой окопов и противотанковых рвов. В эту природную крепость днем и ночью перебрасывали все новые и новые стрелковые части да небольшие подразделения кавалерии.
Поначалу «госпитальерам» казалось, что немцы вот-вот выдохнутся и отсюда, от излучины могучей реки, красноармейцы погонят германскую орду назад, к попранным ею границам, однако этого не происходило. От горьких раздумий Евдокимку и Веру Корневу, за несколько последних недель сдружившихся до родственности душ, спасала разве что каждодневная, немыслимо тяжелая работа, конца которой в обозримом будущем не предвиделось.
Именно поэтому все вечерние построения медперсонала получались предельно короткими и проходили исключительно в виде армейского ритуала, а начальник госпиталя Зотенко неизменно завершал их словами: «Согласен, госпитальеры, день выдался трудным. Но все мы прекрасно понимаем, что работать по-настоящему, по-фронтовому, мы еще даже не начинали, — в этом месте он резко вскидывал руку, требовал “прекратить бузу”, хотя никто и рта не раскрывал, и только потом продолжал: — А посему… На рассвете ожидается новый транспортный конвой с ранеными, вот тогда-то мы себя и покажем».
И всякий раз, глядя на едва державшегося на ногах эскулап-капитана, соединявшего обязанности начальника госпиталя с тяжким трудом полевого хирурга, Корнева, по обыкновению своему, с язвительной безысходностью отмечала: «Да мы-то себя покажем, вот только, боюсь, что смотреть уже будет не на что!» С каждым построением этот упрек все больше напоминал Евдокимке приговор, выносимый Корневой самой себе, своим отношениям с мужчиной, в которого она так не вовремя и так некстати влюбилась.
Ну а пациентов и в самом деле поступало так много, что порой девушкам казалось, будто их 102-й полевой госпиталь остался последним и единственным на весь фронт, на всю армию, всю страну. В иной день прибывало по два-три обоза с ранеными, и после каждого такого поступления подруги страдали от вида растерзанных, окровавленных тел и мучений — ничем, никакими лекарствами и никакими молитвами не утолимых…
Часть вторая Флотская богиня
1
Накануне эта дорога пережила авианалет, грозу и еще один авианалет. Теперь, разбитая тысячами колес и десятками бомб, да к тому же основательно размытая ливнем, она представляла собой ужасное зрелище. Тут и там по обочинам ее лежали человеческие трупы, развороченные машины и перевернутые вверх колесами повозки. Причем те, что еще способны были продвигаться по этой дороге, никакого внимания на тела павших, как и на все прочие декорации войны, уже попросту не обращали.
Одна из бомб попала прямо в кузов машины с еще не обмундированными новобранцами, и части тел этих несчастных, не успевших осознать всей сути войны, усеяли просветы между кустами шиповника, вперемешку с остатками мотора и щепками от бортов. Слегка покрасневшие до этого ягоды созревали теперь под лучами багрового предвечернего солнца, рядом с окровавленными кусками мяса…
В очередной раз объезжая дорожную пробку по травянистому побережью речушки, майор и водитель вдруг увидели в низинке, на небольшом мысе, разбитую подводу, лошадку с развороченным животом, а рядом — завалившуюся бортом на склон оврага легковую машину.
— А ну-ка, возьми чуть правее, — скомандовал Гайдук. — Что-то машина эта кажется мне знакомой.
Шофер, успевший внушить майору уважение своим многочасовым, невозмутимым молчанием, и на сей раз без единого слова свернул в сторону мыса, полого уходящего в сторону речной долины.
— Все-таки пилот-германец и здесь сообразил, — как бы про себя проговорил Дмитрий, приказывая остановить «полуторку» еще до въезда на прибрежный склон, — что в легковушке едет кто-то из местного начальства или высокого командования.
— Порой фрицы охоту устраивают даже на какого-нибудь отдельно шагающего солдатика. Словно развлекаются, — наконец высказался шофер.
— Почему бы им и не развлечься, если мы позволяем это?.. Остаешься в машине, Терентьич. Остальные тоже. Сначала иду сам.
— Мое дело — руль и тормоза, — пожал плечами шофер, замечая, однако, что к перевернутой легковушке уже поспешила одна из женщин — та, статная, с черными, подернутыми легкой сединой волосами. Явно из «бывших», потому как до сих пор ни разу не заговорила с ним, словно его и не существовало вовсе.
— Вас это дело не касается, Анна, — попытался остановить ее энкавэдист.
— Меня здесь все касается, майор! — послышалось в ответ, и Дмитрий впервые уловил в ее голосе командирские нотки.
Машину явно отбросило взрывной волной. Теперь она беспомощно, словно огромный жук-навозник, лежала на боку, иссеченная пулеметными очередями и осколками. Судя по всему, шофер успел выскочить из кабины, однако та «догнала» и, навалившись всей своей металлической тяжестью, добила его.
Окровавленная голова городского главы покоилась между рулем и приборным щитком. Старшего лейтенанта Вегерова в салоне не оказалось.
Пока майор нащупывал пульс Кречетова, Анна уже пошла по кровавому следу, ведущему вниз, к небольшой речушке.
Изъяв два портфеля, городского головы и энкавэдиста, остававшиеся в машине, Гайдук передал их подошедшей Серафиме Акимовне и приказал отнести к полуторке:
— С этих минут ты у нас — главный хранитель секретных документов, — как можно строже объяснил он. — Хотя полагаю, что основные архивы эти службисты успели отправить в тыл еще раньше.
Энкавэдист лежал буквально в метре от кромки воды, рядом валялся неиспользованный армейский перевязочный пакет. Анна издалека сразу же поняла, что он хотел промыть рану и перевязать ее.
Как только Жерми стала приближаться к нему, раненый Вегеров, воспользовавшись в качестве упора небольшим, словно бы произрастающим из земли валуном под левым плечом, развернулся и от бедра выстрелил в ее направлении. Все это произошло настолько быстро, что Анна едва успела отшатнуться. Она уже хотела воздать хвалу Всевышнему за то, что не позволил энкавэдисту попасть в нее буквально с четырех шагов, но как раз в эту минуту боковым зрением заметила спешащего к ним Гайдука и догадалась, что пуля предназначалась ему.
Увидев, что промахнулся, Вегеров процедил:
— Чтобы я вот так вот подох? А ты, собака, остался и дальше делал карьеру?! Несправедливо… Если уж уходить в ад, то вместе.
— Отставить! — крикнула Жерми, видя, как, собираясь с последними силами, старший лейтенант снова приподнимает отяжелевший пистолет дрожащей, не слушающейся его рукой. — Не стрелять! — заходя как бы со стороны, несколькими прыжками подскочила она к нему. — Ты же видишь, что свои!
— Уйди, стерва! Тебя давно следовало в лагерную пыль стереть. Вместе с любовничком твоим и всем родом гайдуцким.
Они оба заметили, что, выхватив пистолет, Дмитрий в пяти метрах от них бросился на землю; услышали, как он прорычал: «Опусти оружие, сволочь! Не видишь, кто перед тобой?!» Однако Вегерова это не остановило. С огромным трудом приподнимаясь, чтобы лучше прицелиться, он нажал на спусковой крючок как раз в ту минуту, когда Анна нанесла резкий удар ногой по кисти его руки, после чего пистолет улетел в сторону, вслед за пулей.
— Вставайте же, майор, вставайте, — иронично окликнула Жерми Гайдука, слегка приподнявшегося на ладонях и всматривавшегося в то, что происходит у валуна. — А то, чего доброго, простудитесь!
— Спасибо, Анна; возможно, вы спасли мне жизнь.
— Вот видите — как это непросто: понять, от кого ждать выстрела в спину, а от кого — спасения. Оказывается, русские делятся не только на белых и красных.
— В общем-то, я и раньше догадывался об этом, — отряхивал Дмитрий с повлажневшего кителя прилипшие листики и травинки.
— А вот, в этом уж позвольте усомниться, майор. Ввиду того, что соперник, нарушив правила дуэли, прибег ко второму выстрелу, ответный выпад — за вами!
— Да не хочу я брать его на свою совесть, неужели не понятно? Чтобы потом всю жизнь чувствовать себя среди своих же отступником и предателем?
— Я поняла только то, что ждать от вас во время этой дуэли выстрела возмездия — бессмысленно. Уходите к машине, мы тут сами разберемся.
— Нет уж, — проворчал Дмитрий, приближаясь. — Хочется в последний раз посмотреть в глаза этому завистнику.
— Это не зависть, это ненависть, — едва слышно ответил старший лейтенант. — Скольких мы в тридцать седьмом перестреляли таких, как ты, Гайдук; но, видно, плохо старались. Будь моя воля, каждого второго б — под «вышку»! И только так! — произнеся это, Вегеров то ли потерял сознание, то ли попросту затаился.
2
Осмотрев раны энкавэдиста, Жерми поняла, что, очевидно, раненый уже успел основательно изойти кровью, но для транспортировки до ближайшего госпиталя, находящегося черт знает где, ран явно было многовато — в грудь, в предплечье и в бедро.
— Итак, что делать? — растерянно спросил Гайдук, поднимая валявшийся у камня перевязочный пакет. — Его бы нужно перевязать.
— Берите и перевязывайте.
— Но этого бинта слишком мало.
— Рвите свою рубаху. Взвалите вашего старшего лейтенанта себе на плечи и несите к машине.
Дмитрий не оценил сарказма Анны и в самом деле приподнял раненого за плечи, но тот вдруг громко застонал и сквозь зубы процедил:
— Что ты делаешь, сволочь? Подай мне пистолет!
Все еще поддерживая его за подмышки, Гайдук вопросительно взглянул на Жерми.
— Что вы смотрите на меня, словно на волкодава? Подайте ему пистолет. Однако стрелять он снова станет в вашу сторону. Уверена, что с третьего выстрела наверняка не промахнется.
— Он ведь не идиот, видит, что мы пытаемся спасти его.
— А кто утверждает, что идиот здесь он?
— Что ты предлагаешь?
— Если речь вести о тебе, майор, то совет только один — застрелиться. Но обязательно из пистолета этого энкавэдиста. Доставь ему такое удовольствие.
Дмитрий осторожно опустил плечи Вегерова на валун, и умоляюще взглянул на Анну:
— Почему ты так агрессивна?
— Разве существует иной способ привести тебя в чувство? Если существует, подскажи его.
— Но ты же понимаешь, что я не могу бросить раненого офицера на произвол судьбы, не оказав помощи. Это же настоящее предательство.
— Тогда, как следует именовать обе попытки этого негодяя застрелить тебя? А заодно — и меня…
— Нам бы с Вегеровым надо было кое в каких вопросах разобраться и тогда…
— Самое время разбираться! Пожалуйте за стол переговоров, господа офицеры.
— Нам действительно нужно кое в чем разобраться, но сама видишь, в каком он состоянии…
— Что вы, майор, блеете, как ритуальный барашек: «разобраться», «он в таком состоянии…»? Пока что мне только одно понятно: вам не следовало подходить сюда, — процедила Жерми. — Не следовало — вот в чем ваш просчет. Мы бы тогда со старшим лейтенантом как-нибудь сами… разобрались. Без слабонервных.
— Еще бы! Все тот же «поцелуй Изиды» перед «выстрелом милосердия»?
— «Выстрела милосердия» он как раз и не достоин. Вегеров не зря говорил о ненависти и тридцать седьмом годе. Сам как-то хвастался во хмелю, что в тридцатые сначала командовал расстрельной командой на каком-то закрытом полигоне, где осуществлялись массовые казни и захоронения политических, а затем служил в особом отделе лагеря политзаключенных.
— Я этого не знал, хотя и замечал: речь у него какая-то слишком «приблатненная». Конечно, не он один во всем этом повинен.
— Судя по словам этого мерзавца, он ненавидел и тех, с кем служил, и тех, кого по долгу службы расстреливал, — непонятно только во имя чего. Разве что во имя пролетарского истребления.
— Да! Служил я! Служил. И стрелял, сколько обстоятельства позволяли, — вновь заговорил Вегеров. — Я все слышу. Порой теряю сознание, но… Словом, пристрели меня, стерва, — и дело с концом. Слишком уж долго приговор зачитываешь.
— Это ты сделаешь сам, — поднял его пистолет Дмитрий, чтобы вложить ему в руку.
Старший лейтенант даже протянул было ладонь, чтобы принять оружие, но Анна с силой вырвала его у майора и швырнула в речку.
— Так о «выстреле милосердия» не просят, Вегеров, — молвила она. — И вообще его еще нужно заслужить. А такой гнус, как ты, должен оставлять этот мир в тяжких муках искупления, — она презрительно осмотрела обоих энкавэдистов и зашагала по склону наверх.
На подходе к машине Анна встретила Серафиму и шофера, которые решили выяснить, что там, внизу у речки, на самом деле происходит.
— Назад! — решительно скомандовала она им. — Это зрелище не для вас. Майор сейчас появится, — и, обхватив их за плечи, увлекла за собой.
Не прошло и десяти минут, как у машины возник Гайдук. Серафима и шофер уже сидели на своих местах. Жерми широкой мужской походкой измеряла лужок, где они ждали майора, правда, в отличие от водителя и Серафимы она еще и напряженно ожидала выстрела, но его так и не последовало.
«Слизняк, — проворчала про себя Жерми. — Он все еще считает, что в войне позволительно запятнать себя только вражеской кровью… Вопрос в том, чью кровь считать таковой. Сквозь Гражданскую войну тоже кое-кто пытался пройти в парадных белых перчатках, да-с… Увы, господа, не получилось…»
— Старший лейтенант умер, — мрачно, не поднимая глаз, сообщил майор, появляясь на гребне, отделяющем равнину от мыса. — Личные документы изъяты, — он похлопал по ладони маленькими книжицами. — Оружие утеряно.
— Какая жалость! — саркастически ухмыльнулась Анна. — Столько времени потрачено вами, майор, ради спасения еще одного доблестного воина. Но если, — едва слышно добавила она, — в конце концов он все-таки выживет, я вам не завидую.
— Не выживет, — отрубил Гайдук. — Слишком большая потеря крови.
— А мне бы хотелось, чтобы выжил. Пусть бы его возвращение в строй и вся дальнейшая месть послужили вам простым солдатским уроком: «Если в руках у тебя оружие — сражайся! Причем со всяким, кто намеревается загнать тебя в могилу».
3
Единственным лучиком света в кроваво-трупном царстве госпиталя стало для Евдокимки неожиданное появление в нем подполковника Гребенина.
При всей своей чудовищной усталости и нервном истощении, что уже трудно было скрывать, начальник штаба все еще держался молодцевато: укороченная, хорошо приталенная шинель, до блеска надраенные сапоги, фуражка со слегка подрезанным на «белогвардейский манер» козырьком; молодящая, с тщательно подведенным затылком, стрижка. И как же все это дополняло, в глазах влюбленной Евдокимки, благородство осанки, почти античную красоту его лица! Знал бы подполковник, как тщательно старалась девушка сохранить в своей памяти его лик, как мечтала когда-нибудь заполучить фотографию!
Кавалерийский полк, где служил Гребенин, имел большие потери. Его отвели с передовой и, расквартировав в соседней Возрадовке, спешно пополняли теперь людьми, лошадьми и особенно вооружением, реорганизовывая при этом в резервный стрелковый полк. За пополнением начальник штаба как раз и прибыл в Томаковку.
— Это ничего, что уже в который раз я появляюсь рядом с вами? — извиняющимся тоном спросил подполковник, когда начальник госпиталя позволил Гайдук отлучиться на час из палаты, где она дежурила.
Вместе с Корневой и еще одной медсестрой, Евдокимка квартировала в спрятавшемся посреди старого сада большом доме. В саду, отделявшемся от просторного больничного двора лужайкой с родничком и миниатюрным озерцом посредине, эти двое и спрятались от любопытствующих глаз.
— Наоборот, плохо, что вы слишком редко появляетесь, — потупив глаза, но в то же время довольно решительно, ответила девушка.
— То есть тебе хочется, чтобы…
— Ну, конечно же хотелось бы! — решительно молвила Евдокимка, даже не дослушав подполковника.
Мужчина с признательностью взглянул на девушку и надолго умолк.
Только вчера, перехватив ее грустный взгляд, умудренная жизнью Корнева, давно превратившаяся не только в подругу, но и в старшую сестру, наставницу, спросила Евдокимку:
— Что, госпитальер, по дворянину своему тоскуешь?
С легкой Вериной руки Виктора Гребенина они называли теперь только так — «дворянином», чтобы никто посторонний не догадался, о ком именно идет речь.
Степная Воительница вздохнула:
— По ком же еще?
— Так ты что, в самом деле влюбилась в него? То есть вот так, по-настоящему?!
— Наверное, по-настоящему, — пожала плечами Гайдук. — А как еще иначе можно влюбляться?
— Вообще-то по-всякому, — уклончиво ответила Корнева. — Сама видишь, как оно в жизни происходит. Видно, права все-таки наша сестра-хозяйка: «Война — войной, а природа своего требует». Судя по мне, как раз в войну эта самая «природа» просто-таки готова взбеситься. И это сейчас, осенью. Представляю себе, что со мной будет твориться весной. Просто какое-то бешенство плоти. Порой думаю: «Может, потому все это бешенство и зарождается, что вокруг такое несметное количество людей гибнет?»
Евдокимка понимала, что имела в виду медсестра. Уж чья-чья, а Корневой женская природа требовала своего все чаще и настойчивее. Несмотря на то, что хозяйка плоти душой все еще оставалась приверженной капитану Зотенко, у нее то и дело появлялись новые ухажеры — из медперсонала местных больниц, из легкораненых или из тех бойцов, которые по случаю посещали своих товарищей. «Полевые романы» эти были хоть и краткотечными, но, как правило, отчаянными. И медсестра давно не стеснялась их: «Если я позволила мужчине обнять себя, — то уж не выпущу из рук, пока не пресыщусь им». Пресыщаться же Корнева, как сама утверждала, очень любила, а главное, умела это делать…
— Так ты, госпитальер, не будь дурой, — поучала ее медсестра. — Как только дворянин твой появится, так и откройся ему… Пардон, отдаваться тебе пока что рановато. Но признаться в любви — уже можно.
— А то, что подполковник намного старше меня?
— Зато ты у нас юная, а значит, впереди у вас — целая жизнь. И потом, разницы в возрасте должен страшиться он, а не ты.
— Вот он и страшится… — удрученно обронила Евдокимка.
— Что-что?!
— Говорю, что, наверное, именно этого он и страшится: ему — вон сколько, а мне всего-то… Поэтому он такой сдержанный в поведении со мной. И ни одного письма не написал.
— А разве обещал писать?
Евдокимка решительно покачала головой:
— Не обещал.
— То-то и оно… — по привычке своей Вера вытаращила на нее свои огромные карие глазища и даже языком пощелкала от наплыва каких-то каверзных мыслей. — А ведь ты, госпитальер, права: наверное, из-за возраста своего наш подполковник тушуется перед тобой. Не хочется отбивать его, все-таки мы подруги, — вновь мечтательно пощелкала языком Корнева. — А то я бы оч-чень быстро и оч-чень наглядно объяснила бы тебе, как в подобных случаях следует вести себя с мужчинами.
— Так объясни! — наивно загорелись глазки Евдокимки. — Что тебе стоит?
— Дура, я же сказала «наглядно». А как тебе, младовозрастной, объяснять такое?
— Но ведь здесь, с вами, на войне, я — как все.
— Кто же виноват, госпитальер, что для войны ты уже по-настоящему созрела, а для любви все еще нет? Понимаю, несправедливо. Но что поделаешь? Вот что мне по-настоящему нравится в твоем подполковнике, так это порода… Словом, порода — она и есть порода. С удовольствием родила бы от него сына!..
Однако все эти разговоры оставались в прошлом, а сейчас, посреди затянувшегося молчания, подполковник вдруг взглянул на часы и этим словно бы подстегнул Евдокимку:
— Скажите, вы, наверное, чувствуете себя неудобно от того, что у нас большая разница в возрасте?
Они прогуливались по едва приметной тропинке, ведущей через сад. Стараясь идти рядом с девушкой, начальник штаба как раз хотел перешагнуть через старый, исполосованный короедами, пень. Однако, услышав Евдокимкины слова, он так и замер, упираясь носком сапога в трухлявое корневище.
— Это хорошо, что ты спросила об этом. Особенно, что ты сама начала этот разговор, хотя должен был бы я. — Виктор достал портсигар, постучал мундштуком папиросы о его серебряную крышечку, но, передумав, нервно вложил табачное зелье на место. — Признаться честно, я только об этом и думаю.
— Права была Корнева, когда сказала: «Кто же виноват, госпитальер, что для войны ты уже по-настоящему созрела, а для любви все еще нет».
— Не одобряет, значит, что между нами, ну… такие отношения?
— Что вы?! Только и делает, что подбадривает, вас при этом всячески расхваливая.
— И к какому же выводу мы придем, юная леди?
— Наверное, к самому естественному: меньше думайте о своем возрасте, а больше обо мне.
Взобравшись на пень, подполковник вдруг запрокинул голову и на всю мощь своей луженой командирской глотки рассмеялся:
— Господи, а ведь ты права! Как только вспоминал о тебе, тут же ловил себя на мысли: «Ну что ты творишь?! Ведь это же совсем еще ребенок. Найди себе нормальную взрослую женщину».
— Так ведь я и есть — та самая, уже достаточно взрослая, нормальная женщина.
— Даже так?! — вновь пошел он рядом с Евдокимкой. Шаг у него был легкий, пружинистый, плечи почти не шевелились, словно на параде. — Одно могу отметить: со дня нашей последней встречи ты заметно повзрослела.
— И если учесть, что скоро мне исполнится восемнадцать… Кстати, в моем возрасте мама уже была замужем и даже вынашивала меня в утробе.
— Эт-то аргумент, — признал Гребенин. — Как я ни укорял себя по поводу твоего возраста, все равно мысленно возвращался к тебе, к твоему облику, к твоей улыбке. Неужели действительно судьба? — о судьбе подполковник не спросил, а как бы произнес, рассуждая вслух.
— Да конечно же судьба! — с подростковой убежденностью заверила его Евдокимка, невольно вызвав у офицера снисходительную, покровительственную улыбку. — Неужели вы все еще сомневаетесь в этом?
— Уже не сомневаюсь, госпитальер, — сдержанно, едва оголяя кончики ровных, удивительно белых зубов, улыбнулся Виктор.
4
Заводское предместье Днепропетровска встретило машину майора Гайдука массированной бомбежкой, кварталами чадящих руин и скопищем беженцев, которые почему-то устремлялись к центру города, словно там, под стенами «властных» учреждений, всех их способны были приютить и защитить.
Не рискуя окончательно увязнуть в этой, никакому регулированию не поддающейся людской трясине, особист сам сел за руль, поскольку немного знал весь город. На одном из перекрестков он ушел в сторону от магистральной дороги, пробился через какие-то закоулки, через опустевшую территорию эвакуированного завода и счастливым образом оказался перед КПП воинской части.
Полковник Яхонтов, только что назначенный командиром дивизии, встретил Дмитрия, на удивление, приветливо. Причем объяснение этому нашлось очень быстро: фамилия полковника Шербетова прозвучала для него, как пароль. В результате комдив не только предоставил майору возможность связаться с полковником по телефону, но и выписал для машины Гайдука пропуск на армейский понтонный мост (поскольку на обычном мосту царило вавилонское столпотворение). Он даже выделил Дмитрию своего офицера-интенданта для сопровождения, тому все равно нужно было попасть на левый берег Днепра.
Шербетов по телефону признался, что их отдел уже готов к перебазированию в Харьков, однако четыре часа в запасе у Дмитрия еще есть — из города решено выдвигаться под вечер, когда спадает активность вражеской авиации.
— Через час буду у вас, — пообещал Гайдук.
Пока он общался со Шербетовым, к комдиву вошел какой-то подполковник в новенькой, старательно отутюженной форме, левая, очевидно, раненая рука его просто-таки красовалась на зеленой бархатной подвязке. Они о чем-то пошептались, и Яхонтов тут же поинтересовался:
— Ты в немецком языке, майор, случайно, не силен? Это я на предмет того, чтобы бегло просмотреть кое-какие трофейные документы.
— Не только сам силен, но и со мной в машине находится учительница немецкого языка, специалист по германской филологии, с университетским дипломом. Кстати, член партии, депутат райсовета, жена офицера.
— Что ж ты прячешь такое сокровище?!
— Не прячу. Наоборот, предлагаю зачислить в штат.
— Немедленно пригласи ее сюда. Вот: подполковник Усатенко, из штаба армии… Помощь ему ваша нужна.
— У нас был штабной переводчик, — тут же объяснил представитель армейского штаба. — Но он тяжело заболел. Нашли двоих учителей на замену, однако товарищи не прошли проверку.
— Меня как сотрудника НКВД сейчас другой момент интересует: откуда у вас трофейные немецкие документы? — перебил Гайдук.
Офицеры опять переглянулись, и комдив неохотно объяснил:
— Наш патруль, с помощью ополченских дружинников, наткнулся сегодня ночью на диверсантов. Один из них до утра не дожил. Второй прикидывался глухонемым. Оказалось, немец. Был уверен, что до прихода частей вермахта продержится в местном подполье. Пленный ранен, а значит, явно рассчитывает забрать свои тайны на тот свет. И пусть бы себе, но при нем обнаружен пакет с инструкциями и еще какими-то бумагами…
— Товарищи командиры, — перешел Гайдук на официальный тон. — Вы же находитесь не в полевых условиях; ваши штабы — в областном центре. Передайте раненого органам, а сами занимайтесь боевой подготовкой!
Офицеры опять многозначительно переглянулись.
— Вот вы и заберете их с собой — и раненого и документы, раз уж так сложилось, — заявил комдив.
— Однако нам нужно написать рапорт своему командованию. И хотелось бы знать, что за птица нам попалась, какие документы несла, — заметил Усатенко.
— Да и патрульных надо бы отметить, — поддержал его Яхонтов.
Вместе с Серафимой, в четыре глаза, майор быстро ознакомился с бумагами — это были инструкции для резидента, перечни объектов для диверсий, тексты листовок и провокационных слухов. Весь пакет он забрал с собой; раненого диверсанта, в сопровождении конвоира и медсестры, — тоже. Взамен же передал подполковнику Серафиму, а Жерми просил оставить при штабе дивизии.
Комдив, которому моложавая Анна понравилась с первого взгляда, тут же пообещал устроить ее сестрой-хозяйкой в госпитале. Свое знание языков та решила не афишировать, а диплом медицинского училища продемонстрировала.
— Я понимаю, что выгляжу цыганом, распродающим породистых краденых кобылиц, — покаянно молвил Дмитрий, прощаясь с женщинами.
— Именно так всё и выглядит, — с грустью в голосе подтвердила Серафима, даже не пытаясь скрыть, что не хочет расставаться с майором.
— Но ничего не поделаешь: мне пора на службу, а значит, дальнейшее путешествие наше прерывается. К тому же, находясь при штабе армии, ты без труда отыщешь своего мужа.
— Можно даже сказать: вызову его для доклада и разноса.
Они по-родственному обнялись, и Серафима последовала за подполковником.
Оставшись наедине с Анной, майор вышел во двор, где у его машины уже прохаживался часовой, и, задумчиво помолчав, неожиданно произнес:
— Пойми: пока что это всего лишь мои фантазии. Но если, предположим, карта ляжет так, как я задумал… Ты бы согласилась вернуться, сначала в рейх, а затем и в Великобританию?
— Выражайтесь конкретнее, господин особист-майор, — спокойно потребовала Анна.
— Если вам будет предложено пройти дополнительную подготовку и вернуться в Западную Европу, но уже в той ипостаси, в которой действительно пребываете, то есть дочерью белогвардейского генерала, как вы отреагируете?
— Боюсь, что до рейда по тылам врага дело не дойдет. Меня попросту арестуют и расстреляют как скрытого врага народа. Так что, если намерен сдать меня своим чекистам, — так и делай, сдавай. Не надо маскировать свои старания под некие странные авантюры.
— Почему вы решили, что я намерен сдать вас?
— О незапятнанной совести своей печетесь, особист-майор. Как же вам дальше служить в органах, если где-то затаилась бывшая белогвардейка?
Гайдук недовольно покряхтел, старательно растер носком давно нечищенного сапога комок земли…
— Есть офицер, которому я могу доверять и с которым могу говорить откровенно. Разведаю ситуацию. Если окажется, что существует возможность вернуться в Западную Европу, я тут же предложу вам этот вариант. Будем считать, что в том бою, у дома Унтера, проверку на преданность советской Родине вы уже прошли. Если же почувствую, что карта ложится не в нашу пользу… — замялся Гайдук, явно не решив для себя, какими же будут его действия в случае неудачи. — Словом, определенный риск есть.
— Из этого и будем исходить.
— Но пока что я исхожу из того, что от былой «белогвардейщины» в образе мыслей ваших уже ничего не просматривается. Будь у вас желание оказаться в лагере фашистов, вы бы остались в Степногорске и спокойно дождались солдат вермахта.
— В логике вам не откажешь, господин особист-майор. Дай-то бог, чтобы у меня не появилось повода жалеть, что не дождалась вермахтовцев.
— Случиться может все, что угодно. Однако в моем присутствии вы этих слов не произносили!
5
Прежде чем продолжить разговор, Степная Воительница инстинктивно как-то оглянулась и заметила, что на садовой тропинке, не особенно-то и прячась за кустом жасмина, стоит Корнева.
«Неужели подсматривает?! Совести — ни на копейку! — ужаснулась она, но тут же успокоила себя. — Да нет, скорее всего, завидует. Хотя все равно нечестно!» Гайдук вдруг внутренне содрогнулась: не приведи господь, чтобы этот мужчина, — ее, Евдокимки, мужчина, — когда-либо осмелился обнять это грудастое, рыжеволосое чудовище!
— Это правда, что вы учились еще в том, царских времен, военном училище? — времени, чтобы узнать друг друга получше, терять зря Евдокимка не собиралась.
— Учился, но уже после свержения царя, в последний период Гражданской войны. Меня приняли как сына офицера, погибшего в империалистическую войну. В шестнадцать стал юнкером, в восемнадцать командовал взводом — уже красным. Затем были годичные курсы красных командиров, после которых меня едва не расстреляли.
— Вас?! — не удержалась Евдокимка. — За что?!
— В большинстве случаев у нас расстреливают не «за что?», а «потому что». Так вот, меня — как бывшего дворянина и бывшего военспеца. К счастью, выяснилось, что против большевиков ни отец мой, ни я никогда не воевали; так что волею случая я стал красным командиром и даже награжден двумя орденами. А тут еще за меня генерал один из Генштаба поручился, из тех, которые хорошо знали моего отца. Словом, после непродолжительной нервотрепки меня вернули в строй и присвоили звание майора. Мало того, позволили поступить на заочное отделение Военной академии. Словом, для офицера моего круга — редкий случай везения.
— Действительно, — согласилась Гайдук. Об арестах «врагов народа» и партийных чистках у них в доме говорили не таясь, с явным осуждением.
— В прошлом году я получил звание подполковника и должность начальника штаба полка. Сейчас мне тридцать восемь лет.
— Господи, а ведь я считала, что разница в возрасте намного больше! — буквально возликовала Евдокимка. — Мы же с Верой решили, что вам уже далеко за сорок.
— Не обольщайтесь, Евдокимка, она, разница эта, и так достаточно солидна.
— А как по мне — так ее вообще не существует. Но… — Евдокимка оглянулась, нет ли поблизости Корневой, и, только убедившись, что она куда-то пропала, несмело спросила: — Жены у вас ведь нет, правда?
Виктор покряхтел, словно у него вдруг запершило в горле, и непривычно тихим голосом ответил:
— Нет уже, госпитальер. Но была. Сразу же после моего ареста она умерла во время родов. Как мне потом объяснили, преждевременных и очень тяжелых. Только, ради бога, не нужно сочувствий, — тут же меланхолично повел он руками у себя перед лицом.
Евдокимка смутилась: как бы подполковник не заподозрил, что на самом деле эта скорбная новость показалась ей вестью благой и почти счастливой.
Гребенин вновь взглянул на часы и, поежившись под порывом неожиданно холодного ветра, уведомил девушку, что ему пора: неподалеку, у военкомата, его ждали машины с новобранцами.
— Только вы напишите мне хотя бы одно письмо, — попросила Евдокимка. — Что вам стоит? Всего одно-единственное.
— Ладно, госпитальер, напишу, — улыбнулся подполковник и, несмело проведя ладонью по щеке девушки, решительно направился к выходу из усадьбы.
Евдокимка позволила офицеру выйти за пределы ограды и только тогда покинула место их встречи. Она не хотела, чтобы у Гребенина создалось впечатление, будто она пытается провожать его или неотступно следовать за ним.
Точно так же и Вера Корнева не желала, чтобы офицер заподозрил ее в подсматривании. Скрывшись за кустами, она пропустила Виктора мимо себя и лишь потом снова появилась на тропинке перед Евдокимкой.
— Насколько я смыслю в подобных делах, госпитальер, встреча ваша прошла на высоком интеллектуальном уровне.
— Это как? — машинально спросила Гайдук, все еще пребывая под впечатлением от беседы с подполковником. Взгляд ее блуждал где-то в районе выхода из усадьбы, словно девушка ждала, что по какому-то побуждению мужчина вернется или хотя бы помашет ей рукой, ведь, уходя, Гребенин даже не оглянулся.
— Разговор ваш длился долго и, по-моему, совершенно непринужденно. Сама видела.
— А почему ты видела это? Зачем? Думаешь, подполковник не заметил, как ты подсматриваешь? Из-за тебя мы оба чувствовали себя неудобно.
— Во-первых, не подсматривала, а своим присутствием подбадривала тебя. Лучше скажи: он хоть немного рассказал о себе?
— Разница в возрасте у нас двадцать лет. Все остальное, что он говорил во время встречи, меня уже попросту не интересовало.
— Скажи честно: если бы эта разница составляла тридцать лет, тебя это остановило бы?
Застигнутая врасплох, Евдокимка на несколько мгновений замерла, а затем, закрыв глаза и блаженно улыбаясь, решительно повертела головой:
— Нет, уже не остановило бы! Даже если бы сорок! Теперь, после сегодняшнего разговора, меня уже ничто не способно остановить.
6
Узнав, что Гайдук вернулся на службу на «бесхозной», по существу, машине, которая крайне нужна была их отделу; да к тому же с немецким диверсантом и с захваченными у него документами, Шербетов от удивления лишь развел руками.
— У меня тоже для тебя новость, Гайдук, — среднего роста, кряжистый, с большой головой, посаженной прямо на плечи, полковник казался до анекдотичности неуклюжим. Трудно даже было представить себе, каким образом он сумел и «на срочной» какое-то время послужить, и окончить военное училище, а затем стать слушателем академии. — До ордена дело пока что не дошло, однако приказ о присвоении тебе звания подполковника уже подписан. Отставить, — упредил он проявление Дмитрием благодарности. — Стол, который ты накроешь по поводу повышения, отложим до Харькова.
— Будет исполнено!
— Кстати, оттуда я сразу же отбываю в Москву. Старшим оставлю тебя.
— Существует предположение, что оттуда вы уже вернетесь генералом.
— Постучим по дереву, — несколько раз сильно и глухо ударил себя Шербетов кулаком по лбу. — И больше к этой теме не возвращаться, есть разговоры поважнее. Тут вот какой финтиклёш вырисовывается… — это свое любимое словечко «финтиклеш» Шербетов всегда произносил с очень мягким шипящим звуком на конце, наподобие того, как его произносят одесситы. — Нашим отделом усиливают службу, которая займется заброской разведывательно-диверсионных групп за линию фронта. Причем это будут как оперативно-тактические группы — в помощь конкретным организациям подпольщиков; так и стратегические, с консерваций в условиях войны или же с активным врастанием во вражеские структуры… Словом, ты понимаешь… И в этом смысле твой первый контакт с врагом нам очень пригодится.
— Но вы предупреждали, чтобы сам факт того, что я был в окружении…
— Ситуация изменилась, майор. Пардон, теперь подполковник. Сейчас об этом уже можно говорить, потому как этот факт работает на твою подготовленность к нашему общему делу.
— Но этого, я так понимаю, маловато.
— Естественно. Не знаю, придется ли тебе самому уходить за линию фронта, но, как меня уже предупредили, агентуру мы должны взращивать. А значит, придется работать с пленными немцами, с людьми, ранее имевшими родственные и прочие связи в белогвардейском мире… К слову, уже известно, что генерал Деникин отказался возглавить белогвардейские формирования из русских эмигрантов, которые бы воевали в союзе с германцами. Вот такой финтиклёш вырисовывается.
— А ведь это решение Деникина может оказаться очень важным для политической ориентации многих бывших белогвардейцев и сочувствующих им.
— Теоретически — да. Только нам с тобой сей фактец пока что ничего не дает.
— Как сказать, — теперь уже по-настоящему загорелся Гайдук. — Насколько мне известно, вы долгое время занимались Белым движением и его связями с эмигрантскими организациями.
Полковник уперся своими рыжеволосыми кулачищами в столешницу так, что, казалось, вот-вот сорвет ее или же опрокинет вместе со столом:
— Это ты, подполковник, к чему?
— Вам когда-нибудь приходилось слышать о таком русском царском генерале от инфантерии — Подвашецком? Генерал-адъютант императора Владислав Подвашецкий… О чем-нибудь говорит?
— Может, и заговорит. Вопрос: к чему подобные выяснения? — недоверчиво просверлил Шербетов подполковника взглядом своих миндалевых, по-азиатски раскосых глаз. — Будто не знаешь, что знакомство с царскими и белыми генералами у нас никогда не приветствовалось?
— Но этот вопрос — как раз по сути нашего разговора.
Полковник слегка съехал со стула, потому что только так мог запрокинуть голову и упереться взглядом в потолок — то есть принять позу «армейского мыслителя». Затем он вдруг подхватился и с необъяснимой для своей комплекции прытью метнулся к сейфу, порылся там и, отыскав нужную папку, извлек из нее несколько скрепленных листиков.
— Да, был такой. Пребывает в списке тех, кто подлежал выявлению и немедленному аресту.
— И что о нем известно?
— А что может быть известно? Еще относительно молодой, из тех, из ранних, генералов, которые в четырнадцать уже получали чины прапорщиков или корнетов. Аристократ польско-российских кровей. Правда, в Белом движении в России участия не принимал… Зато нагло метил на польский трон. Или в президентское кресло, поскольку Речь Посполитая к американской форме правления, видите ли, склонялась.
— Даже так? Он мог претендовать на трон?
— Причем вполне обоснованно. Поэтому у российского двора на него тоже виды были. Если уж возводить кого-то на польский трон, то своего, соответственно обработанного.
Гайдук вспомнил об Анне Альбертовне. Сама принадлежность этой женщины к роду человека, способного претендовать на корону, как-то сразу же подняла ее в глазах новоиспеченного подполковника.
— Обычная имперская политика, — согласился Гайдук.
— И не только имперская. Просто политика. Судя по всему, император для того и приблизил его к себе, чтобы в нужный момент предложить его полякам — такой вот финтиклеш вырисовывается. Не исключено, что генерал до сих пор жив, но это мы уточним.
— Он в Белом движении участия действительно не принимал, потому как в роли военного атташе оказался в Париже, а затем, сразу же после окончания мировой войны, — в Лондоне. Вопрос: это правда, что он был адъютантом императора?
— Судя по документам — да, числился. Ты так и не объяснил, каким таким финтиклёшем судьба генерала Подвашецкого касается нас с тобой?
— Прежде всего, она касается одного известного мне, а теперь уже и нужного нам, человека. Мне бы очень не хотелось, чтобы он каким-то образом пострадал, поскольку уже проверен в бою и, можно считать, дважды спас мне жизнь. Словом, агентом он может стать прекрасным.
— Крови пролетарской на нем много?
— Вообще нет. Уверяет, что до пролетарской крови дело не доходило.
Гайдуку вспомнился «поцелуй Изиды» Анны Жерми и ее коронный выстрел в солнечное сплетение, но он тут же постарался развеять эти воспоминания, опасаясь, как бы полковник не вычитал их по глазам.
— Его дело уверять. Сам-то ты в этом уверен?
— Уверен, — ответил Дмитрий, с опаской ожидая, что старый чекист потребует доводов посерьезнее.
Однако вместо этого полковник задумчиво постучал тыльной стороной карандаша по столу и, глядя в пространство впереди себя, произнес:
— Так-так… Странный финтиклеш вырисовывается.
— Даже если бы какая-то частица крови на нем и проявилась, то оказалась бы намного меньшей, нежели та, что есть на пленных вермахтовцах, которых мы собираемся вербовать. Он же, этот человек, всего лишь выживал. Причем на своей родной земле. Да, не выдавал своего происхождения, но и против советской власти не боролся; что называется, пребывал в глубокой консервации. К немцам тоже не подался, хотя возможность такую имел — я тому свидетель.
— Ну, ты особо не храбрись, — вполголоса, себе под нос, пробубнил полковник. — И в свидетели напропалую не набивайся.
— Однако Гитлера он яро ненавидит, а посему готов сражаться против оккупантов.
На сей раз полковник так увлекся постукиванием своего философского карандаша, что в какое-то мгновение Гайдуку показалось: тот просто выпал из разговора, из реальной ситуации, в которой они сейчас пребывали. Как раз в ту минутку, когда Дмитрий уже готов был напомнить о себе, Шербетов наконец изрек:
— Ладно. Теперь забудь о своих заверениях и давай обо всем с самого начала: правдиво, конкретно, с полной ответственностью за политическую благонадежность твоего протеже.
— Для начала нужно бы разведать, как к его кандидатуре отнесется наше командование…
— Ты еще долго терпение мое испытывать намерен, подполковник? Или, пока я тебя до ефрейтора не разжалую, по-человечески не заговоришь?
— Только просьба: то, что я сейчас скажу, до поры останется между нами. Сначала следует…
— Да я все понял, ефрейтор Гайдук, все понял!
— Словом, в нашем распоряжении находится дочь генерала Подвашецкого.
Понадобилось несколько мгновений полнейшего изумления, чтобы Шербетов обрел способность произнести:
— Кто-кто?! Чья дочь?!
— Того самого, генерал-адъютанта Подвашецкого, претендента на польский трон, данные о котором вы только что так захватывающе излагали…
7
Утром госпиталь подняли по тревоге и в спешном порядке стали готовить к эвакуации. В городе ощущалась нервозность, граничащая с паникой.
Поначалу никто не верил, будто немецкие танки так глубоко вклинились в оборону советских войск, что речь уже идет об их выходе к Днепру. Но к обеду в городе стали появляться беженцы из Покровки, поселка, расположенного буквально в тридцати километрах севернее города. Они-то и сообщали, что целая орда немецких танков, с солдатами на корпусах, словно бульдозерами, прошлась по ближайшим селам, устремляясь на восток. Причем в саму Покровку танкисты свои машины не вводили, в мелкие стычки с красноармейцами не вступали. Становилось ясно: немцы спешили к Днепру, чтобы, с ходу форсировав эту реку, обойти Запорожье, с его предприятиями и прочим потенциалом, с севера и северо-востока.
— Когда ж это наконец кончится?! — нервно прорычал начальник госпиталя, получивший приказ об эвакуации в присутствии Евдокимки и Корневой, и рванул кобуру так, словно намеревался пустить себе пулю в лоб или же самолично разобраться со всем германским воинством. Через некоторое время он застегивал кобуру, но снова ругался и рвал…
— Вот только кобуру оставь пока что в покое, — холодным, властным голосом остудила его Корнева. — До нее еще дойдет очередь, только чуть позже.
— Но как можно сворачивать госпиталь, если раненые все прибывают и прибывают?!
— Словно тебе это впервой, эскулап-капитан? Мы еще столько раз будем сворачиваться и разворачиваться, что этот случай тебе очень скоро забудется. Упустим время — окажемся в окружении, вот тогда и поймем, что такое настоящая война.
Слова медсестры подействовали. Зотенко проворчал: «Пожалуй, ты права: нельзя терять время», — и тут же отдал распоряжение готовить людей и транспорт к отходу.
Ни эскулап-капитан, ни в штабе дивизии пока что представления не имели о том, в каком именно городе или поселке найдут они очередное пристанище, но все с каким-то внутренним облегчением и надеждой твердили: «На этот раз перебросят за Днепр. Теперь уже — за Днепр!» Порой у Евдокимки создавалось впечатление, что и солдаты, и беженцы свято верили: их спасение — за Днепром. Причем спасение от всего — от немцев, от оккупации, от бесконечных отступлений, от самой войны. Понятие «за Днепром» в сознании множества людей приобретало значение некоего символа «земли обетованной», где их ждало спасение.
Всем остальным было проще: они снимались и уходили на восток налегке; или же спешили занять «заранее подготовленные позиции». А вот свернуть госпиталь, где полно тяжелораненых, формируя целые колонны из машин и подвод, и по пути разворачивая походные операционные, чтобы спасти тех, кого еще можно… Порой Евдокимке и самой хотелось по этому поводу «рвать кобуру» и, наверное, рвала бы, если бы таковая у нее имелась.
Настоящим спасением для госпиталя стало известие, что к вечеру на станцию ожидается прибытие санитарного эшелона. С помощью коменданта города Зотенко удалось «выбить» два вагона — из тех, с которыми в город прибывало пополнение. Самых тяжелых пациентов решено было разместить в них, под присмотром хирургической бригады и двух медсестер. Остальные спешно формировали обоз, где легкораненые, как обычно, превращались в подразделение охраны.
Неожиданно появился отец Евдокимки. Он буквально влетел на территорию госпиталя верхом на коне, в сопровождении двух кавалеристов, и криком «Где здесь санитарка Гайдук?!» умудрился всполошить значительную часть его обитателей.
— Гайдук, там тебя опять какой-то офицер ищет, — вбежала Вера в палату, в которой убирала Евдокимка.
— Какой еще офицер? Подполковник Гребенин?
— Причем тут подполковник? Этот пока еще в более скромном чине. Но видный такой, весь из себя…
— Тогда не понимаю, о ком ты, — начала приводить себя в порядок Евдокимка.
— Вот и я говорю: как это понимать? Какой офицер ни появится в окрестностях госпиталя, все ищут встречи с тобой, а бедную медсестру Корневу никто не замечает.
— Да это же мой отец! — выглянув в коридор, неуверенно как-то произнесла Евдокимка, распознав что-то очень родное в статной фигуре офицера.
Она попросту не поверила своим глазам. Лишь оказавшись в объятиях отца, девушка поняла, как истосковалась по нему, осознала, какое это счастье — встретить в омуте войны родную душу. Фразу: «Тебе что-нибудь известно о матери?» — они произнесли одновременно. И понимающе помолчали. Отец тут же пообещал, что, как только окажется в Запорожье, попытается разыскать своего брата, майора Дмитрия Гайдука; уж он-то должен что-либо знать о ее судьбе.
— Наверное, она писала тебе, да только почта сейчас вон как работает, — попыталась успокоить отца и себя Евдокимка. — Десятки тысяч людей одновременно с мест срываются, — и тут же представила Веру — старшую подругу, наставницу и самого надежного человека в госпитале.
Здороваясь, Вера, со странной для Евдокимки преданностью, посмотрела в глаза старшему лейтенанту. Она, кажется, даже задержала на какое-то время его руку.
— Вы уж тут присмотрите за моей Степной Воительницей, — попросил ее отец. — Помогите, в чем сможете.
— Именно этим я и занимаюсь с первого часа знакомства с вашей дочерью, товарищ старший лейтенант. Она у вас — стойкий оловянный солдатик.
— Она и в самом деле удивительный человечек, — расчувствовавшись, согласился с ней Николай Гайдук и, достав из прикрепленного к седлу подсумка небольшой сверток, вручил его Евдокимке. — Потом развернешь, потом, — стыдливо как-то попросил он, попридержав одной рукой руку дочери, а другой — снова прикасаясь к руке Корневой. — А мне пора. Наш полк только что переформировали и превратили в обычный пехотный. Стрелковый то есть. И я уже не полковой ветеринар, а командир роты!
— Это куда опаснее, — сочувственно покачала головой Евдокимка.
— Ничего, — растерянно улыбнулся отец. — Я вообще не обращал бы внимания на ужасы войны, если бы ни ежедневный страх по поводу твоей судьбы. Ложусь спать, поднимаюсь, иду в бой или пережидаю артобстрел — всегда с одной и той же мыслью: «Господи, только бы она уцелела!» Это невероятно тяжко осознавать, что дочь твоя — тоже на фронте.
— Считаете: осознавать, что она оказалась в немецком тылу, на оккупированной территории, было бы легче? — как можно деликатнее напомнила ему Корнева.
— Ты права, — не осталось незамеченным, как быстро отец перешел в обращении с Корневой на «ты». — Это было бы еще тягостнее, а главное, безысходнее.
— Наверное, жалеешь, что оказался вне своего ветеринарного поприща? — спросила Евдокимка, только бы как-то увести отца от разговора о себе.
— Да нет, просто однажды я понял, что во мне гибнет настоящий солдат, и сам попросился на передовую. Поначалу в штабе отказались рассматривать мою просьбу, слишком уж нужны были ветеринары. А затем вызвали и сказали: «Принимай роту, ветеринар. Нам вон людей добивать после боя приходится, а ты тут своих лошадей лечить собрался». Такая вот философия войны, — разволновавшись, он не сразу попал ногой в стремя, да и садился в седло без гусарской лихости — очевидно, сказывались возраст и отсутствие кавалерийского опыта.
— А как же теперь твоя кандидатская диссертация? — подалась к нему Евдокимка.
Едва спросив, дочь испугалась возможной неуместности сказанного. Она задала этот вопрос только для того, чтобы еще хоть на несколько мгновений задержать отца. К тому же Евдокимка помнила, что в последние месяцы до войны отец только и говорил что о своей диссертации по ветеринарной хирургии. Ради нее, сразу же после окончания заочного отделения сельхозинститута, он тут же поступил в аспирантуру.
Другое дело, что мать устремлений его не одобряла. Поездки на институтские сессии она еще кое-как терпела, хотя явно ревновала и к однокурсницам, и к преподавателям, и к самой столице. А вот увлечение кандидатской властная Серафима Акимовна считала непозволительным излишеством. Тем более что саму Серафиму собирались назначить заведующей районным отделом образования. И наверняка назначили бы, если бы в ход событий не вмешалась война.
— Скажи, пожалуйста, кому нужна диссертация о том, как дорезать больных лошадей?! — Серафима не считала необходимым сдерживать свой саркастический гнев.
— Сколько раз тебе объяснять, что научная работа моя — не о «дорезании больных лошадей»? Она — о хирургических методах их лечения. Ведь существуют же породистые кони, которых спасают всеми возможными методами; им проделывают сложнейшие операции. Неужели ты, женщина, считающая себя женой ветеринара, до сих пор не способна уловить различия в этих понятиях?
— А кто тебе сказал, что я считаю себя женой ветеринара? В мыслях ничего подобного не держала!
— А чьей же тогда… женой?
— Это не я должна считать себя женой ветеринара. Это ты, жалкий резник, должен считать себя мужем педагога, директора ведущей городской школы! А касательно твоей научной работы скажу без обиняков: каждому сельскому конюху известно, что, когда лошадь серьезно заболела, ее дорезают! — стояла на своем Серафима Акимовна. Как директор школы, она профессионально не способна была допустить, чтобы ее мнение кто-либо оспорил или подвергнул сомнениям. — А коли так, то при чем здесь научная работа? При чем твоя кандидатская диссертация?!
Несколько раз Евдокимка даже пыталась вмешиваться в их «диссертационные конфликты», но всякий раз получалось это неумело, а главное, приводило к нулевому результату. Серафима Акимовна пребывала в уверенности, что карьеру в их семье способна делать только она, поскольку это карьера, достойная их семьи.
Порой Евдокимке казалось, что день, когда отец сумеет защитить диссертацию, станет для его супруги самым черным днем и самым последним в их совместной жизни. К тому же для Евдокимки, как и для ее отца, уже не оставалось секретом, что Серафима Акимовна увлеклась двоюродным братом своего мужа. Причем настолько, что однажды Николай не выдержал и в присутствии дочери обронил: «Если ты решишь развестись, чтобы стать женой Дмитрия Гайдука, я возражать не стану. Такой шаг оказался бы спасительным для всех троих». Евдокимка ожидала, что мать высмеет его, но вместо этого услышала: «Только бы Дмитрий согласился, только бы поманил…» После этой словесной стычки девушка несколько дней прожила в состоянии шока.
Насколько все в отношениях родителей оказалось запущенным, дочь обнаружила через несколько дней — после того, как отец сумел-таки пройти через последний «кандидатский» экзамен. Вернувшись из города, он сразу же признался Евдокимке — ей, а не матери, — что уже получил приглашение поработать на кафедре академии. Правда, возникала проблема жилья, поскольку предоставить ему могли пока только комнату в общежитии.
— Вот пусть он эту комнату в общежитии сам и осваивает, ветеринар несчастный, — в сердцах выпалила мать, узнав о новости уже из уст Евдокимки. — Потому как нога моя туда не ступит.
— Знаешь, — сказала ей тогда Евдокимка, — порой мне кажется, что ты стыдишься профессии отца. Хотя как ветеринара его все уважают.
— А тебе не кажется! — осталась верной своей категоричности и безапелляционности Серафима. — Она бесит меня. И ветеринару нашему это хорошо известно.
— Но почему бесит? Профессия как профессия.
— Потому что еще в то время, когда он поступал в зооветеринарный техникум, я умоляла его не делать этого, а идти в медицинское училище, чтобы со временем стать нормальным, человеческим, а не скотским, хирургом. И когда он поступал в сельхозакадемию, тоже просила не делать этого. У него была возможность учиться в обычном медицинском институте. А теперь я готова выцарапать глаза каждому, кто посмеет бросить мне вслед: «Ветеринарша»!
— Наверное, поэтому в спину тебе, в большинстве случаев, бросают другое — «Атаманша».
— Потому что фамилия повстанческая — Гайдук. Однако это прозвище мне импонирует, поскольку отвечает сути моего характера.
8
Вопрос Евдокимки о научных изысканиях отца в самом деле мог бы показаться несвоевременным, однако девушка была приятно удивлена, услышав, как отец бодро объявил:
— А я и не отрекаюсь от кандидатской, — он с трудом развернул нетерпеливого буланого, спешившего присоединиться к своим боевым собратьям, уже бившим копытами у ворот больничной территории. — Только тема ее будет несколько иной, более актуальной.
— Почему? Ты отказался от темы, которая уже утверждена?
— Война многое переменила, — проговорил отец, озорно как-то подмигнув. — И мою тему тоже. Теперь она коснется развертывания госпиталей полевой ветеринарной хирургии в условиях боевых действий. Кстати, материала я уже успел собрать столько, — заговорщицки, вполголоса, сообщил он приблизившимся к нему девушкам, — что на две диссертации хватит. Дожить бы только до окончания войны.
— Вы обязательно доживете, — тут же выпалила Корнева, опережая какие-либо проявления чувств со стороны Евдокимки. — И защититесь.
— Вашими устами, Вера, да судьбу бы приворожить.
— Считайте, что уже. Кстати, мать моя была сельской знахаркой и колдуньей. Как и все прочие женщины из ее рода.
Когда всадники оставили территорию госпиталя, Евдокимка с грустью в голосе произнесла:
— А ведь он сказал неправду.
— Какую неправду? — насторожилась Корнева. — Что сменил тему или что стал командиром роты?
— Что в конечном итоге ему приказали стать этим командиром, лишив должности ветеринарного врача. Уверена: он упорно настаивал на своем праве стать настоящим, боевым, а не ветеринарным, офицером. Чтобы жена не стыдилась его.
Вера на несколько мгновений задумалась, потом пожала плечами:
— Это неправильно. В армии много всяческих профессий и должностей. Получается, что наш эскулап-капитан тоже ненастоящий офицер? По-твоему, тот, кто занимается ремонтом самолетов, танков или кораблей, — тоже должен стыдиться своей участи?
— Это не «по-моему», — с грустью заметила Евдокимка. — Я здесь вообще ни при чем. Просто, когда он появился в доме в офицерской форме и сказал, что будет служить ветеринарным врачом, мать ехидно заметила: «Ну, вот. Все остальные мужья вернутся с войны боевыми офицерами, а мой — ветеринаром».
— Жестокая она женщина, хоть и твоя мать.
— До жестокости, возможно, и не доходит, но слишком уж властная. Она ведь у нас — первая, везде и во всем.
— Понятно… А отец — просто ветеринар, влюбленный в лошадей и в свою работу. Вот только жена его этой профессии стыдится.
— Она хотела, чтобы он стал настоящим хирургом, человеческим… Впрочем, тебе все это не интересно.
Корнева не отозвалась на зов сестры-хозяйки Игнатьевны, проигнорировала комплимент «Верочка, вы, как всегда, бесподобны» престарелого холостяка стоматолога Зельмана, и только тогда произнесла:
— До этой встречи с твоим отцом действительно вряд ли было бы интересно. Что же касается судьбы твоего отца, то, хотя на войне загадывать не принято, но уж он-то в самом деле останется жив и станет доктором наук.
— Лучше признайся, что он тебе очень понравился, — благодушно укорила ее Евдокимка.
— Даже не пытаюсь скрывать.
Евдокимка удивленно взглянула на подругу, не желая верить, что слова эти услышала именно от нее.
— А как же эскулап-капитан?
Корнева несколько раз порывалась объяснить свое нынешнее отношение к Зотенко, но всякий раз обреченно махала рукой, отказываясь от этого намерения раньше, чем было произнесено хотя бы слово.
— Знаешь, чего не хватает таким людям, как твой отец, чтобы добиться в жизни всего, о чем они мечтают?
— Наверное, этого не знает никто.
— Напрасно ты так думаешь. На самом же деле ему не хватает женщины, которая бы видела в нем будущего ученого, профессора; женщины, способной восхищаться его успехами, им самим.
— Слушай, как же правильно ты все поняла! — широко открыла глаза от удивления Степная Воительница. — Даже мне самой помогла понять.
— Существует древняя, как мир, теория: каждый творец, каждый ученый несет свой крест таланта на Голгофу искусства или науки. Но, чтобы уверовать в это свое призвание, ему необходима непоколебимо верящая в него женщина, благодаря которой и зарождалась бы эта подвижническая романтика. Женщина, до конца верящая в талант своего избранника и благоговеющая перед его научным подвигом, его творческой судьбой. У поэтов такие женщины именуются музами. Так вот, перед тобой — почти идеальная муза, кому судьба все никак не решится подарить настоящего поэта.
В какую-то минуту Евдокимка вдруг поняла, что заслушалась — так искренне и артистично Корнева говорила. Она вообще заставила по-другому взглянуть на себя. Степной Воительнице даже в голову не приходило, что эта медсестра, казалось бы, лишенная чувственного сострадания и страха крови, способна на такое возвышенное понимание роли женщины, своей собственной роли в судьбе мужчины.
— Погоди, Вера, но ведь все, о чем ты только что говорила, касается поэтов, ну, еще художников, композиторов. А мой отец — всего лишь ветеринар.
— Неправда, он — ветеринарный врач, готовящийся защищать кандидатскую диссертацию. Будущий преподаватель, ученый, возможно, даже с мировым именем… Впрочем, если честно, старший лейтенант понравился мне сам по себе, независимо от того, станет ли ученым или нет. Однако между мною и твоим отцом стоит очень близкая, родная тебе женщина. Словом, не пристало нам говорить с тобой на эту тему…
9
Паузу Дмитрий Гайдук держал довольно долго; он хотел выяснить, какова же на самом деле реакция его командира на сообщение о дочери царского генерала Подвашецкого. Но полковник неподвижно смотрел на него, глаза в глаза, словно прикидывая, стоит ли лишать своего подчиненного еще и ефрейторского звания.
— Ты хоть подумал, прежде чем произнести то, что только что произнес? — наконец выговорил Шербетов.
— А что такого, особенного? Всего лишь констатировал.
— Но о какой генеральской фамилии идет речь?!
— Именно поэтому я и не торопился заявлять о ней в НКВД, — все же подстраховался Гайдук. — А сначала решил поговорить с вами.
— С энкавэдистами вопрос об этой твоей генеральской наследнице улаживать будут другие.
— Ну, вот. А думать над тем, как обойтись с таким «трофеем», как им распорядиться, нужно вместе.
— Откуда она взялась на нашей территории?
— Откуда ж ей взяться? Жила тут еще со времен Гражданской войны.
— Правду говори, Гайдук. Сам понимаешь, когда особисты возьмут её в оборот, как на духу все расскажет. Но потом уж и тебя привлекут.
— Я сам предложил ее кандидатуру. Какой смысл врать?
— То есть ее не забрасывали к нам по морю или на самолете?
— Говорю же, со времен Гражданской спокойно жила на Украине, учительствовала в известном вам Степногорске…
— И сумела убедить тебя, что приходится дочерью генерал-адъютанту императора Подвашецкому?
— Никаких сомнений быть не может. Она — дочь генерала, предстающая, ясное дело, под другой фамилией.
— Какой именно?
Гайдук замялся, однако полковник резко подстегнул его:
— Хватит играться в заговорщики, подполковник. Как имя этой женщины?
— Анна Жерми, — неохотно выдал свою последнюю тайну Гайдук. — Анна Альбертовна. Педагог.
— Жерми, говоришь? Фамилия на французский лад.
— Муж её, давно покойный, был «орусаченным», как она выражается, французом.
— Но она и сама, очевидно, пребывает в почтенном возрасте?
— В определенном, скажем так. Но выглядит моложаво и достаточно энергична. Кстати, в юности Жерми умудрилась пройти подготовку в английской — то есть наших нынешних союзников — разведывательно-диверсионной школе. Прекрасно владеет оружием, получила медицинскую и педагогическую подготовку, свободно общается на немецком, английском и французском языках…
Только теперь Гайдук обратил внимание, что полковник навалился на стол и, с широко открытым ртом, постепенно пододвигается к нему, словно собирается схватить его за грудки.
— И все же: как ты на нее вышел, ефрейтор Гайдук? Где она сейчас? Кроме тебя, еще кто-либо знает о ее существовании? Не тяни, не порть мне нервы.
— Кроме меня, никто, — подполковник счел возможным ответить пока что только на последний вопрос.
— И, до поры, никто не должен узнать!
— Сейчас она здесь, в городе, почти рядом с нами.
— Так ты наткнулся на нее уже здесь?
— Привез в кузове своей машины.
Шербетов подхватился, нервно прошелся до двери, зачем-то выглянул в приемную, словно опасался, что их подслушивают, и снова вернулся за стол.
— Ты хоть понимаешь, что, при удачном стечении обстоятельств, разработка этой твоей Жерми может вылиться в большую агентурную операцию?
— При удачном — это если командование одобрит нашу разработку Анны Жерми, а не станет подозревать нас в сотрудничестве с вражеской агенткой? Если оно поверит в перспективность работы с этой неординарной личностью.
— В самом деле — неординарной? Или это так, ради восхваления «товара»?
— Мне пришлось видеть ее в стычке с шайкой дезертиров. Хладнокровна, прекрасно владеет собой и оружием.
— Словом, разумное использование Жерми способно вылиться в масштабную операцию, которую назовем… — пощелкал он пальцами, ища название. Перед начальством он хотел предстать во всеоружии, с наброском плана вполне конкретной операции. — Кстати, как бы ее поэффектнее назвать?
— «Поцелуй Изиды». Выражение самой Жерми.
Полковник заторможенно уставился на Дмитрия, но, тут же преодолев себя, произнес:
— «Поцелуй Изиды», говоришь?
— Название не только эффектное, но еще и вполне оправданное.
— Изиды, Изиды… — полковник попытался вспомнить, что связано с этим, в общем-то, знакомым именем, но так и не смог. — Слышать, конечно, приходилось. Не спорю, звучит. Но ведь неминуемо спросят, что оно означает. Какой такой финтиклёш за ним вырисовывается?
— Это поцелуй, которым награждают на поле боя раненого, прежде чем удостоить его «выстрела милосердия».
— Впервые слышу о подобном ритуале. В какой такой армии он практиковался — уж не у римлян ли?
— У белогвардейцев так было заведено. Жерми знает об этом ритуале значительно больше, поскольку не раз прибегала к нему.
— Мне же слышать не приходилось, — задумчиво качнул головой Шербетов. — Ладно, принимается.
— Заодно и кодовая кличка у подполковника Подвашецкой вырисовывается — «Изида».
— Что, в самом деле… подполковника?!
— В самом… Личным приказом барона фон Врангеля, буквально в последний день своего правления…
— Это ж, за какие заслуги? Уж не палачом ли у него служила?
— Нет, что вы. Не того полета птица.
— Среди белых встречалось множество высокородных аристократов, однако родословные не мешали им зверствовать.
— К сожалению, любители зверствовать встречались по обе стороны фронта. Что же касается Жерми, то она служила инструктором разведшколы. Готовила контрразведчиков и диверсантов.
Полковник откинулся в кресле и несколько мгновений бездумно смотрел в пространство рядом с Гайдуком.
— Тогда получается, что готовить ее особенно не придется?
— Наоборот, она сама может выступать в роли инструктора. Ведь известно же, что многие германские диверсанты и разведчики набраны из белоэмигрантской среды. И кто, лучше нее, способен подготовить к работе с ними? Тем более что среди русской агентуры абвера может оказаться немало ее бывших курсантов и сослуживцев.
— А что? Это ход, — признал полковник. — Стратегически мыслишь, Гайдук. Уже чувствую, что заваривается нечто серьезное! Хотя… такое впечатление, будто какой-то рассказ из истории «беляков» читаю. Но, если все это действительно не сон и не бред…
— Это жесточайшая реальность, — заверил его Гайдук.
— В таком случае с анкетой Изиды и с ее личным заявлением о сотрудничестве я и полечу в Москву. Что из этого всего получится, сказать пока что трудно, зато не с пустыми руками…
Кто-то сунулся к полковнику в кабинет, однако тот выставил посетителя за дверь и, откинувшись на спинку кресла, потребовал:
— А теперь снова об Изиде, только все по порядку, до мелочей и как на исповеди…
10
Город госпитальная колонна оставляла уже на закате солнца, после очередного налета немецкой авиации. Капитан Зотенко планировал вывести ее следующим утром, однако дежурный по гарнизонной комендатуре, куда он с трудом сумел дозвониться, посоветовал ему «рвать подметки» как можно скорее, потому что утром дороги к Днепру уже могут быть окончательно перерезаны. «И потом, — сказал дежурный, — учтите, что по ночам немецкая авиация, как правило, не зверствует. А значит, километров тридцать, более или менее спокойных, подарит».
В этот раз охрана колонны состояла из девяти выздоравливающих пациентов госпиталя, и Евдокимки, которая, уже по традиции, ехала на последней, крытой машине, доверху заваленной тюками с бельем. И хотя старшей в машине снова была назначена Вера Корнева, однако та перебралась к Евдокимке в кузов, а в кабинку, для солидности и усиления боевой мощи, усадили какого-то раненного в предплечье младшего лейтенанта, вчера только прооперированного. «На тот случай, если машина вновь отстанет или подвергнется нападению, — объяснил Зотенко. — Все-таки боевой офицер, и при оружии».
Поскольку остальные раненые были отправлены в тыл санитарным поездом, сборы оказались недолгими, и колонна, состоящая из пяти машин и восьми повозок, двигалась почти налегке. Госпитальерам повезло, потому что сразу за городом они пристроились к какой-то армейской тыловой колонне, поэтому двигаться стало веселее, а главное, в случае нападения немцев, легче было бы обороняться.
К тому же выяснилось, что армейские тыловики нацелились на переправу, наведенную в районе острова Хортицы. От офицера, сообщившего об этом, госпитальеры также узнали, что переправа эта неплохо прикрывается зенитками и даже авиацией, а сам остров, довольно большой по площади, значительно сокращает водный путь и используется в качестве перевалочной базы.
Причем говорливость старшего лейтенанта явно стимулировалась тем, что ему приглянулась Вера Корнева. Да так, что Евдокимка даже начала по-своему ревновать: ведь всего несколько часов назад та возвышенно говорила об увлеченности ее отцом. И вообще она привыкла к тому, что основное внимание Корнева уделяет ей, поэтому вторжение в их дружбу любого постороннего вызывало у нее внутренний протест.
Поскольку во всех колоннах машины шли вперемешку с подводами, то тащился весь этот караван медленно, то и дело, застревая в пробках, а следовательно, взрываясь руганью и проклятиями. Но Евдокимка уже успела привыкнуть и к кочевой жизни, и к терпкому запаху стираного белья, настоянному на йоде, лекарствах, хозяйственном мыле, и еще чем-то таком, сугубо больничном, чем неминуемо наполнялась ее машина.
Их грузовик держался замыкающим. Позади, на значительном расстоянии, двигались лишь беженцы, впряженные в тачки с домашним скарбом.
Устроившись между тюками, Евдокимка выложила на один из них карабин, приготовила две гранаты, конфискованные у кого-то из раненых, и две запасные обоймы. Она хорошо помнила бой на окраине Степногорска и теперь, как закаленный боец, чувствовала себя последним и единственным защитником всех госпитальеров. Корневу, раненого младшего лейтенанта и даже водителя — солидного дяденьку с седеющими кончиками усов — она в расчет не принимала. Опыт нападения десантников у Степногорска подсказывал, что рассчитывать она должна только на свой карабин и собственную меткость.
Нет, встречи с ними она уже не боялась, а вот налеты авиации все еще вызывали у нее почти панический страх. Смерть от бомбы она считала совершенно бессмысленной. В обычном бою все-таки можно отстреливаться, сопротивляться; там хоть что-то зависело от ее меткости и храбрости. А во время бомбардировки она чувствовала себя жалкой и совершенно беззащитной. Евдокимка уже знала, что в современных войнах стороны должны придерживаться определенных правил, которые называются «законами войны» — скажем, в отношении к военнопленным, к медикам и журналистам… Так вот, будь ее воля, она ввела бы священное требование: летчики воюют только с летчиками, и только в небе, не имея права нападать на наземные войска, особенно вот на такие беззащитные колонны.
Когда она поделилась этим суровым соображением с Корневой, та, уже пребывая в полусонном состоянии, иронично проворчала:
— Ну, ты, последний рыцарь последней войны. Тебя забыли спросить, кому, где и как сражаться. Особенно страдают от этого неведения германцы.
— Но признай, что такие войны были бы справедливее.
— Как только ты произнесла слово «война», о жалости и справедливости тут же забудь. Это не мои слова, это один полковник сказал. Мудрый мужик. Жаль, что во время третьей операции скончался прямо под скальпелем.
Они отогнали двух подростков, которые, ухватившись за борт, попытались пиратским способом захватить их кузов, после чего Корнева вдруг, прерывая тему разговора, неожиданно произнесла:
— Как только определимся с развертыванием госпиталя, надо бы написать письмо твоему отцу. Насколько я поняла, до сих пор ни одной весточки ты ему не посылала.
— Как и он мне. О письмах мы даже не договаривались. Считали, что все время будем находиться недалеко друг от друга.
— Легкомысленные вы люди. Если не против, давай напишем ему вместе. Причем писать могу я, но чтобы от твоего имени тоже.
Евдокимке нетрудно было догадаться, что за этим предложением скрывается коварная женская хитрость. Однако, немного поколебавшись, она согласилась — уверенная, что мать ему тоже не пишет; эти двое людей давно существуют как бы каждый сам по себе. Получать в промежутке между боями письма от дочери и своей новой знакомой отец будет рад — тут и сомневаться нечего. Ну а после войны пусть они в этих своих треугольниках сами разбираются.
Корнева предложила ей поспать, чтобы затем, под утро, сменить ее на «лежачем» посту, и Евдокимка, радостно согласившись, тут же уснула…
Проснулась она от воя моторов, взрыва бомб и жуткой тряски.
— От машины! Всем — от машины! — раздался хриплоголосый крик младшего лейтенанта, уже успевшего на ходу выскочить из кабины и убегавшего в поле.
В ту же минуту грузовик, который водитель попытался увести подальше от колонны, застрял в какой-то выбоине, благодаря чему Евдокимка буквально выпала из его кузова. Вслед за ней неуклюже выбралась и Корнева.
Устремившись вслед за офицером к ближайшему оврагу, Степная Воительница заметила с возвышенности огромный изгиб реки да серый скалистый островок у берега и поняла, что они уже у Днепра.
— Почему же ты не разбудила меня в полночь, как договаривались? — укорила она медсестру, падая рядом с ней на вершину глинистого склона.
Вера проследила за тем, как пикируя, немецкие пилоты начали бомбить расползавшуюся во все стороны колонну и как откуда-то из речного прибрежья по самолетам ударили русские зенитки, и лишь после этого, в промежутке между взрывами, призналась:
— Жалко стало. Тем более что к нам пристегнулись еще какие-то машины, и мы оказались не в конце колонны, а в ее глубине. А потом и сама, тетеря сонная, уснула.
— Да… Мы с тобой — еще те часовые!
— Зато выспались. И главное, что мы уже у самого Днепра. Где-то неподалеку должна быть переправа. Как ее там называли?
— Говорят, сама переправа проходит по южной оконечности острова Хортица, — уточнил младший лейтенант, залегший неподалеку. До этого он приказным тоном пытался заставить водителя тоже покинуть машину, но тот, очевидно, решил, что если уж суждено погибнуть, то вместе с грузовиком, и, открыв дверцу кабины, продолжал попытки задним ходом вывести его на равнину. — Если только удастся дотянуть до этой переправы.
* * *
Что скрывается за этим «если», Евдокимка поняла чуть позже — когда с помощью солдат маршевой роты, отправлявшейся на передовую, им с трудом удалось вытолкать машину на дорогу и буквально втиснуть ее в колонну войск и беженцев.
Они еще трижды попадали под бомбежку, от чего не спасали ни зенитки, ни те несколько истребителей, которые, неся потери, пытались прикрывать колонну с воздуха, где преимущество немцев по-прежнему оставалось неоспоримым. На самой переправе саперы жертвенно восстанавливали понтонные и наплавные деревянные части или же заменяли их запасными прямо под вражескими бомбами. До острова их экипаж добраться все же сумел, но во время налета осколок повредил мотор грузовика. Тюки с госпитальным бельем пришлось срочно распихивать по уцелевшим повозкам и уже вместе с ними переправляться через левый рукав реки.
На наплавной мост Евдокимка уже вступала с каким-то странным предчувствием, которое обычно предшествует самому страшному, что может произойти с человеком на войне. Она переживала то душевное состояние, когда чувство самосохранения требовало оставаться на острове, забиться под один из прибрежных скальных выступов, чтобы дождаться там ночи и таким образом уцелеть, во что бы то ни стало — уцелеть. Однако приказ, чувство долга и солдатского товарищества вынуждали ее снова окунаться в самый ад, где полуразрушенные повозки люди сталкивали в воду вместе с лошадьми; где офицеры яростно шли друг на друга с пистолетами в руках, а стоны раненых заглушались отборным солдатским матом и где осколки сбитых самолетов усеивали обочины переправы вместе с осколками бомб, щепками и мощными «султанами» холодной речной воды.
Последнее, что Евдокимке запомнилось на переправе, — это как эскулап-капитан вырвал из ее руки уздечку впряженной лошади и, схватив за предплечье, толкнул вперед.
— На берег, — как-то страшно тараща глаза, орал он ей, как оглушенной, на ухо. — Кончай бузу! Приближается новая волна самолетов, давай скорее на берег! Подводу дотянут и без тебя, — гнал он ее по кромке переправы вслед за Верой Корневой.
Когда до спасительного берега оставалось буквально несколько шагов, какая-то сила вырвала ее из солдатской массы и, раскроив болью плечо, швырнула на каменистое мелководье…
11
Выслушивая подполковника, Шербетов уже по ходу делал себе кое-какие пометки, готовясь к встрече с Анной Жерми.
— То, что в свое время Жерми инструктировала белогвардейских контрразведчиков и что она приходится дочерью Подвашецкому, делает ее неоценимой, — подытожил полковник. — Причем независимо от того, каким образом командование решит использовать ее: то ли в разведшколе, то ли в агентурной работе за рубежом. Сегодня же доложу о ней и попрошу разрешения доставить в Москву. Не исключено, что тебе, как ее первооткрывателю и поручителю, придется лететь вместе с нами.
— Если учесть, что судьба поручителя всегда сродни судьбе заложника…
— Ты правильно понимаешь и ситуацию, и меру ответственности, подполковник. Сейчас же садись в мою машину и, не позже чем через час, доставь свою Жерми в этот кабинет. Прежде чем докладывать командованию, я должен увидеть эту женщину и задать ей несколько вопросов.
Найти Анну оказалось несложно. Она прохаживалась у канцелярии госпиталя, куда ее вызвал лейтенант из особого отдела, очень уж ему фамилия новой медсестры показалась странной. Особист этот уже сидел у начальника госпиталя, расспрашивая о том, каким образом сотрудница попала в его часть. Сама Жерми, в ожидании беседы, оставалась высокомерно хладнокровной, и даже не курила.
— Да ты не волнуйся, сейчас все уладим, — молвил Гайдук, узнав, в чем дело.
— Когда надо мной нависает опасность, я всегда становлюсь максимально собранной, — Жерми продемонстрировала свое олимпийское спокойствие.
— Молодец. Мне бы твою выдержку.
— Еще выработаешь, майор.
— Уже подполковник.
— Вот видишь, какой неожиданный взлет. И это — при твоей-то несдержанности.
Войдя в кабинет, Гайдук тут же представился, предъявив начальнику госпиталя удостоверение, и поинтересовался, что тут происходит.
— Да вот, лейтенанта насторожила фамилия моей новой фельдшерицы Жерми.
— Что, в самом деле? — уточнил Гайдук у скелетообразного лейтенанта-очкарика с цыплячьей шеей.
— Жерми Анна Альбертовна… Согласитесь, товарищ подполковник…
Гайдук окатил его сочувственным взглядом (и как только людей с подобными физическими данными принимают в особый отдел?) и нравоучительно поинтересовался:
— Неужели вы всерьез полагаете, что немцы засылали бы к нам в тыл агента с такой фамилией и таким отчеством?
— А почему бы и нет?
— В таком случае мой вам совет, лейтенант: впредь ищите в этом городе агента абвера с документами, выписанными на имя Геббельс Марты Гансовны. Тогда уж точно не ошибетесь.
Если бы лейтенант способен был багроветь, он наверняка побагровел бы, но единственным проявлением досады его стала побледневшая переносица. Впрочем, его реакция уже не интересовала Дмитрия Гайдука. Когда он сообщил начальнику медсанчасти, что забирает Жерми, тот благодарно развел руками:
— Пожалуйста, пожалуйста. Судя по всему, женщина она — добрейшей души и высокого образования, — однако за этой любезностью явственно слышались слова: «Забирай ее, куда угодно! Только поскорее! Не хватало еще, чтобы моими сотрудниками занимались особисты».
— Жестко вы с ним, я слышала. И мельком видела этого лейтенанта. Не стоит быть психологом, чтобы определить, что человек он — желчный и злопамятный.
— Считаете, к нему следовало бы применить ритуал Изиды?
— Если будет наглеть, то… все может быть.
— Тем более мне следовало спасти вас. И от него, и от вас самой.
— Если считать спасением передачу меня из рук одного энкавэдиста в руки другого… — невозмутимо пожала плечами Жерми.
— Умеете же вы быть признательной, Анна Альбертовна.
— Впрочем, заинтересовалась мной, полагаю, все же не НКВД, а военная разведка? — вопросительно взглянула она на подполковника.
Гайдук многозначительно промолчал, понимая, в какой омут проверок ввергает женщину, в свое время подарившую ему немало умопомрачительных ночей.
— Несколько слов о полковнике, который будет беседовать со мной…
— Почему ты решила, что беседовать станет именно полковник?
— Потому что организовать мне встречу с вашим генералом вы не в состоянии. К тому же слишком рано.
— С логикой у вас все в порядке…
— Она у меня подобна «поцелую Изиды»… — вежливо улыбнулась Жерми. — Мне это свойственно.
К появлению в его кабинете женщины такой красоты полковник явно оказался не готов. Вместо того чтобы тут же предложить Анне стул, он стоял и смотрел на нее, как на ожившую Нефертити. Подполковник не мог вспомнить, женат ли Шербетов, поскольку тот сам о своих семейных делах речи никогда не заводил.
Все чувства, какие Гайдук когда-то питал по отношению к Анне, давно остыли. Сдержанная в отношениях с любым мужчиной, Жерми, очевидно, не принадлежала к особам, способным подпитывать нежные чувства влюбленного в нее ухажера. В лучшем случае Анна позволяла любить себя, твердо уверовав, что страсть любого мужчины способна распалить после первых же страстных ночей, во время которых она всегда поражала очередного любовника своей неутомимостью и сексуальной ненасытностью.
Словом, теперь Дмитрий не только не пытался ревновать ее, но и, наоборот, ощущал некую гордость за то, что сумел удивить полковника. По существу, он гордился знакомством с такой женщиной. И даже в том, что сегодня он, словно благодетель, преподносил эту красавицу Шербетову, просматривался некий кураж: наслаждайся лицезрением ее, полковник, и помни мою щедрость!
Гайдук уже намеревался оставить их вдвоем, однако полковник осадил его:
— Оставайтесь, подполковник, — и движением руки указал женщине на стул. — Важно, чтобы вы присутствовали при разговоре.
— Вряд ли он услышит что-либо новое для себя, — сдержанно отреагировала на это предложение Жерми. — Да и вы тоже.
Шербетов попытался задать несколько вопросов, однако разговор не заладился. Уловив это, Жерми покровительственно улыбнулась:
— Давайте договоримся, господа, что наша встреча продолжится таким образом: я кратко, с предельной содержательностью, расскажу о себе, а затем отвечу на ваши вопросы.
Полковник исподлобья взглянул на Гайдука и тут же решительно кивнул:
— Предложение принимается.
— Но, прежде чем приступить к повествованию, хочу в присутствии вас обоих заявить… Первое: я согласна участвовать в борьбе с германцами, независимо от того, какой способ этой борьбы мне предложат. Поэтому не старайтесь ловить меня на каких-то неточностях и утомлять самих себя недоверием. Второе: дайте слово офицеров — если почувствуете в переговорах с командованием, что что-то пошло не так или меня как врага народа решили поставить к стенке, — наберитесь мужества и порядочности предупредить об этом.
— Не слишком ли жесткие условия, госпожа Жерми?
— Они одновременно и жесткие, и деликатные. Как и ваше предложение, господин полковник.
— Но это — условия вашей службы Родине, собственно. Условия вашего искупления.
— Искупления чего? Вины? Перед кем? Почему вы решили, что я чем-то провинилась перед своим Отечеством, причем настолько, что требуется искупление? Впрочем, нет смысла отвлекаться от той цели, ради которой мы собрались.
— Справедливое замечание, — примиряюще проговорил Гайдук. — Однако же нам не стоит обращаться друг к другу, прибегая к старорежимным «госпожа», «господин», дабы это не превратилось в пагубную привычку.
— Не волнуйтесь. Ни уходить в подполье, ни бежать к германцам я не стану, — невозмутимо восприняла Жерми слова Дмитрия. — Предупреждение, о котором я говорила, понадобится мне только с одной целью — чтобы я могла достойно, как подобает офицеру и аристократке, уйти из жизни. Так что? Такое понятие, как «слово офицера», вам, товарищ полковник, еще не чуждо? — сделала она ударение на слове «товарищ».
Контрразведчики бегло переглянулись, и полковник снова кивнул:
— Тоже принимается.
— Но ваше согласие — это еще не «слово офицера».
— Слово офицера, — без энтузиазма подтвердил Шербетов.
Подполковник тут же последовал его примеру.
— Поскольку меня сразу же обезоружат, кто-то из вас должен позаботиться о том, чтобы снабдить меня любым стволом с одним патроном. Терпеть не могу висельников и людей, наслаждающихся вскрытием собственных вен.
— Уверен, что до подобных крайностей дело не дойдет; думаю, ваш опыт и патриотизм командованием будут учтены, — прибег к размышлениям вслух полковник.
— Вот неубедительно как-то вы все это говорите… — все с той же холодной покровительственностью улыбнулась Жерми, словно только что удостоила Шербетова своим незабвенным «поцелуем Изиды».
12
Госпиталь расположился на невысоком плато. С одной стороны к нему подступала выжженная осенняя степь, с другой — вечно штормящий, всеми ветрами пронизываемый залив Азовского моря.
Две шеренги выздоравливающих, а значит, подлежащих возвращению в действующую армию, выстроились на небольшом плацу, который в лучшие времена служил спортплощадкой санатория флотского комсостава, а в нынешние, госпитальные — местом ритуального прощания с умершими офицерами. Здесь же представители различных частей набирали для себя основательно обстрелянное пополнение.
Формально все построенные сегодня на плацу уже числились выписанными из госпиталя и причисленными к запасному полку, формировавшемуся на окраине поселка из таких же, как они. Но поскольку полк еще только начинал обустраиваться, подлаживая под свое существование складские помещения и домики базы отдыха, а бойцы требовались фронту немедленно, то очередную волну выздоравливающих даже не стали переводить в казармы, ибо размещать их пока что было негде. Наоборот, их только что перебросили на госпитальный плац.
Сжалившись над молоденькой Гайдук, прошедшей через две сложные операции и четырехнедельное лечение, главврач Христина Нерубай — грудастая, с рыжеватыми усиками над бледными губами, не замеченная в сердобольности — угрюмо изрекла:
— За то, голуба моя невенчанная, что годок себе внаглую приписала, и, природы не спросясь, подалась на фронт, война тебя, будем считать, уже наказала.
— Не меня же одну, вон сколько их! — попыталась оправдать свое госпитальное прозябание Степная Воительница, не уловив сути затравки к разговору.
Но, даже не взглянув на девушку, главврач пропустила ее слова мимо ушей:
— …Так что теперь, голуба моя, есть все основания комиссовать тебя из войсковых рядов с надлежащей инвалидностью, а значит, со всем, по этому случаю полагающимся довольствием и почетом, — она прямо в лицо дымила сидящей напротив нее Евдокимке. Самокрутки свои главврач наполняла не обычной солдатской махоркой, а каким-то едким, и, в понимании Гайдук, дурно пахнущим самосадом. — Тем более что и ефрейтора тебе вон присвоили. Чуть ли не в младшие командиры выбилась…
— Да вы что, товарищ подполковник?! — подхватилась Евдокия. — Зачем меня комиссовать? Какая еще инвалидность?! Я что, без руки или без ноги осталась?!
Главврач даже чуть-чуть приподнялась, словно бы усомнилась, действительно ли все названные части тела у раненой наличествуют, и, окинув ладную фигуру семнадцатилетней, «под ноль» стриженной красавицы, — тоже, как выяснилось, из казачек — демонстративно повела мощными плечами:
— Спасти тебя, дуру, хочу. Прежде чем ты без основного органа своего останешься, — выдержала паузу и только тогда, ехидно осклабившись, уточнила: — Без головы то есть. А не без того, о чем ты скабрезно подумала, голуба моя.
— И в санитарки госпитальные меня не нужно, как мне уже предлагали, — упредила Евдокия (к армейской беспардонности она уже понемногу стала привыкать). — Пусть, как всех, на фронт пошлют; в нашем госпитале знают, как я стреляю.
Главврач поморщилась, покачала массивной, в парике, головой:
— И пошлют, голуба моя невенчанная, — проворчала она, оставляя в госпитальном «деле» выздоравливающей Гайдук какие-то медицинские пометки. — Двух дней не пройдет, как пошлют… Кстати, госпиталь твой почти весь там, на днепровской переправе, и полег. Тебя чудом спасли. Благодаря главврачу вашему, капитану Зотенко — к слову сказать, моему бывшему стажеру.
О гибели на днепровской переправе почти всего госпитального обоза Евдокимка уже знала из письма Веры Корневой. Как знала и о том, что они с сестрой-хозяйкой Игнатьевной выловили ее на мелководье почти утопленницей и вместе с Зотенко увезли на единственной уцелевшей машине. К отходящему эвакогоспитальному эшелону, начальником которого оказалась Христина Нерубай, капитан уже пробивался с пистолетом в руке и криком: «Прекратить бузу! Дорогу носилкам! Перестреляю, к чертям собачьим!»
Теперь они, все пятеро уцелевших «полевых госпитальеров», служили в медсанбате, под командованием все того же Зотенко. От каждого из них девушка получила по письму; и ничего, что написаны они оказались в один день, одной и той же рукой — Веры Корневой.
* * *
«Покупатели», как здесь именовали гонцов за пополнением, прибыли на третьи сутки. И вот теперь, обмундированная с иголочки, сугубо по-мужски, Евдокия Гайдук стояла на осеннем ветру, в большой сводной шеренге бывших пациентов госпиталя и расположенного неподалеку медсанбата и ждала своей участи.
Прежде всего находили своего «покупателя» те, кто уже служил в авиации, артиллерии и в танковых войсках, а также те, кто, по мирной профессии своей, числился в шоферах или трактористах. И только коренастый меднолицый капитан-лейтенант, занимающийся формированием десантного батальона морской пехоты, всякого из них осматривал с той снисходительной улыбочкой на лице, в которой явственно читалось: «Да такого я бы и не взял! Таких вон среди призывников навалом!»
Наконец, представитель местного военкомата, кавказец, с трудом разбиравшийся даже с помощью рукописного списка в славянских фамилиях и напропалую путавшийся в именах, объявил:
— Ефрейтор Гайдук! — и тут же в очередной раз запнулся на имени: — «Евдок.». Что за имя такое, слушай, «Евдок.»? — обратился он к стоявшему рядом майору-танкисту. — Никогда не слышал. Писаки чертовы, вах! Кто так пишет: «Евдок.», «Никол.»?!
Однако морской пехотинец, уже заметив, как названный боец, на кого он еще раньше обратил внимание, качнулся в строю и ступил два шага вперед, упредил замявшегося майора:
— Евдоким это значит, если по-людски, а не сокращенно… Этого я, кажется, беру, — и тут же, отходя чуть в сторонку, чтобы получить возможность поговорить с бойцом, зычным командирским басом скомандовал: — Гайдук Евдоким Николаевич — ко мне!.. Где служил? — окинул капитан-лейтенант рослую, плечистую фигуру ефрейтора, с новенькой нашивкой «за ранение» на гимнастерке.
Сообразив, что ее принимают за мужчину, Евдокимка решила не разочаровывать морского пехотинца, и, стараясь придать своему голосу солидности — благо после простуды тот звучал хрипловато, — ответила:
— Санитаром, товарищ капитан-лейтенант. А заодно — в охране госпиталя.
— Где принимал боевое крещение?
— В районе Степногорска. Участвовал в уничтожении немецких воздушного и танкового десантов как строевой солдат, — чего-чего, а терминов армейских здесь, в госпитале, Евдокимка нахвататься успела.
— Что вражеских десантников истреблял — это по-нашему. Говорят, вермахт готовит их основательно. Ну а самому в тельняшке десантника повоевать что — парус гнилой?
— Да я соглас… Словом, согласен я, — лишь на последнем выдохе успела Евдокимка сдержаться и этим не выдать себя, а значит, не загубить на корню свою удачу.
— Батальон, повторяю, десантный, а потому сугубо добровольческий, — уже записывал ее фамилию в командирский блокнот капитан-лейтенант. — Отсюда — известный тебе вопрос…
— Я согласен служить в десантном батальоне морской пехоты, товарищ капитан! — неумело приложила она руку к пилотке, молодцевато сидевшей на ее большой, крутолобой голове.
— Вот это уже мужской разговор! — пробасил моряк с таким облегчением, словно для этого ему пришлось долго уговаривать бойца. — Только не «капитан», а «капитан-лейтенант». Комбат Кор-рягин, если уж для всеобщего знакомства. Морской устав знать надо, салага, — все с той же снисходительностью поправил моряк и тут же метнулся к военкому, просеивать остающихся «некупленными».
13
Последних своих десантников Корягин подбирал уже под вой «мессершмитов», налетевших на караван судов, идущих под прикрытием бронекатеров в сторону Керченского пролива. В эту же схватку вступили и береговые зенитки, расположенные метрах в трехстах западнее госпиталя и обязанные прикрывать его.
На виду у госпитальеров разгоралось настоящее сражение, их шеренги пришлось тут же рассредоточить, но капитан-лейтенант все же умудрился отобрать полтора десятка крепких парней, в основном из бывших военных и гражданских моряков. Напоследок он присовокупил к ним тройку жилистых сельских ребят, да пару бойцов из милицейского отряда, получивших свои пули в схватке с группой дезертиров.
Оказавшись в одной команде с ними, Евдокия поневоле съежилась: «Господи, что ж я буду делать рядом с этими крепышами во время высадки десанта или в рукопашном бою?! Первый же бой окажется для меня последним! Но еще позорнее будет, если эти коновалы вдруг обнаружат, что я не парень, а девка… Добро бы всерьез не поглумились, да целым табуном».
Исключительно для успокоения нервов она порылась в санитарной сумке, спрятанной в вещмешок и, достав оттуда кинжал барона, засунула его за голенище. Там же, в санитарной сумке, находился и трофейный пистолет — к счастью, никто в ее вещах, хранившихся в госпитальной каптерке, не похозяйничал.
— Гайдук! — прервал ее душевные стенания Корягин, случайно заметивший эти приготовления. — Что это за нож у тебя за голенищем?
Отбомбив, немцы улетели, не потеряв ни одной машины. Корабельный конвой тоже уходил на юго-запад без особых потерь. Теперь оставалось лишь дождаться батальонного грузовика, который уехал куда-то на заправку.
Заметив, что интерес у Корягина непраздный, Евдокия победно осмотрела сгрудившихся вокруг них морских пехотинцев и выхватила ритуальный клинок барона фон Штубера. Держа кинжал за кончик лезвия, чтобы все могли полюбоваться красотой рукоятки, она торжественно протянула его командиру.
— Как видите, это трофейный кинжал; у убитого мною диверсанта занял, — приврала Евдокия. — Перед смертью он даже успел представиться.
— Галантным оказался? — въедливо уточнил комбат.
— Поскольку он появился в составе десанта переодетым красноармейцем, то я поинтересовался, кто он такой, — Гайдук старательно следила за тем, чтобы не проговориться о себе в женском роде. — Признался, что является обер-лейтенантом, бароном фон Штубером, кстати…
— И что, барон этот вот так вот взял и подарил тебе кинжал? — спросил Таргасов, из бывших военных моряков.
— А что ему еще оставалось делать, раненому да в плену?
— А мне пока что ни одного немца — чтобы так, вблизи — видеть не приходилось. Я ведь на тральщике ходил, — посетовал Таргасов.
— Специально приведу тебе одного, — пообещала Евдокимка. — И даже разрешу потрогать собственными руками.
Таргасов — широкоплечий, но слишком исхудавший, кожа да кости, парень лет двадцати пяти, хотел что-то ответить, однако капитан-лейтенант сурово одернул его:
— Не твоя вахта сейчас, салага. Не тебя слушают, дай человеку сказать.
— Барон сообщил, что это — «кинжал викинга», родовое ритуальное оружие, с которым уходили на войну его предки. А потом заявил, что вручает его мне, в признание моей храбрости.
— Неужели так и сказал? — не удержался Таргасов. — Ну, о храбрости твоей? Немец все-таки.
— Так ведь аристократ. Предки рыцарями были. Очевидно, придерживался традиции.
— Странно все же. Фашист…
К счастью, всего пятеро бойцов из группы лечились в других полевых госпиталях, иначе ефрейтору Евдокиму Гайдуку небо с овчинку бы показалось. Женская же палата их госпиталя находилась в отдельном корпусе, в дальнем конце территории, и праздношатающихся мужчин бдительные дежурные туда не пропускали.
Таргасов оказался одним из этой пятерки, но именно он как-то слишком уж пристально присматривался к Степной Воительнице. Понятно, это настораживало Евдокимку; она опасалась, что парень давно приметил ее.
— Как знаешь, — отрубила Евдокимка. — Сам барон подтвердить мои слова уже не сможет, поэтому придется поверить мне на слово. Кстати, в его документах действительно оказался титул барона.
— Значит, одним аристократом стало меньше, все какая-никакая помощь мировой революции… Работа, однако, знатная и, судя по всему, старинная, — комбат прошелся оценивающим взглядом по родовому оружию фон Штубера.
Степная Воительница в это время подумала: «Не дай бог, в районе действий батальона возникнет «старший лейтенант Волков». Если мой миф о плененном бароне фон Штубере развеется — мне конец! Ведь развеется он вместе с легендой о бравом ефрейторе Евдокиме Гайдуке».
— Извините, для меня этот кинжал — что-то вроде реликвии. Память о первом бое, — вдруг занервничала Степная Воительница и вежливо, но жестко изъяла оружие из руки офицера. — В следующем бою попытаюсь такой же добыть для вас…
— Не трави якорь, салага. Все, что потребуется, комбат Кор-рягин и без посторонней помощи добудет. Кстати, насколько я понял, ты владеешь немецким?
— Мать — учительница немецкого, отец — офицер, и тоже неплохо «шпрехает», так что, хочешь не хочешь, а…
— И шьо я слышу? — неожиданно процедил сквозь зубы доселе молчавший мужичок лет тридцати пяти, которого во время переклички капитан-лейтенант назвал Аркашиным — единственный из всех, у кого под расстегнутой гимнастеркой просматривалась тельняшка — выцветшая и почти до дыр застиранная. — Среди нас офицерско-учительский сынок затесался…
Евдокимка обратила на него внимание еще до построения перед «покупателями». Стоя в кругу сухопутных новобранцев, он артистично рвал на себе тельняшку, приговаривая: «Я — хлопец из Голой Пристани[24], где рождаются лучшие моряки Азовского и Черного морей».
— Ты только одессита из себя не строй, — осадил его главстаршина[25] флота, рослый парень, с плечами и ручищами сельского кузнеца.
— Так ведь я ж — исключительно по существу вопроса…
— Клим Климентий, — представился Евдокимке старшина, не обращая внимания на Аркашина. — Под Клима Ворошилова, словом; поскольку из беспризорников по происхождению, а значит, безымянный.
— Будем дружить, Клим, — как бы вскользь обронила Евдокимка, и, словно ни в чем не бывало, завершила свой недолгий рассказ: — Сам я учился в педучилище, тоже готовился учительствовать.
Она решила, что лучше сразу же выложить все, что может заинтересовать комбата: если у него не возникнет лишних вопросов, то и другие с расспросами приставать не станут. Даже то, что сейчас она оказалась в центре внимания, уже настораживало; все-таки лучше держаться в тени.
— Как-то я пытался всерьез изучать немецкий, — проворчал капитан-лейтенант, озорно посматривая куда-то в сторону. — Но ни черта у меня не получалось. В училище по этому предмету мне только потому и поставили «тройку», что, сжалившись, учли мое пролетарское происхождение.
— Ничего, — успокоила его Степная Воительница, переходя на немецкий. — Война, судя по всему, предстоит долгая, так что успеете подучиться.
— Из сказанного тобой я, в общем-то, мало чего понял, — простодушно признался комбат, — но знаю точно, что в случае необходимости переводчик в моем отдельном батальоне уже имеется.
14
Комбат добавил еще что-то, но Евдокия не расслышала, что именно, поскольку все внимание ее привлекло появление у админкорпуса, где десантники ждали появления отбывшего на заправку грузовика, главврача Христины Нерубай.
— Ефрейтор Гайдук, ко мне!
Степная Воительница тут же поблагодарила предков за то, что по фамилии пол ее установить невозможно.
— Только не выдавайте меня, пожалуйста, Христина Никифоровна, — еще на ходу вполголоса взмолилась Евдокимка.
— Кому не выдавать, голуба моя невенчанная?
— Им, всем… В списке я значилась как «Гайдук Евдок. Ник.», и комбат принял меня за Евдокима. За парня то есть.
— В перевоплощения поиграть захотелось? По стопам «кавалерист-девицы» Дуровой решилась пойти, голуба моя невенчанная? — не очень-то удивилась главврач. Видно, за годы работы в военном госпитале она уже разучилась чему-либо удивляться. — Слышала о такой?
— Ее преподавательница одна наша обожала, — ответила Евдокимка, имея в виду Анну Жерми. — О судьбе рассказывала. Но только в отличие от «кавалерист-девицы» у меня это самое перевоплощение произошло не по моей вине, а как-то само собой.
— Что ты передо мной оправдываешься, голуба моя невенчанная? — попыхивала «козьей ножкой» подполковник Христина. — Взять меня — так и перевоплощаться уже нет смысла. Так или иначе, а я даже забыла, когда женщиной себя чувствовала. Только не подумай, что бравирую. Наоборот, стыжусь. Смотри, как бы и тебе устыдиться не пришлось.
— А я уже зачислена в десантный батальон морской пехоты, как боец, как мужчина, о чем можно только мечтать[26].
— А вот это уже и на диагноз тянет! — Нерубай, почти не открывая рта, произвела на свет некое унылое, монотонное «кги-ги-ги-ги» — подобное ржание можно было услышать разве что от старой некормленой лошади.
Но впервые за все встречи с главврачом Степная Воительница вдруг увидела, как эта резкая, суровая с виду женщина… улыбается.
— Зачем я стану выдавать тебя, голуба моя невенчанная? Тебя сама природа женская выдаст. Говорю тебе: оставайся в госпитале. Медсестрой оформлю; специальные курсы как раз открываются…
— Но я воевать хочу, как обычный боец.
— Тогда природу свою признай, голуба моя невенчанная, и воюй медсестрой. Давай я сама с твоим комбатом поговорю. Эй, капитан!
— Умоляю: не надо! Меня тут же выгонят из морской пехоты, еще и подумают черт знает что. Словом, засмеют.
— И подумают! — цинично напророчила ей главврач. — И дай-то бог, чтобы ведь только засмеяли, а не все остальное и прочее с тобой сделали…
— Хоть вы не пугайте! Сама по этому поводу издергалась.
— Она, видите ли, издергалась! — вновь хохотнула подполковник, увлекая ее за собой, в здание, чтобы уже в кабинете своем продолжить: — …А как ты выживать в табуне изголодавшихся по женскому телу мужиков собираешься — об этом ты подумала, голуба моя невенчанная?
— Да как-нибудь приспособлюсь.
— Ага, «приспособишься»?.. При первой же штыковой атаке приспособишься! Смотри, чтобы за трусость под трибунал не отдали.
— Из-за этого меня не отдадут. Мне ведь в бою уже приходилось бывать. Я даже немцев убивала. Так что трусости я не боюсь.
— Трусости, — улыбнувшись, Христина Никифоровна предложила ей сесть, — мы все не боимся. А вот крови да смерти, которую тебе на кончике штыка преподносят? Я ведь, голуба моя невенчанная, тоже повоевать успела, еще в Гражданскую. Впрочем, это к диагнозу не относится. Кстати, тобой тут из органов интересовались. Подполковник Гайдук. Знаешь такого? Из Харькова дозвонился.
— Дядя мой. Когда мы расставались, был майором.
— В войну по службе быстро продвигаются; правда, гибнут еще быстрее. Просил взять тебя под опеку. Обрадовался, что все обошлось. Почему не сказала, что дядя твой — в НКВД и при высоких должностях?
— Что ж об этом говорить на всех перекрестках?
— На перекрестках — боже упаси, а в кабинетах — не стесняйся, — поучительно молвила Нерубай. — И еще… Забыла сказать… Некий подполковник Гребенин о судьбе твоей справляться изволили-с. Вчера-с еще.
— Неужели Гребенин? — вмиг вспыхнули глаза девушки. — Как же ему удалось разыскать меня?
— Догадаться нетрудно — благодаря капитану Зотенко, который запомнил номер нашего госпиталя. Обнаружить, где мы базируемся, было не так уж и сложно.
— Извините, но, что он, этот подполковник Гребенин, говорил?
— О… Господин подполковник желали-с вашего выздоровления и просили передать, что теперь они, вместо погибшего полковника (не помню фамилии) командуют полком.
— Почему вы так о нем? — спросила ефрейтор главврача. — По-моему, обычно он говорит спокойно и совсем не так, как многие другие — с криками и матом…
— Нечто барское в голосе его чувствуется, — уловила Христина в глазах Евдокимки укор и удивление. — Или, может, «из тех еще» интеллигентов; словом, голос… в самом деле уважительный, сдержанный, не солдафонский. Так я и подумала: уж не в женихи ли метим-с?
— Да ну, что вы?! Просто он начальником штаба полка служил, а штаб в городке нашем располагался.
— Что из начштабов происходит — не помеха. В таком деле ты, конечно, сама решай, голуба моя невенчанная; если только не слишком староват для тебя.
— Староват, наверное, — по-простецки вздохнула Евдокимка.
— Вот-вот, и я о том же… Сколько ему отстукало?
— Точно не знаю, — потупив глазки, соврала Евдокимка. — Известно только, что — из офицерской семьи происходит, из дворян.
— По нынешним временам — не самое большое достоинство. Из «бывших» очень многих в расход пустили… Но эта нынешняя война с германцем — уже не та, сволочная, Гражданская. Эта война многим и родословные подправит, и биографии подчистит.
Если бы они с Христиной сблизились немного раньше, то Евдокимка призналась бы ей, что с Гребениным у нее случились всего лишь несколько коротких встреч. Другое дело, что взбудораженная девичья память снова и снова прокручивала их во всех мыслимых подробностях.
Однако увести себя от интересующей ее темы Христина Никифоровна не позволила.
— С первым своим мужчиной, ротмистром почти на двадцать лет старше меня, я оказалась на армейском тулупчике, когда мне еще до шестнадцати требовалось дожить. Поэтому зубы мне не заговаривай, отвечай на вопрос: что у тебя было с этим «переростком»? Твой дядя из органов поручил заботиться о тебе, как о дочери, которой у меня никогда не было; еще и пригрозил, что, если с тобой что-то «пойдет не так»… — повысила голос подполковник.
— Ничего такого, вообще ничего, — зарделась Евдокимка.
Самокрутки Христине «мастерил» завхоз Данилыч, который — судачили — одновременно являлся не только ординарцем главврача, но «мужчиной для удовлетворения плоти», как сама она называла всякого «невенчанного», с кем сводила судьба. Он же откуда-то добывал для нее самосад и вечерами скручивал с десяток «козьих ножек», обхватывая каждую из них специальной резиночкой.
Вот и сейчас Христина прикурила от массивной золоченой зажигалки и сладострастно пыхнула дымом прямо в лицо девушки.
— С подполковником не было, а с кем в таком случае было? — невозмутимо интересовалась главврач, попутно просматривая какие-то бумаги, требующие резолюции. — С кем-то из одноклассников?
— Ну, чтобы так, по-настоящему, только однажды. С лейтенантом, и тоже с морским пехотинцем. Лощинин его фамилия, — девушка вопросительно взглянула на главврача, уж не оказывался ли этот офицер среди пациентов госпиталя. — Но мы всего лишь разговаривали…
— Лощинин, говоришь? Лейтенант? Через наше чистилище таковой не проходил, — Христина задумчиво дымила в потолок. — Точно. На фамилии у меня память цепкая. Но выходит, что и в твоей судьбе без ротмистра на походной повозке не обошлось…
— Никакого ротмистра! — решительно воспротивилась такому толкованию Евдокимка. — Никакой повозки! На следующий день его батальон отправили на фронт — и все, больше мы не виделись.
— Значит, «ротмистр на походной повозке» у тебя, голуба моя невенчанная, еще только должен появиться, — размашисто подмахнула главврач красным карандашом какую-то бумагу, словно приговор подписала. — Все, Гайдук, свободна; служи!
В ту же минуту в дверь постучали, и на пороге появился запыхавшийся комбат.
— Товарищ подполковник, разрешите обратиться? Капитан-лейтенант Кор-р-рягин, — звук «р» в своей фамилии он произносил так же размашисто, как Христина накладывала свои резолюции, на три фамилии хватило бы.
Евдокимка тут же отвернулась к нему спиной, лицом к главврачу и, приложив палец к губам, молитвенно сложила руки у груди.
— Чего застыл каплей? — никак не отреагировала на ее мольбу Христина. — Тебе, я так понимаю, ефрейтор Гайдук нужен?
— Так точно. Машины прибыли, весь личный состав погрузку завершил, ждем.
— Здесь такие люди о здоровье Гайдука справлялись, тебе лучше о них и не слышать. Так что подождешь!
— Понимаю, — многозначительно проговорил Корягин, улавливая ход мыслей главврача. Высокие покровители еще никому не мешали, особенно на фронте.
— Я бы его в охране лагеря оставила, если бы он не рвался в твои десантники.
— Что такое охрана госпиталя, а что такое морская пехота?! — решительно поддержал комбат действия Евдокимки.
— Только я тебя, капитан-лейтенант, сразу предупреждаю: не убережешь этого парня или дашь в обиду, мы тебе, голуба моя невенчанная, всем медперсоналом операцию делать будем; причем безо всякого ранения и наркоза, прямо на передовой. Так что не только от звания твоего, но и от всего прочего останется только вторая часть. Надеюсь, ты меня понял?
Наслышанный о суровом нраве этой госпитальной дамы, комбат благоговейно выслушал ее приговор и поспешно произнес:
— Да никто в батальоне и не посмеет… товарищ подполковник.
— Ну, смотри у меня, сам клялся!
— Слово комбата Кор-р-рягина.
— Знал бы ты, голуба моя невенчанная, скольких комбатов, с их «словами» и клятвами, через руки мои прошло… — выпустила с кольцами дыма подполковник Христина. — Нет, в самом деле: сколько их прошло… — романтично закатила глаза казачка, явно забываясь при этом и на какое-то время теряя нить разговора.
Комбат с опаской окинул взглядом ее мощную фигуру и, твердо заверив себя, что все равно ничего путного с такой «гренадершей» у него не получилось бы, окончательно присмирел.
— За парнем я присмотрю. В этом, товарищ подполковник, можете не сомневаться.
— Но-но! Ты, голуба моя невенчанная, присматривайся, только того, не перестарайся, — неожиданно резко отреагировала Христина. И была немного разочарована, что комбат так и не понял, что именно она имела в виду.
15
Поначалу «особисты» разведки встретили Жерми с такой злорадной яростью, словно давно знали про ее существование, многие годы разыскивали и выслеживали, чтобы теперь отыграться за неудачи. Однако Бонапартша оказалась не из тех женщин, кого можно запугать расстрелом, лагерем или расправой над родственниками, к тому же на допросах она вела себя хладнокровно, с «улыбкой аристократической вежливости» на устах, позволявшей ей выигрывать все словесные дуэли.
Впрочем, это не помешало Жерми уложить одного из следователей, пришедших в бешенство от ее вежливости, на пол «сабельным» ударом в кадык. До этого лейтенант НКВД минут двадцать жесточайше избивал ее, демонстрируя привычные для себя методы «допроса с пристрастием». Анна смиренно терпела все его истерики, вспоминая, что на тренировочных допросах в «белой» контрразведке, не говоря уже о допросах в ЧК, следователи резвились не менее изысканно, хотя и столь же безуспешно.
Еще во времена подготовки Жерми в деникинской контрразведке обнаружили два бесценных свойства этого агента. Во-первых, Анна проявляла странное невосприятие боли и вида крови, а всякое запугивание вызывало у нее не страх, а яростную, мстительную ненависть. А во-вторых, и тогда, и сейчас Жерми мастерски имитировала обмороки.
В общем-то, искусству по любому поводу впадать в обморочное состояние барышень-аристократок обучали с младых ногтей как величайшей из добродетелей. Однако Бонапартша владела этим мастерством с особым артистизмом и психологической достоверностью. Ее обмороки были так глубоки и естественны, что ни один врач уличить девушку в притворстве не решался.
Возможно, и на сей раз все закончилось бы обмороком, если бы обнаглевший лейтенант Дранкин не попытался еще и по-пролетарски облапать ее, дочь генерал-адъютанта Подвашецкого, как деревенскую девку за банькой. За что тут же был наказан. «Если мне удастся вырваться отсюда, — все с той же улыбкой аристократической вежливости проговорила Жерми, сдавливая ребром подошвы своего сапожка сонную артерию энкавэдиста, — у тебя, нехристь, останется только один выход — повеситься на собственных кальсонах».
Ни следователь, ни сама Анна не знали, что вот уже в течение нескольких дней в комнате, отделенной от камеры пыток всего лишь фанерной перегородкой, их словесные турниры прослушивают генерал Шербетов, подполковник Гайдук и специально прибывший из Москвы специалист по Белому движению полковник Волынцев. До сих пор безразличные и к истерическим экзальтациям лейтенанта, и к душевным терзаниям Жерми, они соблюдали чистоту допроса, а значит, и чистоту проверки. Но сейчас, поняв, что за перегородкой происходит нечто из ряда вон выходящее, они ворвались в «инквизиторскую» как раз в тот момент, когда, стоя над приподнимающимся на коленки следователем, Бонапартша освобождала от обоймы его пистолет.
— Пристрелю, сука белогвардейская! — ерзал по полу, под нацеленным на него пистолетом, следователь. Все еще плохо ориентируясь в пространстве и еще хуже соображая, он даже не оглянулся, чтобы посмотреть, кто там безмолвно возник в проеме двери. — Ты у меня, падла, во всем сознаешься и все подпишешь. После чего зае… тебя, на хрен, как последнюю бл… и пристрелю!
— Это ж, кто тут е…рь такой нашелся? — первым не выдержал полковник Волынцев. Прежде чем произнести это, он вопросительно взглянул на генерала, и тот резко повел подбородком в сторону следователя, словно подавая команду «Ату его!». — Мы уже видели таких, которые половину России угрожали пере… А на самом же деле они эту половину всего лишь проср… В общем, видали мы таких еб… как ты, лейтенант. Прошу прощения, Анна Альбертовна, за несвойственную мне лексику.
— Другой лексики он попросту не воспринимает, — с холодной вежливостью простила его Жерми.
— Встать, лейтенант, встать! — зычным голосом командира, привыкшего видеть перед собой плац с полковым построением, скомандовал Волынцев. — Перед тобой — старшие офицеры НКВД и генерал, а ты ползаешь тут на четвереньках. Напился, поди, до поросячьего визга?!
— Никак нет, я трезв, — едва проговорил Дранкин. Чувствовал он себя, как висельник, которого только что извлекли из петли.
— Это еще нужно будет доказать.
Полковник взял из рук Анны пистолет, проверил, нет ли пули в патроннике, дабы этот психопат сгоряча не воспользовался им, и только тогда швырнул его в ящик стола. Так окончательно и не придя в себя после примененного Жерми удара в кадык и нравоучительного удушения, лейтенант приподнялся, но полковник тут же заставил его опуститься на колени, чтобы найти залетевшую под стол обойму.
— Я буду жаловаться, — дрожащим голосом пробормотал следователь откуда-то из-под стола. — Все, что здесь произошло, я изложу в рапорте своему непосредственному начальнику, — явил он наконец Шербетову свое багрово-синюшное лицо закоренелого пьяницы и гипертоника.
— Самое разумное, что вы можете сделать, — проговорил генерал, — это последовать совету офицера разведуправления НКВД товарища Жерми: то есть повеситься на собственных кальсонах. Причем сделать это желательно до того, как вы окажетесь в роли допрашиваемого. Поскольку следователем будет… она же, Анна Жерми.
— Так она что, сотрудница НКВД?!
— …которая проходит испытательную проверку перед заброской в тыл врага, — уже спокойнее объяснил полковник, надеясь, что следователь угомонится; никто из присутствующих здесь в раздувании конфликта заинтересован не был.
— Но, товарищ генерал-майор… — почти мгновенно сменил следователь маску гипертоника на посмертную маску узника колымского лагеря. — Меня никто не информировал. Если бы я хотя бы догадывался…
— А почему вы решили, что кто-то здесь обязан информировать вас, лейтенант? — сурово ухмыльнулся Шербетов. — Идите, и чтобы через полчаса на этом столе лежала расписка, в которой вы обязуетесь напрочь забыть о том, что когда-либо допрашивали или хотя бы мельком видели офицера внешней разведки Анну Жерми. Вам все понятно?
— Так точно, понятно, — испуганно повертел следователь явно онемевшей шеей. — Есть, подготовить расписку, товарищ генерал-майор.
— И чтобы никто, кроме вас, в управлении не знал о существовании этой разведчицы. Одно неосторожное слово — и кальсоны в вашем распоряжении. Всё, вон отсюда!
16
Формирование третьего батальона 6-й бригады морской пехоты проходило на территории какой-то автомобильной части, люди и техника там уже полегли где-то на подступах к Днепру. Отделение охраны ее тут же было зачислено в моряки, вместе с сотней добровольцев из плавсостава погибших днепровских судов и портовых рабочих. К ним же присоединились и десятки бойцов, набранных по госпиталям и райвоенкоматам.
Евдокии интересно было наблюдать за тем, как быстро обмундированный на флотский манер этот разношерстный люд перенимал выражения и традиции военных моряков. Как тридцатилетние мужчины, в большинстве своем никогда не видевшие моря и не ступавшие на палубы боевых кораблей, по-мальчишески озорно учились заламывать бескозырки и копировать походку бывалых мореманов. А с каким превосходством, щеголяя скрипучими ботинками и клешем черных брюк, посматривали они на бойцов маршевых стрелковых рот!
Кстати, маршевые подразделения эти спешно формировались неподалеку, на территории разбомбленного немцами консервного завода и уходили в сторону фронта раньше, чем солдаты успевали научиться правильно закреплять на своих икрах проклятые портянки[27]. Под хохот и подковырки моряков, тряпье на ногах разматывалось и тащилось по земле, на него наступали идущие позади, создавая тем самым комичные ситуации — хоть какое-то да развлечение.
Понятно, что в самом батальоне десантников в центре всеобщего внимания оставалась небольшая группа настоящих военных моряков, стихийно группировавшихся вокруг главстаршины Климентия. Самим своим видом безудержного громилы этот, в общем-то, добродушный, уравновешенный человек способен был навести страх на всякого, кому захотелось бы обидеть Евдокимку.
Гайдук, которая и сама могла постоять за себя, умело пользовалась его дружбой. Особенно после того, как Климентия назначили старшиной роты, то есть тем командиром, с каким ни один здравомыслящий боец портить отношения обычно не решается. Достаточно было кому-либо подкатиться к ней с самой безобидной подковыркой, как тут же рядом появлялся старшина и рыком «Оставь парня в покое, пока рынду не надраил!» извещал о праве ефрейтора Гайдук на его, старшины, высокое покровительство. Так что у шутника надолго пропадало желание подтрунивать. Причем не только над ней, но и вообще над кем бы то ни было.
Евдокия старалась перенимать манеры не только морских пехотинцев — ходить, говорить, мыслить, и все вразвалочку — но и мужские манеры. Она училась не краснеть, слушая скабрезные байки о любовных похождениях, плотоядно смотреть на женщин… В батальоне уже знали, что Евдокимке еще нет восемнадцати и что он еще, по существу, мальчишка. Поэтому на возраст его, на «малолетнее шалопайство», списывалось многое — и неокрепший, нередко срывающийся голосок, и мозоли от саперной лопаты или весел на неокрепших руках…
Используя баркас и четыре шлюпки, их рота днем и ночью училась «ходить на веслах», «держать волну» и, «ведя огонь с плавсредств», высаживаться в тылу противника, «закрепляясь на плацдармах». Поначалу работать веслами у девушки получалось так же плохо, как и у многих других бойцов, никогда этих весел в руках не державших. Однако Евдокимка чисто по-женски «подкатилась» к бывшему матросу минного тральщика Таргасову, которого так и называли в роте Тральщиком (тот оказался отменным гребцом), и Тральщик сдался. В свободное время он инспектировал ее, обучая не только работе веслами, но и технике разворота шлюпки, умению вязать швартовые узлы…
Тем не менее ей, от природы рослой и физически крепкой, привыкшей к крестьянскому труду, тягаться с мужчинами оказалось трудно. «Ничего, — утешала она себя, — скоро на фронт. Там все будет проще и легче. Даже если со временем и отроется моя неправда, так то со временем».
Мыслить о себе в мужском роде оказалось значительно проще, чем, пребывая в этом же роде, вместе с целым табуном мужиков банально сходить в отхожее место, уложившись при этом по времени в несколько минут, отведенных командой «оправиться — заправиться!». Оставалась еще проблема месячных; каким-то образом, впадая в примитивное вранье, прибегая ко всевозможным уловкам, следовало избегать общего похода в баню, как и общего переодевания. Добро еще, что грудь ее была далека от изысканных форм, которыми блистала незабвенная Вера Корнева, к тому же телогрейки и матросские бушлаты скрывали и ту, что досталась Евдокимке от природы.
Превращенные в казармы корпуса приморской базы разделили на комнатки, и старшина роты Климентий постарался «забронировать» за собой комнатку на двоих… с ефрейтором Гайдуком. Мало того, постепенно этот самый ефрейтор стал его первым помощником во всех хозяйственных делах. Разве что от назначения на должность заведующего ротным складом-каптеркой решительно отказался. Однако особого протеста у старшины такое упрямство не вызвало: в конце концов паренек хочет стать настоящим десантником. Что тут непонятного?
* * *
— Как служба, пехотинец? — комбат Корягин на стрельбище возник неожиданно.
Формирование батальона уже завершалось; экипировка и вооружение — тоже, и теперь он мог немного передохнуть от организационно-хозяйственной суеты, побывать в подразделениях, присмотреться к бойцам и их подготовке. Впрочем, сегодня он прибыл с особой миссией.
— Все по уставу, товарищ капитан-лейтенант, — бойко заверила его Гайдук. — Замечаний по службе нет, просьб — тоже.
— Не трави якорь, ефрейтор: «Замечаний нет». Замечания всегда должны быть, уж поверь старому комбату Кор-рягину. Ходят слухи, очень метко стреляешь?
— Да так себе, как все.
— Почему неточно информируете комбата, товарищ старший краснофлотец? — насупился командир взвода Демешин. Бывший секретарь парткома совхоза, он теперь пытался наладить во взводе истинно партийную дисциплину. Причем начал с того, что принципиально отринул матросский юмор и вообще «флотское миропонимание», по словам Климентия. — Вот его результаты. — Демешин взял с полевого стола мишень, центр ее был густо изрешечен пулями. — Кстати, стреляет не из винтовки, как все остальные, а из своего карабина.
Комбат внимательно присмотрелся к каждой пробоине в мишени, словно подозревал комвзвода в подлоге, и, потрясая мишенью, сурово пробасил:
— Еще раз вот так вот якорь травить станешь — на рее подвешу, вместо сигнального вымпела! Ну-ка, выдать этому стрелку две обоймы и установить новую мишень! Членораздельно выражаюсь, Гайдук?
— Так точно, членораздельно.
— Стрелять будешь по всякому — на ходу, в полный рост, пригнувшись, с колена, лежа. Но все — в движении, как бы во время атаки. Представь, что наша разведгруппа попала в засаду. Отойди шагов на тридцать и начинай.
Сменяя позицию, то перемещаясь из стороны в сторону, то бросаясь на землю и перекатываясь с боку на бок, Евдокимка всякий раз успевала досылать в патронник новый патрон и производить выстрел — почти не целясь, даже не поднося карабин к плечу. «Маневрирование туловищем», как называл это старшина Разлётов, у нее получались неуклюже, но когда офицеры посмотрели мишень, то развели руками.
— Тебя конечно же следовало бы отдать на курсы снайперов, но только черта им в зубы, — заявил комбат. — Никогда и ни за что! Членораздельно выражаюсь?.. Ты, я помню, неплохо «шпрехаешь»?
— У нас это наследственное, семейное. В свое время мать угораздило стать учительницей немецкого…
— Благодари судьбу, что не скрипачкой, а то бы душу тебе смычком извела.
— Только и радости в жизни…
— Вот и я о том же. Ситуация, словом, такова, — придерживая Евдокимку за предплечье, Корягин отвел ее чуть в сторону. — Вчера меня вызвали в штаб бригады и назначили командиром нового, отдельного, особого батальона. Учитывая, что службу свою в морской пехоте я когда-то начинал в разведке, мне поручено срочно создать «разведывательно-штурмовой», как мы его условно назвали, батальон, в задачу которого будут входить разведка, диверсии, захват плацдармов на вражеской территории.
— Вы начинали со службы в разведке? — искренне удивилась Евдокимка. — Я даже не догадывала… не догадывался, — едва успела она проглотить женское окончание. И тут же укорила себя: «Это ж нужно! Чуть было таким вот глупым образом не рассекретилась». — Наверное, вас специально готовили для этого?
— Не спорю, кое-чему обучили, — иронично передернул щекой комбат. — Тем не менее я попросил направить к нам из разведотдела штаба армии инструктора, а еще лучше — двух. Но вернемся к нашему отдельному батальону. Решено также, что одна из трех его рот будет разведывательно-диверсионной. А значит, отборной; в армейском понимании этого слова, естественно.
— Если нужно мое согласие…
— В «диверсант-роту» набор ведется только на добровольной основе. Что, ефрейтор, возникли сомнения?
— Никак нет. Уже согласен.
— Вот это комбат Кор-рягин понимает! Первый взвод ее сформируем сегодня, прямо сейчас. Можешь кого-то рекомендовать?
— Прежде всего — старшину Климентия.
— И пусть только попробует отказаться! — воодушевленно поддержал ее комбат.
— Клим Климентий — отказаться? Да никогда! Кстати, он и командиром взвода мог бы стать.
— Или же остаться старшиной роты. Но ты прав, ефрейтор, на первых порах ему следует поручить командование этим взводом. А там, глядишь, и младшего лейтенанта присвоят; война — время чинов и орденов.
— Обязательно нужно присвоить.
Евдокимка назвала также Таргасова и еще десятка два бойцов, показавшихся ей наиболее крепкими, кого успела приметить в первые же дни службы, особенно во время учебных десантов, когда «бои на плацдармах» велись рота на роту.
Георгия Аркашина же в их числе Гайдук назвала лишь из уважения к его честно заслуженной тельняшке. В показном балагурстве этого «хлопца из Голой Пристани» просматривалось нечто фальшивое; к тому же он то и дело придирался к Евдокимке, всячески стараясь ее «подначить», не зря старшина Климентий называл его не иначе, как «тля бердичевская».
Правда, поначалу девушка не могла понять, почему именно «бердичевская», но потом выяснилось, что самого его, Клима, как беспризорника, отловили где-то в районе этого самого Бердичева. Настоящее имя свое старшина тщательно скрывал, поэтому беззастенчиво врал, что приходится внебрачным сыном самому Климентию Ворошилову. И хотя за байку эту его в детстве били беспощадно, и не единожды, кличка «Ворошило» к нему приклеилась как-то сама собой. «Нарисовать» же фамилию «Климентий» мальчишка попросил сам, чтобы была похожей на его настоящую — Климентьев, в чем он так и не признался. Впрочем, все это — дела минувших дней. Теперь же в роте все звали старшину просто Климентием, не утруждаясь уточнением — имя ли это старшины или же его фамилия?
17
Когда следователь-садист вышел, мужчины сочувственно осмотрели прислонившую к стене между столом и сейфом, избитую, смертельно измученную женщину, и в кабинете воцарилось неловкое молчание. Жерми конечно же не нравилось, что сразу трое мужчин ее — в таком виде! — рассматривают, словно уличное привидение. Собственный взгляд Анны был преисполнен саркастического осуждения.
Впрочем, турнир взоров длился недолго, и прервала его сама Жерми:
— Так что, господа? Процесс опознания считается завершенным? — она нашла силы озарить энкавэдистов своей старательно отрепетированной улыбкой. При этом левый глаз ее синюшно заплыл, нижняя губа оказалась рассечена, а на подбородке и на скулах запеклись комочки крови — пусть господа офицеры полюбуются тем, чем хотели полюбоваться.
— Извините, Анна, но так было необходимо, — сугубо по-генеральски извинился перед ней Шербетов.
— Если необходимо, тогда стоит ли оправдываться, генерал? — вновь озарила его Жерми улыбкой Квазимодо. — Не утруждайте себя жалостью.
— Речь идет не о жалости, а о жестоких реалиях нашей службы. В утешение всем нам сообщу: сегодня поступило подтверждение того, что проверку младший лейтенант Жерми прошла и ее зачисляют в специальную разведшколу.
— Наконец-то я вижу проявление некоторого благоразумия, — сдержанно прокомментировала Анна.
Доселе молчавший подполковник Гайдук неожиданно обрел дар речи и предложил Жерми присесть. Его тут же, извиняющимся тоном поддержали генерал и полковник. Анна смертельно устала, поэтому инстинктивно шагнула к стулу, на каком еще недавно восседал ее экзекутор, однако опуститься на него так и не решилась, побрезговала.
— Лучше уж я постою, — процедила сквозь распухшие губы она.
Осознав неловкость положения, в котором все они пребывали, находясь в этой камере пыток, генерал признал свою ошибку тем, что предложил пройти в его кабинет.
Пока адъютант накрывал стол четырьмя рюмками коньяка, бутербродами с маргарином и пирожками, вызванная Шербетовым медсестра-сержант, из бывших лагерных надзирательниц, провела Анну в офицерскую душевую и помогла привести ее внешность в порядок.
Они выпили за победу, за доблестную разведку и за всех тех, кто в эти дни сражался на видимых и невидимых фронтах.
— Прямо скажу, — возобновил разговор генерал, обращаясь к Жерми, — о восстановлении вас в звании подполковника, до сих пор к тому же не подтвержденном документально…
— …не может быть и речи, — завершила его фразу Анна.
— Мне бы хотелось выразиться деликатнее: «Речь вести пока что рано». Улавливаете разницу в формулировках?
— Лично я — да, улавливаю, — благодаря усилиям медсестры вид у Анна стал более или менее благопристойным. Во всяком случае, Жерми пыталась убедить себя в этом. — Вопрос: улавливают ли ее те, от кого эти формулировки зависят?
— Одно могу сказать: со временем, возможно, в звании вас все-таки повысят. Главное, что вам присвоено первое офицерское звание, а значит, вы стали кадровым командиром. Поверьте, это дорогого стоит.
— Не слишком ли много мы уделяем этому внимания, товарищ генерал? — агнецки-елейным голосом упрекнула Жерми. — Когда, по щедроте душевной, генерал Врангель, от имени гибнущей России, даровал мне чин подполковника, я тоже особого значения этому не придала. Свой настоящий чин я всегда определяла собственной самооценкой в ту или иную пору своей жизни, в той или иной обстановке.
«Неплохо сказано, — отметил про себя Волынцев, наблюдая за тем, как подполковник Гайдук повторно наполняет рюмки коньяком. — Правда, ее раскрепощает то, что с Шербетовым она уже знакома, и тот протежирует ей. И тем не менее…» Полковник удивился, с какой раскованностью Анна ведет себя в разговоре с генералом. В иной ситуации это покоробило бы его, но сейчас, в роли инспектора, он воспринимал эту особенность характера Анны с точки зрения ее способности вжиться в высокородную среду. Аристократизм поведения и светская непринужденность — вот то, чего не хватало многим агентам, которых готовили для работы в белогвардейской и дипломатической среде; и привить это было, ох, как непросто!
— Я так понимаю, — не стала разочаровывать его Анна, — что задание мое будет заключаться не в проведении какого-то банального теракта, для этого у вас людей хватает, а в том, чтобы я достойно обосновалась в белоэмигрантской среде.
— В общих чертах — да, — признал Волынцев. — К конкретному же разговору об операции мы вернемся через пару месяцев.
— Стало известно, — произнес генерал после того, как была отдана дань второму тосту, «за сотрудничество во имя спасения великой России», — что многие бывшие белогвардейцы уже сейчас, на этом этапе войны, активно сотрудничают с немцами. Притом, что значительная часть их прошла специальную подготовку в различных разведывательных школах и на пропагандистских курсах.
— Этого и следовало ожидать, — спокойно парировала Жерми. — Замечу, однако, что сотрудничать с немцами решатся далеко не все бывшие офицеры Белой гвардии. Даже сгорая при этом от ненависти к коммунистам. Не все! — она с внутренним удовлетворением проследила за нервной реакцией генерала и особенно полковника: не так уж часто им приходилось слышать о ненависти к коммунистам. — Презрение к нашему историческому врагу — германцам — у многих все же сильнее, нежели презрение к своим идеологическим противникам в России. Кстати, вам стало что-нибудь известно о судьбе моего отца?
Генерал выразительно взглянул на Волынцева. Тот прокашлялся и, сомкнув густые седеющие брови, пробубнил:
— Мне не хотелось бы затрагивать эту тему прямо здесь и сейчас. Но, поскольку вы, Анна Альбертовна, просите об этом, и тут все свои…
— Он жив?
Волынцев снял пенсне, бархаткой протер стекла, словно намеревался зачитать какой-то документ, и только потом спасительно выдохнул:
— Судя по тем данным, которые… Словом, жив.
— Что по-настоящему трогательно.
— В сотрудничестве с гитлеровцами пока что не замечен. Обитает в небольшом горном имении, где-то в княжестве Лихтенштейн. Женился на обедневшей, но все еще финансово независимой аристократке из шведской королевской династии.
— Он всегда мечтал доживать свои дни где-нибудь в небольшом горном имении, — проговорила Жерми, как бы размышляя вслух. Появление рядом с отцом мачехи, пусть и королевских кровей, она предпочла оставить без комментариев.
— По каким-то династическим канонам за ним признан наследственный титул графа Римской империи, дарованный в свое время его предку в Саксонии вместе с приставкой «фон».
— Этот титул генерал Подвашецкий носил и раньше, — уточнила Жерми, — но, поскольку возникали трудности с документальным обоснованием родового герба, он дипломатично воздерживался от официального титулования себя вплоть — как он извещал в своем письме членов императорской геральдической комиссии — «до окончательного прояснения родовых геральдических источников». В вопросах родословной он всегда являлся человеком болезненно щепетильным.
— За что мы с вами должны быть признательны ему, — резюмировал полковник. — Я консультировался по этому вопросу. Титул «граф фон Подвашецки», как именуют его в западных источниках, является наследственным. Следовательно, вы становитесь его полноправной владелицей, графиня фон Подвашецки.
— Странный день выдался, не находите ли, господа? Весь преисполненный сюрпризов и страстей, — заметила Анна.
— При всем моем пролетарском неприятии подобных буржуазных атрибутов, искренне поздравляю с обретением данного высокородного титула, — определил свою позицию генерал. — При возвращении в белую среду он окажется очень востребованным.
Волынцев и Гайдук молчаливо склонили головы, давая понять, что присоединяются к поздравлениям.
— Привыкайте к своему новому положению, графиня, — даже не пытался смахнуть с губ ироническую ухмылку подполковник. — Мог ли я предположить, с кем сведет меня судьба?
— До чего же удачно избраны вами, господа, время, место, а главное, — обвела она рукой свое лицо и туловище, — физическое состояние дамы, для удостаивания ее столь высокой чести! — откровенно съязвила Жерми. — Воистину, из грязи — в князи.
— Ситуация пикантная, не спорю, — развел руками Волынцев и взглянул на часы. — Машина появится через двадцать минут. Разведшкола расположена в монастыре, где вам уже выделена отдельная келья. Ваш способ жизни должен полностью соответствовать способу бытия: мозолить глаза ни к чему. Подготовку будете проходить под псевдонимом «Изида». Но это завтра, а сегодня… Не знаю, как вы намерены распорядиться своей душой, но для телесного очищения вам предоставлено не менее двенадцати часов.
— Вынуждена разочаровать ваше христианское сознание, господин полковник: в течение всех этих двенадцати часов мои душа и тело будут сообща предаваться банальным сновидениям.
18
Едва Евдокия Гайдук завершила разговор с комбатом, как земля и поднебесье задрожали от гула авиационных моторов. Немецкие пилоты вели свои тяжелые бомбардировщики звеньями, по пять машин, словно на авиационном параде. Причем шли они по кромке моря, под прикрытием нескольких пар истребителей, не опасаясь ни зениток, ни «краснозвездных соколов» и совершенно не обращая внимания на то, что происходит в прибрежной зоне.
— А ведь это они, сволочи, на Ростов-на-Дону потянулись, — гневно сжал кулаки комбат. — Явно на Ростов. Теперь повадятся, стервятники.
— По-моему, это уже не первый их налет, — заметила Гайдук.
— Может, и не первый. Ростов для них, почитай, — ключ ко всему Северному Кавказу, с его нефтью и всем прочим. Нет, ну ты только посмотри, ефрейтор, — бессильно сжал кулаки капитан-лейтенант. — Это ж до какой такой наглости нужно… обнаглеть, чтобы вот так, в открытую, по тылам нашим шастать?!
— Да летуны ихние не так уж и страшны, — Евдокимка выстрелила из карабина в сторону очередного приближающегося звена. — Во всяком случае, под Ростовом их точно встретят. Наше дело — наземные войска немецкие остановить.
Только ефрейтор произнесла это, как где-то западнее их части, за холмистой грядой, ожила зенитная батарея.
— Нам бы сейчас пару таких орудий, — Евдокимка забросила карабин, бесполезный в данной ситуации, за спину. — В крайнем случае пулемет; зенитный, естественно…
Они с тоской и ненавистью смотрели вслед армаде «коршунов Геринга». Несмотря на огонь зениток, те летели, не нарушая строя, и казались неуязвимыми.
* * *
— Ну, уж с кем с кем, а с ефрейтором Гайдуком тебе явно повезло, — первое, что сказал комбат старшине, как только пригласил его с Евдокимкой в охотничий домик рядом со стрельбищем.
— А кто спорит?
— Да ты хоть знаешь, что он предлагает назначить тебя командиром разведывательно-диверсионного взвода. Причем не просто так, а с надеждой, что ты получишь офицерское звание.
Великан повертел шеей, словно борец, разминающийся перед выходом на ковер, и, явно стушевавшись, стеснительно прокряхтел:
— Вообще-то я — моряк в четвертом, а может, и в пятом поколении. Но до офицерского чина никто в нашем роду так и не дослужился.
— Почему? — удивилась Евдокимка.
— Да потому что, рано или поздно, всех назначали боцманами. А это — должность на всю корабельную жизнь.
— Уважаемая, между прочим, — заметил комбат.
— Раньше офицерами становились в основном дворяне, — попытался завершить свой рассказ Климентий. — Мы же до дворянства не дотянулись.
— Погоди, — удивился комбат, — Но ведь в твоем личном деле написано, что ты — сирота, из беспризорников.
— Так и есть: осиротел, беспризорничал. Однако о роде своем, Климентьевых, забыть не посмел. Правда, когда меня чекисты в детдомовцы записывали, фамилию чуть-чуть изменил.
— Зачем? — спросила Евдокимка.
— Чтобы родню не искали. И чтобы, в случае чего, род не запятнать.
Комбат и ефрейтор Гайдук многозначительно переглянулись. По взгляду Корягина девушка поняла: то, что капитан-лейтенант только что услышал, резко изменило его отношение к этому парню.
— Но ведь все, что касается фамилии, — это все ерунда, правда? — с надеждой поинтересовалась Степная Воительница. — Звание младшего лейтенанта ему все-таки могут присвоить?
— Просто обязаны будут. Давай считать, старшина, что ты — первым из флотского рода Климентьевых — до чина морского офицера дойдешь. Обязательно дойдешь! Слово комбата Кор-рягина.
Тем временем на территорию части въехала штабная машина, в ней оказались командир бригады полковник Савчук и приземистый, медведеподобный сержант. Евдокимка сразу обратила внимание, что сержант был без тельняшки, зато — в маскхалате. На ремне его маскхалата, в специальном подсумке, красовалось несколько разноцветных колодок финских ножей.
— Это ваш инструктор по рукопашному бою, маскировке и всему прочему, — сообщил полковник, выслушав доклад Корягина. — Сержант Николай Сожин, бывший охотник из-под Уссурийска. Участвовал в боях с японцами на Халхин-Голе. Во всех вопросах, касающихся полевой подготовки бойцов к диверсионной работе, подчиняться сержанту беспрекословно.
— Вот за инструктора — особое спасибо, — оживился комбат. — А то подготовка десантников-диверсантов у нас мало чем отличается от обычной, армейской подготовки.
— Ничего, с Сожиным она во всем будет необычной. Кстати, завтра еще одного инструктора направлю: по взрывному делу. И еще… Поскольку основная масса бойцов бригады военно-морских званий не имеет, принято решение звания в ней употреблять не флотские, а общевойсковые. Вот так, капитан, — комбриг умышленно пропустил вторую часть флотского звания «капитан-лейтенант».
— Деловое решение. Сам об этом думал. А как нам осваивать прыжки с парашютами? Начштаба говорил, что забрасывать в тыл противника нас могут и на самолетах.
— Начштаба многое говорил, потому как следовал инструкции. Но где же я тебе возьму все это — аэродром, самолеты, парашюты? И потом, вы ведь пехота морская, а не воздушная, правильно мыслю?
— Да, вроде бы правильно. Ежели мыслить… не по инструкции, — огрызнулся Корягин.
— Зато каждому твоему взводу положено по радисту, — ушел полковник от прямой стычки с резковатым на слово комбатом.
В смех, которым Корягин встретил это обещание, он постарался вложить весь свой, командирским опытом нажитый, сарказм:
— Хотелось бы знать, что мне положат из этого вашего «положено»?
— Должны прислать выпускников дивизионных курсов. Специалисты, может быть, не ахти какие, но поддерживать связь в полевых условиях смогут, это руководство курсов гарантирует. Вот со снайперами трудновато.
— У нас вон свой снайпер образовался: ефрейтор Гайдук, — кивнул комбат в сторону отошедшей на почтительное расстояние Евдокимки. — Любого профессионала за пояс заткнет. Ей бы винтовку с оптическим прицелом — и все вопросы сняты.
— С каким таким «оптическим»? — напряглось лицо комбрига, испещренное гипертоническими прожилками. — Раскатал губу! Тут самых обычных винтовок еле наскребли[28], и патронов явно маловато. Военком рассказывал, что маршевые роты они бросают в бой, не успев ни вооружить, ни обмундировать.
— Получается, довоевались?
— Ну, нападение неожиданное, а потому данная ситуация… временная, — мрачно парировал комбриг. — И вообще не об этом сейчас речь. Какие надежды командование бригады и всего корпуса возлагает на твой батальон — уже знаешь?
— Информирован, товарищ комбриг.
— А теперь сообщаю, что на подготовку батальона к активным боевым действиям, в частности, в тылу врага, тебе отводится десять суток.
Корягин на несколько мгновений уставился на полковника, но вовремя сумел овладеть собой. Другое дело, что иронии скрыть не смог:
— Это ж, с какой такой стати подобная «щедрость»?
— Ты эти свои ухмылки для противника оставь, — отрубил комбриг.
— Так ведь батальон еще только формируется. Что мы успеем за десять дней?
— Моли бога, — еще жестче бросил полковник, садясь в машину, — чтобы противник подарил нам хотя бы эти десять дней.
— Значит, все-таки противник? — насторожился Корягин. — А ведь сообщали, что враг остановлен, а на некоторых участках даже отброшен, и вообще…
— Сообщают всякое разное, капитан, — прервал его комбриг. — А фронт — вот он, уже в семидесяти километрах отсюда.
19
Анна Жерми только начала осваиваться с последствиями столь стремительного перевоплощения из «белогвардейской суки» и «лагерной пыли» в графиню и младшего лейтенанта, пирующего за одним столом с энкавэдистами, а Шербетов уже вновь направлял разговор в разведывательно-диверсионное русло.
— Кутепов, Врангель, Деникин, Шкуро, несколько других белых генералов и влиятельных старших офицеров неоднократно пытались наладить связь с вашим отцом…
— Простите, пожалуйста, что перебиваю, — воспользовалась Анна минутной заминкой Шербетова. — Но в дальнейшем речь пойдет не о моем отце, а о генерале Подвашецком. Исключительно о нем. Так будет проще для всех нас.
— Принимается, — буркнул Шербетов. — Так вот, разные паломники к поместью Лихтенвальд всячески пытались втянуть генерала Подвашецкого, с его деньгами и связями, в свои белогвардейские интриги. Однако граф по-прежнему остается непоколебимым монархистом, для которого Белое движение — цитирую — «давно перевернутая и бездарно написанная страница русской истории».
— О да, нечто подобное всегда было в духе генерала Подвашецкого, — вновь, как бы про себя, проговорила Анна. — Как раз на этой почве мы с ним когда-то принципиально разошлись во мнениях, взглядах, и даже в судьбах.
Полковник и генерал переглянулись, а затем встревоженно перевели взгляд на Гайдука, пытаясь выяснить, знал ли он о сложности отношений Анны с отцом.
— Не думаю, чтобы у вас с генералом Подвашецким дошло до откровенной вражды, — медленно, а потому внушительно, проговорил Гайдук, давая понять: «Не акцентируй на этом факте внимание начальства!»
— Нет-нет, конечно же мы найдем с ним общий язык, — точно расшифровала подтекст его слов Анна, — Тем более что прошло столько лет, да и Гражданская война давно завершилась.
— Не сомневаюсь, — ухватился за эти заверения полковник Волынцев. — Как и в том, что, ради примирения с отцом, вы проявите ангельское смирение, подобающее всякой благовоспитанной дочери.
Анна тут же намеревалась заверить в этом полковника, как вдруг на столе Шербетова ожил телефон.
— …Так точно, товарищ генерал-лейтенант, проверку прошла, — произнес он в ответ на вопрос, которого Жерми не слышала; при этом генерал-майор приложил палец к губам, предупреждая, чтобы никто из присутствующих не смел обнаруживать себя. — Самую жесточайшую, без поблажки. Да, сейчас она под опекой полковника Волынцева, который вводит ее курс происходящих в белогвардейских кругах событий. Через сорок минут они отбывают к месту дальнейшего прохождения службы… Есть, докладывать лично вам, — положив трубку, Шербетов старательно протер некстати вспотевший лоб. — Вы все слышали, товарищи. Операция «Поцелуй Изиды» находится под контролем в самых верхах разведуправления, поэтому отступать некуда. Прежде всего это касается вас, младший лейтенант Жерми.
— Отступление — вообще не в моих правилах.
— В таком случае продолжайте, полковник. Что вы там говорили о генерале Подвашецком? Курс ликбеза по поводу новой тактики «беляков» мне тоже не помешает.
Волынцев сдержанно кивнул и прокашлялся…
— При детальной разработке генерала и его окружения открылась любопытная черта мировоззрения бывшего императорского адъютанта, — поднял вверх указательный палец полковник. — Дело в том, что монархизм графа Подвашецкого — какого-то особого рода. Генерал считает, что, поскольку сразу два представителя династии Романовых, друг за другом, отреклись от трона, предав, таким образом, веру и Отечество, то, по европейским традициям монарших родов, претендовать на русский трон никто из рода Романовых больше не имеет права. «Династии, запятнавшей себя добровольным отречением, а следовательно, трусостью и предательством, не позволительно более осквернять своей коронацией русский трон!» — таков главный тезис графа как политика и дипломата.
— Кроме того, он предлагает все политические партии в России запретить, поскольку ничего, кроме смуты и раскола нации, они в себе не несут, — уточнила Жерми.
— Так все-таки у вас был контакт с генералом? — вклинился в их разговор Шербетов.
— Подобные взгляды сформировались у него еще во времена революции, — попытка подловить графиню на лжи опять не увенчалась успехом. — Не думаю, чтобы сейчас, наблюдая за натиском германских войск, он отказался от них.
— Новым является только то, — продолжил Волынцев, — что генерал, мнящий себя одним из идеологов русского монархизма, предлагает заменить разогнанные партии единым, всероссийским рыцарским орденом Святого Георгия.
— Заменить десятки партий неким рыцарским орденом?! В наше время? — искренне удивилась Анна. — Средневековье какое-то. Это нереально.
— Как знать? — заметил Шербетов. — Вспомните, что и приход к власти «партии царененавистников» в столь могучей империи, как Российская, также казался делом нереальным.
— Впрочем, единоправящая ныне партия коммунистов — тоже своеобразный орден, — Жерми продолжила свои размышления вслух. — Вряд ли он имеет хоть какое-то сходство с рыцарским, однако на сравнение наталкивает…
Подполковник Гайдук предостерегающе прокашлялся, но Волынцев вполголоса обронил:
— В данном разговоре это допустимо.
— И все же… — не стала тушеваться Жерми, — от генерала Подвашецкого такого радикального курса я не ожидала. Вот оно — разлагающее действие аристократического титула.
На сей раз все четверо только пригубили рюмки, решив, что для ритуального застолья вполне достаточно выпитого ранее.
Все это время Анна старалась сидеть вполоборота к мужчинам, стыдливо пряча синюшно-красную часть лица с заплывшим глазом, и держалась с вызывающей стойкостью.
— Граф Подвашецкий считает, что в создавшихся условиях только орден способен стать нерушимым оплотом царствующего Дома, — тут же подхватил полковник нить просвещения Анны. — И что только в его рядах должна зародиться новая правящая династия, а также новая волна генералитета и чиновничества. Следует сказать, что у рыцаря-монархиста уже появилось немало эмигрантов-единомышленников, проживающих не только в княжестве Лихтенштейн, но и в соседних странах. Мало того, он уже начал заниматься созданием ордена.
— Какой же неугомонный! — качнула головой Анна.
— Скорее все еще деятельный, — тактично поправил ее Волынцев. — Не забывайте, что нам это на руку.
— Мне обязательно понадобятся материалы о ныне существующих в Европе рыцарских орденах, представление о них у меня пока очень смутное.
— Мы это учли. Уже подыскивают. Кстати, подготовку группы, с которой вам придется работать за рубежом, приказано контролировать мне.
— Позвольте поздравить с этим не только вас, но и себя, — с дипломатическим поклоном произнесла Жерми.
20
На следующий день часть батальона Корягина перебросили в соседний поселок, а здесь продолжил свое формирование новый — отдельный диверсионный. Первый взвод его первой роты, как Корягин и обещал, принял старшина Климентий.
Командиром роты назначили старшего лейтенанта Качина, до этого командовавшего одной из рот второго батальона. Этот моряк был под стать Климентию — почти такой же рослый и сильный, только худощавее и стройнее. Медлительный, с виду полусонный, со шрамом от ожога на правой щеке — он производил впечатление человека, уже побывавшего в боях, познавшего все «прелести» службы, а значит, тертого, уверенного в себе — что в солдатской среде, особенно среди новобранцев, очень ценилось. А еще Качин обладал удивительной способностью в нужный момент энергетически, словно шаровая молния, взрываться, поражая быстротой реакции, умением действовать в штыковом бою, работать во время обороны саперной лопатой, но главное — старлей отличался упорством, проявлявшемся в любом деле.
Евдокимка заметила это во время первого же шестикилометрового марш-броска с полной выкладкой по пересеченной местности, когда половина роты сошла с маршрута уже на третьем километре. Увидев с высоты косогора, как растянулось и стало разбредаться по долине его воинство, Качин, не сбавляя темпа, вернулся и стал подгонять отстающих. Некоторых он поднимал под руки с земли и тащил за собой.
— Нет! Я вас спрашиваю, причем исключительно по существу вопроса, — возмущался после возвращения на базу Георгий Аркашин, который сам оказался в числе последних, — как можно было «смозолить» нам такого командира? Он же всю роту загонит в могилу задолго до того, как доведет ее до первой стычки с врагом.
— Ты-то чем не доволен, таранька голопристанская? — охлаждал его Климентий. — При такой твоей подготовке тебе ведь даже бежать с поля боя не придется. Глядишь: взвод уже в окопах противника рукопашничает, а ты еще только из своего выкарабкиваешься.
— Да по какому такому минному полю шесть километров мне придется бегать? — все еще с трудом отходил Жорка после марш-броска.
— Пока что ты от отцов-командиров бегать пытаешься, — внушающе напомнил ему Таргасов, его вечный оппонент. Он сам был свидетелем того, как, завидев возвращающегося комроты, Аркашин пытался исчезнуть в близлежащем кустарнике, вот только затаиться у него не получилось. Под хохот и подковырки, старший лейтенант буквально за шиворот извлек его — запыхавшегося, обессилевшего — из зарослей, как нашкодившего кота. — Представляю, как ты поведешь себя, когда увидишь перед собой фрицев.
— Фрицев отстреливать можно, — огрызнулся Жорка. — Глотки им рвать. А командира даже послать неприлично, потому как это гауптвахтой пахнет.
— Ты у Гайдука учись: как привязался к своему Климентию, так в одной упряжке с ним и топал до самого финиша.
— Если не считать того, что последнюю сотню метров Климентий тащил его чуть ли не на спине, — проворчал «хлопец из Голой Пристани».
— Опять врешь! — укорила его Евдокимка.
— Не вру, а говорю исключительно по существу вопроса.
Степная Воительница знала, что Жорка сам пытался наладить отношения с Климентием, заручиться его поддержкой, но всякий раз старшина пресекал эти попытки жестким предупреждением: «Суши весла, таранька голопристанская» — и на этом очередная попытка дружеского сближения завершалась. После каждой такой попытки отношение Климентия к ней почему-то на удивление становилось всё трогательнее. Вдруг он что-то заподозрил? «Ты все-таки держись от него подальше, — жестко предупреждала она саму себя. — Как бы однажды не оказаться в его объятиях».
С раннего утра и до поздней ночи бойцы ползали под колючей проволокой, метали гранаты и ножи, учились снимать часовых и минировать дороги. С метанием ножей у Евдокимки получалось неплохо, а вот с гранатой не заладилось. После нескольких неудачных бросков инструктор Сожин даже подозрительно как-то окинул взглядом фигуру девушки и, покачав головой, изрек:
— По-бабьи у вас получается как-то, ефрейтор. Неточно, а главное, слишком близко.
— Тем не менее три боевых гранаты я уже успешно использовал. Причем не здесь, на полигоне, а в настоящем бою.
— Мне сообщили, ефрейтор, что вы успели побывать в нескольких боях, и даже отличились, — поиграл желваками своего скуластого лица Сожин. — Однако никакие заслуги от боевых нормативов вас не освобождают… Внимание всем: еще раз показываю, как следует правильно бросать гранату.
Броски у него, в самом деле, получались на удивление мощными. Прежде чем метнуть гранату, он сжимался, словно тугая пружина, чтобы затем «взорваться» броском за несколько мгновений до взрыва.
— Вопросы, ефрейтор Гайдук, есть?
— Никак нет. Буду стараться, товарищ сержант.
— Вот завтра и продемонстрируете всем нам свое старание зачетным броском.
— Но ведь было объявлено, что на завтра запланированы прыжки с парашютом.
— Даже если запланируют прыжки без парашюта, метание гранаты никто не отменял, — грозно предупредил ее сержант. — Что такое десантник? Это — прежде всего…
— …ближний бой, — продолжила она десятки раз слышанную фразу инструктора. — А ближний бой — это прежде всего бой гранатный.
— И никакая парашютная подготовка умение метать гранату не заменит, — не позволил сбить себя с толку сержант. После чего он вновь подозрительно прошелся взглядом по фигуре Евдокимки, резко покачал головой, словно пытался развеять мираж, и, недоверчиво покряхтев, отошел в сторону.
«Неужели начинает догадываться, с кем на самом деле имеет дело?! — ужаснулась Евдокимка. — Только этого не хватало! Может, в самом деле пойти к комбату Корягину и честно признаться?»
Евдокимка уже несколько раз в сердцах проклинала себя за игру в «кавалерист-девицу» и столько же раз порывалась идти к комбату «сдаваться». И, наверное, отправилась бы, но… Возможно, комбат и поймет её, и насмешки пресечет на корню. Вот только в батальоне уже не оставит. Не оставит ее комбат в своем десантном батальоне морской пехоты — вот в чем дело! Даже должности санинструктора не удостоит, а, наверняка, тут же отправит санитаркой в бригадный медсанбат, от греха подальше. Однако снисходить до госпитальных простыней и туалетных уток Евдокимка уже не смогла бы. Она почувствовала себя десантником, бойцом; доказала, что держится не хуже других. А впредь укротит и метание гранаты!
— …А прыжки обязательно будут, — проворчал Сожин, уже уходя. — Хотя зачем они нужны морским пехотинцам, объяснить трудно.
— Чтобы, с неба спускаясь, вражеские корабли захватывать, — откровенно съехидничала Евдокимка.
Реакция оказалась неожиданной:
— Прикажут, ефрейтор, даже подводные лодки без водолазных костюмов захватывать будете. Но на всякий случай помните, что без двух учебных прыжков к боевому десантированию не допускают.
— Да хоть после десяти!
— А мне почему-то кажется, что с парашютом у вас сложатся еще более трудные отношения, чем с гранатой. Там все сложнее, поскольку первый же прыжок может оказаться и последним.
«Это только у нас с тобой отношения никак не налаживаются, сержант, — грустно ухмыльнулась вслед ему Евдокимка. — А с гранатой и парашютом мы как-нибудь подружимся».
После ужина, когда бойцам положен был час личного времени, Евдокимка тяжело вздохнула, взвалила на плечи рюкзак с учебными гранатами и отправилась на полигон, под который приспособили пустырь, расположенный в двух десятках шагов от складских помещений базы отдыха.
21
В полночь их первую роту подняли по тревоге и повезли на ближайший полевой аэродром, в окаймленную холмами приморскую низину, что когда-то давно, очевидно, была дном речного лимана. Рядом, за дамбой, плескался морской залив; берег его срочно обустраивали уходящими в море причальными стенками.
На этом аэродроме десантники уже проходили наземную парашютную подготовку. Теперь они были уверены, что сегодня их наконец поднимут в воздух на транспортных «кукурузниках» и после двух самолетных кругов над морем десантируют на окрестные поля.
Первый взвод уже стоял построенным с полной выкладкой, как вдруг появился дежурный по аэродрому и сообщил, что комбата Корягина срочно вызвал к себе начальник аэродрома. Когда вскоре капитан появился в сопровождении какого-то подполковника, Евдокимка нутром учуяла: в их учебном плане что-то явно пошло… не по плану.
— Так, рота, слушать меня внимательно! — зычным голосом объявил Корягин. — Приказано создать боевую десантную группу из сорока шести бойцов. Больше мы попросту не успеем перебросить. При этом жесткое условие: добровольцами могут стать только те, кто уже побывал в боях.
— Ох, не к добру у меня всю прошлую ночь левая пятка чесалась, — доверительно признался Евдокимке «хлопец из Голой Пристани».
— С сутью боевой задачи я ознакомлю уже саму группу, — завершил свое сообщение комбат. — Но сразу же предупреждаю: задание крайне опасное.
— Можно подумать, что какие-то боевые задания у десантников бывают неопасными, — с каким-то высокомерием в голосе произнес подполковник, как бы рассуждая вслух.
— Рота только что сформирована, — огрызнулся Корягин. — Бойцы еще не прошли и половины курса подготовки.
— Но чему-то же их обучали… — заметил начальник аэродрома.
— Многие из них еще ни разу не были в бою…
— Именно поэтому генерал приказал, чтобы в группу вошли только обстрелянные бойцы, — парировал подполковник. — И командира группы нужно подобрать толкового; ответственность на нем, сами понимаете какая…
Пока командиры выясняли отношения, бойцы жались под напором холодного, прорывающегося с моря ветра и решали каждый для себя, возможно, главный вопрос всей их недолгой солдатской жизни: выходить из строя или не выходить? Сыграть в рулетку со смертью уже сегодняшней ночью или еще повременить в попытке перехитрить судьбу, оттягивая свой смертный час?
Комбат намеревался еще что-то выспросить у подполковника, но тот жестко уведомил его: «Инструктаж группы, ее вооружение и обеспечение довольствием проведем у складов, слева от командного пункта. Жду там. Не теряйте больше ни минуты». И ушел.
— Итак, вы все слышали. Старший лейтенант Качин, приступайте к формированию десанта.
— Исключительно по существу вопроса… — как всегда, попытался было навязать некую «строевую полемику» Георгий Аркашин.
Однако капитан тут же пресек эту попытку:
— Ты фрицам задавать вопросы будешь, Аркаша, — подал голос Виля Таргасов. — Причем исключительно по существу, и в письменном виде.
Прежде чем комроты успел скомандовать: «Добровольцы — два шага вперед!» — значительная часть подразделения качнулась и проделала эти самые два шага. Уже привыкшая все делать по команде, Евдокимка слегка замешкалась, но, увидев впереди себя могучую спину Климентия, тут же рванулась вперед и протиснулась между ним и сержантом Сожиным.
— Ты-то чего приперся? — сквозь стиснутые зубы проговорил старшина, давно догадывавшийся, что Гайдук годик-полтора приписал себе. — Не понимаешь, куда нас бросают?
— В десант нас бросают, старшина, — пожала плечами Евдокимка.
— Без тебя обойдемся, — точно так же, вполголоса, поддержал его инструктор-дальневосточник.
— Вернись в общий строй, а то по шее получишь, — еще суровее настаивал Климентий. — Только-только из госпиталя выкарабкался. Мало показалось?
— Для того и выкарабкивался, чтобы за тобой и Сожиным в бою присматривать: как бы в тыл не побежали.
— Совсем обурел, — покачал головой инструктор, но тут же заверил старшину: — Правильным охотником будет, я говорю.
Все разговоры прекратились, когда комбат объявил, что командование отрядом он принимает на себя, приказав Качину, на время его отсутствия, исполнять обязанности комбата. Старший лейтенант попытался убедить его, что прибегать к такому решению не следует и что командование бригады это решение не одобрит, однако капитан, обычно реагировавший на подобные возражения зычным рыком, теперь, на удивление смиренно, объяснил:
— Да что это за командир — это я о себе — который готовится вводить в бой целый взвод морской пехоты, а сам до сих пор так толком и не обстрелян? С комбригом объяснюсь после задания.
Считая, что все объяснения подчиненными получены, он, по своему усмотрению, проредил строй; при этом ввел в него двух санитаров и оставил место для радиста, обещанного начальником аэродрома. Заметив в добровольцах младшего лейтенанта Демешина, комбат тоже велел ему выйти, мотивируя это тем, что офицеров в роте остается некомплект, и заменяя его маявшимся чуть в сторонке инструктором-подрывником Варавиным по прозвищу Взрыватель.
— Не возражаешь, сержант? Вижу, что не возражаешь, — не позволил он инструктору прийти в себя. — Вот, в десанте взрыватели нам и понадобятся.
— Как, впрочем, и «рубатели», а также «колотели», — уточнил Аркашин, исключительно по существу вопроса.
Евдокимке показалось, что возле нее комбат остановился только для того, чтобы вернуть ее в общий строй, однако в последнее мгновение он передумал и, вслух рассудив, что без снайпера в отряде не обойтись, приказал:
— Ты, ефрейтор, возьмешь под свою опеку радиста. Оберегать его будешь, как…
— …как будущую тещу перед новобрачной ночью, — тут же заполнил его заминку Аркашин.
— Приблизительно в таком ключе, — согласился Корягин. — И чтобы ни один фриц даже близко к нему не подступился! Это приказ.
«Значит, придется искать укрытие и отсиживаться за чьими-то спинами», — недовольно уяснила для себя Степная Воительница, понимая, что оспаривать приказ бессмысленно.
Марш-броском перебазировав команду к складу аэродрома, комбат приказал Климентию, назначенному его заместителем, вооружить бойцов «до крайней возможности», а сам направился к подполковнику уточнять задание.
Заведующим складом оказался старшина — эдакий «мужичок с ноготок». Неподогнанное обмундирование сидело на нем так, что становилось стыдно и за должность, которую этот вояка занимал, и за армию, где по недосмотру командования служил. Начал старшина вооружение моряков с того, что велел разобрать саперные лопатки.
— Это еще зачем? — возмутился бывший командир эсминца Кошарин, любую попытку заставить его окапываться воспринимающий как личное оскорбление. — Мы же морские пехотинцы, а не гробокопатели.
— А это же не что-нибудь, а саперная лопатка, дураша! — возмутился тыловик. — Специально приказал заострить. В рукопашном бою — первейшее оружие. Проверено.
— Бери бери. Старшина прав, — поддержал его Сожин. — В контратаке, когда сходятся в рукопашной, впиваясь в глотки…
На складе уже оказались подготовленными полсотни солдатских вещевых мешков с десятью гранатами-лимонками, сотней ружейных патронов и трехсуточным сухим пайком в каждом. Все это добро предназначалось какой-то парашютно-диверсионной группе, которую со дня на день собирались забросить в Крымские горы, как и два ручных пулемета — с пятью снаряженными дисками на каждый. Но ситуация изменилась, и теперь все это должна была пустить в ход группа Корягина.
— Только так: мешки, пулеметы и все прочее имущество после десанта вернуть! — фальцетно известил завскладом. — По описи, под расписку.
— Да не волнуйся, старшина, все вернем, — успокоила его Евдокимка, оказавшаяся к нему ближе всех. — Особенно гранаты. Каждый осколок — по описи.
Еще не умолк смех, как Степная Воительница тут же «подкатилась» к начхозу насчет винтовки с оптическим прицелом.
— Даже если бы имелась, тебе бы не дал, — гнусаво взвизгнул старшина, — выдра облезлая. Вы бы у меня вообще ничего не получили, если бы не надо было целую гурьбу генералов выручать, дураши!
— Так нас что, посылают освобождать генералов? — тут же насторожилась Гайдук. От такой перспективы — стать освободительницей «целой гурьбы генералов» — у нее аж дух захватило. — Они оказались в плену у немцев?
— Может, уже и оказались, пока вы тут варежки на казенное имущество разеваете.
— И куда именно нас забросят?
* * *
Вещмешок Евдокимка уже взяла, лопатку в чехле к ремню на солдатской телогрейке пристроила и теперь, забыв, что предстает перед командой в облике мужчины, вертела бедрами возле начхоза, пытаясь разжиться еще чем-нибудь: если не оптическим прицелом, то хоть лишней банкой тушенки.
— Лично я просто послал бы тебя, дураша, знаешь куда? — оказался злопамятным тыловик. — А вот, куда захочется послать командованию… Все, не путайся у меня под ногами.
Даже когда во второй раз, уже вдогонку, старшина снова назвал ее «выдрой драной», Евдокимка не придала этому значения. Но спустя несколько минут их перебросили к причалам, где покачивались на легкой волне транспортные гидросамолеты, и Климентий неожиданно проговорил ей негромко прямо на ухо:
— Когда я расписывался за снаряжение группы, этот начхоз возьми и ляпни: «Драчка там у вас будет сугубо мужская. Так, спрашивается, на хрена вы еще и бабу с собой в этот ад тащите?»
— Это кого ж он имел в виду… относительно «бабы»? — мгновенно вспыхнула Евдокимка.
— Вот и я спросил, кого. А он говорит: «Ну, эту же, выдру драную, что здесь относительно гранат выпендривалась да ляжками торговала».
— Кажется, старшина совсем сдурел на своем складе. Жаль, что я не слышал этих слов, тут же надраил бы ему морду. Кстати, не он первый почему-то путает меня с женщиной. Просто дьявольщина какая-то.
— Ничего, повзрослеешь, заматереешь, тогда и путать перестанут.
— Мне вообще непонятно, почему кое у кого проявляется эта половая тупость, какая-то половая придурь.
Климентий хохотнул по поводу «половой придури», затем вдруг мечтательно взглянул на безликую луну, передернул плечами и, глядя на подходящих офицеров, произнес:
— Брось, Евдокимка; злость нужно приберечь для плацдарма, там она всем нам понадобится. Лично я вообще-то был бы не против, если бы ты оказался девушкой. Возможно, эта самая Евдокия Гайдук даже понравилась бы мне.
— Тут еще вопрос: понравился ли бы ты ей?
— Согласен: бабы — они по самой природе своей капризные. А главное, каждая вторая — с явной «половой придурью».
— Только, ради бога, не вздумай повторять все эти глупости «старшины дурашей» в солдатском кругу. Нас обоих затравят.
— Не нервничай, Евдокимка: все останется между нами…
22
По какому-то удивительному стечению обстоятельств, обучаться в разведывательно-диверсионной школе «Странник», базирующейся на просторном подворье одного из бывших монастырей под Рязанью, Жерми пришлось вместе с подполковником Гайдуком. Виделись они, правда, крайне редко, поэтому ни к какому реальному сближению между ними эта «школярская близость» не привела. Тем более что любая дружба, как, впрочем, и новые знакомства, в данном «богоугодном» заведении не поощрялись.
Дмитрий был причислен к большой группе будущих «организаторов подпольного и партизанского движений». Почти вся она состояла из офицеров НКВД и милиции, а также из партработников оккупированных ныне территорий, каждый из которых уже мнил себя эдаким славянским Гарибальди. Вели они себя с непозволительной, на взгляд Жерми, раскованностью, вплоть до пьянок и самоволок в ближайший фабричный поселок… А поскольку и милиционерам, и партработникам всегда было о чем напомнить «ежовским птенчикам» из НКВД по поводу их «чисток», пыток во время допросов и вообще методов работы, то нередко доходило до откровенного мордобоя.
Существовала здесь и сугубо диверсионная группа. Одну ее часть сформировали в основном из сержантов-фронтовиков, служивших до того в разведке. Другую — из бывших «фартовых» уголовниц и по совместительству проституток. Последние, негласно сопровождая разведчиков, внедрявшихся во вражеские ряды, как бойцы сексуально-террористического фронта должны были расчищать вокруг пространство от навязчивых гестаповцев, полицаев и местных коллаборационистов.
Что же касается особой женской группы, куда входила Анна, то она состояла всего из трех «курсисток», и вынуждена была вести замкнутый, истинно монашеский образ жизни, под жесточайшим контролем бывшей надзирательницы женского лагеря НКВД младшего лейтенанта Квасютиной. Впрочем, даже эта «кровавая Герда», как прозвала ее Жерми, повышать голос на Анну решалась крайне редко.
Особенностью группы считалось то, что все «курсистки» происходили из дворян, все владели иностранными языками, а главное, на поведении каждой лежала печать «чуждого пролетарскому духу буржуазного воспитания», позволявшая им уверенно чувствовать себя в любом приличном европейском обществе. Одну из них готовили в качестве основной радистки, другую — к роли запасной, с учетом того, что она могла бы стать и тайной телохранительницей Анны, а также ее связной. Возвращаясь после полевых занятий по развертыванию рации, Жерми случайно встретилась с подполковником Гайдуком. Тот выходил из небольшого особнячка, где находились канцелярия курсов вместе с особым отделом, и был сосредоточенно-мрачен.
— Уже не первый раз вижу вас выходящим из особого отдела, — пошла рядом с ним Анна.
На самом деле у «кельи особистов» Бонапартша видела его впервые, однако прием сработал.
— Пока еще — да, выходящим… — проворчал подполковник.
— А по виду вашему не скажешь, что вам хотят предложить здесь должность, или, что речь идет о приглашении к сотрудничеству.
— Пока что сам выхожу, но вскоре могут и вывести.
— Вас? Отсюда? Человека, близкого к генералу Шербетову и пребывающему на короткой ноге с полковником Волынцевым? — не без сочувственного ехидства удивилась Жерми.
— Они еще не в курсе. Нашего особиста капитана Карданова, эту редкую сволочь, я все еще пытаюсь поставить на место самостоятельно.
— И что же его привлекло именно в вашей скромной фигуре?
— Порывается оправдать свое существование здесь хотя бы одним громким разоблачением. И тут выяснилось, что я — единственный из курсантов, кто, побывав на оккупированной врагом территории, не прошел надлежащей проверки в органах. Мы с Шербетовым попросту не подумали о том, чтобы своевременно оформить протокол подобной проверки.
— Хотя тогда все было бы в ваших руках. Ситуация ясна. И в чем же вас пытаются обвинить?
— Как обычно: переметнулся на сторону врага, выдал секреты и, само собой, завербован абвером. Отдельный блок вопросов — что известно об исчезновении старшего лейтенанта Вегерова. Хотя все объяснения, — Дмитрий исподлобья взглянул на графиню, — ранее были даны еще в том, первом моем, рапорте.
— Покойничков решил тревожить, гробокопатель наш неугомонный. Ну-ну… Одним могу утешить, подполковник, что это еще не проверка. Настоящий разговор начнется с того часа, как вы окажетесь в руках садиста-следователя Дранкина.
Гайдук понял: Жерми элементарно мстит ему за все те издевательства, через которые пришлось пройти ей самой, но лишь покаянно развел руками:
— Все-таки капитан должен бы понимать, что под своего же фугас закладывает.
— Для членов этих «органов», подполковник, никаких «своих» уже давно не существует. Кому, как не вам, знать об этом? От подобных людей следует избавляться.
— В отличие от капитана я «своих» помню и воевать против них не могу, дабы не встать на путь предательства.
— А кто сказал, что вы должны воевать против кого-либо? Мы с вами оказались посреди войны, где каждый воюет за себя. Чтобы уцелеть, выжить, выкарабкаться, надо помнить, что оружие взято в руки не ради карьерных амбиций дранкиных и кардановых, а во имя Отечества. Кстати, этот Карданов привел с собой в наш «разведмонастырь» младшего лейтенанта Квасютину, он с ней раньше служил в лагере для «врагов народа». Из надзирательниц, словом. Ну, вы ее знаете.
— Еще бы! Личность известная, — признал Дмитрий.
— Так вот, будучи в глубоком похмелье, она пожаловалась, что о женитьбе капитан уже не вспоминает, в постели ведет себя по-скотски и обращается с ней, как с животным — спаивает, избивает, издевается… Но дело даже не в этом. Во хмелю капитан не раз хвастался по поводу того, как именно добивался всяческих поощрений и продвижения по службе. До перевода в лагерь он стряпал дела на военнослужащих, почти всех их подводя под расстрельную статью, в том числе — одного генерала, что является предметом его особой гордости. Ну а в лагере «протокольно» подводил под «вышку» всех тех, кто сумел избежать пули по первичному приговору.
— Ты ведешь к тому, что, если этот лагерный варвар не угомонится, то…
— Вот именно: придется прибегнуть к «выстрелу милосердия»; но милосердия не к этому мерзавцу, а ко всему обществу.
Гайдук мрачно помолчал, а затем решительно покачал головой:
— Все это эмоции. Не стоит губить себя из-за такой падали. Кстати, завтра утром школу должен посетить генерал Шербетов, попытаюсь поговорить с ним.
Подполковник взглянул на часы; следовало отправляться на стрельбище. Все группы ежедневно начинали стрельбу в один и тот же час, только в разных местах. Группа Квасютиной обычно тренировалась в одном из монастырских подвалов. При этом Жерми всегда удивляло, что упражнения в тире в школе считали чуть ли не основной дисциплиной.
Вот и сейчас, как только подполковник простился с Анной, в ту же минуту появилась начальница группы с двумя другими курсистками. Прежде чем присоединиться к ним, Жерми оглянулась и заметила на крыльце особого отдела Карданова. Тот находился всего в нескольких шагах от Анны, и она могла видеть ухмылку на его худощавом лице с вечно шелушащейся прыщеватой кожей.
— Сразу же после стрельб явитесь ко мне, Жерми, — это мелкобуржуазное «Жерми» Карданов произносил раскатисто, с каким-то своим, сугубо энкавэдистским подтекстом.
— «Младший лейтенант Жерми», — в том же тоне напомнила ему Анна.
— Может, еще и прикажете титуловать вас «графиней»?
— Не сомневайтесь, прикажу.
— …Я знаю этот взгляд, — пробубнила Квасютина, едва завернув за угол храма. — Похотливый и наглый. В эти минуты он уверен, что сумеет устроить вам всенощный «допрос с пристрастием».
— Если ему это будет позволено.
Бывшая надзирательница настороженно и в то же время заинтригованно взглянула на Анну:
— Господи, нашелся бы кто-нибудь, кто поставил бы его на место, а еще лучше — убрал отсюда.
— Тогда бы вы ответили взаимностью инструктору по рукопашному бою, который буквально поедает вас глазами?
— Вы знаете, — не стала «темнить» Квасютина, — хороший мужик, вдовец, вот-вот майора получит… Но ведь Карданов, скотина, уже дважды вызывал его к себе, угрожал, родственников потрошить начал…
— Завтра приедет генерал Шербетов, с кем у меня очень хорошие связи. Мне на этого особиста, в общем-то, наплевать, все равно я долго здесь не задержусь, а вот для вас, командир, это последний шанс.
— А что, если генерал не захочет?
— Генерал всегда хочет, — пошло отшутилась Жерми, лишь для того, чтобы подбодрить Варвару Квасютину. — Одно условие: когда по вызову мне придется пойти к капитану, бери своего влюбленного инструктора да еще кого-нибудь и прогуливайтесь поблизости. Это очень важно!
— Неужели решишься? — загорелись глаза у Варьки.
— Когда занавес уже поднят, исполнителей менять поздно.
23
Лунное сияние медленно переплавлялось в предрассветную темень, и гидросамолеты стали напоминать огромных птиц, уставших от морских ветров, но так и не решившихся перебраться на сушу. Порожденные двумя стихиями — морем и небесами — они нетерпеливо ждали своего часа, чтобы оставить чуждую им землю.
— Вводная такова, — ворвался в томную дрему Степной Воительницы раскатистый баритон Корягина. — Сейчас мы погружаемся на гидропланы и через тридцать минут, с заходом со стороны моря, приводняемся в Черском лимане, в восьмидесяти километрах отсюда. На косе нас должны ждать два проводника. Световыми сигналами они помогут пилотам сориентироваться, а затем сориентируют в ситуации и нас с вами. В двух километрах от места высадки, в районе Тузловки и хутора Соляного, в тылу противника, блокирован штаб 107-й стрелковой дивизии. При нем оказались в окружении заместитель командующего и начальник штаба 5-й армии, с частью армейской документации, а также член военсовета армии.
— Оказывается, начхоз наш, «дураша», относительно «гурьбы генералов» был прав, — пробубнил Климентий над ухом Евдокимки. — Зря мы на него поперли.
— Так не за «гурьбу генералов» же поперли, — процедила сквозь зубы Степная Воительница.
— Противнику уже известно, — продолжал тем временем комбат, основательно прокашлявшись, — кто именно оказался в этой приморской западне у Тузловки. Как известно и то, что силы дивизии и армейской штабной роты охраны на исходе. Линия фронта всего в двенадцати километрах. По приказу командования в пять утра, — комбат встревоженно взглянул на часы, — группа начнет имитировать прорыв на восток, одновременно с такой же имитацией фронтовых частей. И, что очень важно для нас, при поддержке штурмовой авиации со стороны моря, маскирующей наше появление. А в шесть утра ударим в тыл противнику мы. Еще через час к косе приблизятся два бронекатера, эсминец, ледокол и несколько рыбачьих шаланд, — словом, все те, кого командованию удалось наскрести по ближайшим портам. Замечу, весь этот «спасательный флот» уже в море.
— И мы первыми на гидропланах должны будем отправить штабистов в тыл, — упредил дальнейший пункт вводной Жора из Голой Пристани.
— Стратегически мыслите, красноармеец Аркашин, — тут же отреагировал капитан. — После чего — поможем уйти всем, кого сумеем снять. Для утешительности, обещают подбросить два транспортных «кукурузника», которые могут садиться на луг у плавней. Если, конечно, к тому времени мы оттесним от плавней немецкие заслоны.
— Да разбегутся заслоны, как только узнают, что мы высадились, — уверенно пообещал Аркашин.
— Если узнают, что на берег собственной персоной высадился Жорик из Голой Пристани, то, ясное дело, запаникуют, — по-своему поддержал его Таргасов.
…Когда десантники приближались к плавневой косе, рассекающей лиман на две части, окрестности уже утюжили два звена русских штурмовиков и звено бомбардировщиков морской авиации. Где-то вдали от высадки, судя по всему, на западных окраинах села, рвались снаряды дальнобойных орудий.
Гидропланы приводнялись под вспышками осветительных ракет, гася скорость на мелководье и волну за волной выплескивали из своего нутра морских пехотинцев.
— Впереди наших нет, только фрицы! — встречали их негромкими криками двое мужчин, укрывавшихся от случайных пуль и степного ветра за причальной хижиной, построенной у оконечности косы. — «Дивизионники» пойдут на прорыв через тридцать — сорок минут, как только немного рассветет.
Евдокимка машинально взглянула в ту сторону моря, над которой уже разгоралось утреннее зарево, а затем туда, где пылали какие-то строения и островки осенних плавней.
— Когда их наступление начнется, — прогнусавил простуженным голосом человек в брезентовом плаще с капюшоном и с фонарем-«летучей мышью» в руках, — обозначать свое присутствие вам следует криками «ура!», и истреблять при этом фрицев, отступающих в сторону лимана.
— Причем истреблять так, — напутствовал своих бойцов Корягин, — чтобы к тому времени нашим уже не было необходимости прорываться и отступать в плавни — тоже некому.
Метрах в двадцати от высадки коса резко расширялась, превращаясь в поросший ивами и лозняком луг, раскинувшийся между водами лимана и его плавневым окаймлением.
Именно здесь, на краю косы, за буреломным завалом среди двух холмов, держали оборону последние пятеро бойцов из большой группы, отрезанной два дня назад.
Мгновенно оценив позиции, Евдокимка признала, что выбраны они удачно. Во всяком случае, холмы прикрывали неглубокие песчаные окопчики стрелков от фланговых прострелов.
— Как далеко отсюда немецкие заставы? — спросил Корягин, приседая за небольшим холмиком, служившим командовавшему здесь сержанту Ворожкину чем-то вроде наблюдательного и командного пункта.
— К вечеру располагались метрах в двухстах, однако на ночь фрицы наверняка отошли подальше в степь. И потом, кто знает, как по ним прошлись штурмовики. Одно ясно: утром немцы опять двинутся к косе, так что в покое нас не оставят.
Словно бы подтверждая его предположение, в ствол ивы, чуть выше головы Евдокимки, врезалась пуля, выпущенная наобум кем-то из врагов.
— Известно, где сейчас могут базироваться группы заслона? — поинтересовался капитан, посоветовав ефрейтору Гайдуку пригнуться.
Прежде чем ответить, сержант осмотрел десантников, собравшихся у завала, словно на берегу Рубикона. Он как бы прикидывал, достаточно ли их, чтобы бросить и свою группу на соприкосновение с врагом.
— Недалеко отсюда, на меже степи и плавней, находится хутор Якорный. Там они и кучкуются, выбив нас оттуда и загнав на эти вот болота. А лейтенант наш, орден ему посмертно, правильно мыслил: «Кто владеет хутором, тот владеет плавнями». Взяли нас, ясное дело, числом, но все равно обидно…
— Теперь мы их погоним, — решительно прервала сержанта Евдокимка, упреждая комбата. — Есть там поблизости деревья? Мне бы только повыше взобраться, половину фрицов-хуторян еще издали уложу.
— Снайпер, что ли? — уважительно удивился Ворожкин.
— Еще какой! — заверил капитан. — Взвода стоит. Поднимай своих храбрецов! Сейчас мы вернем тебе хутор; принимай и властвуй.
24
Роль женщины, готовой собственным грехопадением купить себе расположение мужчины, сорокадевятилетняя Жерми сыграла в лучших традициях придворных театров. Так же убедительно предстала она затем и в роли вовремя опомнившейся курсистки института благородных девиц, оказавшей яростное сопротивление насильнику.
И ничего, что остатки одежд Анна срывала, уже вырвавшись из кабинета особиста, когда тот корчился на полу от боли. Зато сколько благородного гнева! И как театрально тот преподносился публике! Да и в обморок на ступеньках крыльца она падала в лучшей дворянской манере. Аншлага в тот вечер, конечно, не предвиделось, зато немногочисленная публика, тут же собравшаяся у крыльца этих импровизированных монастырских «подмостков», оказалась воистину благодарной.
Увидев утром на своем столе сразу два гневных рапорта — Жерми и Квасютиной — начальник школы Волынцев вздрогнул в предчувствии: только этого ему не хватало в день приезда генерала! Зная об отношении к «белогвардейке» Шербетова, скрыть от него эти скандальные рапорты начальник не решился.
— По капитану Карданову мы вопрос решим, — мрачно заверил Анну генерал, как только пригласил ее в кабинет для разговора. — Пока что полковник Волынцев посадил его на гауптвахту, чтобы немного остыл.
— Мне кажется, что далее терпеть выходки этого кретина не стоит. Тем более что на эту должность есть прекрасная кандидатура — подполковник Гайдук.
Шербетов хитро взглянул на Жерми и вместо ответа произнес:
— Принято решение вернуть вас в Степногорск. Путь к Лихтенштейну, а еще лучше — к Берлину, начнете со своего родного городка.
— Ход правильный, — спокойно отреагировала Анна. — Начинать восхождение лучше всего с мест, где тебя хорошо знают. Это оптимальный способ внедрения. Когда начнем переправляться?
— Возможно, уже через неделю.
Брови Анны удивленно поползли вверх, такой поспешности она явно не ожидала. Тем не менее выдержка ее не подвела:
— Ну, если уж так решено…
— Я сказал: «Возможно». Чем раньше вы объявитесь в Степногорске, тем меньше подозрений вызовет ваше возвращение. Местная власть в городке окончательно не сформирована, а многие беженцы, не успевшие вырваться из окружения, возвращаются в родные места…
— В этом есть свой резон.
— «Агенты сопровождения» будут переброшены позже, когда вы сумеете войти в доверие. К тому же они не должны знать вас ни по имени, ни в лицо. Общаться сможете через условные «почтовые ящики» или через проверенное лицо, которое, в случае угрозы провала, следует нейтрализовать. Радисток, обучающихся вместе с вами, мы решили пока законсервировать. Для них поступит отдельный приказ.
— Мне самой хотелось просить вас об этом. Слишком уж велика опасность провала.
— Вот-вот. Над вашей личной легендой мы работаем. Но уже сейчас пришли к выводу, что перебрасывать вас следует на правобережье Ингульца, неподалеку от впадения его в Днепр. Там какое-то время вы пробудете у бывшего механика сейнера, некогда промышлявшего на Днепре, а последние два года трудившегося на местном межколхозном рыбокомбинате. Старостой в поселке — родственник этого рыбака; на советскую власть обижен кровно, однако любит деньги. Наши подпольщики уже сумели найти к нему подход, и теперь держат его на крючке. К тому же — он из белогвардейцев, а значит, общий язык вы с ним найдете.
— Да куда он денется? — заверила генерала Жерми. — Найду: и язык, и все прочее.
Генерал внутренне поморщился, но, в общем-то, ему нравился бойцовский характер этой женщины.
— Как вы уже поняли, первый настоящий оккупационный документ, удостоверяющий личность, вы, Анна Альбертовна, должны получить у него. Он же, вместе с механиком, должен обеспечить вам алиби: вы никогда не оказывались по эту линию фронта, а, являясь любовницей механика, скрывались у него, чтобы в нужное время заявить о себе старосте. Возможно, даже поработаете у старосты секретаршей.
— Обязательно поработаю, — мило улыбнулась Жерми улыбкой знающей себе цену аристократки — вежливой, снисходительной и ничего не говорящей Шербетову.
«Кто знает, что у нее на уме, — подумалось генералу от разведки. — Как она поведет себя, оказавшись в германском тылу; как будет меняться ее мировоззрение, когда графинюшка доберется до Лихтенштейна или соседней Швейцарии? Впрочем, какой смысл загадывать? В случае чего, сдадим ее как агента Кремля, чтобы, таким образом, дискредитировать генерала Подвашецкого и все его окружение. А потом уничтожим».
— Надеюсь, вы не собираетесь использовать меня для подсчета идущих на фронт немецких вагонов?
— Исходя из основной цели операции, вы нужны нам не в Степногорске, а в Западной Европе, в руководящих эмигрантских кругах. Хотя, несомненно, последуют и какие-то конкретные задания, в зависимости от точки вашего базирования и конкретной ситуации.
Жерми уже решила было, что беседа завершена, однако генерал так не считал и велел адъютанту пригласить подполковника Гайдука.
— Товарищ генерал, особый отдел принял, — с порога доложил тот. — Капитан Карданов только что отправлен в машине коменданта гарнизона на гауптвахту. Под охраной.
Шербетов многозначительно взглянул на Жерми: «Как видите, слов на ветер не бросаем-с», — и предложил подполковнику присесть к столу.
— Нам нужно обсудить еще один вопрос, — произнес он, листая свою записную книжку. — Я поручил выяснить судьбу вашей, Дмитрий, племянницы, Евдокии Гайдук. Так вот, теперь она ефрейтор, на фронте, служит в десантной бригаде морской пехоты. Прошла ускоренную десантно-диверсионную подготовку, снайперски стреляет, хладнокровна, владеет первичными навыками рукопашного боя, сейчас находится на задании в тылу врага, командиром батальона характеризуется просто очень-таки положительно.
— Я знал, что этот дьявол в юбке еще проявит себя, — улыбнулся подполковник, но тут же спохватился: — Постойте, ваши сотрудники учли, что она выдает себя за парня?
— Естественно, учли. Запрос шел по поводу ефрейтора Евдокима Гайдука. Это даже хорошо, что она вошла в роль и в боевой обстановке ведет себя соответственно.
— Я так поняла, что эта моя курсистка, Евдокимка, как все мы называли ее в училище, должна будет сопровождать меня? — не удержалась Анна.
— На первом этапе. Пока вы не освоитесь в Заречном, да, — уточнил генерал. — Есть какие-то принципиальные возражения против ее кандидатуры?
— Если сопровождать будет только на первом этапе, то нет. В Степногорске ей появляться не стоит — мать была фигурой заметной и слишком уж «партейной».
— Именно этот фактор учтен. Кстати, в паре с ней можно послать кого-то из наших, не очень молодых курсантов с опытом службы в дивизионной разведке, — вклинился в их диалог подполковник. — Желательно, чтобы родом тот был из Украины, а, значит, владел языком, знал обычаи. Ну а пойти на задание он сможет в роли отца или дяди Евдокимки.
— Вот и подыщите такого, подполковник, — ухватился за эту идеею Шербетов. — Причем как можно скорее. Теперь у вас будет доступ к «личном делам» курсантов. Сроку вам — трое суток.
25
Последний штурмовик отчаянно прошелся пулеметный огнем по периметру плавней и, сопровождаемый огнем зениток, гордо удалился в сторону моря. Наблюдали десантники за его барражированием[29], уже рассыпавшись по плавневым рощицам, чтобы огнем подавлять немецкие посты.
— Мне приказано держаться поближе к вам, — возник рядом с Евдокимкой навьюченный рацией парень, о существовании которого, как и о приказе опекать радиста, она попросту забыла.
— А мне приказано — прикрывать вас обоих, дармоедов, — опустился у оголенного корневища Аркашин.
Лазание по деревьям было для Евдокимки одним из тех увлечений, которые всегда гневно осуждались ее матерью: «Господи, ну ты же не мальчишка, не босяк какой-нибудь!» Теперь, взбираясь по толстым ветвям к раздвоенной вершине вербы, Евдокимка благодарила свое детство за то, что подарило ей хоть какие-то «тарзаньи» навыки.
— Что наблюдаешь? — спросил ее капитан, когда девушка помогла радисту перебросить через ветку антенну.
Сам радист устроился на небольшом пригорке, метрах в десяти от вербы, между ней и хутором.
— Руины крайнего дома совсем близко. Вижу, как из подвала, превращенного немцами в бомбоубежище… — Евдокимка умолкла на полуслове. Она опустила висевший на груди бинокль и, вскинув винтовку, выстрелила в фигуру врага, появившуюся на фоне арочного входа в подвал — судя по всему, офицера.
Возникший вслед за ним солдат, очевидно, только потому и замялся, что хотел выяснить, кто и откуда стрелял. Раненный Евдокимкой в ногу, он осел, а затем начал отползать в сторону. Та не стала добивать его, а выстрелила в черноту арки. Расчет оказался точным — какой-то фриц буквально вывалился из нее прямо к ногам павшего офицера.
— Все ясно, ефрейтор! — прокричал Корягин. — Держи их в страхе! Остальные — за мной. Действовать в одиночку, врассыпную, истребляя все, что стреляет и движется!
Почти в ту же минуту, откуда-то из-за развалин хутора, донеслись пулеметные очереди, вслед за которыми начала разгораться настоящая пальба. Стало ясно, что это пошли на прорыв «дивизионники», как назвал их сержант Ворожкин.
Заметив вспышки выстрелов в проеме подвала, Евдокимка послала туда еще две пули и перенесла огонь на пулемет, выдавший себя на остатках чердака. Пулеметчик, очевидно, догадался, где засел стрелок, и прошелся по вербе щедрой очередью — пули впивались чуть выше Евдокимкиной головы.
— Все, засекли тебя, ефрейтор! — встревожился Аркашин. — Сваливай оттуда.
Прежде чем последовать его совету, девушка выстрелила по чуть приподнявшемуся пулеметчику, а затем — по мелькнувшему в проеме второму номеру; и еще, для верности, — просто по пулеметному гнезду да рассветной сумеречности подвальной арки. Только тогда, с чувством выполненного долга, она спустилась, чтобы, вместе с радистом, присоединиться к уже просачивающимся на хутор десантникам.
Отделение сержанта Ворожкина тоже занимало оборону в оставленных немцами окопах севернее руин, с ходу вступая при этом в бой. «Дивизионники» же, получив от радиста десантников сообщение, что хутор ими занят, удар своего прорыва нацелили на узкую полосу между плавневыми островками лимана и правой оконечностью хутора.
Взобравшись вместе с Климентием и Аркашиным на освобожденный остаток чердака, Евдокимка увидела, как, на ходу отстреливаясь от наседавших со стороны степи фрицев, группы окруженцев устремились к спасительным плавням. При этом какая-то часть бойцов, засевших на окраине деревни, продолжала отвлекать противника на себя. Она же должна была оказаться группой прикрытия, и Степная Воительница понимала: им не позавидуешь, это смертники. «Не спеши рыдать. Не исключено, что прикрывать общий отход с косы придется уже тебе самой, тоже смертнице», — мрачно пророчила себе девушка.
Утро выдалось каким-то зловещим. Над морем медленно разгоралось багровое зарево, а со стороны степи на него надвигалась огромная дождевая туча.
Окруженцы вырывались из низины, где пряталась окраина села, и бежали, теряя своих однополчан, по серой полосе, между заревом и тучей, как по единственной, судьбой предоставленной, тропе жизни. Апокалиптичность их исхода разрушало разве что появление тачанки и нескольких бричек, возницы которых гнали лошадей вовсю, пытаясь как можно скорее укрыться за отдаленными от хутора руинами лабаза, а значит, и за спинами десантников.
Стремясь упредить их, подразделение немцев решилось просочиться между хутором и узкой полоской плавней, черневших севернее руин, однако Евдокимка заметила это и предупредила Климентия, уже освоившегося за прикладом немецкого пулемета. Снизу по врагу ударили капитан Корягин и еще трое бойцов, составлявших последний резерв командира. Сама же она пыталась отстреливать тех фрицев, которым все-таки удавалось достичь прореженной и почти выжженной полоски камыша.
— Я лейтенант Зенин! — у руин появился вдруг во главе группы автоматчиков рослый офицер в плащ-накидке. — Командир разведроты и группы прорыва. Кто у вас старший?
— Почему от дела отвлекаешь, лейтенант? — возник в проеме двери каменной пристройки Корягин.
— Штабисты уже в районе лабаза, — взмахнул трофейным автоматом Зенин в сторону развалин на невысоком плато у озерного залива. — Там подвалы, а главное — рядом проходит ведущий к озеру овраг.
— Генералы живы?
— Один слегка ранен, однако почти весь штаб удалось вывести. И раненых тоже, на повозках. Но долго мы там не продержимся. Наш арьергард пока что сдерживает немцев у села, но скоро вынужден будет отойти к хутору, на ваши позиции. И тогда немцы накроят минометами.
— И накроют, сугубо по военной науке, — невозмутимо заверил его Корягин. — Сколько у тебя людей?
— Около пятидесяти.
— Так это же целое войско! Тремя десятками бойцов усиль отряд, которым, до подхода вашего арьергарда будет командовать старшина Климентий. Задача ясна, старшина?
— Так точно.
— Группа сержанта Ворожкина поступает в твое распоряжение. Разворачиваешь бойцов так, чтобы перекрыть пространство от хутора до вон той северной оконечности плавней. Вы, лейтенант, перекрываете отрезок от этой усадьбы до лабаза. Всех отступающих из села вливаете в свои ряды, независимо от звания и амбиций. Затем постепенно отходите к той перемычке, где держала оборону группа Ворожкина. Ефрейтор Гайдук прикроет вас со своего гнезда на вербе.
— Товарищ капитан, радист тральщика на связи. Сообщает, что его корабль, как и рыбацкая флотилия, уже вошел в лиман и готов к эвакуации бойцов.
— Спроси, что с гидропланами.
— Да вон они, на подлете, — прокричала Евдокимка с чердака. — По-моему, один из них уже заходит на посадку.
— В таком случае приступаем к заключительной фазе операции, — тоном командующего, которому предстоит бросить в бой целые полки, проговорил Корягин. — Радист и ефрейтор Гайдук — за мной! Лейтенант, перебрасывай штабистов в район вон того дерева, — указал он на вершину высокой, облюбованной Евдокимкой вербы. — Оттуда тропа ведет прямо к рыбачьему домику и к причалу.
Лейтенант сразу же помчался в указанную сторону, причем в таком темпе, словно впереди алела финишная планка олимпийского забега.
Первые раскаты грома и удары молний каким-то странным образом соединились с вытьем и взрывами мин где-то между хутором и селом. Ясно было, что немецкая батарея, расположенная северо-западнее села, пыталась закрыть брешь прорыва русских, однако прибегла к этому слишком поздно. К тому же фронтовые пушкари-дальнобойщики оставили, наконец, в покое восточные окраины деревни и перенесли огонь на западные. Теперь они явно пытались подавить тыловую батарею врага, о которой красноармейская разведка уже знала, и прикрыть эвакуацию окруженцев.
— Только бы свои же «гробометатели» по хутору не ударили, пока наши парни все еще там, — на ходу оглянулся Корягин, после очередного разрыва «своего» орудийного снаряда.
— Так предупредите их по рации, — посоветовала Степная Воительница.
— Ну, с фронтовиками-то у нас связи нет, — ответил вместо капитана радист. — А добираться до них с помощью окольных радиостанций бессмысленно: ситуация меняется по минутам.
— Слышал, ефрейтор? Грамотно изъясняется, — признал Корягин. — Сугубо по военной науке. Учись, Гайдук.
— Только и делаю, что учусь, товарищ капитан.
Точку в этой фразе поставила пуля, скосившая ветку кустарника в сантиметре от груди комбата. Поражая офицера своей реакцией, Евдокимка тут же опустилась на правое колено и выстрелила по едва очерченной фигуре, темневшей у пригорка.
— Все-таки тебя следовало бы направить в школу снайперов, — с облегчением резюмировал капитан.
26
Сунуться в плавни немцы не решились, а тех, кто прорвался к их узкой северной полосе, успели прижать к болотистой земле пулеметчики десанта.
Взобравшись на свое, уже «насиженное» место у развилки стволов, Евдокимка хорошо видела часть этих обреченных, и старалась отстреливать всякого, кто пошевелится. Однако продолжалось это недолго: между плавнями и деревней неожиданно зависла низкая черная туча, чье чрево, казалось, вот-вот низвергнет на землю сумеречную осеннюю хлябь.
А еще через несколько минут пошел дождь. Оставаться наверху больше не имело смысла, и Степная Воительница вновь начала спускаться с дерева, к которому уже приближалась большая группа военных в плащ-палатках.
— Кто такие? — властно поинтересовался один из них, как только нырнул под развесистую крону вербы.
— Командир десантной группы морской пехоты капитан Кор-рягин, — привычно пророкотал свою фамилию комбат. — Прибыл для…
— Знаю, знаю… — прервал его генерал. — Очень вовремя твои люди очистили хутор и подступы к плавням. Молодцы.
— Служу трудовому народу!
— Разведка доносила, что у тебя снайпер-кукушка здесь завелся, весь хутор простреливал.
— А вот он, — неловко поддержал комбат соскользнувшую с нижней ветки Евдокимку, при этом руки его жестко скользнули по ее груди. — Ефрейтор Гайдук.
— Молодец, ефрейтор, — рослый кряжистый генерал так приложился своей рукой к плечу Евдокимки, что чуть не заставил ее присесть. — Э, да ты совсем юный. Восемнадцать-то хоть есть или приврал?
Евдокимка слегка замялась.
— Приврал, понятное дело, — заложил его комбат. — Но воюет неплохо. Сначала был санитаром, теперь вот…
— Тем более — представить к награде, капитан.
— Так точно, представим…
— Уходить есть на чем?
— Есть, товарищ генерал. Суда и гидропланы ждут вас. К счастью, из-за грозы немецкая авиация в воздух не поднималась.
— Даже гидропланы, говоришь? — оживился генерал, только теперь сняв руку с плеча Евдокимки. — Тогда веди, капитан, веди; не хватало еще, чтобы немцы зажали нас в этих болотах. И парней своих уводи, мой арьергард прикроет.
— Разберемся, товарищ генерал, — комбат запнулся, понимая, что группа его расчленена, причем большая часть ее все еще остается где-то у лабаза и на хуторе. — Сообщишь на судно, когда пройдет последняя группа, — приказал он радисту. — Корабельная артиллерия прикроет вас. Аркашин, сопровождаешь радиста.
— Что бы вы делали, не будь с вами Жоры из Голой Пристани? — на свой манер отреагировал краснофлотец.
После этого приказа ничто не мешало Евдокимке идти прямо к судам, однако вместе с радистом Аркашиным и несколькими бойцами она засела на камышовых подстилках у перемычки, готовясь прикрывать окончательный отход и морских пехотинцев, и «дивизионников».
Бойцы отходили группами, каждая из них несла или вела нескольких раненых. Дождь прекратился, однако туча по-прежнему висела на грани суши и моря, источая холодную росную влагу.
Во главе одной из таких групп, с демонстративной неспешностью, шел худощавый офицер: пистолет в руке, поднятый ворот старательно, по фигуре, подогнанной шинели и строгая, сформированная давней выправкой походка.
— Товарищ подполковник! — подалась к нему Евдокимка как раз в ту минуту, когда по разбитой солдатскими сапогами тропинке офицер проходил через завал.
— Со вчерашнего дня — полковник, — машинально ответил тот, повернувшись к ней лицом.
Степная Воительница увидела застывшие глаза предельно истощенного, спящего на ходу человека.
— Поздравляю, товарищ… полковник. Как вы здесь оказались? Вы ведь звонили начальнику госпиталя, и мне казалось…
— О каком госпитале речь? — не останавливаясь, даже не замедляя шага, проговорил офицер. — Обратитесь, как положено по уставу, и представьтесь.
— Товарищ полковник, разрешите обратиться? Ефрейтор Гайдук, — обиженно, и в то же время растерянно проговорила девушка, стараясь подстроиться под его шаг. — Евдоким, Евдокимка Гайдук. Вы… разве не узнаете меня, полковник Гребенин? — по-заговорщицки приглушила она голос.
Услышав фамилию, полковник словно бы обо что-то споткнулся, затем ступил два шага в сторону, под крону дерева и только тогда остановился. Но и после этого ему понадобилось еще несколько мгновений, чтобы окончательно проснуться и вполне осознанно спросить:
— Это вы, Евдокия?.. Евдокия Гайдук, из Степногорска?
Девушка отбросила капюшон плащ-палатки, радостно улыбнулась, но тут же прошептала:
— Только не обращайтесь ко мне, как к девушке. Все думают, что я — парень.
— Ты — парень?! — похмельно покачал головой полковник.
— Ну да. Под мужским именем меня и зачислили в морскую пехоту. Так что теперь я — ефрейтор Евдоким Николаевич Гайдук.
Они проследили за тем, как один за другим в воздух поднялись все три гидроплана. Значит, генералы и прочие штабисты уже спасены; следовательно, задание выполнено.
— Только, ради бога, не выдавайте меня, — жалостливо попросила она полковника.
— Как можно?! С какой стати? Хотя… зачем вам, юная леди, весь этот флотский маскарад?
— Считайте его военной хитростью.
— Захотелось предстать перед миром флотской богиней? — мягко улыбнулся полковник.
— Сама не знаю, как все это объяснить. Воевать хотелось, по-настоящему, по-мужски.
— Блаженная же вы в наивности своей…
— Если хотите, для вас я всегда буду оставаться «флотской богиней».
Не сдержавшись, Гребенин потянулся ладонью к ее лицу. И произошло то, что неминуемо должно было произойти: на несколько мгновений девушка забылась, потянулась навстречу этой мужской ладони, к разбухшей от дождя шинели, но затем вдруг спохватилась и резко перехватила руку:
— Что вы, товарищ полковник, что вы?! Забыли наш уговор? Для все прочих на этой тверди, я — мужчина!
— Да-да, юная леди, вы правы: забыл.
— Какая я вам «юная леди»?! — устрашающе вытаращила глаза Евдокимка и спохватилась, вспомнив, что уже целую вечность не смотрелась в зеркало и что пострижена по-прежнему «под ноль»: «Спасибо тебе, Господи, что самой мне не дано видеть, какой замухрышкой я выгляжу!» — Никак не ожидала встретить вас здесь. Главврач говорила, что вас назначили командовать полком, который располагался недалеко от госпиталя.
— Разговор состоялся за два часа до того, как нас перебросили на передовую. На тот участок, который уже, по существу, находился в тисках противника.
— И здесь вы командовали арьергардом, о котором говорил генерал?
— Странно, как ему удалось определить, где в этом котле авангард, а где арьергард, — сухо проговорил Гребенин, и Евдокимка поняла, что отношения с генералом у полковника не складывались.
Она проследила за тем, как мимо пробежал сержант Ворожкин, бойцы которого спешили к причалу вперемешку с пехотинцами Гребенина.
— Всем — на борт! — прозвучала зычная команда Корягина. — Всем — на суда и на шлюпки. Уходим!
— Нужно торопиться, товарищ полковник, — тут же остановился возле них кто-то из офицеров гребенинского полка.
Полковник поспешил вслед за группой бойцов, будучи уверенным, что Евдокимка последует за ним, но вовремя оглянулся и понял: эта безумица опять решила вернуться к завалу.
— Ефрейтор Гайдук, ко мне! — рявкнул он изо всех сил. — Приказываю: следовать на посадку!
— Я прикрою вас, — пролепетала девушка. — Надо…
Договорить она не успела. Словно из-под земли возникший перед ней старшина Климентий цацкаться с ней не стал.
— Какое, к черту, «прикрою»?! — бесцеремонно ухватил он ее за предплечье и потащил за собой к причалу. — По шее захотел?
— Но ведь кому-то же надо…
— Все, тебе сказали! Задание выполнено, уходим! — яростно прокричал старшина. — Моли бога, что оторвались от немцев.
— Велено всем отходить! — тут же поддержал его радист, передавая приказ командира тральщика, руководившего этой спасательной «эскадрой». — Общий отход! Сейчас суда откроют заградительный огонь!
27
Оказавшись на борту небольшой баржи, которую тянул тральщик, Евдокимка видела, как в плавнях, ложась все ближе к косе и причалу, рвутся снаряды, слышала, как на всем обозримом пространстве то вспыхивает, то угасает спонтанная перестрелка. Тральщик «Бесстрашный» и баржа за ним оставались теперь той последней надеждой, за какую бойцы, сумевшие добраться до причала, цеплялись в прямом смысле этого слова. Остальные суда уже приближались к выходу из лимана.
Тральщик отходил, когда на косе вдруг появился рослый худой всадник, на немыслимо тощей лошади. «Шкапа» эта все еще пребывала в хомуте, а по запавшим ребристым бокам ее свисали постромки.
— Нет, вы видели этого Дон Кихота?! — возликовал находившийся рядом с Евдокимкой, у кормового фальшборта, рядовой Аркашин. — Не получить мне двух медалей «За отвагу», если это не Виля Таргасов!
— Точно, он! — прокричало сразу несколько бойцов.
— Остановите корабль, его нужно подобрать! — постаралась перекричать всех их Гайдук.
Тем временем десантник загнал свою лошадку в лиман, заставил ее пробежать по мелководью наперерез «Бесстрашному» и, прыгнув в воду, поплыл к барже. Кто-то из матросов тут же бросил ему канат с петлей на конце, и, пока тральщик разворачивался, бойцы сумели втащить «Дон Кихота в тельняшке» на борт.
— То, шьо ты, Виля, — полный разгильдяй, это командованию давно ясно, — не упустил своей возможности позубоскалить Аркашин. — Но чтобы так по-хулигански опаздывать на круизный теплоход? В высшем свете Голой Пристани такого не прощают.
— Почему вы задержались у лабаза? — спросила Евдокимка, протискиваясь к Таргасову, на которого матрос баржи уже набросил сухой бушлат.
— Помогал отбивать атаку, а затем чудом прорвался в плавни. Если бы не эта лошадка, — он указал на песчаную отмель у южной оконечности косы. Все увидели, что спасительница десантника лежит на песчаном мелководье и, вытягивая морду, ржет, словно укоряет, что её бросают на погибель. — Если бы не она, не пить бы вам больше за здоровье Вили Таргасова.
— Зато какие королевские поминки мы бы устроили! — тут же вставил свои пять копеек Жорка.
— Разве у лабаза все еще оставались бойцы?
— Оставались, — услышала Евдокимка голос полковника, вышедшего из надстройки, где обычно ютился небольшой экипаж баржи. Рядом с надстройкой пролегал трап, ведший в просторный, но предельно заполненный бойцами трюм. — Несколько раненых и больных отказались быть обузой для отступающих товарищей и решили остаться, а вместе с ними — санитар и ездовые, прикрывающие наш отход. А также этот мужественный морской пехотинец, — кивнул он в сторону Таргасова, — со своим ручным пулеметом.
— Но, очевидно, нужно было…
— Это их солдатское право — прикрыть отходящих однополчан, — прервал Степную Воительницу полковник, — их фронтовая судьба. Напомню, что несколько минут назад вы тоже порывались остаться в группе прикрытия. И, если бы не этот, самим небом посланный старшина…
Кто-то из бойцов выстрелил в сторону коня, решив добить его, но промахнулся. Евдокимка тут же вскинула свой карабин и, судя по тому, как несчастная лошадка запрокинулась назад, попала ей прямо в лоб.
— Правильно поступили, ефрейтор, — полковник свято придерживался уговора не выдавать в ней «кавалерист-девицу». — В старой русской армии это именовалось…
— «Выстрелом милосердия». Знаю, — молвила Евдокимка.
— И вообще вся эта эпопея с уходом в море немного смахивает на исход остатков Белой гвардии из Крыма, — полковник вопросительно взглянул на Степную Воительницу.
Его мысль никто не поддержал, большинство бойцов попросту не придало ей значения. Однако Евдокимка все поняла, отдавая должное, что сказано это устами человека, который помнил свою родословную, являясь офицером бог весть в каком поколении.
— Я очень рада, что оказалась в отряде, пришедшем вам на помощь, товарищ полковник, — почти шепотом, стараясь проглатывать предательские «женские» окончания, произнесла Евдокимка. — Теперь я просто убеждена: все то, что сводит нас на этой войне, исходит из нашей общей судьбы; и в этом — некая высшая неизбежность.
— Мне тоже кажется, что в нашей встрече заложено нечто мистическое, — ответил он вполголоса, старательно процеживая слова сквозь неплотно сжатые зубы. — Впрочем, вся война — не что иное, как сплошная мистика.
Когда караван проходил мимо залива, где на небольшом плато высился лабаз, там все еще шел бой. Чтобы как-то поддержать бойцов, катера открыли заградительный огонь, стараясь проредить волну поднимающихся в атаку немцев. Однако внимание Евдокимки, как и всех прочих пассажиров тральщика и баржи, привлекли пятеро бойцов, плывших в их сторону поднимая руки и моля о помощи.
Командир тральщика прекрасно знал, как рискует, подставляясь бортами на траверзе[30] этого рыбачьего хуторка, но тем не менее предельно сбавил ход. Возможно, там, в импровизированном лагере из руин лабаза и поставленных полукругом повозок, только потому бойцы и держались так стоически, что давали возможность спастись другим.
Пловцы все приближались и приближались, однако теперь они уже оставались вчетвером, затем — втроем… Вот один из двоих тоже на какое-то время ушел под воду, но товарищ нырнул и сумел вернуть его на поверхность. Выяснилось, что до сих пор сам он держался за обломок какой-то доски.
В тот момент, когда им бросили привязанный к канату спасательный круг, первая мина, с перелетом, взорвалась по правому борту баржи. Чтобы как можно скорее выйти из-под обстрела, тральщик резко прибавил ход, пытаясь спрятаться за высоким мысом, в то время как десятки рук подтягивали к его борту последних спасенных этого плацдарма.
Второй взрыв обдал султаном воды всех, кто оказался на корме баржи.
Евдокимка, инстинктивно, в страхе, ухватилась обеими руками за руку полковника и, по-женски взвизгнув, буквально повисла на ней. Сообразив, что произошло, она тут же отпрянула от Гребенина, насколько это возможно было в той немыслимой тесноте, которая образовалась на суденышке, и тут же настороженно осмотрелась. Разоблачения девушка испугалась значительно сильнее, нежели вытья третьей мины.
К ее душевному успокоению, никто не обратил внимания на странность поведения доселе бесстрашного ефрейтора, слишком уж все были озабочены судьбой последних спасенных пехотинцев. Однако Евдокимка поняла, что само присутствие рядом с ней Гребенина, этого сильного, волевого мужчины, заставляет ее вспомнить о своем женском естестве, расслабляет, а значит, делает слабее.
— Нам нельзя находиться вместе, полковник, — произнесла она, наблюдая, как последнего из бойцов сумели втянуть на борт баржи, после чего, под прикрытием мыса, тральщик стал удаляться от берега.
— А тебе никогда не приходило в голову, что нам нельзя столь долго оставаться порознь?
— Порой мне кажется, что только этим голова моя и забита, — едва заметно улыбнулась Евдокимка. — Хотя трудно представить себе, как бы мне удалось преодолеть тот барьер, который…
— Считай, что мы его уже преодолели. Благодаря этому десанту. Когда же ты увидишь меня без мундира, в домашнем халате и в кресле-качалке…
— Вот этого-то я и боюсь больше всего… Слишком уж я сжилась с вашим образом «истинно русского офицера».
— Эт-то уже опасно, — с улыбкой на лице покачал Гребенин своим широким, на удивление выбритым подбородком. — Впрочем, до смертного часа своего я буду помнить, что к спасению моему причастна некая «флотская богиня».
28
На причале их прощание было коротким и предельно сдержанным.
— Я мог бы попытаться перевести тебя в свой полк, — сказал Гребенин, поднимаясь вместе с Евдокимкой неширокой тропой, ведущей к крайнему корпусу бывшей базы отдыха. — Тем более что теперь его явно отправят на переформирование.
— Только не это, — резко отреагировала Евдокимка.
Они старались не обращать внимания ни на поднимавшихся вместе с ними бойцов, ни на моросящий осенний дождь.
— Понимаю: поменять десантную бригаду морской пехоты на обычный стрелковый полк…
— Да ни за что! — озорно воскликнула Евдокимка. — Не решайтесь впредь предлагать мне нечто подобное, — затем она негромко примирительно уточнила: — Хотя дело, как вы понимаете, товарищ полковник, не только в этом…
— А в чем же еще?
— Боюсь, что привычка командовать мной окажется потом неизлечимой.
Гребенин снисходительно рассмеялся, но возле них в облепленной болотной тиной шинели возник какой-то капитан.
— Прикажете строить полк, товарищ полковник?
— Вы, Родионов? Рад видеть вас, комбат, в завидном здравии.
— Это уж как велит служба, — попытался молодцевато подтянуться капитан, да только согбенная «канцелярская» спина никак не позволяла этого.
— Что с батальоном?
— Думаю, что и сорока штыков не наберется. Доложу, как только уточню поименно.
— Из всего батальона — не более сорока?
— Если бы не морячки, — признательно взглянул тот на Евдокимку, — к этому часу ровно столько же штыков осталось бы от всего полка.
Гребенин поминально помолчал, критически осмотрел внешний вид комбата, но затем прошелся взглядом по своей собственной шинели, по бушлату Евдокимки и дипломатично прокашлялся:
— Внешний вид, само собой…
— Это уж как велит служба, — простуженным голосом просипел капитан.
— Построить поротно, вон на той спортивной площадке, — обвел Гребенин взглядом бойцов, стихийно скапливающихся на небольшой лужайке вокруг них. — Провести перекличку и доложить. Кроме вас офицеры в полку еще остались?
— Лейтенант Зенин. С легким ранением, но в строю.
— И все?
— Как оказалось, — пожал плечами капитан. — Зато бойцы еще есть, и полковое знамя мы сохранили, это уж как велит служба, — кивнул он на усача с объемистым вещмешком за плечами, стоявшего в трех шагах от них.
— Впредь отвечаете лично, головой.
— Это уж как велит служба.
Они, все трое, посмотрели в сторону крытой машины и двух повозок с крестами на брезентовых шатрах. Там грузили раненых.
— Я уже распорядился, — понял значение его взгляда капитан. — Санинструктор Козырев составляет список раненых.
— Это очень важно: показать, что полк все еще существует. Да, кто-то из бойцов по-прежнему в строю, кто-то ранен, однако расформировывать его не стоит.
— Не должны. Мы вон как держались…
— Да, только в окружение попали. И начальник особого отдела, как назло, куда-то исчез — не исключено, что в плену. Впрочем, с этим разбируться без нас. А пока что назначаю вас, Родионов, начальником штаба. К обязанностям приступить немедленно!
— Есть приступить к обязанностям! — расплылся в счастливой улыбке сорокалетний капитан, который, очевидно, и мечтать перестал о повышении в должности и чине.
— Командирами батальонов и рот назначьте по старшинству звания и подготовьте приказ.
Евдокимка уже поняла, что в штабной кутерьме полупогибшего полка она лишняя, а потому выбирала момент, чтобы оставить стрелков вместе с их проблемами. Как раз в ту минуту, когда она решилась, раздался зычный бас старшины Климентия:
— Ефрейтор Гайдук, в казарму, на построение!
— Идите, идите, ефрейтор, — тут же спохватился полковник, понимая, что не имеет права задерживать десантницу. — От имени командования полка выражаю благодарность за геройскую службу, — козырнул он в ответ на честь, отданную Гайдук.
На какое-то мгновение они сцепились взглядами, мысленно припадая друг к другу.
— Кстати, благодарность постараемся выразить письменно, на имя командира бригады, — уточнил новоиспеченный начальник штаба, демонстрируя, что к обязанностям своим уже приступил.
«Наверняка решил, что я прихожусь командиру полка каким-то родственником», — подумала Евдокимка, пытаясь простить капитану его вторжение в их прощальную минуту.
У входа в казарму она наткнулась на группку солдат во главе с сержантом Ворожкиным.
— Почему с вами только трое? — на минутку задержалась возле них Евдокимка. — Насчитывалось, помню…
— Двоих потеряли, — молвил сержант. Левая рука его была обмотана какой-то тряпкой вместо бинта. — Что обидно, уже при отходе. Немцы вдоль речушки прорвались…
— Помню. А почему здесь прозябаете? Бесхозными остались? Могу попросить командира полка Гребенина, чтобы…
— Мы еще там, в деревне, ничейными были. Наш отдельный автомобильный батальон почти весь погиб. Может, кто и выжил, да только где сейчас? А командиров точно нет. Словом, ваш капитан Корягин тебя уважает, поговори с ним, пусть и нас тоже в морские пехотинцы запишет. Воевали-то вместе.
— Таких гвардейцев — и не зачислить в морскую пехоту?! — уже на ходу обронила Евдокимка. — Непорядок!..
— Опять разгильдяйничаем, ефрейтор Гайдук? — упрекнул ее комбат, стоя перед поредевшим строем десантной группы. Он был явно чем-то взволнован. — Лично накажу!
— Ефрейтор Гайдук был задержан командиром стрелкового полка полковником Гребениным, — сообщил старшина Климентий, очевидно, расспросив об этом кого-то из бойцов. — Полковник благодарил сержанта за его снайперскую службу.
— К себе небось переманивал, — проворчал Корягин. — Скажи ему, что зря якорь травит! — и тут же подал команду: — Смирно, равнение направо!
Причина его волнения стала понятна, когда из «Красного уголка» вышел командир бригады полковник Савчук.
— Бойцы, морские пехотинцы, десантники! Любые потери, это — потери… — мрачно произнес комбриг, после того как Корягин зачитал перед строем списки погибших и попавших в госпиталь. Их десантная группа потеряла пятерых бойцов убитыми и шестерых — ранеными. — Однако командование корпуса и армии признало, что та сложнейшая задача, которая была поставлена перед вашей группой, выполнена. Причем блестяще, с минимальными для подобных операций потерями, — резко повысил он голос, как будто полемизировал с кем-то. Грузными шагами властного, но предельно уставшего человека, полковник дважды промерил длину шеренги десантников. Сейчас ему хотелось сказать очень многое из того, о чем он передумал за время, пока группа находилась в рейде. — Капитан Корягин, сегодня же, к вечеру, подать списки бойцов для поощрения! Кстати, вы с восхищением говорили мне о своем снайпере…
— Так точно. Ефрейтор Гайдук, выйти из строя. Вот он. Все время на острие, на самых опасных участках. Вывел из строя не менее взвода и вообще держал противника в страхе.
Полковник приблизился, взглянул в голубые глаза юного бойца, показавшегося ему совсем еще мальчишкой…
— Спасибо за службу, сынок. Ты — настоящий солдат… Представить к ордену Красной Звезды и к званию младшего сержанта!
— Служу трудовому народу, — негромко, срывающимся голосом проговорила Евдокимка.
— Во, братцы! Я же говорил, что Гайдук наш в маршалы метит, — не удержался Аркашин.
— Моли бога, чтобы он взял тебя, тараньку голопристанскую, в денщики, — вполголоса парировал Климентий.
29
Командир бригады пообещал всем участникам десанта сутки отдыха, а всему батальону — еще двухнедельную десантно-диверсионную подготовку.
Казалось, ничто не способно было помешать выполнению этого обещания, однако на рассвете следующего дня всю бригаду подняли по тревоге и бросили на километровую брешь, образовавшуяся после вечернего прорыва немецких войск. Никакой другой боеспособной части в такой близости от этой бреши попросту не оказалось.
Транспорта, чтобы спешно перекинуть к прорыву хотя бы один батальон в полном составе, тоже не нашлось. Поэтому капитану Корягину было велено посадить на уцелевшие машины и тракторный прицеп одну из своих рот, усилив ее бойцами из диверсионной группы, освобождавшей генералов, и отправить все это воинство на создание очагов сопротивления. Сдерживать противника требовалось до подхода основных сил.
Немецкая разведка, очевидно, донесла командованию, что впереди у русских никаких войск нет. Но, поскольку брешь оказалась неширокой, а фланговый огонь противника сильным, оно решило не развивать успех на главном направлении, а ударить по флангам. Этим-то моряки роты старшего лейтенанта Качина и воспользовались.
На подступах к бреши, в широкой долине, располагалось село Озерное. С одной стороны оно прикрывалось изгибом болотистой речушки, а с другой — серповидным озером. Село разделялось на три хутора, по два-три десятка домов в каждом; причем так, что основная часть его, с церквушкой в центре, находилась на возвышенности, господствовавшей над всеми окрестностями.
Кто-то из бойцов роты оказался родом отсюда. Поэтому еще в утренней дымке он помог расположить в каждой части села по усиленному взводу морских пехотинцев.
— Младший сержант Гайдук, — комроты взялся определить участие в этом бою Евдокимки. Они стояли у пристройки к руинам храма, который местный колхоз использовал в роли склада. Теперь же Качин решил приспособить его под свой командный пункт, предварительно заслав на колокольню наблюдателя. — Берете с собой рядового Крюкова, он из местных, из аборигенов, а также Таргасова, с его ручным пулеметом, Аркашина и Сожина. С этой группой выдвигаетесь на правый фланг, к окраине деревни, как можно ближе к полуразрушенному мосту, а значит, и к броду.
— Есть, выдвигаться! — охотно приняла задание Евдокимка.
— Скорее всего, немцы попытаются прорваться на этом участке. Поскольку вы уже прославились как снайпер, постарайтесь прореживать их еще на подходе к реке и во время переправы. Но, если враг прорвется основными силами, — тут же отходите. Место для засады поможет определить Крюков. Взвод старшины Климентия займет оборону по окраине деревни, то есть метрах в двадцати от вас.
— Есть там одно местечко, — тут же заверил «абориген» Крюков, приземистый увалень, в чьей фигуре никак не просматривались ни шея, ни, тем более, талия. Да и лицо его напоминало заготовку для маски, сварганенную нерадивым учеником бездарного плотника. — Там, у реки, стоит старый каменный барак. До недавнего времени он был общежитием животноводов. Теперь в нем уже вряд ли кто обитает, тем более что половину крыши разворотило осколком. Зато от общаги этой отходят два оврага: один, небольшой, — в сторону реки; другой, значительно длиннее, — в сторону села. Это — на случай отхода. Словом, держаться на такой точке можно. Нам бы еще парочку бойцов, потому как маловато нас…
— Маловато, говоришь? — как всегда медлительно реагировал комроты. — Младший сержант, возьмите еще двоих бойцов, на свой выбор. И получите у старшины роты два вещмешка — с патронами и гранатами. Сухой паек у вас имеется.
Климентий не только выделил двух бойцов, Чумака и Косташа, но и сам решил побывать на избранной позиции, предварительно послав туда на разведку Аркашина и Крюкова.
Короткая перестрелка, возникшая неожиданно у барака, насторожила всю группу, но вскоре, после коротких переговоров, все прояснилось. В одной из комнат разведчики наткнулись на пятерых мужичков, один из которых оказался ранен в ногу. Переправившись на рассвете через речку, они теперь сидели, сгрудившись в уголке, на кучке сена, мокрые, и пытались хоть как-то согреться. Из сочувствия, Абориген тут же развел для них небольшой костерчик.
— А собрались здесь, как я понял, дезертиры? — угрожающе, во всем величии своего громадного роста, навис над ними Климентий.
— Почему же сразу — «дезертиры»? — мрачно возмутился один, представившийся ефрейтором Корзюковым. Он — единственный, кто не поленился раздеться донага, и теперь завершал выжимать свое обмундирование, развешивая его на останках сетчатой кровати. На себя же боец напялил найденное в одной из комнат рваное женское платье. — Слово такое «окруженцы» слышать приходилось? Ночью нас прорывалось около трех десятков, а на этот берег, как видишь, дошло только пятеро, к тому же один ранен. И все кроме раненого при оружии.
— Как тебя, безкальсонного, послушать, — осклабился Аркашин, — так получается, что весь фронт только на ваших мокрых задницах и держится.
— Моли бога, служивый, что немцы с ходу речушку эту не форсировали. Ты бы тоже подштанники свои сушил, только по другому поводу. Но фрицы сначала на том берегу решили подчистить, прорыв закрепить. Обстоятельность проявляют, сволочи…
— А по моим бойцам вы почему стреляли? — сурово спросил старшина.
— Ты бы по фрицам так целился, голозадый, — встрял Аркашин, не простивший ефрейтору перестрелки. — Бушлат, вон, на рукаве прострелил. По акту взыщу!
— Так ведь мы поначалу решили, что фрицы нас снова обошли.
— Почему же тогда дальше в тыл не бежали? — некстати язвил Аркашин.
— Потому что с линии фронта мы тоже не бежали, а прорывались из окружения. А еще потому, что по дальним тылам немало таких умников, как ты, рыщет. Нас тут же за дезертиров бы приняли. А мы ждали: вдруг еще кто-то из сослуживцев наших прорвется?
Климентий недовольно покряхтел, но промолчал. Евдокимка ощутила, что старшина недоволен и действиями этих вояк, и тем, как они держатся. Однако по-житейски, по-фронтовому ефрейтор во всех своих доводах был прав.
— Большой костер развести в этом здании не получится, — тут же вступилась за них Евдокимка (к чему приводит на передовой клеймо «дезертира», она уже знала). — Раздеваться всем до кальсон — тоже не ко времени. Отправьте их, старшина, в деревню, как бойцов, которым мы помогли переправиться через речку. Пока немцы не попрут, они подсушатся и пополнят взвод. Взамен можете пожертвовать еще тремя своими бойцами, для усиления гарнизона.
— Что ты торгуешься, как цыган на конской ярмарке? — проворчал Климентий, явно недовольный тем, что Евдокимка вмешалась в его разговор с окруженцами.
— Ради немцев стараюсь. Чтобы не обиделись, что у меня мало штыков, а значит, недостойно встречаем.
— Но не с ротой же почетного караула! — огрызнулся командир взвода. — Ты всех своих бойцов знаешь? — поинтересовался он на всякий случай у ефрейтора Корзюкова.
— Всех. Чужаков нет, — хриплым, хронически простуженным голосом заверил его ефрейтор. — То, что интересуешься, — правильно. Перед наступлением немцев радиомашина ихняя вдоль фронта суетилась, на чистом русском орала, разве что без мата; чтобы сдавались, дескать, уговаривала. Но здесь со мной — все наши, проверенные.
30
В деревню ушли трое, в том числе раненый. Ефрейтор и еще какой-то боец, тоже принявшийся выкручивать белье, остались. Кровать они поставили на камни, чтобы поднять её повыше над костром, превратив, таким образом, в сушилку. Решили: если немцы и заметят дымок, то подумают, что в здании кто-то живет, беженцы, например; тем более что утром не над одним этим домом печные дымки завьются.
Чтобы не любоваться мужскими прелестями окруженцев, Евдокимка поднялась на чердак, где уже скопилось несколько бойцов. Отсюда, несмотря на туманный рассвет, неплохо просматривались подступы к переправе, а также камышовые заводи у обоих берегов. Речка оказалась довольно широкой, но, судя по тому, что у взорванных опор моста она пенилась, там существовал подводный порог.
— Посмотрите вон туда, — указал Абориген в сторону затона, как раз напротив их барака. — Видите: немцы плот вяжут.
— Причем старательно вяжут, — уточнил Таргасов, уже пристроивший свой пулемет на каком-то деревянном ящике. — Может, все-таки пальнуть по ним?
— Если вяжут прямо перед нами, значит, о засаде пока что не догадываются. К тому же это, скорее всего, разведка.
— Суетятся так, словно на тещины именины опоздать боятся, — заметил Аркашин. — Давай, я их…
— Отставить! — скомандовала Евдокимка. — Сейчас главное — не спугнуть.
— У таких стрелков, как ты, Аркаша, — съязвил Таргасов, — винтовки вообще отбирать надо, чтобы патроны зря не расходовали. А за каждую зря потраченную обойму — из довольствия взыскивать.
— Но-но, ты, — в свою очередь возмутился мореплаватель из Голой Пристани. — Вождь краснокожих Соколиный Глаз!..
— Что тут у вас? — послышался позади голос Климентия, тоже взобравшегося на чердак и оглядывающегося. Не успела Евдокимка ответить, как он тут же произнес: — Вижу-вижу, к остаткам моста, вон, целая группа подходит, брод обнюхивает. Взгляни, — протянул он бинокль Евдокимке.
Девушка и так обратила внимание, что на мост, в сопровождении свиты, взобрался какой-то немецкий чин, однако от бинокля не отказалась. Офицер стоял почти на краю пролета и осматривал то, что осталось от остальной части моста, явно прикидывая, как скоро удастся восстановить ее или каким образом наладить переправу уже сегодня. На сереющий в легкой утренней дымке барак ни он, ни его свита из пяти офицеров внимания не обращали.
Селяне уже поведали морским пехотинцам, что еще накануне вечером целая стая немецких разведчиков прошлась по всем трем хуторам. Нескольких раненых красноармейцев разведчики застрелили, а двух дезертиров увели с собой по броду на ту сторону. Так что теперь восточный берег реки немцы считали чистым, а посему спокойно и обстоятельно готовились к переправе.
Вдруг офицеры, словно по команде, повернули свои бинокли в сторону барака, и Евдокимка отшатнулась в глубину чердака, увлекая за собой старшину.
— Сейчас я постараюсь снять одного-двух, а ты, Таргасов, пройдись очередями по машинам и мотоциклам у моста, — успела сказать она, прилаживая карабин на поперечине у черепичного пролома. — Остальные стреляют по тем, что спускают плот.
— Эй, всем, кто внизу, приготовиться к бою! — тут же скомандовал старшина.
— Кто бы меня хоть на один день назначил командиром роты, — проворчал Аркашин, залегая рядом с пулеметчиком.
— А может, сразу командиром бригады? — поинтересовался пулеметчик.
— С меня и роты достаточно. Хотя бы на один день. Я бы с тебя, Таргасов, за каждый зря потраченный патрон взыскал. Причем за всю войну наперед. А затем определил бы в штафбат, и то лишь исключительно по дружбе, — разыгрывали одну из своих обычных солдатских сценок эти двое «закадычных врагов».
Чтобы с первой же пули не промазать, Евдокимка выстрелила в плотную группу офицеров, затем, воспользовавшись их замешательством, еще раз… В третий раз она взяла на мушку старшего из них, попытавшегося уйти с моста через тела погибших. Раненый, он упал, но уже в следующее мгновение «ожил», и теперь старался уползти из-под обстрела, хотя, исходя из фронтовой мудрости, должен был бы замереть, прикинувшись убитым.
Кто-то из солдат взбежал на мост, расстреливая автоматной очередью крышу барака, и тут же попытался помочь раненому. Получив свою, по-солдатски честно заработанную, пулю, он свалился в пенящийся речной порог. Добивать раненого, притаившегося за телом другого погибшего товарища, Евдокимка не стала.
Наверняка кто-то из мотоциклистов прогулялся бы по ним из закрепленных на колясках пулеметов, однако Таргасов ударил первым. Его поддержали Аркашин, старшина и бойцы, остававшиеся внутри барака.
Все немцы, что еще способны были уехать или убежать от моста, тут же попытались сделать это, позволив морским пехотинцам так же дружно перенести огонь на тех, что уже погрузились на плот и успели отойти от берега. Теперь, используя весла и течение, разведчики старались как можно скорее добраться до плавневых островков. Выстрелы моряков, правда, уже потонули в той вселенской пальбе из всех видов оружия, которая разгоралась где-то в двух километрах от реки, по линии фронта.
— Ладно, сержант, — хлопнул старшина Евдокимку по плечу, когда опустевший плот скрылся в камышовых зарослях. — Ты тут держись, сколько сможешь, только в окружении не окажись.
— Постараюсь.
— Мне же пора. Взвод, считай, бесхозным остался. Чую: немцы вот-вот по всему фронту попрут.
Когда он уходил, по дороге, ведущей к селу с востока, уже приближалась автоколонна со второй частью батальона и комбатом Корягиным. Спешившись, моряки совершили марш бросок к реке, чтобы занять позиции к северу от барака и не позволить противнику форсировать речку вброд. Машины тут же ушли в обратный путь.
Первые же бойцы, оказавшиеся у барака, сообщили, что вся бригада ускоренным маршем движется сюда и что транспорт подбирает моряков прямо с марша. У Гайдук и ее товарищей это сразу же подняло настроение, а тут еще и комбат появился!
Свой КП и штаб батальона капитан решил разместить там же, у храма, где находился наблюдательный пункт первой роты, а сам направился вместе с прибывшими бойцами к мосту.
— Вот ты где окопался, Гайдук? — возник он в проеме двери, ведущей на чердак. — Что тут у тебя?
— Первый бой мы уже дали, товарищ капитан.
— Вижу. Аккуратная работа, — оценил капитан их старания словами, которые в его устах всегда звучали в качестве высшего балла.
Едва он взялся за бинокль, как находившийся внизу Крюков негромко прокричал:
— Гайдук, в камышах кто-то бродит. Очевидно, из тех, что переправлялись на плоту.
— Уцелел-таки, гад? — тут же вскинула карабин Евдокимка, пытаясь обнаружить цель.
Комбат попридержал ее за локоть:
— В плен бы его взять, сержант. Скоро сюда прибудет комбриг, а ты знаешь: первым же делом «языка» потребует. Да и нам тот тоже не помешал бы.
— Если надо, возьмем, — немного поколебавшись, ответила Евдокимка, хотя пока что представления не имела, каким образом сделать это. — Крюков, и ты Аркашин, за мной!
— Если идете за «языком», меня возьмите, — встретил Евдокимку у подножия трапа Корзюков. Он уже успел подсушить свою одежду и теперь стоял в ватнике и с немецким автоматом наперевес. — Ефрейтора мне как раз и дали за «языка», немецкого унтер-офицера…
— Хоть какой-то, да опыт, — поддержал его комбат.
— Годится, ефрейтор, — строго отреагировала Евдокимка. — Идешь вместо Аркашина.
— Пардон, может, я тоже лычку за фрица-унтера хочу? — попытался возразить Жора.
Однако Гайдук решила осчастливить его окончательно:
— Поступаешь в распоряжение Таргасова. Вторым номером к пулемету.
— Только не вторым, а третьим, — тут же с показной злорадностью уточнил пулеметчик. — Иди, набивай патронами диск, таранька из Голой Пристани. Сейчас ты у меня узнаешь, что такое настоящая служба.
31
По оврагу, ведущему в сторону реки, моряки скрытно подошли к плавням и тут же обратили внимание, что камыш на врезающемся в степь плавневом мыске, подозрительно шевелится, потрескивая под чьими-то ногами. Приказав Аборигену ползти по боковому овражку в сторону этого мыса и всячески отвлекать немца, Евдокимка, после первого же крика «фриц, сдавайся!», сумела войти в плавни.
Затаившись, она в просвет между полосками пожелтевшего камыша видела, как по неглубокой ложбинке Крюков неспешно и тем не менее храбро ползет в сторону реки. Когда же он добился своего, спровоцировав противника на пистолетный выстрел, успела заметить, что немец — судя по вооружению, офицер, — затих всего метрах в двадцати, на островке. «Хоть бы автоматом или винтовкой трофейной вооружился, аристократ окопный! — презрительно укорила его девушка. — В разведку ведь шел…» И тут же, еле слышно, спросила подкравшегося сзади Корзюкова:
— Заметил, где он засел?
— На островке, под вербами, где посуше.
— Там и брать его будем, сержант. Обходи с тыла, от реки отсекай. Если уж решит вплавь на тот берег возвращаться, постарайся ранить — в ногу ли, в руку… Но чтобы комбату тепленьким достался.
— Он и так уже наверняка ранен, иначе давно ушел бы на ту сторону.
— Вдруг на воде плохо держится? Словом, окопный аристократ…
Корзюков удивленно взглянул на командира группы, но, так и не поняв глубины иронии, вложенной в это определение, тоже на одном выдохе проговорил:
— Только не вздумай сам на него переть, словно леший на медведя, — а, отойдя на пару шагов, он неожиданно заключил: — Юный ты, не по войне и чину, так что поберегись. Юнгой небось служил?
«Спасибо за подсказку, — мысленно поблагодарила его Евдокимка. — Так и буду говорить всякому, по поводу возраста моего любопытствующему. Что, мол, зачислен был в экипаж юнгой…» Под крики все наседавшего Крюкова и нервные выстрелы офицера она перебежала от одного кустарничка к другому; почти не сбавляя темпа, преодолела небольшой проливчик и вновь затаилась, уже буквально в нескольких метрах от будущего «языка».
Тот сидел, привалившись левым плечом к высокому пню, рядом с которым с одной стороны валялся ствол упавшего дерева, с другой — лежало чье-то мертвое тело. Очевидно, офицер услышал какие-то подозрительные шорохи, потому что, приподнявшись на левом колене, внимательно осмотривался.
Евдокимка находилась теперь буквально в семи-восьми шагах от него, но, прижавшись к пригорку между раздвоенным стволом вербы и густым кустарником, оставалась невидимой для него. Конечно, если бы он поднялся в полный рост… Однако, судя по тому, как немец вел себя, у него была задета правая нога, и он старался ее не тревожить.
В свою очередь, девушка прислушалась к тому, что происходило позади нее. Где-то там с тыла их обходил Корзюков, но то ли слишком увлекся, то ли застрял где-то в болоте… Конечно же «снять» этого офицера Евдокимка могла бы и одна в два счета, но он нужен был живым.
Девушка вдруг отчетливо вспомнила предсмертный бред своего первого пленного — летчика, сбитого над Степногорском. Однако здешний фриц умирать не собирался, пистолет в руке держал твердо и, лишенный сантиментов, готов был стрелять, даже если воспримет ее в качестве болотного духа. И коль она все же решилась броситься на него, то лишь потому, что в данном случае самолюбие оказалось значительно сильнее страха.
Перекатившись влево от вербы, так, чтобы подобраться к немцу со стороны пня, она еще несколько секунд выжидала, а затем, когда тот, приподнявшись-таки со стоном, попытался рассмотреть, как ведет себя Крюков, в каком-то отчаянном порыве, ухватив карабин за ствол, метнулась к цели. Офицер мог развернуться к ней только через правое плечо, и именно это подарило Евдокимке несколько мгновений. Удар прикладом по запястью немца пришелся как раз в ту секунду, когда ствол его пистолета уже был направлен на нее.
— Не двигаться, — по-немецки приказала она. — Следующий удар — по голове. Руки вверх!
— Нет-нет, не надо меня бить, я сдаюсь, — как-то слишком уж обыденно, с нотками обреченности и даже безразличия в голосе произнес лейтенант. — Только подняться сам не смогу.
— Это я уже понял. Что с ногой? — поинтересовалась Гайдук, подбирая оружие пленного и негромко позвала бойцов своей группы.
— Вывихнул, выбираясь на берег, — ответил немец. — А может, перелом.
— Выясним, — сухо заметила Евдокимка.
— Все-таки сам «языка» взял?! — удивился Корзюков, появившийся первым, и тут же принялся выливать воду из сапог. — Чего ж не дождался?
— Понял, что банный день ваш сегодня явно затягивается, ефрейтор.
— Это уж точно! С прошлого вечера — сплошная мокрень.
— Сними с него правый сапог, — приказала она подоспевшему Крюкову.
— Прямо здесь перевязывать будем, что ли?
— Понадобится — перевяжем!
Как только Крюков стащил с офицера обувку, Евдокимка выхватила из-за голенища кинжал и почти молниеносно вспорола штанину пленного, словно на службе в госпитале. Этот же госпитальный опыт помог ей быстро, резким движением вправить ему вывихнутую стопу.
Пока она все это проделывала, офицер пытался рассмотреть кинжал, которым она орудовала. Тот беспечно лежал теперь рядом с его сапогом.
— Откуда у вас это оружие, сержант? — спросил он, покорно позволяя Аборигену обуть себя.
— Оттуда же, откуда всякое другое, трофейное.
Затихшая было на той стороне реки перестрелка неожиданно вновь возобновилась, но теперь уже в ход пошли легкие пушки и минометы. Мало того, какой-то шальной немецкий пулеметчик открыл огонь по плавням левого берега, словно бы решил уложить всех тех своих соплеменников, что уцелели во время переправы. И морякам вместе с плененным лейтенантом пришлось залечь за пнем да за поверженным стволом старой ивы, спасаясь от его яростных очередей.
— Но вы обратили внимание, что на лезвии выгравировано «фон Штубер»? А на рукояти — родовой герб? — спросил офицер, переждав третью очередь сумасшедшего пулеметчика.
— Дался вам этот кинжал, — проворчала Евдокимка. — Давно нужно было выбросить его, оружие все-таки эсэсовское.
— Почему же эсэсовское? Это — родовой, ритуальный кинжал оберштурмфюрера барона Вилли фон Штубера. Он принадлежит моему земляку, я лично с ним знаком.
— Принадлежал, — уточнила Гайдук. — Красноармеец, подаривший его мне, утверждал, что взял кинжал в виде трофея у убитого офицера.
Услышав это, лейтенант приподнялся на кистях рук и каким-то странным, явно оценивающим взглядом осмотрел Евдокимку с ног до головы. Даже после того, как Корзюков, ухватив немца за щуплый затылок, резко ткнул его лицом в почерневшую осеннюю листву — «Лежать, мразь; ты нам живым нужен!» — он все же сумел извернуться и вновь, теперь уже глаза в глаза, взглянул на Евдокимку.
— Ну что, что? — проворчала девушка, с напускной суровостью. Пряча свое женское естество, она тщательно следила за тем, чтобы в любой ситуации оставаться как можно грубее и нахрапистее.
— Как давно это произошло? Когда именно вы получили этот кинжал убитого барона фон Штубера?
— Вас это интересовать не должно.
— Не обижайтесь, сержант. Просто это оружие имеет свою историю, которая может показаться вам любопытной.
— Хорошо, допустим, это произошло в конце июля.
Лейтенант покачал головой и загадочно ухмыльнулся:
— В таком случае обязан вам сообщить, что барон жив. Я виделся с ним дней десять назад, в управлении разведки штаба нашей полевой армии.
— И что же из этого следует? — жестко спросила Евдокимка, чеканя каждое слово.
— Многое, — неопределенно как-то, с явной растерянностью, произнес лейтенант.
Пора было двигаться к своим, однако Гайдук тянула с отходом. Теперь уже ей не терпелось до конца прояснить всю эту историю с кинжалом некоего барона фон Штубера, причем сделать это здесь и сейчас, а не в штабе батальона или бригады…
— За бутылкой коньяка оберштурмфюрер поведал, что во время своего десантирования в тыл русских он был в красноармейской форме, поэтому русские приняли его за своего.
— Оберштурмфюрер? Он что, эсэсовец?
Они хорошо понимали друг друга, как выяснилось. Однажды к ним в госпиталь доставили плененного разведчиками офицера-эсэсовца, который к тому же оказался инженером-гидротехником. По своей наивности, он уже продвигался в ближайший тыл своих войск, чтобы принять под опеку Запорожскую гидроэлектростанцию. Раненый да к тому же контуженый, немец плохо соображал, что с ним происходит, и все уверял Евдокимку, выступавшую в роли переводчицы, что русские должны ценить его, поскольку он намеревается спасать их знаменитую электростанцию. За те четыре дня, пока инженер под охраной находился в госпитале, Евдокимка успела основательно поупражняться в немецком и даже конфисковать у раненого немецко-русский разговорник.
— Вы правы, — сказал тем временем пленный. — Барон является старшим лейтенантом войск СС.
«Только этого мне сейчас не хватало!» — процедила про себя Евдокимка, осознав, что никакое оправдание, что, мол, «откуда ж мне было знать, кем тот раненый, которого я перевязывала, был на самом деле?», в данном случае не пройдет. Что такое «особый отдел», она уже знала.
— И что же с оберштурмфюрером происходило во время этого десанта?
— Его ранило в ногу. Он уже думал, что истечет кровью или же окажется в русском госпитале, где его легко разоблачат, но тут, словно ангел с неба, явилась ему одна русская санитарка, — при этих словах пленный слегка помедлил и вновь внимательно присмотрелся к Евдокимке.
Она благоразумно отвернулась:
— Дальше, дальше, лейтенант…
— Так вот, кинжал свой барон и подарил той русской, которая старательно перевязала его, принимая за «красного».
32
То, что еще с минуту назад казалось Евдокимке абсурдным предположением, теперь вырисовывалось во вполне определенную картину: офицер, так старательно перевязанный ею, на самом деле оказался переодетым диверсантом. И кинжал, подаренный ей, в действительности являлся родовым ритуальным оружием этого барона. Конечно, откуда Евдокимка могла знать, с кем ее свела судьба на улице родного городка, и все же чувствовала она себя прескверно.
— Уводите пленного, — приказала девушка бойцам.
Когда те, положив руки все еще прихрамывавшего офицера себе на плечи, буквально побежали в сторону барака, тот вдруг оглянулся и проговорил:
— Не могу вспомнить русское название города, где это происходило, но, если в переводе, то в нем звучали такие слова как «горы» и «степь».
— Уж не Степногорск ли? — спросила Евдокимка, поторапливаясь вслед за конвоирами.
— Точно, Степногорск! — с такой радостью известил офицер, словно это воспоминание могло что-либо изменить теперь в его невольничьей судьбе.
— Та санитарка подарила кинжал своему жениху, моему другу, а он, перед смертью — мне.
— Тогда все сходится, — остался доволен разгадкой этой тайны лейтенант. — Знал бы барон, где и каким образом «всплывет» его кинжал на сей раз!
— Если попадется мне в плен в качестве «языка» — узнает. Причем не только об этом, — пригрозила Евдокимка. — Он у меня многое узнает!
Лейтенант на какое-то время умолк, и даже приуныл, но затем доверительным голосом поинтересовался:
— Надеюсь, теперь вы попросите командира, чтобы меня не расстреливали?
— Просить будете вы, я же старательно все переведу. Но только после того, как правдиво ответите на все вопросы.
— Мне и рассказывать-то особо нечего.
— А вот такими заявлениями советую командование мое не огорчать. Оно рассчитывает, что мы приведем вполне приличного «языка». Если же окажется, что никакого интереса вы не представляете, тут же может занервничать. И хотя пленных у нас обычно не расстреливают, фронт, как вы понимаете, все спишет. Поэтому выкладывайте, что знаете…
— Что-то ты, парень, уж слишком хорошо по-ихнему шпрехаешь, — неожиданно вклинился в разговор Крюков. — Лучше самого фрица… Уж не земляка ли встретил, а, младший сержант? Сам небось тоже из этих, из волжских каких-нибудь, немцев?
— Если ты еще раз поинтересуешься, кто я, откуда и почему говорю по-немецки, — сухо парировала Евдокимка, — те, «кому надо», тут же заинтересуются тобой. Причем интересоваться будут всю твою недолгую жизнь.
— Просто я к тому, — стушевался Крюков, — что, если уж ты такой грамотный, языки знаешь, то почему до сих пор не в офицерах?
— Тебе ведь уже все сказали! — почти взревел Корзюков. — Поэтому заткни уши и сопи в портянку.
Как только они оказались в подвале барака, где уже был установлен полевой телефон, тут же Корзюков, не дожидаясь ни вопроса комбата, ни доклада Гайдук, выпалил:
— Этого языка младший сержант взял самолично, факт. Один на один пошел; разоружил и взял. Отчаянный парень. Мы в это время в сторонке оставались.
— Так и было, подтверждаю, — неохотно проворчал Крюков, прежде чем ефрейтор успел подтолкнуть его локтем.
Корягин уважительно осмотрел рослого, крепкого с виду лейтенанта и спросил:
— Думаешь, заговорит?
— Уверен. Считайте, уже заговорил, — подтвердила Евдокимка.
— Неужто знает русский?
— Пока не знает, но это не имеет значения. Я достаточно хорошо владею немецким, чтобы говорить с пленным на любые темы.
Корягин удивленно уставился на Евдокимку, но затем хлопнул себя по лбу, давая понять, что запамятовал, и принялся звонить комбригу. Узнав обстоятельства, комбриг почти обиделся:
— Какого ж ты черта скрываешь, что у тебя сержант-переводчик завелся?
— Стал бы хвастаться — давно бы увели.
— Тоже верно.
— Кстати, отныне младший сержант Гайдук будет командовать у меня отделением разведки. Кроме того, за проявленную храбрость, за мужество, представляю его к званию сержанта.
— Да представляй хоть к чину генерала, — в сердцах обронил комбриг, — только поскорее давай его сюда, вместе с этим твоим пленным. Высылаю машину, объясни, где тебя искать.
* * *
Штаб располагался в здании школы, устроенной в бывшем помещичьем особняке. Сама же деревня притаилась посреди небольшой равнины, с трех сторон, словно сторожевыми башнями, охваченной безлесными холмами.
Прикрытия у штаба хватило только для того, чтобы выставить на этих холмах небольшие заслоны, в самой деревне солдат видно не было. Как оказалось, полковник оставил в ней всего лишь одно отделение комендантского взвода. Очевидно, поэтому на фоне все усиливающегося грохота передовой штаб, как и вся деревушка, показались Евдокимке совершенно беззащитными. «Если только немцы прорвутся где-нибудь на фланге…» — с тактическим осуждением покачала она головой, выводя связанного по рукам лейтенанта на миниатюрное плато, посередине которого высился обезлюдевший штаб.
Однако широкоплечий коротышка комбриг, так и не сменивший общеармейский мундир на флотский, никаких страхов перед близостью фронта не ведал. Он вел себя так, словно бригаду бросили сюда не для того, чтобы попридержать противника, пока эвакуируют заводы из ближайшего города, а чтобы раз и навсегда остановить его перед своими бессмертными батальонами.
— Вот это уже другое дело, — ворчал он, с ног до головы осматривая пленного с такой придирчивостью, будто ему обещали привезти не «языка», а циркового борца. — А то воюешь тут, не зная, ни кто перед тобой, ни какими силами противник располагает. Ты действительно шпрехаешь по-немецки? — спросил полковник у Евдокимки, не отрывая взгляда от лейтенанта. — Поговори с ним.
Евдокимка произнесла несколько фраз. Лейтенант грустно улыбнулся и ответил.
— Что ты ему сказал? — насторожился присутствовавший при допросе начальник штаба — чуть выше росточком, нежели командир бригады, зато худой и угловатый, словно подросток.
— Объяснил пленному фон Кранцу, что полковник не верит в мое знание германского языка. Тот ответил: «Нам придется вместе разубеждать его в этом». Он уверен, что смогу.
Полковник и майор многозначительно переглянулись.
— Немец, похоже, понимает его, — развел руками начштаба. — Тем более что нам с этим гансом любезностями не обмениваться, всего-то пару вопросов.
33
Пленный отвечал охотно и обстоятельно. Евдокимка почувствовала, что между ними пролегла некая нить доверительности, поэтому старалась говорить с ним предельно вежливо.
Выслушав последний ответ, полковник вопросительно взглянул на майора:
— Что будем делать с ним?
— А что панькаться? Куда его отправлять? Сержант брал его в плен, сержанту и пускать в расход.
— Я не могу расстреливать его, товарищ полковник. Всю дорогу убеждал, что пленных у нас не расстреливают и что если он ответит на все вопросы… Как видите, он ответил.
— Что вы тут антимонию разводите, товарищ младший сержант?! — возмутился майор. — Вы что, отказываетесь выполнять приказ?
— Приказа пока что не было, — недобро блеснула глазами Евдокимка, поправляя ремень висевшего через плечо карабина. — Если же он последует, то будет противоречить приказу товарища Сталина об обращении с пленными, — она и представления не имела о том, издавался ли такой приказ Верховного главнокомандующего на самом деле, но, что сказано, то сказано…
— Нет, ты видел этого грамотея? — слегка поостыл майор.
Однако Гайдук обратила внимание, что к полковнику тот обратился на «ты», и это ее покоробило.
— Приказ пока что отдан не был, — потупив глаза, осадил его комбриг. — Сержант прав.
— Они что, хотят расстрелять меня? — с каким-то странным безразличием в голосе спросил лейтенант, вклиниваясь в эту перепалку.
— Я пытаюсь отговорить их от этой затеи.
— Тогда они расстреляют нас обоих. Это уже смешно.
— О чем вы там лопочете? — исподлобья взглянул полковник на Евдокимку.
— О жизни и смерти. Лейтенант просит вас как офицер офицера — пощадить его.
— А ты спроси этого своего лейтенантика: они наших бойцов часто щадят? На землю нашу они пришли из чувства сострадания?
— Ответ вам известен, товарищ полковник. Может, он в штабе корпуса понадобится? Офицер как-никак, прямо с фронта.
— Что ты цену ему набиваешь, словно старой лошади?
— Если мне позволена последняя просьба, — вновь заговорил пленный, — то я прошу вас лично исполнить приговор. Вы — настоящий солдат, в вашем поведении есть что-то рыцарское.
— Только не надо льстить мне. На вашей судьбе это все равно никак не отразится.
— Я ведь не о помиловании прошу, а всего лишь высказываю свое пожелание. Жаль, что вы до сих пор не удостоились звания офицера.
«Сама об этом жалею, — согласилась с ним Евдокимка, но вслух ничего не произнесла. — Война не завтра кончается, еще удостоюсь». Она задумчиво покряхтела, взглянула сначала на пленного, затем на полковника.
Нет, сам процесс расстрела ее не страшил. За то время, пока она работала в госпитале, на ее глазах, а порой и на ее руках, ушло из жизни столько раненых бойцов, она повидала столько крови… Тут дело заключалось в другом. Евдокимка понимала, что сейчас этот пленный смотрит на нее, как на заступницу, и здесь уже — вопрос чести. Хотя что Евдокимка могла противопоставить воле этих высоких чинов, кроме жалости к пленному да своего упрямства?
— Пленный просит, чтобы я лично расстрелял его.
Майор крутил ручку аппарата и словно бы не слышал слов Евдокимки, но полковник как-то странно встрепенулся и спросил:
— Из уважения к храбрости, что ли?
— Наверное, на войне это тоже имеет значение — кто именно лишает тебя жизни.
— Тогда уводи и стреляй. Везти его в штаб корпуса — далеко и не на чем. Устраивать ради него лагерь военнопленных, что ли? Отведи подальше и не вздумай пожалеть его. Метрах в двухстах отсюда — кладбище.
— Мимо проезжали, видел…
Они с лейтенантом встретились взглядами, и тот все понял без перевода. Евдокимка достала из кармана пистолет пленного и проверила его.
— Понимаю: приказ есть приказ, — произнес Вильгельм фон Кранц так, словно хотел подбодрить своего палача. Но когда у двери Гайдук пропускала его вперед, лейтенант как-то слишком уж проницательно присмотрелся к ее шее, словно собирался нанести любимый японцами «сабельный удар» в глотку. — Где вы намерены расстрелять меня?
— На кладбище.
— Это по-христиански. Если вам трудно будет стрелять, вернете мне пистолет с одним патроном. Под слово чести офицера.
— Это не дворянская дуэль, а война, господин лейтенант. Лично я рисковать из-за вас не намерен.
Когда они проходили мимо каменной тумбы, оставшейся на месте ворот помещичьей усадьбы, лейтенант приостановился, положил на нее свои ручные часы, портсигар и портмоне, а также снял с пальца обручальное кольцо.
— Возьмите, сержант, по праву трофея; законами войны это допускается. Если отбирете у убитого, это уже мародерство. А так, я дарю вам.
Евдокимка не стала вступать в полемику, молча рассовала дареное по карманам, однако повторила: «Рисковать с пистолетом я не намерен». И тут же приказала пленному идти дальше.
С минуту, сопровождаемые взглядами крестящихся кладбищенских старух, они двигались в полном молчании, но затем вдруг лейтенант вновь заговорил:
— В моем положении подобные вопросы задавать неуместно. Тем не менее… Почему вы все время говорите о себе в мужском роде? Вы ведь женщина, и с грамматикой у вас вроде бы все в порядке.
— С чего вдруг вы решили, что я — женщина?! — опешила Евдокимка.
Офицер остановился настолько резко, словно наткнулся на штык, и медленно, слишком медленно оглянулся. Глаза его округлились так, будто ему явился лик Девы Марии.
— Так, вы что, скрыли ото всех свое женское естество?! Никто, даже командир вашей части, не знает о том, что вы женщина?! Но это же невозможно!
— Немедленно объясните, почему вы приняли меня за женщину. Или же прекратите болтовню.
— Я рос в семье медиков и прекрасно знаю, что женщины могут сколько угодно выдавать себя за мужчин. Но, чтобы изобличить, их не обязательно раздевать донага. Достаточно присмотреться к шее, к гортани. Дело в том, что у мужчины есть кадык, — показал он пальцами на свою, резко выступающую, буквально впивающуюся в кожу, костяшку. И правильно сделал: по-немецки этого слова Евдокимка попросту не знала. — В то время как у женщин кадыков не бывает. У вас, фройляйн, нет кадыка, — опять ощупал он пальцами свою гортань. — Природой не предусмотрено.
Поняв наконец, что немец имеет в виду, Евдокимка впервые за все время службы в армии, за всю свою жизнь, по настоящему, по-мужски грубо выругалась — про себя, но самым настоящим солдатским матом. Черт возьми, а ведь об этой особенности строения гортани она и не подумала! И подполковник Христина о предательском «кадыке» тоже ни словом не обмолвилась, даже не намекнула.
Они еще только подходили к кладбищенской ограде, как Гайдук скомандовала: «Стоять!», — и вскинула карабин. Но как раз в ту минуту откуда-то из-за спины послышался крик:
— Не стрелять! Полковник приказал не стрелять! — во всю мощь своей глотки орал посыльный краснофлотец, размахивая при этом обеими руками. — Пленного в штаб корпуса затребовали! Третьи сутки «языка»-офицера взять не могут!
Евдокимка мельком, через плечо, оглянулась, но карабин не опустила.
— Он кричит «не стреляль!» — испуганно вытаращился на нее лейтенант.
— Но с условием, что вы ни слова не скажете об этом чертовом кадыке. Ни слова. Брякнешь свое «фройляйн» — пристрелю прямо там, в присутствии всех штабистов.
— Ах, вот оно что?! Да, конечно же не скажу! Опустите карабин, господин сержант. Вы так по-человечески отнеслись ко мне, вы спасли мне жизнь. Я буду молчать.
Из личных вещей, которые Евдокимка попыталась вернуть ему, обер-лейтенант взял только портсигар.
— Остальное все равно отберут, — извиняющимся тоном объяснил он. — Но кто-то совсем чужой возьмет себе.
— А мы с вами уже, оказывается, родственничками стали?
— Родственниками мы не стали, но даже здесь, на войне, сумели остаться людьми. Разве не так? Кстати, ваше перевоплощение настолько романтично, что я даже смерти бояться перестал.
— В том-то и дело, что панькаются тут с тобой, — по-русски проворчала Евдокимка. — Не фронт, а сплошная буза.
— У меня просьба. На фронте находятся мои братья — двое родных и один двоюродный. Если вдруг каким-то образом… Словом, сообщите им, что на эти сутки я все еще был жив. Запомните, пожалуйста, фамилию — Кранц.
— Ну да, ты меня еще в почтальоны запиши! — по-русски огрызнулась Евдокимка.
— Я вашу запомнил — Хайдук.
— Сам ты… «хайдук»!
— У меня тоже дочь, ей семь лет, — не стал требовать перевода лейтенант. — Впрочем, извините, — тут же устыдился он своей сентиментальности. — Берегите «кинжал викинга». Барон фон Штубер утверждал, что он не просто ритуальный, а еще и магический.
— Слава богу, что вы пальнуть не успели! — подбежал тем временем запыхавшийся моряк. — Всыпал бы мне тогда комбриг! Приказано расстрел отменить и вести этого лейтенанта назад, в штаб. По рации сообщили, что сейчас за ним пришлют машину.
— Лучше бы комбриг все-таки всыпал тебе, — не могла успокоиться Евдокимка. Физиологическая тайна строения женской гортани, которую так некстати открыл ей германский лейтенант, продолжала будоражить девушку.
* * *
Когда она вернулась в кабинет комбрига, майор тут же, не глядя на Евдокимку, благоразумно выскользнул из него, а полковник покаянно развел руками, и, глядя в окно, разбитая часть которого была занавешена портянкой, произнес:
— Кто же знал, что в корпусе четвертые сутки не могут взять в плен стоящего «языка»? О приказе по обращению с пленными тоже напомнили. Я пробовал пересказать им те сведения, что дал пленный, однако там и слушать не хотят: подавай им самого фрица, живьем…
— И мне опять придется ехать с ним?
— У них там свой переводчик, предупредили. И нам какую-то женщину-переводчика, в звании младшего лейтенанта, обещали прислать. Хотя, признаюсь, я тебя, сержант, на эту должность предложил.
— Переводчиком? Да ни за что! Я воевать хочу. В батальоне вон ни одного снайпера.
— Говорил, говорил Корягин, что ты еще и снайпер. Не краснофлотец, а находка! — суховато, с какой-то ироничной ухмылкой, произнес полковник. — Ладно, сержант, до утра отдыхай.
— Может, я прямо сейчас и отправлюсь в батальон?
— Отдыхать! Заслужил. И вообще учись выполнять приказы, не то накажу по всей строгости устава! Подселяйся в любой дом. Утром явишься. Все, свободен.
«Не то накажу! По всей строгости устава!» — по школьной привычке передразнила про себя полковника, отдавая при этом честь и проделывая поворот «кругом», Евдокимка.
В коридоре она в последний раз увидела пленного, находящегося там под охраной бойца комендантского взвода.
— Искренне благодарю вас, господин сержант, — дрогнувшим голосом произнес Кранц.
— Берегите свой бесценный кадык, господин лейтенант, — язвительно ответила Евдокимка. — Проболтаетесь — накажу по всей строгости устава!
34
Определиться с постоем Евдокимке помог ординарец комбрига — старший сержант Куренной, разбитной малый лет тридцати. Невидный собой — худощавый, безбожно курносый и веснушчатый, — он принадлежал к тому типу мужчин, которые благодаря своему балагурству да неистребимому оптимизму и к сорока годам все еще остаются «первыми парнями на деревне».
Представив Евдокимку как первого храбреца, снайпера, а главное, непревзойденного знатока немецкого языка, он тут же приказал хозяйке дома, молодке без возраста, позвать для «персонального его веселения» соседку Варьку и накрывать на стол. Однако Настасья, владелица просторной полуземлянки, и сама уже так воспламенилась при виде смазливого гостя, что, проплывая мимо Гайдук, призывно прошлась рукой по низу ее живота:
— Ой, какого к нам ноныча морячка прибило!.. Одно сплошное мармеладное загляденье… — а почувствовав, как Евдокимка брезгливо повела бедрами, спасаясь от бесстыжих пальцев, умиленно открыла для себя: — Мамоньки мои, да мы пока еще и не соблазненные… — речь у нее была протяжной, певучей, какой-то совершенно непривычной Евдокимке. — Все, Куренной, радуйся, — объявила тем временем Настаська о своем решении. — Сегодня Варька — в полном твоем душевном и телесном обладании.
— Дай парню в себя прийти, ты, любава ненасытная, — под задорный хохоток, выставил он хозяйку за дверь, ущепнув при этом дольку ее оттопыренной ягодицы.
— Наверное, мне нужно пойти куда-нибудь в другой дом, — поморщилась Евдокимка, представив себе, во что выльется ночь, проведенная под одной крышей с такой похотливой «мармеладкой».
— Куда ты сейчас пойдешь?! Только тебя, корешок якорный, там и ждали! Все уцелевшие дома давно оприходованы; все лучшее занято штабистами. Со мной здесь четверо легкораненых обитало, что-то вроде госпиталя было; но сегодня утром они, по сознательности своей, добровольно ушли на западный холм, в охранение; понимают, что бойцов позарез не хватает. У Варьки же весь дом связистками да медсестрами забит. Как и все офицерско-штабные, они, конечно, форс держат, поскольку на ляжки их и офицеров хватает; ну да черт с ними. Варька сюда, к раненым бегала. В самой деревне мужиков не осталось, разве что несколько старцев…
— Так что тут у них, по этому поводу коллективный бордель, что ли?
— Ты чего, корешок якорный?! — пораженно уставился на него старший сержант, который до этого освобождал для новосела место у печи, на лежанке. — Не понимаешь, что ли? Со дня на день здесь появятся немцы. Вот бабы и ложатся под «своих да наших», словно под танки, чтобы от них, значится, а не от фрицев-насильников, забрюхатеть. Если уж все равно рожать придется, то чтобы от своих… Расклад улавливаешь?
— Что ж тут не улавливать? Обычный расклад, — мрачно признала Евдокимка.
— А что поделаешь? Не сами же они, село за селом, под немцами оказываются; это мы, драпая, подставляем их.
Гайдук ничего не ответила, и они мрачно помолчали.
— А Настаська — из донских казачек. Правда, липучая до невозможности и в постели ненасытная. Да и вообще поднадоела. Варька, с телесами ее неохватными, для меня в самый раз. И самогон у нее получше любого коньяку. Вот только до сих пор Настаська к ней не подпускала. Ревнует, стерва.
— Прямо интриги мадридского двора!
— Какого двора? — не понял смысла фразы Куренной.
— Да это так, из школьной программы. Лично я хочу спать. Единственное мое желание — хотя бы раз за всю войну нормально отоспаться.
— Э, нет. Отсыпаться нужно на передовой. Это ж с какой такой дури, в тылу, посреди бабьей деревни, ты отсыпаться решил?! Такого легкомыслия на передовой тебе, корешок якорный, не простят, затюкают.
От картошки «в мундирах», двух зубчиков чеснока и миски кукурузной, пожелтевшим салом приправленной каши Евдокимка не отказалась. Едва увидев на столе котелок с парующей картошкой, она вспомнила, что давно не ела и, как говаривала в таких случаях Анна Жерми, «до неприличия» голодна. Однако самогон девушка только понюхала да брезгливо пригубила. Из спиртного у них в доме водилось разве что вино, причем натуральное, но и его Евдокимка не употребляла.
Что же касается Настаськи, то теперь Гайдук поняла, что имел в виду Куренной, когда сетовал на ее «липучесть». Та весь вечер не отходила от нового гостя. То, сидя на лавке, терлась бедром о ее бедро, отчего Евдокимку бросало в омерзительную дрожь; то прямо за столом пыталась налечь грудью не нее… А то вновь и вновь стремилась притиснуть руку к ее паху, и Гайдук приходилось или крепко сжимать колени, или же забрасывать ногу за ногу. При этом молодка все время требовала: «Ну, скажи, скажи что-нибудь по-немецки. Хотя бы слово».
— Да оставь ты парня в покое! — не выдержала такого натиска Варька. — Скоро сама научишься шпрехать, офицеров ихних соблазняя. Еще и гансиков штук десять нарожаешь.
Евдокимка обратила внимание, что произносила это женщина без какого-либо страха или огорчения. Очевидно, давно решила для себя, что мужик — он в любом обличье мужик.
Трапеза была в самом разгаре, когда Евдокимка ушла в соседнюю комнату, сняла сапоги и, не раздеваясь, упала на лежанку. Буквально через несколько минут она уже мирно посапывала. Однако сну ее не суждено было стать долгим. Проснулась Гайдук от того, что кто-то, обхватив ногами ее ногу, пытался разделаться с ее штанами.
— Ты чего? — спросонья рванулась Евдокимка, резко отбивая руку, добирающуюся до ее женской тайны. — Какого черта?
— Да не стесняйся ты! Игорь и Варька уже отбесились по пьяни и храпят теперь в соседней комнате.
Наконец Евдокимка окончательно поняла, где она находится, и вспомнила, кто та женщина, что забралась к ней на лежанку.
— И ты храпи! — попыталась Гайдук столкнуть с себя хозяйку дома, но та умудрилась перекатиться через нее и, по-кошачьи сгруппировавшись, одной рукой обхватить за шею, а другой тут же прорваться через прорезь в кальсонах.
— Не дури, парень! — горячо зашептала она Евдокимке в подбородок. — Где ты еще такую бабу на передовой найдешь? Если стесняешься, я могу сама все проделать, сверху, на тебе. Или же просто возьму твое сокровище в рот, а потом уж…
— Да отвяжись ты, идиотка! — с силой вырвала Гайдук руку женщины оттуда, куда она не должна была проникать; однако было уже поздно.
— Ой! Да ты что — девка?!
— Не ори! Заткнись, — прошипела Евдокимка, ударом в шею отбрасывая Настаську так, что та больно ударилась головой о стену.
— Ну, хорошо-хорошо, я не кричу, — перешла та на шепот, потирая затылок. — Но ты ж объясни…
— Что я тебе должна объяснять? — зло парировала Евдокимка. По-солдатски быстро она привела в порядок брюки, обулась и, нащупав на столе спички, зажгла керосинку.
— Но я же не ошиблась, ты действительно девка, — уселась Настаська на лежанке, подогнув ноги и привалившись спиной к стене. Теперь она уже не спрашивала, а утверждала. — Да и несет от тебя не мужским, а женским духом. Как только я меж ног к тебе полезла, так сразу же и почуяла.
Та холодная, расчетливая ярость, которая неожиданно обуяла Евдокимку, могла зародиться только в сознании и действиях человека, побывавшего в боях, прошедшего специальную подготовку и познавшего цену страха и мести, жизни и смерти. Схватив лежавший на столе «кинжал викинга», она в мгновение ока сжала пальцами ноздри Настаськи, как это обычно делают разведчики, чтобы заставить пленного раскрыть рот и получить причитающийся кляп. И, когда насмерть перепуганная женщина в самом деле разжала зубы — Гайдук тут же вставила между них лезвие.
— Замри, — внушающе приказала Евдокимка хозяйке дома. — Не двигайся и внимательно слушай. Я действительно скрыла свой женский пол и выдаю себя за мужчину. Как скрыла и то, что мне еще нет восемнадцати. Почему? Чтобы воевать наравне с мужчинами! Как видишь, до сих пор у меня это получалось: и воевать, и скрывать. Так что вот тебе мой приговор: хоть слово вякнешь кому-нибудь — пристрелю, как собаку. На куски порежу. Поняла? — спросила, предварительно вынув изо рта кинжал. — Ты все поняла?
Понадобилось еще несколько мгновений, чтобы, придя в себя, Настаська испуганно потрясла подбородком.
— Зачем же нож в горло? — едва слышно произнесла она. — Могла просто, по-бабьи, объяснить, что к чему.
— С тобой по-бабьи не получается, поэтому еще раз предупреждаю: пикнешь своему Игорьку или кому бы то ни было — прострелю обе коленки и язык отрежу, — вновь захватила Евдокимка ее пальцами за нос и прокрутила так, что Настаська взвыла и приподнялась на коленях. — Как ты понимаешь, мне терять нечего.
— Да клянусь тебе: никому ни слова, — жалостливо простонала женщина. — Ты же мне весь нос изломала.
— Пока еще нет. Все впереди. Если, конечно, станешь болтать. Накажу по всей строгости устава.
— Да хватит тебе, хватит! Утром похвастаюсь, как все у нас получилось, и одним девственником в вашей морской бригаде стало меньше. Устраивает?
— По поводу «девственника» можешь болтать, сколько угодно.
— Тогда лады. Гаси лампу, там и так керосина — кот наплакал, садись рядом и давай просто, по-человечески поговорим.
35
Евдокимка, положив кинжал на стол и погасив лампу, уселась рядом с хозяйкой дома, однако разговор не ладился. В течение нескольких долгих минут они бездумно, отрешенно смотрели в окно.
— Нет, ну как я тебя, девку, изнасиловать пыталась? Смех и грех! До конца дней своих помнить и краснеть буду.
— Как только здесь появятся немцы, будет тебе и о чем до конца дней помнить, и по поводу чего краснеть.
— Может, они еще и не дойдут сюда. Офицеры поговаривали, что скоро в деревню подкрепление подбросят, и тогда уж…
— Раз офицеры говорили, так и будет, — неохотно согласилась Евдокимка. Она прекрасно понимала, что никакого подкрепления в деревню подбрасывать не станут и рассчитывать на «тогда уж», как на чудо небесное, смысла нет. Однако разочаровывать Настаську не решилась.
— Настаська, убирайся к себе на койку и дрыхни, — вместо этого угрожающе проговорила Евдокимка. — Мне поспать надо, завтра опять на войну.
Женщина неохотно сползла с лежанки, но, все еще задерживаясь на ней одним коленом, заканючила:
— Можно я с тобой полежу? Уж больно нравишься ты мне. Ничего такого, просто прижмусь к тебе и полежу.
— Еще чего?! Прижмется она! — буквально взревела Гайдук. — К Игорьку своему топай. Варьку прогони и насилуй его, сколько хочешь.
— Не хочу я с ним, — голосом капризного ребенка объявила Настаська. — Надоел. Все мужики осточертели. Я тихонько так; прижмусь к тебе и буду лежать.
Евдокимка вновь ухватилась за кинжал и, состроив свирепую рожу, прорычала:
— Все, сейчас буду резать. Исполосую всю.
— Какая же ты злая, господи, — побрела к своей кровати Настаська. — Кто тебя полюбит такую? Чтоб тебе всю ночь насильники снились.
— Накажу! — пошла Евдокимка на нее с кинжалом. — По всей строгости устава!
Настаська проворчала и, словно побитая собачонка, отправилась на свою койку.
Утром, едва проснувшись, Евдокимка увидела, что женщина мирно лежит себе, уткнувшись лицом… в ее предплечье. Отпрянув, девушка подумала: «Это ж надо быть такой прилипалой!» — и уже намеревалась изо всей силы садануть ее локтем, да в последнее мгновение передумала: сжалилась — уж больно сладко, по-детски посапывая, спала эта неугомонная казачка.
Евдокимка осторожно поднялась и перешла на кровать Настаськи. Однако уснуть в то утро ей уже не суждено было. Едва сомкнула она глаза, как послышался гул самолетов, а какой-то всадник приостановился под окном, пальнул из винтовки и с криками: «Тревога! Немцы прорвали оборону! Все к штабу! Воздух!» — помчался дальше.
«Так это всего лишь налет авиации, или же немцы действительно прорвали оборону?» — как можно спокойнее пыталась определить для себя Гайдук, лихорадочно обуваясь и хватая свой матросский бушлат, карабин, кинжал…
— Настаська, сержант — общий подъем! — прокричала она, заметив, что Куренной, все еще голый, лежит в обнимку со своей вожделенной Варькой.
— Что там еще? — сонно возмутился Игорь.
— Немцы! Воздух! Все — из дома! — не по-мужски звонко приказала Евдокимка, выскакивая на приземистое крыльцо.
Первые бомбы и пулеметные очереди немецких штурмовиков застали ее уже лежащей под толстой каменной оградой, в дальнем уголке усадьбы.
Вражеские пилоты, очевидно, знали, что в деревне находится штаб морской десантной бригады, и где именно он расположен. Быстро подавив единственное зенитное орудие, они принялись утюжить огнем улицы, время от времени коршунами налетая на высившееся посреди площади неподалеку двухэтажное здание бывшей помещичьей усадьбы.
Добравшись короткой перебежкой до угла ограды, Евдокимка уселась под куст сирени и выстрелила прямо в фюзеляж огромной машины, с разворотом заходившей на сельскую площадь. Только пуля ее, наверное, нанесла самолету такой же вред, как заноза слону. Тогда Евдокимка приподнялась и, пристроив оружие на ограде, между камнями, выстрелила еще раз, теперь прямо по днищу кабины. Самолет вдруг резко отвернул вправо и вверх, словно пытаясь атаковать багровый полукруг восходящего солнца, а затем, завалившись на правое крыло, стал уходить в сторону фронта. Возликовав по поводу этой победы, Евдокимка тут же осадила себя убийственно хладнокровно: «Ну и кому ты докажешь, что это ты его подбила?!»
Развернувшись, чтобы встретить другой самолет, она вдруг увидела бегущую к ней полуоголенную Настаську. «Ложись!» — крикнула ей Евдокимка, калачиком сворачиваясь в своем каменном закутке. В следующее мгновение она заметила фигуры старшего сержанта Куренного и Варьки, тут же исчезнувшие в огромном взрывном вихре, вулканически разнесшем саманную полуземлянку, где все они только что ночевали. Закрыв от ужаса глаза, Гайдук сначала почувствовала, как сквозь крону куста на нее упало что-то теплое и мягкое, а затем ударили куски самана, комья глины, осколки камней и еще черт знает чего…
Придя в себя, Евдокимка обнаружила, что лежит под кустом, опираясь головой в оголенную грудь наваливавшейся на нее Настаськи и что обе они буквально погребены под кучей самана, глины и мелких камней. Прежде чем выбраться из-под этого завала, она уяснила для себя, что от гибели ее спас некогда густой, а теперь совершенно растерзанный куст сирени да уже не подающее признаков жизни тело хозяйки взорванного дома. Увидев, что голова женщины размозжена, а в позвоночник ее между лопатками вонзился кусок металла, Гайдук мысленно поблагодарила судьбу, что осталась живой, отделавшись ссадинами на левой руке да болью в ключице.
— Вот мы и полежали с тобой рядом, Настаська, — стоически произнесла она, нервно и неумело перекрестив мертвую женщину. — Такая вот странная суждена тебе последняя земная ночь и последняя любовь…
Немецкие пилоты заходили на очередную штурмовку, однако Евдокимка попросту не обращала на них внимания.
Подняв оказавшийся под кустом карабин, Гайдук отошла чуть в сторонку и, сметая с оружия рукавом посеревшего бушлата пыль и грязь, осмотрелась. Бескозырка ее по-прежнему лежала на вещмешке, там, где она и пристроила их перед стрельбой — в проломе ограды. Отсюда девушка хорошо рассмотрела то, что осталось от здания штаба бригады, и молитвенно пожелала, чтобы хоть кто-нибудь из находившихся там командиров уцелел.
Осторожно, как в детстве в гробы умерших соседей, она заглянула через ограду. «В байку о подбитом самолете кто-то, возможно, и поверит, а вот в историю о ночи, проведенной с Настаськой, — точно никто», — подумала Евдокимка и, метнув прощальный взгляд на истерзанное взрывом тело женщины, поспешила к тому, что осталось от штаба бригады.
36
— Хорошо хоть пункт связи и документы оказались в подвале…
Голос начальника штаба — первое, что услышала Евдокимка, едва приблизилась к горящим руинам здания. Группа офицеров выходила из-под арки винного погреба неподалеку.
Заметив ее, майор тут же поинтересовался, где ординарец комбрига. Узнав, что тот погиб, начштаба приказал какому-то лейтенанту взять с собой фельдшера и санитаров и быстро обойти дворы: всех живых — к штабу, всех раненых — на санитарные повозки, представив их список, а также список убитых.
— Одно понятно, — обратился полковник к собравшимся вокруг него офицерам. Он был растерян и подавлен. — Узнав, что прорыв прикрыли свежей бригадой морской пехоты, немцы ночью прорвали линию фронта в двадцати километрах севернее нас и конечно же теперь попытаются соединиться с тем клином, который образовался в тридцати километрах южнее.
— Значит, вскоре мы уже будем сражаться в окружении? — спросил капитан-интендант. — Мы к этому совершенно не готовы. Наш обоз…
— К этому никто готов не бывает, — резко прервал его полковник, расстилая карту на пне. — Мы получили приказ отойти вот сюда, к реке Шумавке, чтобы соединиться с другими частями корпуса и наладить оборону по ее левому берегу. Отдельному батальону я уже отдал приказ на отход. Второй и третий батальоны, прикрывающие нас с севера и юга, пока остаются на своих позициях, со временем прикроют общий отход бригады[31] на юго-восток.
Едва он произнес это, как под аркой подвала появилась фигура дежурного офицера, который сообщил, что отдельный батальон только что пресек попытку немцев форсировать речку и начал отход, а второй все еще оказывает сопротивление, и отходить ему, очевидно, придется с боем.
— Немецкое командование конечно же постарается сделать все возможное, чтобы оба батальона увязли в стычках, — мрачно прокомментировал комбриг. — Его задача — не дать морякам оторваться от передовых подразделений вермахта. Наша задача — дождаться отходящих частей и отвести бригаду на новые, указанные нам, позиции, — полковник уже пришел в себя после пережитого налета и теперь говорил тоном полководца, готового бросить в бой мощные резервы и привести в боевую готовность тылы.
Словно бы оправдывая его амбиции, с востока к деревне стали подходить артдивизион полковых пушек и отдельный минометный дивизион, а вместе с ними и медико-санитарная рота. Кроме того, из села, расположенного южнее, подошла отдельная саперная рота, которая ночью сбилась с пути — теперь ей предстояло выступить в роли обычного стрелкового подразделения. Однако бросать эту силу навстречу отступающим батальонам уже не имело смысла, концентрировать ее в районе деревни, не рассчитывая на прикрытие с воздуха, — тем более; с минуты на минуту здесь опять могла появиться немецкая авиация.
Евдокимка вдруг поймала себя на мысли о том, что старается анализировать ситуацию так, словно дальше командовать бригадой предстоит ей. Во всяком случае, она все увереннее ставила себя на место офицера, пытаясь рассуждать, а значит, и действовать так, как обязан командир.
Однако о маршальском жезле в ранце мечтающего сержанта Гайдука полковник не ведал. Как только ему доложили, что ординарец погиб, он тут же вспомнил о парнишке, захватившем в плен немецкого офицера. Вспомнил только для того, чтобы спросить:
— Ну что, храбрец, пойдешь ко мне в ординарцы?
«Только этого мне не хватало! — мысленно ужаснулась девушка. — Он бы еще в горничные меня определил!» Она взглянула, как подоспевшие бойцы лихорадочно приводят в порядок уцелевший флигель колхозной конторы, чтобы превратить его в штаб, и, словно от зубной боли, мысленно простонала.
— Я ведь снайпер, — холодно напомнила Гайдук полковнику. — Держать меня на побегушках нет смысла, лучше уж направьте в разведроту, — кивнула она в сторону маявшегося неподалеку, с группой своих сорвиголов, старшего лейтенанта. — Тем более что, коль уж немцы задумали взять нас в клещи, значит, уже сегодня ночью в тыл нам забросят десант.
Комбриг и начштаба удивленно переглянулись.
— Об этом что, пленный ганс говорил? — спросил майор.
— Мой пленный о таком знать не мог. Да и возник этот замысел, очевидно, только что, когда стало ясно, что прорывы удались. Просто тактика у них такая. В лоб они обычно не ходят. В клещи и по тылам — да.
— Так ты еще, оказывается, и стратег… — с облегчением вздохнул полковник. Он понял, что догадка о десанте возникла в фантазиях этого крепко сбитого, но с каким-то девичьим ликом, морячка.
— А ведь правильно: в разведроту его! — тут же поддержал начальник штаба. Он не мог простить сержанту вчерашней стычки из-за пленного и не желал, чтобы такой наглец мелькал у него перед глазами, вставая между ним и командиром части. — А в ординарцы мы сейчас кого-нибудь из саперной роты определим, там парни расторопные, хозяйственные.
Полковник спорить не стал. Подозвав старшего лейтенанта — долговязого, худощавого, вовсе не похожего на «волкодава», каким, в представлении Евдокимки, должен быть командир роты разведчиков, комбриг спросил:
— На счету вашей роты, старший лейтенант, есть хотя бы один добытый «язык»?
— Пока что нет, товарищ полковник, но мы ведь еще только разворачиваемся…
— Опоздали, Орешин, — сурово прервал его лепет комбриг. — Мы уже давно развернулись, и теперь, похоже, сворачиваемся. А на заданный вопрос нужно было отвечать: «Никак нет, ни одного “языка” мои бойцы пока что не взяли!»
— Никак нет, товарищ полковник, ни одного пока…
— Так вот, теперь у вас в роте появится боец, который вчера, в схватке, один на один, взял в плен немецкого офицера.
— Вот этот? — удивленно уставился на Евдокимку явно несостоявшийся «батя» разведчиков. — Вчерашнего офицера? Я-то думал — он только переводчик.
«Я-то думал…» — все никак не могла Евдокимка избавиться от детской привычки про себя передразнивать всякого, кто ей с первого же взгляда не понравился. — Как только подойдет мой батальон, тут же назад попрошусь, к Корягину».
— И добытчик, и переводчик. И стратег, — окончательно определил статус новичка полковник. — Словом, младший сержант Гайдук, с этой минуты поступаете в распоряжение командира разведроты!
— Есть, поступить в распоряжение, — без особого энтузиазма ответила Гайдук.
37
Однако в ближайшие трое суток никаких «языков» добывать не понадобилось. Противник — вот он, весь, как на адской сковородке! С высоты двух скифских курганов и нескольких полураспаханных холмов, между которыми держали теперь оборону рота разведки и приданное ей отделение противотанковых ружей, степные позиции немцев и несуетные передвижения их подразделений просматривались чуть ли не до самого горизонта.
Мощным ударом с севера немецкие танковые части сбросили бригаду морской пехоты с ее позиций в окрестностях Гутовки. Теперь моряки держали изнурительную оборону по болотистому руслу какой-то речушки да на холмистой гряде, имея в своем тылу две деревни, рыбачий хутор и заползавший далеко в степь лиман Азовского моря.
Именно к этому лиману да еще к каменистой косе с остатками рыбачьих хижин и пытались немцы прижать батальоны «черных комиссаров». Уже дважды Орешин порывался поднять роту в контратаку, и дважды Евдокимка отговаривала его от этой затеи, убеждая, что атаки врага, так или иначе, захлебнутся, а при такой плотности огня десятков «шмайсеров» он в первой же контратаке потеряет до половины роты.
— Так ведь ребята же рвутся в рукопашную, — старший лейтенант словно оправдывался, поскольку на авторитет Гайдук явно работали пленный офицер и рекомендация комбрига.
— Пусть свой клич «Полундра!» они поберегут до того часа, когда кончатся патроны, — холодно осадила она Орешина. — А наступит это очень скоро. Кстати, вечером нужно будет отправить группу для сбора трофеев, помня, что рожки с патронами немцы носят в раструбах голенищ.
— Дельное предложение.
— Не дельных не предлагаю. Не исключено, что уже завтра отбивать атаки придется трофейным оружием.
Попросив у командира роты троих бойцов, она отправила их по неглубокой ложбине к застывшей на пригорке обгоревшей немецкой самоходке и приказала проложить под ней небольшую крестообразную траншею, превратив ее и в наблюдательный пункт, и в снайперскую позицию.
— Что они там, охламоны бранденбургские, выкрикивают? — первое, о чем поинтересовался Орешин, когда ротные связисты проложили к ее «командному пункту» телефонную связь.
— Объявляют перерыв на обед и приглашают к себе в гости.
— Так «сними» хотя бы одного из них, ты ж у нас снайпер.
— Зачем портить обедню им и себе? Пока они трапезничают, ни один выстрел не прозвучит, ни одна мина не шлепнется. Потому и кричат, что предлагают согласовать время фронтового перерыва. Вчера мы это условие нарушили. Чем кончилось? Целый час нас долбили минами и снарядами, с интервалом в три минуты. Еще и мстительно объяснили: «Это вам приправа к обеду! Концерт для психованных иванов!»
Третью атаку немцы решили предпринять под вечер. Сидя в своем гнезде под самоходкой, Евдокимка с грустью взирала на скупое осеннее солнце, готовящееся с минуты на минуту скрыться за низкой дождевой тучей, а затем — на небольшой, сплошь усеянный рябью уголок лимана. Прежде чем взяться за свой карабин, она попросила по телефону командира роты:
— Прикажите не открывать огня, пока немцы не подойдут к речушке. К чему пустая трата патронов? А до того времени я уже попытаюсь проредить их ряды.
— Ну-ну, покажи работу, — согласился тот. — Прослежу в бинокль.
В немецком окопе, часть которого Евдокимка могла просматривать из своего укрытия, в самом деле происходило какое-то движение, очень похожее на приготовление к атаке, однако выходить из окопов фрицы явно не торопились. Очевидно, полагали, что для одного дня двух ставок на рулетке смерти вполне достаточно. Вот только их командование с этим не согласилось.
Неспешный, методичный артобстрел, которому они наконец подвергли передовой край русских моряков, длился несказанно долго. Причем никогда еще Евдокимке не приходилось бывать под обстрелом трех батарей одновременно — тяжелой, противотанковой и минометной. Притаившись под днищем самоходки, ее товарищи-бойцы слышали, как осколки вспахивают каменистый склон пригорка и десятками осыпают искореженную броню. Лучшего укрытия, чем то, в котором нашли приют они, в этой степи придумать было невозможно, оставалось разве что молиться, чтобы не последовало прямого попадания.
— И вот так всю жизнь: именно в те минуты, когда мне хочется полежать на какой-нибудь Дуняше, — мечтательно произнес доморощенный ротный балагур Баринов в минуту затишья, — меня тут же заставляют залечь под этот самый «Шуг»[32].
— Ты пока что под «Шугом» поучись лежать, чтобы с Дуняшечки своей потом не падать, — съязвил ефрейтор Кротов.
— Причем персонно со своей, а не с какой-нибудь соседской, — уточнил почти пятидесятилетний усач-связист Шаповалов, которого из-за любимого его словца «персонно» в роте звали не иначе как Персоной.
— Хватит болтать, юбкострадатели, — осадила всех троих Евдокимка, подумав при этом: «Знали бы они, что одна из таких «дуняшек» находится сейчас рядом с ними, в тесненьком окопчике!» — До двадцати считать умеешь? — спросила девушка пристроившегося со своим ручным пулеметом справа от нее, уже по ту сторону гусеницы, ефрейтора Торосова.
— Больше умею; совсем хорошо считаю, — заверил якут, некогда служивший на береговой базе Азовской флотилии. — Четыре года в школе учился.
— Ну, ты на меня грамотностью своей не дави; зорче считай тех, кто после выстрелов моих поляжет. А ты не подведи, — с какой-то особой, солдатской нежностью провела она рукой по ложе карабина.
— Если у тебя, персонно, не заладится, завсегда подсобим, — успокоил ее Шаповалов. — Тогда уж я сам их самолично и персонно…
Евдокимка видела, как неохотно, подгоняемые командирами, оставляли окопы германские пехотинцы. Орудия немцев дали три заградительных залпа и замолчали, только тяжелые минометы все еще продолжали коварно долбить оборону моряков.
В течение двух предыдущих дней минометный и артдивизионы бригады вступали в перестрелку с батареями вермахтовцев, едва те поднимались в атаку. Однако теперь русские орудия оживали только в минуты, когда на позиции десантников шли немецкие танки и самоходки — ощущалась острейшая нехватка снарядов.
Гайдук выждала, пока немцы пройдут ложбинку и начнут спускаться к речушке по пологому склону долины. Им бы преодолевать этот участок бегом, но Евдокимка уже знала, что команда перейти на бег последует только после того, как солдаты минуют болотистое русло речушки — так было вчера и позавчера, так же они вели себя и во время двух сегодняшних натисков. Ничего не поделаешь: убийственная германская пунктуальность…
Офицер оказался прямо перед ней, но Евдокимка опасалась, что, потеряв его, немцы тут же залягут или же вернутся в окопы, поэтому прицельно «сняла» рослого гренадера, шедшего по правую руку от него с ручным пулеметом наперевес. Затем — того солдатика, что вырвался вперед, пытаясь как можно скорее добраться до воды. Какого-то унтера, она подстрелила в ту минуту, когда, задержавшись у небольшого валуна, тот пытался подбодрить свое воинство…
Получив приказ открыть огонь только после преодоления противником речушки, рота молчаливо наблюдала за тем, как в одиночку с ним воюет совсем еще юный, но самим богом посланный им снайпер.
— Офицеров, самолично и персонно, офицеров снимай! — прокричал дежуривший у телефона рядовой Шаповалов. — Комроты требует, чтобы офицеров…
— С офицерами успеется, — проговорила Евдокимка, передергивая затвор и поспешно беря на мушку очередного автоматчика. — В атаке бойцы из них все равно никакие…
— Правильно стреляешь! Двадцать выстрелов — семнадцать немца стреляешь, — удивленно объявил Торосов, пройдясь длинной очередью по солдатам, сгрудившимся на правом фланге.
— Я же говорил, что наш Гайдук самолично и персонно половину роты уложит, — сквозь густые прокуренные усы прокричал в телефонную трубку Шаповалов. — Уже, считай, семнадцать фрицев угомонил.
— Смотрите, как бы немцы гранатами вас оттуда не выбили, — предупредил старший лейтенант. — Попрут на вас, как на заправский дот.
— Не подпустим; теперь я, считай, самолично и персонно к бою подключаюсь.
38
Командир роты оказался прав: атакующая цепь еще только подходила к речушке, а несколько гансов уже успели прорваться через нее и залечь. Приготовив гранаты, они с трех сторон, опережая друг друга, словно «спринтеры» на тараканьих бегах, поползли к самоходке.
— Ты по бегущим, по бегущим бей! — приказала Евдокимка пулеметчику. — С пластунами я как-нибудь сама разберусь, — по тому, с каким удивлением во взгляде воспринял эти слова якут, она вдруг поняла: «Все-таки проболталась: “сама”!» — Ну, что смотришь? — тут же нашлась она. — Хочешь сказать, «твоя моя не понимай»?
— Да нет, я вас хорошо понимаю, товарища младший сержант, — постарался как можно правильнее выговорить Торосов.
Одного она «сняла», когда тот попытался перебежкой обойти куст шиповника; второго сумела ранить в ягодицу, когда он доставал гранату… Но все же два взрыва, прозвучавшие почти одновременно, заставили качнуться и самоходку, и саму землю, в которой десантники искали спасения. Третий взрыв прогремел уже в кузове самоходки, у самого орудия. Спасло бойцов только то, что остававшиеся внутри снаряды предусмотрительные саперы убрали оттуда еще на рассвете. К счастью, гранаты у немцев оказались противопехотными, тем не менее в себя Евдокимка пришла с мутным ощущением того, что голова раскалывается и гудит каким-то глухим чугунным гулом.
Заметив, что она приподнимает голову, огненно-рыжий немец, только что добивший короткой очередью раненого пулеметчика Торосова, послал такую же очередь и в нее, но пули отрекошетили от мощной брони самоходки. Времени же на то, чтобы сменить рожок, Гайдук ему не оставила. Выхватив из-за бушлатного ремня трофейный пистолет, она дважды выстрелила ему прямо в живот.
Вновь впадая в забытье, девушка слышала, как, под рев доброй сотни глоток «Полундра! Рви их, братва!», мимо ее окопчика по склону долины устремились вслед за бегущими немцами морские пехотинцы. «Ну, наконец-то старший лейтенант осчастливит своих десантников настоящей рукопашной!» — подумалось ей уже в каком-то помутненном состоянии сознания…
Евдокимка пришла в себя от того, что, оттащив ее из-под самоходки в сторону окопов и уложив на небольшом, влажном после ночного дождя лужке, парень с санитарной сумкой на боку, стоя перед ней на коленях, лихорадочно оголял ей грудь.
— Э-э, ты чего это?! — подчиняясь некоему неистребимому женскому инстинкту, рванулась от него Евдокимка. — Ты куда лезешь?!
— Что значит «куда»? — опешил тот. — Как положено… Грудь пытаюсь открыть, чтобы легче дышать было.
— Ага, сейчас! Грудь он пытается открыть! — еще сильнее рванулась Евдокимка, но, лишь усевшись на ближайший камень, по-девичьи поджав коленки под подбородок, поняла, что именно произошло.
Парень вовсе не пристает к ней. Он санитар; вон и повязка с красным крестом на рукаве. Вытащив ее из-под «Шуга», санитар пытается выяснить, что с ней произошло, куда ранена и вообще в каком она состоянии.
— Если не ранен, так и скажи… — проворчал санинструктор, поднимаясь с колен. — Из-под земли, считай, откопал, хотя мог бы и мимо пройти; так он еще и возмущается!
Парнишка выглядел настолько юным и так горько обиженным, что Евдокимке захотелось погладить его по голове и утешить, по-матерински прижав к груди.
— Торосова, пулеметчика, на моих глазах убили, это я помню, а что с остальными? — вместо этого спросила она.
— Телефонист, которого Персоной кличут, в плечо ранен, легко, по касательной. Двое других убиты, только что похоронщики унесли. У деревни, в братской могиле, всех и упокоят, — он говорил об этом так спокойно, как могут говорить о погибших только фронтовые санитары, привыкшие долго бродить по полям сражений после того, как на них затихнут воинственные кличи и лихие атаки.
Несколько мгновений они поминально молчали. Евдокимка решила, что сегодня же обязательно проведает телефониста Персону.
Поднявшись, Гайдук оценивающе смерила парня взглядом. Они были почти одинакового роста, широкие кисти рук санинструктора свидетельствовали о том, что худощавость его — явление временное и сугубо юношеское. Ефрейтор-санинструктор оказался удивительно красив. Подобные лица — мужественные, с правильными чертами — сравнимы разве что с ликами юных эллинов; тех самых обнаженных героев, запечатленных в старинном альбоме «Скульптура Древней Греции и Рима», который, жутко стесняясь, Евдокимка любила разглядывать, будучи в гостях у Анны Альбертовны.
Прежде чем перевести взгляд на самоходку, чтобы понять, что произошло с небольшим гарнизоном ее «дота», Евдокимка вдруг подумала, что ей бы хотелось, чтобы ее сын походил на этого парня, кстати, слегка чем-то напоминающего полковника Гребенина.
«Ты сначала о муже-“эллине” позаботься, а потом уж о сыне думай», — иронично остепенила себя Евдокимка.
— Так, значит, наши все-таки сумели ворваться в немецкие окопы? — спросила она вовсе не о том, о чем намеревалась.
В эти минуты ей просто хотелось сесть с этим санитаром где-нибудь на бруствере или прямо вот здесь, привалившись спинами к лобовой броне самоходки, легкомысленно поболтать, как обычно это делают девушки во время свидания с парнями.
— Ворвались, как видишь, — санинструктор сопроводил взглядом группу моряков, которые, уже по привычке, слегка пригибаясь, понесли на ту сторону речушки ящики с патронами. — И даже дальше немца погнали, но затем вернулись и сейчас обживают новые позиции.
— Зря, старые лучше. Надо бы вернуть их назад. Кстати, как тебя зовут?
— Ефрейтор Корхов, товарищ младший сержант. Владислав то есть.
— Меня — Евдоким. Евдокимка. В санитарах как оказался?
— Самым естественным путем. Два курса медицинского института окончил, призвали в армию. В госпиталь, естественно. Однако я там служить не захотел, попросился сюда, в бригаду морской пехоты. Не взяли бы, наверное, но дядя помог.
— Тоже здесь служит?
— Бригадой командует.
— То есть наш комбриг Савчук и есть твой дядя?! Неплохо ты устроился.
— Почему сразу «устроился»? — возмутился Корхов.
— Не знаю, в подобных случаях обычно говорят именно так.
— Ты не думай, что я напросился сюда, чтобы под крылом у дяди отсидеться. Я ведь в институт шел, чтобы стать не обычным, а корабельным доктором. Как говорит мой отец, тоже морской врач, «чтобы соединить романтику с профессий». Здесь, во время атаки немцев, я веду огонь вместе со всеми. По-моему, одного фрица даже убил.
— Когда-нибудь на этом месте установят стелу, которая известит мир, что именно здесь санинструктор Корхов в неравном бою подстрелил своего первого и последнего фашиста.
Ефрейтор вновь собирался зардеться и обидеться, но в это время у пригорка остановилась легковая машина, откуда вышли комбриг и начальник особого отдела бригады майор Силин. Вслед за ними ворвался на пригорок мотоциклист.
— Вы почему прохлаждаетесь, ефрейтор Корхов? — на ходу грозно спросил полковник, решительно направляясь к самоходке. — Накажу по всей строгости устава.
— Никак нет, не прохлаждаюсь. Вот, снайпера нашего из-под самоходки извлек. Землей был засыпан и контужен.
— Сам ты контужен, — проворчала Евдокимка: терпеть не могла этого определения, да еще и применительно к себе.
— А! Так это ты, храбрец, половину роты противника на подступах к самоходке уложил? — взяв Евдокимку за предплечье, комбриг придирчиво осмотрел ее, пытаясь лично убедиться, что руки-ноги целы. И тут же приказал санинструктору отправляться для дальнейшего осмотра поля боя.
— Половины роты не наберется, не приписывайте, — с грустью глянула Гайдук вслед поспешно удаляющемуся «степному эллину». — Но не менее тридцати пяти, включая одного офицера…
— Видал скромника? — оглянулся полковник на особиста. — Более взвода врагов еще на подходе к нашим позициям уложил, и лишнего просит не приписывать.
— О тебе, сержант Гайдук, скоро легенды слагать будут, — с любопытством осмотрел Евдокимку майор-особист. — Кстати, я как раз по твою душу. Во-первых, утром пришла радиограмма, где сообщили, что, среди прочих, тебе присвоили звание сержанта. А теперь — еще одна новость…
— Уже сегодня мы вынуждены будем переправить тебя на тот берег, сержант, — поддержал комбриг. — Жаль! Считай, боеспособность всей бригады ослабляем.
Понимать, когда полковник говорит всерьез, а когда, с той же мрачной миной на лице, шутит, Евдокимка так и не научилась.
— Почему… переправить? Что, только меня одного, что ли?
— К сожалению. Остальным нужно будет с боем прорываться. Тебя же, — взглянул он на часы, — через полчаса в устье лимана подберет шлюпка и переправит на бронекатер, который, в свою очередь, доставит до ближайшего приморского аэродрома, где тебя будут ждать те, кто в тебе заинтересован.
— А кто во мне… заинтересован?
— Разведка, естественно, кто же еще? — объяснил особист.
— Но в связи с чем?
— У меня приказ обеспечить твою доставку в разведотдел штаба фронта, для выполнения особого задания. Это все, что мне известно, сержант.
Услышав все это, Евдокимка почувствовала себе так, словно ее коллективно самым бессовестным образом разыгрывают.
— Это… что, шутка? — с ухмылкой на лице спросила она у полковника.
— Да нет, приказ из самого верха. Все, сержант! Поступаете в распоряжение начальника особого отдела, — майор тут же указал ей на заднее сиденье мотоцикла, сам уселся в коляску и только тогда заметил: — И запомни, сержант, есть два учреждения — морг и особый отдел, сотрудники которых не шутят даже тогда, когда шутят! На сборы у тебя пять минут. В пакете увезешь характеристику на себя и кое-какие важные документы.
39
В Азовск Анна Жерми и подполковник Гайдук прилетели под вечер.
Это был типичный южнорусский городок, чьи пыльные окраинные закоулки незаметно переходили в лиловый булыжник центральных улиц. Старинные двух— и трехэтажные здания у площади вокруг поруганного местными безбожниками собора еще грезили чопорностью дворянских собраний, офицерскими балами и разгульными купеческими попойками. Линия фронта уже находилась в пятидесяти километрах, однако в городке пока не заметно было ни особых разрушений, ни паники. Единственным признаком близости войны в эти предвечерние часы служило какое-то странное безлюдье, но и оно, казалось, охватило город из-за господствовавших в нем осенних ветров, устилавших листвой искореженные временем и бесхозяйственностью тротуары.
— Было решено, что вы пару дней поживете в семье местных аристократов, для адаптации, — молвил Гайдук, помогая Анне выйти из машины.
— В этом городе и в нашем государстве — речь идет об аристократах? — хищно улыбнулась Жерми. — Опомнитесь, подполковник! Вы ведь давно истребили всех аристократов, как перепелов на весеннем лугу.
— Понимаю, что вы уже вошли в роль дочери белогвардейского генерала, пережившего «окаянные дни» в Париже, но все же не забывайтесь, тем более что в машине водитель, — сквозь зубы, вполголоса проговорил энкавэдист и, захлопнув дверцу салона, поднял глаза на второй этаж красивого особняка, у которого они остановились.
Выстроенный в виде уменьшенной копии дворца некоего британского лорда, особняк эдаким пережитком буржуазного прошлого русской архитектуры возвышался теперь в глубине заброшенного парка, за литой чугунной оградой.
— Кто же эти люди?
— Профессор медицины Корчевский. Хирург. Из дворян, само собой. По матери происходит из графского рода, по отцу тоже не из пролетариев… Обучал медиков в Ростове-на-Дону. Консультировал не только больных, но и хирургов. Оба его сына, тоже медики, погибли в Гражданскую.
— В подвалах ЧК?
Гайдук недовольно покряхтел, повертел головой, словно ворот френча вдруг стал ему слишком тугим:
— Одного из них, в самом деле, казнили в екатеринбургском ЧК. Очевидно, не разобрались как следует. Впрочем, служил он не в «красном», а в деникинском госпитале.
— Но, по классовой наивности своей, хирург считал, что и те и другие его коллеги спасают от гибели просто русских.
— Это мы сейчас можем умничать по этому поводу, а тогда шла Гражданская война и классовая борьба. Я вот уже стал задумываться, а стоит ли вас, графиня Подвашецкая, отправлять в германский тыл; не поторопились ли мы?
— Пристрелить конечно же проще.
— Намного проще, — язвительно признал подполковник.
— Но тогда придется свести на нет столь глубокомысленно задуманную операцию «Поцелуй Изиды», — в том же тоне подыграла ему Анна. — И потом, я ведь прямо сказала вашему генералу Шербетову, что готова идти на это задание не ради коммунистических идеалов, а ради того, чтобы Россия не досталась германцам. Так что я, подполковник, играю «в открытую».
— Тогда считайте, что слышали всего лишь рассуждение вслух. Что же касается второго сына профессора, то он был смертельно ранен осколком снаряда и застрелился.
— Самого же профессора, отца двух белогвардейских офицеров, тоже арестовало ЧК?
— К его счастью, понадобилась операция одному из местных командиров, и сделать ее мог только профессор Корчевский. Правда, под дулом револьвера не в меру ретивого чекиста. Вам-то зачем все эти подробности?
— Хочу знать, с кем имею дело. Что в этом противоестественного? Неужели ему оставили весь особняк?
— Три комнаты на втором этаже. На двоих с женой. Сами понимаете, это еще по-божески. Учли, что одна из комнат должна служить кабинетом и библиотекой. Вам выделили соседнюю с профессорской квартиру генерала. Нет-нет, на сей раз — нашего, фронтового, семью которого только вчера эвакуировали. Так что стеснять профессора вы не будете.
— Коль уж мы говорим об аристократизме, то это принципиально важно.
— Белье и туалетные принадлежности туда уже завезли. Телефоны в обоих апартаментах проверены.
— Что уже достойно похвалы.
Прежде чем войти в подъезд, Анна решила обогнуть правое крыло здания. За ним прощался с листвой небольшой старый парк — с едва приметными тропинками, полуразрушенной беседкой и миниатюрным прудом.
— Понимаю, навевает воспоминания о классическом дворянском гнезде…
— Увы, господин подполковник, возрождать подобные воспоминания — не с вашим происхождением. Не боитесь, что профессор ненароком раскроет наше с вами сотрудничество?
— Ему ничего, кроме имени Анна, о вас не известно. Поживете у него под фамилией Салматиной. Помощь деньгами и продуктами профессору оказана, так что, особой стеснительности не проявляйте.
— Профессора потом эвакуируете или же в расход?
— Анна Альбертовна! — возмутился Гайдук. — Не спорю, у нас, по чекистской линии, были некоторые перегибы… Но сейчас-то время другое.
— Хотелось бы верить.
— Кстати, профессор уже не практикует и не преподает; лишних вопросов задавать не станет, поскольку, по природе своей, человек он замкнутый. Однако какое-то время профессорская чета жила в Петербурге и там познакомилась с генералом Подвашецким и его супругой, вашей матушкой, — подполковник взглянул на Анну, пытаясь выяснить, какую реакцию вызовет это сообщение.
Лицо женщины осталось невозмутимым.
— А меня профессорская чета когда-нибудь видела? — поинтересовалась Анна после непродолжительной паузы.
— Нет. Знают, что у генерала Подвашецкого была дочь, однако понятия не имеют о том, как сложилась ее судьба. Этот факт нам сообщила профессорша, Елизавета Ильинична. Она из бывших студенток профессора. К слову, происходит из рода князей Куракиных.
На пороге их встретила женщина лет пятидесяти. Худощавая, с коротенькой стрижкой и в брючном костюме, она с первого же взгляда способна была разрушить всякое представление о «профессорше» и вообще о женщине в возрасте.
— Здравствуйте, княгиня Куракина, — первой по-французски поздоровалась Анна, заставив тем самым хозяйку удивленно отшатнуться.
— Вам, сударыня, известно то, что я принадлежу к древнему роду Куракиных? — тоже по-французски ответила княгиня.
— Притом, что я рада приятной возможности познакомиться с одной из достойнейших его представительниц.
— Нас уведомили, что вы будете располагаться в квартире этого, уж не припомню его фамилии, красного командира. Человека, пусть мне простят чекисты, крайне необразованного и запойно невоспитанного.
«Боюсь, точно так же ты станешь отзываться и обо мне: “Ах, эта вульгарная простолюдинка”», — мысленно парировала Жерми, однако вслух с милейшей улыбкой произнесла:
— Будем надеяться, что участие в боях благоприятно скажется на пролетарской перековке характера нашего бравого генерала, — и проследила за тем, как, под присмотром подполковника, водитель и сопровождавший их машину мотоциклист охраны заносят ее вещи в квартиру напротив.
— Вот именно: «на пролетарской перековке», — поддержала ее княгиня уже по-русски, но с принципиальным французским грассированием и великосветским прононсом. — Мы с профессором Корчевским, — слово «профессор» она произносила с каким-то особым придыханием и артистизмом, — рады будем видеть вас ровно через час, к вечернему чаю. Кстати, вы так и не представились.
— Зовите меня просто Анной, не утруждаясь никакими другими наименованиями и титулами.
— Если я все правильно поняла, вы тоже «из бывших»?
— Скорее из будущих. В одном глубоко патриотическом фильме, который, несмотря на войну, все же готовится к съемке, мне предстоит сыграть графиню. Именно поэтому хотелось бы хоть несколько дней пожить рядом с истинной аристократкой, присмотреться к ее манерам и быту, проникнуться способом мышления… Естественно, выбор пал на вас, княгиня.
40
Они подъезжали к штабу бригады, когда прогремел орудийный залп. Как объяснил майор, это открыла огонь артиллерия отряда малых кораблей — «флот своих в беде не бросает!» — прибывшего для подавления позиций противника и обеспечения прорыва морской пехоты по северному побережью лимана. Эти же суда должны будут вечером взять на борт раненых десантников.
— А тебе известно, что абвер, то есть всю германскую военную разведку, возглавляет моряк, адмирал — Канарис? — спросил «особист», когда, после обеда, которым немыслимо голодную Евдокимку накормил штабной кок, она доложила, что готова следовать дальше, по назначению.
— Намек понял, — заверила его Гайдук. — Придется срочно оканчивать военно-морское училище и подаваться в адмиралы.
— Разве что. К слову, барон твой, ну, тот немецкий офицер, какого ты в плен взял, сумел бежать…
— Да ну? Как же это ему удалось?
— Его конвоировали в открытом кузове машины. Хоть и со связанными руками, но при одном разгильдяе-конвоире. Пленный ударом головы в грудь сбил конвоира с ног и, перекатившись через задний борт, бежал в нескошенное поле.
— Думаете, меня вызывают в связи с этим побегом?
— Да нет, при чем здесь ты? Я о побеге тоже случайно узнал, от коллеги. Нет, сержант, в этом, конкретном, случае ты — герой.
Они подошли к шлюпке. На нос ее, все еще остававшийся на прибрежной мели, санитары уложили тяжелораненого капитана. Вид его показался Евдокимке знакомым. Шагнув на борт, она резко подалась вперед, чтобы лучше разглядеть под бинтами его лицо, но проделала это настолько неуклюже, что посудина едва не опрокинулась.
— Не сомневайся, Гайдук, это я, комбат Корягин, — произнес раненый. — Не надо утешений, не трави якорь, со мной все кончено, — он тут же потерял сознание.
Евдокимка опустилась на свое место, вялым движением руки помахала оставшемуся на берегу майору и прощально окинула взглядом устье лимана: справа и слева от шлюпки в сторону судов отходила целая флотилия наспех сработанных из камыша плотов с ранеными десантниками.
«Если так пойдет и дальше, от бригады останутся одни воспоминания», — поняла девушка. То, что она, не будучи раненой, оставляла плацдарм, ощущалось самой Евдокимкой сродни трусливому бегству. И только пакет, врученный ей Силиным вместе с висевшей теперь на боку командирской сумкой, служил подтверждением того, что речь шла не о бегстве в тыл, а о том, что сержант Гайдук выполняет жесткий приказ командования.
Морем они плыли минут сорок, не больше. Когда катер высадил ее у дебаркадера, навечно заякоренного на изгибе косы, на берегу уже томился всадник, на поводу у которого пританцовывал от нетерпения молодой оседланный конь, пусть и далеко не кавалерийской породы.
— Сержант войск НКВД Виктор Кожин, — еще издали представился приземистый крепыш, оставляя седло и направляясь вместе с лошадьми к дебаркадеру. В смугловатом удлиненном лице его угадывались половецкие черты предков-степняков. — Слышал, что морские пехотинцы тоже не гнушаются вольтижировки[33]. Не врут, товарищ младший сержант?
— Уже сержант, — сдержанно обронила Евдокимка, и, смело подойдя к смирной колхозной лошадке, неуютно чувствовавшей себя под седлом, буквально взлетела на нее. «Настоящий казак познается по тому, как он садится на коня», — вспомнила она слова своего первого учителя верховой езды эскадронного старшины Разлётова.
— Ого, да тебе не в морской пехоте, а в кавалерии служить.
— Будет приказано — послужу. В связи с чем меня с передовой отозвали, не знаешь?
— Этого ведать не могу, но подозреваю, что затевается какая-то операция.
— Почему так решил?
— Просто так сюда, в разведотдел штаба полевой армии, генералы да полковники из главного разведуправления не прибывают.
— Уж не Шербетове ли речь?
— Так ты что, и самого генерала Шербетова знаешь?! — от удивления Кожин, притормаживая, так рванул узду, что конек его встал на дыбы.
— С ним прибыл еще кто-то?
— Подполковник Гайдук. Постой, но ведь и твоя фамилия тоже…
— Не мучайся в догадках. Это мой родственник.
— А мне-то говорили, что ты просто…
— Как тебе и говорили, я — просто сержант; разведрота десантной бригады морской пехоты.
— А на самом деле? — приглушив голос, недоверчиво поинтересовался Кожин.
— Вот, кто я на самом деле, — тоже снизила голос Евдокимка, — этого я уже и сам не знаю. Запутался, честно говоря. Заплутал во времени и в определениях.
Они миновали косу и поднялись на прибрежную возвышенность. В низине, подступавшей к настоящему морскому порту — с кранами и несколькими суденышками, — перед ними предстал городок, в центре которого высились потускневшие, лишенные крестов и христианского таинства купола собора.
— В каком это смысле «заплутал»?
— Чувствую себя полковым разведчиком, так и не вернувшимся с задания. Как послали за линию фронта добывать «языка», так и…
В город они ворвались галопом, устроив негласные гонки. Развевались конские гривы, копыта цокали по брусчатке, редкие прохожие жались к стенкам домов. В эти минуты — предусмотрительно спрятав бескозырку за борт бушлата, Евдокимка чувствовала себя командиром конного отряда, вторгшегося в город на спинах поверженных врагов. Для полной иллюзии не хватало разве что сабли да десятка всадников, дышащих в затылок.
Кожин свернул в одну из боковых улочек, и оба наездника осадили коней, поехали теперь без гонки, степенно, стремя в стремя.
— Хорошо в седле держишься, эскадронник! — неожиданно донеслось до Гайдук.
Она резко метнула взор на голос — в сторону небольшого тупика, где у забора, под охраной конвоиров, теснилась группа солдат — без оружия, без шинелей и ремней, с выпущенными поверх штанов гимнастерками. Это был голос… старшины Разлётова, голос, который девушка узнала бы среди сотен других. Она еще не определила, кто из арестованных ее бывший учитель, но уже не сомневалась, что он здесь.
— Что это за люди? — спросила Гайдук сержанта НКВД.
— Арестованные… Дезертиры, подлечившиеся самострелы, невыполненцы приказов… Трибунала ждут.
— Поводья к груди не подтягивай, Евдокимка! Конь к руке прислушиваться должен, — чуть-чуть отделился от группы седовласый боец, и двое охранников тут же нацелились штыками ему в грудь.
— «Дезертиры и невыполненцы», говоришь? — переспросила Гайдук энкавэдиста, тут же направляя коня к арестованному. — Это кто же дезертир — эскадронный рубака Разлётов? За что вас арестовали, старшина? — буквально разметала она своим конем охранников.
— Разговаривать с арестованным запрещено! — взъярился младший сержант, старший конвоя.
Однако Евдокимка попросту проигнорировала его предупреждение.
— Из окружения прорывался. Вплавь на коне ушел, через озеро. Конь утонул, а я пристал к какой-то группе бойцов. Трое суток сражался вместе с ними, а затем за меня взялась контрразведка. Начали выяснять, почему отстал от части, сколько и где был в окружении. В общем, в дезертиры записали.
Младший сержант попытался оттеснить Евдокимку вместе с конем, однако она напомнила Кожину, что он чекист, и попросила угомонить старшего наряда. Не сходя с коня, тот отвел охранника чуть в сторонку и что-то объяснил ему — очевидно, припугнул дядей из управления контрразведки и генералом Шербетовым.
— Найди офицера и попроси, — вновь повелела чекисту Гайдук, — чтобы попридержал этого арестованного здесь, вне трибунала, потому что через несколько минут его судьбу будет решать генерал НКВД Шербетов. Скажи, что этот казак понадобится нам для выполнения особого задания в тылу врага.
Кожин действительно метнулся в здание и еще через пару минут появился оттуда вместе со старшим лейтенантом, который на ходу изучал служебное удостоверение сержанта. Что именно он говорил офицеру, Евдокимка не слышала, потому что разговор велся вполголоса, но, по доброте душевной, старший конвоя после него отвел им не более двадцати минут для того, чтобы они получили тот приказ, о котором мечтают.
— Далеко еще до штаба армии? — спросила Гайдук, когда Кожин неуклюже вернулся в седло.
— Да метров триста отсюда.
— Тогда какого черта? Рвем якоря!
41
Евдокимке очень повезло, что подполковника Гайдука она встретила еще у входа в здание штаба — тот как раз возвращался после встречи с профессором Корчевским.
Никаких родственных чувств или просто человеческих эмоций при виде племянницы Дмитрий не продемонстрировал, холодно выслушал ее доклад и сказал:
— Хорошо, что сумел добраться сюда, сержант Гайдук. Ты нам нужен сейчас.
Евдокимка тут же обратила внимание, что дядя говорит с ней, как с мужчиной. И понятно, почему — чтобы не раскрывать перед Кожиным тайну ее появления в рядах морских десантников. Поднимаясь вместе с подполковником по широкой мраморной лестнице, она успела объяснить ему, в какую беду попал ее учитель — эскадронный старшина, служивший в Степногорске, — и попросила спасти.
К своему огорчению, Евдокимка обнаружила, что дядя никак не отреагировал на ее просьбу, но как только они попали в кабинет генерала, он тут же объявил:
— Кажется, я знаю, кого следует привлечь к операции в районе Степногорска. Есть старшина, знающий и город с его окрестностями, и наших разведчиц. Правда, он только что с боем вырвался из окружения, а товарищи из особого отдела толком не разобрались в ситуации, пытаются довести дело до трибунала…
— Понятно, — мрачно процедил Шербетов. — Фамилия старшины? — и тут же потребовал по телефону, чтобы арестованного Разлётова срочно доставили в контрразведку армии. — Под мою личную ответственность, да, — властным голосом подтвердил он свое распоряжение. — И поручите это сержанту Кожину! — после этого генерал пристально взглянул на Евдокимку и загадочно ухмыльнулся. — Неужели целая бригада мужиков так и не сподобилась разглядеть в тебе девицу?
— Никак нет, не сподобилась, — с какой-то ироничной грустью в голосе ответила Гайдук.
Шербетов переглянулся с подполковником и покачал головой.
— Вот что война с мужиками делает, — поспешил поддержать его Дмитрий Гайдук. — Представляю, в какой срам впадут все эти морячки, узнав, что девчушка столько времени их дурачила, как последних салаг.
Генерал предложил им обоим присесть и заметил:
— Почему бы не предположить, что мы имеем дело с талантливой актрисой, способной на полное перевоплощение? В разведке, согласись, это не последнее качество.
— Однако на задание она пойдет в своем естественном облике, так что спектакль с переодеванием можем считать завершенным.
— Над этим еще подумаем. В курс задания она введена? — тут же поинтересовался Шербетов.
— Пока что нет.
Генерал откинулся на спинку стула и удивленно уставился на подполковника:
— Тогда о чем мы здесь толкуем? Вдруг она не согласится? — спросил он с таким видом, словно самой Евдокимки в кабинете и не было. — А заставить ее, особенно учитывая возраст и пол, не имеем права.
— Тем более что рисковать мне приходится жизнью родной племянницы.
— Извините, но я так поняла, что вы хотите заслать меня в немецкий тыл, в Степногорск? — наконец решила Евдокимка вмешаться в этот странный диалог.
Энкавэдисты опять переглянулись между собой, и Шербетов сказал:
— Вводи ее в курс дела, подполковник; прямо сейчас и вводи. Я же еще раз выслушаю весь план операции и попробую взглянуть как бы со стороны.
Гайдук прокашлялся в кулак, на несколько мгновений взгляд его замер на какой-то точке между окном и массивным сейфом. Офицер явно собирался с мыслями.
— Только не надо напоминать о нашем родстве и казнить себя по этому поводу, — предупредила его Евдокимка.
— Тем не менее я должен предупредить, что операция опасная. И если ты не решишься лететь в немецкий тыл, говори сразу же. Мы — люди бывалые, поймем.
— Да не мучайтесь вы так, товарищ подполковник. Я уже высаживалась с десантом в тылу врага, спасая от пленения штаб дивизии; ходила в разведку, приводила «языка», а с начала войны на моем снайперском счету — восемьдесят пять врагов наверняка.
Подполковник понимал, что ничего противоестественного фронтовому бытию в рассказе девчушки не содержится. И все же то спокойствие, с которым племянница излагала это, не могло не покоробить Дмитрия. Он конечно же видел, что в доме брата подрастает сорвиголова в юбке, но только война по-настоящему раскрыла характер Евдокимки, ее лишенное страха естество.
— Словом, так, сержант Гайдук, — генерал решил, что толку от этих родственных изъяснений не будет. — От наших агентов поступают сведения: после захвата таких сугубо казачьих регионов, как Дон, Кубань и Терек, немцы попытаются настроить против советской власти все казачье население, а главное, создать в составе вермахта или, может быть, даже в составе войск СС, казачьи части. На формирование крупных соединений, таких, как армия, или же войско Донское, Гитлер вряд ли решится, но… Впрочем, это уже высокая политика. С ней лично тебе, сержант, соприкоснуться вряд ли придется, а вот известной тебе Анне Альбертовне Жерми, дочери царского генерала Подвашецкого…
— Жерми — дочь царского генерала?! — ошалело уставилась Евдокимка на генерала советского.
— По западным, буржуазным понятиям, она еще и наследница графского титула…
42
Квартира Корчевских в самом деле источала дух дворянского гнезда, тот дух, который, как оказалось, до сих пор не улетучился из памяти Анны Подвашецкой.
И дело даже не в том, что в комнатах все еще сохранялась пара старинных, работы венских мастеров, кресел, комод красного дерева и огромный, словно бы из цельного дуба изваянный, истинно профессорский письменный стол. Сущность этого духа определялась еще и видом шкафов, заполненных старинными книгами, и виньетками пожелтевших фотографий, откуда на Анну высокомерно посматривало прошлое столетие — с его мундирами, орденами и пышными женскими одеяниями, с ароматом французских духов, круто замешанном на тленности мебели и персидских ковров.
— Как же вам удалось сохранить все это, Елизавета Ильинична? Эту обстановку, этот дух, этот аристократизм отношений в семье?
— Секрет прост: мы свели до минимума общение со всем вульгарно-пролетарским миром, окружающим нас эти кошмарные годы. В городе было всего несколько семей старых интеллигентов, с ними Виктор Карлович поддерживал кое-какие отношения. В то же время в общении друг с другом мы старались вести себя так, словно находились на светском рауте.
— Теперь я понимаю, как мне в моем доме не хватало подобного общения.
Сам профессор на встречу с Анной так и не вышел. Когда княгиня провела ее в кабинет, чтобы представить — этот сухонький благообразный старичок как-то необычайно легко поднялся из-за стола, подошел в гостье, поцеловал руку и сдержанно произнес:
— Поскольку я не имею чести знать вас, и вряд ли у нас отыщется хоть какая-то общность интересов, то всецело отдаю вас во власть Елизаветы Ильиничны.
— Сам тот факт, что вы позволили мне ступить в свою профессорскую келью, уже преисполняет меня гордостью, — вежливо склонила голову Анна.
Жерми беглым взглядом прошлась по тесной, сплошь заставленной книжными шкафами комнате и остановила его на широком, устланном белой овчиной кресле. Она не сомневалась, что даже в созданном для него супругой заповеднике дворянства профессор уютно чувствует себя только в этом кресле, за столом, заваленным книгами и какими-то бумагами.
— Судя по стопке исписанной бумаги, вы наконец-то решили сосредоточиться над тем теоретическим трудом в области медицины, о создании которого мечтали, еще будучи полевым хирургом в госпиталях мировой войны. Очевидно, речь идет об опыте полевой хирургии?
Профессор убрал с переносицы очки, водрузил на нее пенсне и удивленно уставился сначала на супругу, затем на гостью.
— На эту тему мы с госпожой актрисой беседы не вели, — в голосе княгини Куракиной проявились нотки осуждения. Судя по всему, тема научного труда профессора оставалась самой большой тайной этого аристократического гнезда.
— Не вели, естественно, — тут же подтвердила Жерми. — Просто я принадлежу к догадливым женщинам. Сожалею, что не могу выступить в роли вашего личного секретаря. С удовольствием окунулась бы в мир медицины.
— Хотите сказать, что тоже каким-то образом связаны с этим миром?
— По одному из своих дипломов я — фельдшер. Всего лишь. Дальше следовали другие увлечения.
— Мне сообщили, что вы — талантливая актриса и что именно вам доверили сыграть роль графини в каком-то историческом фильме.
— Да, хотя в свое время мечтала перевоплотиться в хирурга. Впрочем, не стану отвлекать вас, господин профессор, — вежливо заторопилась Анна, опасаясь, как бы Корчевский не стал выяснять, о каком именно фильме и каких исторических реалиях идет речь.
— Вы сказали «перевоплотиться в хирурга»? Врач и в самом деле не становится хирургом, как это принято считать, а перевоплощается. Удивительно точное, образное выражение.
— Дарю его вам, господин профессор.
Они пили чай с липовым медом, банку которого подарил хозяйке кто-то из благодарных пациентов мужа, и княгиня все говорила и говорила… О чествовании Виктора Карловича после блестящей защиты докторской диссертации; об офицерском бале в здании дворянского собрания Ростова-на-Дону, где сразу три генерала почли за честь вальсировать с ней; о приемах в аристократических домах семейств, чьи фамилии Жерми никогда не слышала. О том, как под «Прощание славянки» уходили на фронт последние роты юнкерского училища: «Ах, какие благовоспитанные мальчики! Какой высокородный фонд русской нации…»
Госпожа Куракина рассказывала обо всем этом с жадностью измученной интеллектуальным одиночеством пожилой женщины, наконец-то воспользовавшейся случаем выговориться, и с романтизмом светской львицы, в своих фантазиях все еще танцующей с офицерами, большинство из которых погибло уже несколько дней спустя… При этом княгиня ни словом не обмолвилась ни о нынешней войне, ни обо всем том, что происходило сейчас за окнами их особняка. Жерми впервые видела перед собой особу, продолжавшую жить в той, прошлой жизни, даже не пытаясь при этом предположить, что же лично с ней, с ее семьей, с их особняком может случиться завтра, когда фронт приблизится к стенам города.
Анна была признательна генералу Шербетову, что тот догадался свести ее с этим семейством, в чьем доме она снова почувствовала себя дворянкой, графиней, женщиной из «того» мира.
— А вот с вашей досточтимой матушкой, Анна Альбертовна, я встречалась всего дважды.
Услышав это, Жерми потеряла дар речи. Однако княгиня была слишком увлечена воспоминаниями, чтобы обращать внимание на такие мелочи.
— Честно говоря, я слегка побаивалась ее, поскольку она явно не одобряла наш неравный — в смысле возраста, естественно, а не социального положения, — брак. Я тогда была еще совсем юной, а матушка ваша, как судачили, оказалась почти на четыре года старше своего генерала.
— Позвольте, позвольте! Кого вы имеете в виду, когда говорите о моей «досточтимой матушке»?
— Супругу генерал-адъютанта императора Подвашецкого, — ничуть не смутившись, уточнила княгиня. — Прекрасно помню ее. Эдакая дородная дама, из бывших фрейлин императрицы. Высокомерная и язвительная… истинная генеральша. Из тех, кого природа словно бы специально, под копирку, штамповала, чтобы затем осчастливливать генеральский корпус императорской армии.
— Значит, вы сразу же узнали меня?!
— Не я, а профессор Корчевский. Кроме всего прочего, он ведь еще и прекрасный физиономист, обладает удивительной памятью на лица. Кстати, ваша бабушка по отцовской линии — тоже из рода Куракиных. Так что мы с вами еще и родственницы.
Анна хотела что-то сказать, однако Елизавета предупредительно вскинула руку:
— Не волнуйтесь, об этом никто не узнает. Ваш «режиссер», у которого на лбу написано, что он чекист, завербованный из волостного комитета бедноты, так и будет считать, что мы воспринимаем вас как актрису.
— Именно об этом я и хотела вас просить.
— Я полагаю, чекисты намерены ввергнуть вас в объятия своего папеньки, то есть переправить на Запад, скорее всего, в Вену или в Будапешт?
— Да нет, что вы! Я — действительно дочь генерала Подвашецкого, но в самом деле собираюсь сниматься в фильме о событиях Гражданской войны…
— Прекратите лгать, Джозефина, — мягко, вкрадчиво, но в то же время внушающе, произнесла княгиня Куракина.
«Джозефина?!» — застыл на губах возглас, которым Анна должна была встретить услышанное имя.
Пока гостья приходила в себя, Елизавета прикрыла дверь в кабинет, закурила и, прислонившись к стенке комода, пристально наблюдала за ее реакцией.
— Я ведь не ошиблась, именно таковой была ваша агентурная кличка в школе контрразведки?
— Откуда вам это известно? — почти по слогам спросила Жерми.
Княгиня сделала еще несколько глубоких затяжек, томно развеяла рукой дым — профессор явно не поощрял курение — погасила окурок и только тогда сняла с себя златокудрый парик.
— Господи, так вы — мадам Грегори! Горгона!
Теперь, в этой редковолосой, коротко стриженной даме, Жерми без труда узнала сотрудницу их школы контрразведки. Ту самую, что преподавала весьма специфический предмет — психологию ведения допроса.
— Что было, то было. Память вам не изменяет.
— Но как же вы все это время…
— Вы правы, Джозефина, в подполье столько времени я вряд ли продержалась бы. Спасло меня то, что красные очень ценили профессора Корчевского, да еще то, что вскоре им понадобился специалист по психологии допросов для местной школы младшего комсостава ЧК. И меня привлекли к преподаванию в ней на правах военспеца, естественно. Так что живу я в этом городе на вполне легальном основании.
Когда полчаса спустя, в оговоренное время, Анне позвонил подполковник Гайдук, то первое, что его заинтересовало, это не сумела ли Елизавета Ильинична догадаться, кто Жерми на самом деле?
— О нет! — успокоила его Анна. — Мы вели исключительно светскую беседу. Княгиня Куракина томно вспоминала о своем царствовании на офицерских балах и в дворянских собраниях.
Как только Жерми убедилась, что подполковник поверил ей, она мысленно объявила: «Знал бы ты, чекист, какую оплошность допустил. За такую провальную оплошность офицеры контрразведки обычно расплачиваются не только чинами, но и головами!»
43
Услышав о высокородном титуле Бонапартши, сержант морской пехоты Евдокия Гайдук намеревалась иронично ухмыльнуться, однако сидевший рядом подполковник слегка сжал ее кисть и назидательно посоветовал:
— Ты пока что только слушай, и ничему не удивляйся. На все твои вопросы я отвечу после беседы, вне этого кабинета.
— …Причем отец ее, — продолжал генерал, испросив у Евдокимки как у женщины разрешения закурить, — жив и вращается в тех военно-эмигрантских кругах, что вынашивают планы создания русской белой армии. Той самой, вожделенной, взлелеянной в эмигрантских фантазиях, способной сражаться за сотворение новой России — уже без коммунистов, без советской власти и, ясное дело, под покровительством рейха. Вам, как опытному разведчику, — это свое «опытному разведчику» Шербетов произнес без малейшей иронии, — не надо объяснять, как важно для нас иметь в таких кругах своего человека.
— Если нужно, я готова отправиться вместе с графиней Жерми в Берлин, Париж или в Рим. Пусть даже в качестве прислуги или тайного телохранителя.
Тут уж, конечно, мужчины не смогли удержаться от снисходительных улыбок и гасили их, глядя каждый в свою сторону.
— «Тайного телохранителя», говоришь? А что, такой вариант тоже не исключается, — первым пришел в себя после этого заявления подполковник. — Возможно, со временем дело дойдет и до таких вояжей.
— Со временем — да, — многозначительно подтвердил генерал. — Но пока что… Словом, Анна Альбертовна дала согласие сотрудничать с нами. Под видом беженки, которой не удалось уйти за линию фронта, мы возвращаем ее в Степногорск. В городе она объявит немецким властям о своем происхождении и, таким образом, начнет рейд в те края, где сейчас обитает ее отец; с твердым намерением оказаться в его объятиях.
— Неужели она согласилась шпионить против родного отца?
— Генерал Подвашецкий живет, предаваясь сладостным грезам. Так что графине Анне Подвашецкой предстоит пройти свой собственный путь к высшему свету эмиграции, найти свое место в стае белогвардейской аристократии. Пока что это все, что тебе нужно знать, сержант, чтобы понять всю важность операции по ее внедрению… — произнеся это, генерал вопросительно взглянул на Гайдука.
Подполковник понял его, кивнул и продолжил:
— Обойдемся без парашютов. Высаживаться будете с приземлившегося самолета довольно далеко от Степногорска. Анна Альбертовну встретят наши люди. Что же касается тебя, то рассматривается такой вариант…
В это время появился ординарец генерала и сообщил, что арестованный Разлётов доставлен. Генерал ответил: «Пусть ждет!», а сам обратился к Евдокимке на «вы» и без звания:
— Вы, Евдокия Николаевна, полетите не одна. Приземление самолета вряд ли останется незамеченным. Естественно, у германской контрразведки возникнет вопрос: «Кого и с какой целью высадили русские?» Так вот. Ваша группа, куда войдут уже известный вам сержант Кожин, минеры из саперного взвода и, возможно, старшина Разлётов, обязана будет выступить в роли диверсантов, что высадилась из самолета, чтобы действовать на железной дороге, — генерал смерил девушку усталым взглядом, в котором, однако, светился огонек некоего озорного любопытства.
— Своими действиями группе нужно отвлечь немцев от Анны Жерми, — Евдокимка решила, что самое время убедить генерала в своей понятливости.
— Вас высадят вечером, — продолжил изложение плана операции подполковник. — В течение ночи группа совершит диверсию на железной дороге, а также нападение на склады в северной части поселка. А потом уйдет в плавни, или же найдет какое-либо другое убежище. Словом, требуется действовать, исходя из ситуации. Сутки спустя гидросамолет подберет Анну у заранее определенного прибрежного островка. Что скажешь на это?
Евдокимка немного помолчала, зачем-то нащупала в кармане трофейный пистолет, изъятый у плененного ею офицера; ощущая в руке оружие, она словно бы проникалась духом воинственности.
— Если говорить откровенно, я опасалась, что вы предложите мне вернуться вместе с Анной в Степногорск. На этот вариант операции я не согласилась бы.
Подполковник многозначительно взглянул на Шербетова: «А я что говорил?!»
— Почему так? Мне казалось…
— Конечно, если прикажете… Но вам, товарищ подполковник, хорошо известно, какой партийной активисткой зарекомендовала себя наша многоуважаемая Серафима Акимовна.
— Это она — о матери, — коротко расшифровал Гайдук для генерала.
— Поэтому немцы, не говоря уж о местных полицаях, не поверили бы в мою благонадежность. А значит, и в благонадежность Жерми. Но тот вариант, что вы только что предложили, меня вполне устраивает. Свою задачу я вижу в том, чтобы передать графиню из рук в руки тому, кто встретит ее. В случае же предательства, приму бой, попытаюсь спасти. Словом, как говорит мой комбат Корягин, план любой операции морского десанта сводится к формуле: «Главное — зацепиться за берег! А там уж, по ходу событий, разберемся!»
В кабинете воцарилось неоднозначное молчание. Генерал с досадой уяснил для себя: если бы они предложили тот, первичный, план операции, под который, собственно, Евдокию Гайдук и отзывали с фронта, — сейчас этот юный сержант морской пехоты поставил бы их в очень неловкое положение.
— Вы правы, Евдокия, — наконец выдохнул Шербетов. — В этом варианте, на чем мы в конечном итоге и остановились, как раз и проявятся ваша выучка и опыт десантника…
Когда Евдокимка вышла в коридор, где ей велено было подождать, генерал неожиданно спросил у Дмитрия:
— Она что, в самом деле не чует страха или просто храбрится?
— В ее характеристике есть прелюбопытнейшая фраза: «В боевой обстановке не предается страху смерти; поражает меткостью стрельбы и умением хладнокровно оценивать ситуацию. Бойцы рядом с Гайдуком приобретают чувство уверенности». А, как закручено? Лев Толстой лучше не сказал бы!
— Интересно, что бы запел твой «зарапортовавшийся» Толстой, — проворчал генерал, — если бы узнал, что на самом деле этот его храбрец-десантник — семнадцатилетняя девчушка?…
Тем временем, увидев в коридоре штаба Евдокимку, растрогавшийся и все еще не верящий в свое спасение эскадронный старшина Разлётов чуть было не бросился ей в ноги.
Однако Степная Воительница приблизилась к нему вплотную и вполголоса пробубнила:
— Не трави якорь, старшина. А главное, запомни: по документам я — мужчина, сержант Евдоким Гайдук.
Старшина на полуслове запнулся и беспомощно уставился на девушку.
— Вот так-то надежнее. Подольше молчи, — посоветовала ему сержант. — А вот, спасла я тебя, старшина, или же на самом деле погубила, об этом поговорим через несколько дней и в другом месте.
* * *
Окончательно десантно-диверсионная группа «Днепр» под командованием сержанта Евдокима Гайдука сформировалась уже к следующему утру. Для усиления ее из саперного батальона прибыли два минера-подрывника: сержант Веденин и рядовой Солодов. Согласно ролевым обязанностям заместителем командира назначен был сержант НКВД Кожин. На бывшего эскадронного старшину Разлётова возлагалось ведение разведки.
Еще в течение четырех дней группу готовили к диверсиям на железной дороге и к атаке на промышленные склады, а кроме того, обучали азам партизанской борьбы и знакомили с трофейным оружием — на тот случай, если через сутки эвакуировать ее с помощью гидросамолета по каким-то причинам не удастся. Из этих же соображений для задания всем выдали гражданскую одежду — телогрейки, сапоги, ватные брюки, легкие резиновые плащ-накидки.
— Что-то произошло, и Жерми с группой не полетит? — встревоженно спросила Степная Воительница, когда к концу третьего дня на полигон прибыл подполковник Гайдук. Один.
— Мы посадим ее в самолет в последнюю минуту. Только тебе одной останется известным, кто она и с какой целью направляется в тыл врага… А что касается вооружения и прочего снаряжения — что подсказывает опыт десантника?
— В вещмешках должно быть как можно больше патронов, консервы и как минимум по пять «лимонок» на брата. Кроме того, всем следует выдать ножи, бинты… И уж совсем хорошо, если бы у каждого оказалось по пистолету. Потому как дебрей лесных в местах высадки не наблюдается, а по полям и деревням малой группой, при стрелковом армейском вооружении не очень-то погуляешь. Это я так, на случай партизанского варианта. Кстати, мне как снайперу, положен усиленный боекомплект…
— …которым загрузим эскадронного старшину. Пусть отрабатывает свое спасение. Что же до всего прочего, — прикинем, изыщем… Как там говорил ваш комбат? «Главное — зацепиться за берег»?
— Еще немного, и вас можно будет записывать в морские десантники.
Подполковник задумчиво кивнул, выдержал небольшую паузу:
— Знаешь, чувствую я себя как-то очень уж неловко. Как племянницу, родную кровь, я должен был бы оберегать тебя, а вместо этого я…
— Опять родственные стенания? — нахмурилась Евдокимка.
— Скорее угрызения совести.
— Еще одно такое «угрызение» — и от слабонервного родственничка придется официально отречься, — с едва пригашенной улыбкой объявила Евдокимка.
— Ладно, постараюсь забыть.
— Э, нет! — девушка помахала указательным пальцем у него перед носом. — Забывать, что в родственничках у вас ходит такое чудо природы, вам все-таки не стоит.
Подполковник вздохнул и многозначительно развел руками:
— Как мудрствовал мой дед: «Гайдук — он и есть гайдук. Вся судьба его определена прозвищем».
44
Прежде чем доложить летчику, что самолет к вылету готов, механик осмотрел низкое, серое небо, глубоко вдохнул уже насыщенный леденящей влагой осени воздух и проворчал:
— Это же полет самоубийц!
— Но-но, не каркай! — попытался остепенить его летчик.
— Да это не карканье, это вытье. Если бы хоть с прыжками, а то ведь с посадкой и взлетом. Это — полет в один конец… — и безнадежно махнул рукой. — Машины жалко, вчера, почитай, весь мотор заменили…
Понимая, что слова эти рассчитаны на него, подполковник Гайдук, только что закончивший последний инструктаж летчика, вынужден был глубокомысленно признать:
— Ежели сугубо по летным канонам, оно, может, и самоубийственно. С другой же стороны — для коршунов люфтваффе погода тоже нелетная; да и зенитчики не очень-то разгуляются. Опять же десанту легче скрыться. Словом, смотри мне, лейтенант, — обратился он опять к командиру «транспортника». — Самолет — дело наживное, но за людей головой ответишь.
— Кто бы за мою голову ответил, товарищ подполковник? — со вздохом козырнул пилот. — Пусть даже хоть самой несолидной частью тела.
Будь на то воля Евдокимки, за такой пессимизм она отстранила бы летчика от полета. Но пока что у нее оставалась только одна возможность — немедленно сесть в самолет, где уже ждала по-крестьянски, с глубоко надвинутым на лоб платком, одетая Жерми.
На прощание подполковник попытался сказать Евдокимке что-то напутственное, однако она тут же пресекла его старания:
— Опять родственные угрызения? В два счета из родственников разжалую, — и нарочито широким, мужским шагом направилась к борту самолета.
* * *
…В конечном итоге пилот оказался молодцом. Сориентировавшись, он сумел посадить самолет на лугу, между берегом небольшой речушки, притоком Днепра, и рощицей.
Евдокимка первой спрыгнула на землю и, пока остальные выбирались из машинного чрева, буквально просверлила все пространство вокруг стволом своего карабина. К месту встречи с агентом «Соболь», запланированной у карьера, неподалеку от руин камнетесного цеха, она двинулась на много метров впереди всех. При поддержке Разлётова, за ней шла основательно покачивавшаяся после полета Анна. Их прикрывал продвигавшийся чуть сбоку, со стороны дороги, сержант Кожин. Замыкали шествие саперы.
Как и предполагалось, появление самолета незамеченным в поселке не осталось. Услышав долетавший из-за лесополосы гул автомобильных моторов, Евдокимка подала знак, и основная часть группы метнулась к неглубокому, поросшему кустарником овражку. Вне его склона, прячась за валунами и кустарником, остались только Евдокимка и Кожин. Они видели, как легковушка и две крытые машины с немецкими солдатами свернули с дороги и поехали по степной равнине к тому месту, где еще недавно приземлялся самолет.
— Может, ударим, пока они в машинах? — предложил Кожин.
— Немцы обстреляны, — возразила Евдокимка, которая и сама еле сдерживалась, чтобы не пальнуть по легковушке. — Они расползутся по степи, возьмут нас в клещи и дождутся подкрепления. Пока что мы не можем рисковать.
— Из-за этой бабы, что ли? — повел чекист подбородком в сторону оврага.
— Неужели так и не понял, сержант, что вся наша операция задумана только ради этой «бабы»?
Взлетая с земли, пилоты не забыли оставить на месте приземления гаечный ключ и ворох промасленных тряпок, создав видимость того, что посадка была вынужденной — дескать, машине понадобился ремонт. Однако немцев с толку это не сбило. Развернувшись цепью, они принялись прочесывать берег реки и рощу, полагая, что где-то там и прячутся сейчас диверсанты.
Воспользовавшись тем, что гитлеровцы начали углубляться в рощу, группа скрытно ушла в сторону руин цеха, а оттуда — к карьеру. К удивлению Евдокимки, через несколько минут к хижине, черневшей у входа в карьер, подкрался крепко сбитый подросток. Заметив Анну, он неокрепшим баском произнес:
— Меня зовут Кирилл. Ты идешь со мной. Остальным не велено. Сами в поселок тоже не суйтесь, там полно немцев. Садами-огородами проведу.
— И далеко вести? — спросила Евдокимка.
— Четвертая хата с краю, по левую руку.
— Если с самолетом не выйдет уйти, — добавила Жерми, — паренек станет ждать вас на этом же месте. Что вы намерены сейчас делать?
Евдокимка поднесла к глазам бинокль и осмотрела едва очерчивавшиеся на фоне вечерних сумерек дома, до ближайшего из которых оставалось не более километра, и ответила:
— Создавать видимость того, что в районе поселка высадилась десантная бригада морской пехоты в полном своем составе.
— Судя по твоему настрою, у вас это получится, — потрясла ее за предплечье Анна.
Приказав группе оставаться на месте, Гайдук еще метров двести сопровождала Анну, продвигаясь короткими перебежками по ложбине. И все это время, нарушая приказ, двигался вслед за ней старшина Разлётов. Оба они сошлись у каменистого пригорка, как раз в ту минуту, когда мчавшийся по дороге немецкий мотоцикл резко свернул на обочину и по полю направился наперерез Анне и подростку.
Убедившись, что имеют дело с женщиной и мальчишкой, немцы расслабились, офицер даже вышел из коляски, чтобы пообщаться с красивой фройляйн, прекрасно владеющей немецким. Вот только длилось это общение недолго. Двумя выстрелами с обеих рук агент белой и красной контрразведок одновременно уложила и офицера и солдата на заднем сиденьи. Водитель мотоцикла попробовал рвануть с места, но следующие два выстрела в спину навсегда заставили его отказаться от этой затеи. Еще два патрона Жерми потратила на «выстрелы милосердия», дабы окончательно угомонить своих жертв. Поскольку, прочесывая местность, немцы палили из автоматов, на эти пистолетные выстрелы никто внимания не обратил.
— Кто-то из вас мотоцикл водить умеет? — спросила Анна, когда десантники приблизились к ней.
— Сержант Кожин, — молвила Евдокимка.
Старшина тут же по-разбойничьи свистнул, подзывая остальных бойцов.
— Вот и усаживай его за руль. Соберите трофеи и привыкайте к «шмайсерам»; с винтовками против автоматчиков воевать трудно. До утра вам следует сделать все, что планировали, — настоятельно посоветовала Жерми, наблюдая, как старшина и парнишка закатывают мотоцикл в ложбину. — А на рассвете — основательно залечь. Саперы пусть сразу же отправляются на железную дорогу; судя по звукам, она рядом.
Едва они оказались в ложбине, как из-за лесополосы появилась колонна вермахтовцев, возвращающихся после прочесывания местности. Все десантники тут же залегли, готовясь к бою, однако ничего подозрительного в вечерних сумерках немцы не заметили.
— Самое время прощаться, сержант Гайдук, — поднялась из-за своего валуна Анна Жерми. — Вряд ли судьба еще когда-либо сведет нас, но я всегда буду помнить о тебе, и если представится случай…
— Верю, что когда-нибудь представится, — воспользовалась ее паузой Евдокимка.
— Кирилл хорошо знает окрестности поселка. Усадите его сзади, на запасное колесо, и мальчик покажет все, что необходимо. Это ускорит вашу миссию.
— А вы… — потянулся вслед за ней Кирилл.
— Не волнуйся, сосчитать дома до четырех я сумею, — уже на ходу, не оборачиваясь, обронила она. — Тебе же пора по-настоящему понюхать пороха, мой юный корнет.
45
Определение в проводники Корнета оказалось очень мудрым решением Жерми. Благодаря парнишке десантники по едва приметной тропинке сумели почти вплотную приблизиться к эшелону. Как оказалось, большую часть его составляли цистерны с горючим. «К сожалению, — подумала Евдокимка, — это не военная техника и не живая сила врага, но все же…»
Легкого свиста старшины оказалось достаточно, чтобы прохаживавшийся вдоль железнодорожного полотна часовой на несколько мгновений остановился. Евдокимке же их вполне хватило, чтобы метким выстрелом «снять» его. После чего Кожин выпустил по трем ближайшим цистернам пулеметную очередь, в которой специально подобранные бронебойные пули перемежались с зажигательными. Ну а завершила этот налет брошенная старшиной Разлетовым граната.
Цистерны начали взрываться в ту минуту, когда диверсанты уже возвращались к мотоциклу. Сидя с автоматом в руках, его охранял Корнет.
— Считай, что в одной боевой операции ты уже участвовал, — утешила его Евдокимка. — Так Анне Альбертовне и доложишь.
— Разве это участие? — обиженно поморщился Кирилл, усаживаясь на свое место на запасном колесе.
— Вот в этом ты не прав, — поддержал Евдокимку старшина. — Тебе командир самый важный пост доверил; ты отход группы прикрывал. Считай, казак, что крещение огнем ты уже прошел.
Пока поднятое по тревоге охранное подразделение, опасливо оцепляло пылающий эшелон и станционные помещения, группа приблизилась к складу на северной окраине местечка. Здесь Евдокимка поблагодарила Корнета и приказала ему отправляться домой. Причем как можно скорее, пока немцы не оцепили весь поселок.
— Да как бы они здесь не оцепляли, я все равно пройду. Только пока что останусь с вами. Я ведь все окрестности знаю.
— Выполнять приказ, боец! — вмешался старшина. — Что бывает за невыполнение, знаешь?!
— Тогда немецкий автомат и запасной рожок с патронами я возьму себе, — обиженно объявил парнишка, словно бы требуя компенсации за изгнание.
Гайдук попыталась возразить, однако поняла, что это бессмысленно: автомат и так уже висел у него за плечом, а запасной магазин он взял из коляски.
Как раз в это время южнее поселка раздался мощный взрыв. Затем еще и еще один. Евдокимке стало не до Корнета. Со временем выяснилось, что едва их саперы успели заложить взрывчатку, как со стороны станции появился товарный состав — это враги пытались спасти от угрозы огненных фейерверков эшелон со снарядами и армейской амуницией.
Поскольку теперь внимание немцев было привлечено событиями на станции, лучшего времени для нападения на пакгаузы придумать было невозможно. Выждав, пока старшина и Кожин проделают лаз в ограде из колючей проволоки, Евдокимка попыталась «снять» стоявшего на вышке пулеметчика, однако тот оказался словно завороженным. Вызывая огонь на себя, она дважды демонстративно меняла позицию, и в конце концов вражеский пулемет все-таки умолк.
Наземный часовой тоже вступил в бой, но, пока он, постреливая короткими очередями, стремился выяснить, где именно затаился диверсант, Разлётов умудрился разворотить часть стены пакгауза гранатами, а Кожин засыпал все внутри зажигательными пулями. Пользуясь тем, что пулеметчик сдерживал поднявшееся по тревоге отделение местной охраны, старшина сумел метнуть в соседний пакгауз единственную имевшуюся у него противотанковую гранату. Уцелевшие охранники засели где-то на территории складов и открыли оттуда такой панический огонь, словно отбивали атаку целой роты.
А тем временем десантники отошли к руинам какой-то хижины, где их ждал мотоцикл. Путь их лежал в сторону поселка.
Буквально через несколько метров, на повороте, они вдруг едва не столкнулись с повозкой.
— Это я! Я, Кирилл! — успел крикнуть сидевший на ней Корнет, прежде чем старшина вскинул автомат. — Со мной Савка, ездовой из полиции.
— Из полиции? — насторожился Кожинов.
— Он — свой. На конюшне работал, вот полицаи и заставили его…
— Как он здесь оказался?
— Наряд полиции вез. Одного полицая я убил, а другого — только ранил, так Савка ножом его…
Вся группа слышала выстрелы, доносившиеся с окраины поселка, но никто не придал им значения: палили в эту ночь много и щедро.
— Если полицая ножом, — рассудил эскадронный старшина, — значит, в самом деле свой. — Может, это и к лучшему, что ты вернулся. Показывай дорогу к карьеру, только в объезд, полями.
* * *
У домика камнетесов десантники прождали своих саперов более двух часов, однако те так и не вернулись. Далее оставаться здесь было опасно, к утру требовалось или уйти как можно дальше отсюда, или же найти надежное пристанище. Савка посоветовал десантникам идти к Шеллеровому хутору, что в пяти километрах отсюда, и пересидеть в подвалах, остававшихся под руинами винодельческого завода.
Услышав об этом, Корнет возрадовался, поскольку много раз бывал там с Савкой — искали якобы зарытый там швейцарцем Шеллером, владельцем винзавода, клад. Кроме того, на хуторе жила его, Кирилла, родная тетка. Словом, охотно покинув повозку, он снова превратился в проводника.
— Это далеко от Старой рыбачьей пристани? — спросила Евдокимка, прежде чем они тронулись в путь. — Точнее, от затонувшего сейнера?
— Километра два — не больше. Но вам нельзя к сейнеру. Утром немцы сразу же начнут прочесывать плавни, как это делали уже не раз.
— Но и подвалы тоже могут стать западней, — заметил Кожин.
— Там есть такие закутки, где можно отсидеться. Немцы туда не сунутся.
— А поскольку мы жестко привязаны к пристани и гидросамолету, — поддержала его Гайдук, — то выбора у нас нет.
Попрощавшись с Савкой, десантники добрались до шоссе, к оставленному мотоциклу, тут же подожгли его и какое-то время шли по дорожной колее, чтобы сбить со следа собак. Уже в предрассветной дымке, они, посыпая следы махоркой, обошли довольно большой — хат на тридцать — хутор и оказались на восточной окраине его. Именно там, рядом с руинами большого, двухэтажного особняка винопромышленника, высились едва освещенные лунным сиянием стены заводских корпусов и складов.
— Здесь центральный вход, — указал Корнет на полуразрушенную арку. — Неподалеку еще один, транспортный, куда подходила железнодорожная колея; есть еще два пролома в стенах, однако немцы и полицаи обязательно проверят их. Я же заведу вас со стороны речки Виннушки.
— Она впадает в Днепр? — тут же поинтересовалась Евдокимка.
— Метрах в ста от затонувшего сейнера и Старого причала, ниже по течению, — уловил ход ее мыслей Корнет.
Пролом, к которому привел их Кирилл, оказался обычным лазом, затерянным посреди кустарника и всевозможного строительного мусора. Вскоре все трое десантников оказались в небольшом, изолированном подвале. Вход к нему из основного подземелья был замурован, однако попасть туда можно было, вынув несколько камней из бокового завала.
— Тут такие подземные ходы, — объяснял парнишка, прокладывая путь, — что по ним можно бродить целый день. Правда, кое-где они уже обвалились, но до километра по каждому из них пройти можно, и на хутор попасть, и к Днепру выйти… Это граф Шеллер для себя строил, чтобы, в случае опасности, можно было бежать.
46
Устроив себе «лежку» из обломков досок, веток и травы, десантники заложили вход так, чтобы иметь смотровую щель и, наскоро позавтракав в «общем зале», дабы овчарки не могли учуять запах консервов, завалились спать.
Проснулись они уже в послеобеденную пору одновременно и от мощного раската грома, и от раздававшихся неподалеку команд. Приблизившись к щели, Евдокимка увидела при свете молний фигуры немецких солдат и услышала лай собак, но возблагодарила Господа за ниспосланный ливень: помощь собак в прочесывании окрестностей была совершенно бесполезной. Один из солдат прошел буквально в трех шагах от завала, даже остановился, однако, так ничего и не заподозрив, двинулся дальше.
Под вечер, когда немцы убрались, а ливень поутих, десантники вышли из своего укрытия, спустились к Виннушке и по поросшему ивняком речному берегу направились в сторону плавней. Самолет должен был появиться к восьми вечера, а значит, у них оставалось в запасе около двух часов — и чтобы унести отсюда ноги, и чтобы выяснить судьбу саперов.
От плавней до прогнившей, местами обвалившейся пристани они прошли без особых приключений; по рыбацким мосткам и броду, перебираясь с островка на островок. По стреляным гильзам, неумело сварганенному плоту и окуркам немецких сигарет десантники без труда определили, что каратели уже побывали и на причале, и на борту прочно засевшего на речной банке сейнера. Но вот наткнулись ли здесь немцы на саперов?
Пока мужчины занимались совершенствованием плота, который наверняка заложен был кем-то из местных рыбаков, Евдокимка прошла по кладкам до холма посреди камышового моря, возвышавшегося словно пирамида посреди пустыни. Несмотря на вечер, небо после ливня прояснилось, и где-то вдалеке даже появились проблески предзакатного зарева.
Поднявшись на холм и привалившись плечом к стволу вербы, она подняла бинокль к глазам и неожиданно вздрогнула. По тропинке к плавням приближался какой-то мужчина. Он припадал на правую ногу и постоянно оглядывался. Причина его тревоги стала понятна, когда девушка увидела вдали показавшуюся крытую машину. Гнаться за беглецом по болотистой плавневой низине преследователи не решились. Выскакивая из кузова и включаясь в погоню, немцы старались не стрелять, очевидно, повинуясь приказу «Взять живым!».
— Что это, опять прочесывание? — с пулеметами в руках появились на холмике Кожин с Разлётовым.
— Преследуют кого-то из наших саперов. Наверное, прятался в поселке, но кто-то выдал его.
— Что предпринимаем, командир? — впервые за все время операции, назвал ее «командиром» сержант-энкавэдист.
— Организуй засаду на краю кладки, постарайся прикрыть его. Первую очередь — по кабинке автомашины, чтобы водитель не бросился за помощью. Я же буду «снимать» их отсюда. Ты, старшина, заканчивай плот. Если самолет не появится, уходить по течению будем на нем, сейнер — это ловушка…
Уложив карабин на ветку, Евдокимка «сняла» солдата, идущего первым.
— Залегай, сапер! — прокричала она во всю мощь своих легких.
Кожин тут же поддержал ее:
— Ложись!
К сожалению, заметив, что впереди тропинка сворачивает в спасительные плавни, сапер лишь на несколько мгновений присел и снова, опираясь на приклад винтовки, бросился бежать. Наблюдая это безумие, Евдокимка лишь бессильно сжала кулаки, прежде чем снова взяться за оружие…
Они всё продолжали неистовую перестрелку, а неподалеку появились еще две крытые машины и легковушка с офицерами. По-настоящему Евдокимка осознала опасность происходящего, когда рядом с курганом разорвалась небольшая мина. Где немцы установили этот ротный миномет и откуда он бил, — этого она уже видеть не могла.
* * *
Лежа в госпитале, Евдокимка с трудом вспоминала, как вдвоем с Кожиным они уложили на этой смертной плавневой тропе около трех десятков солдат, прежде чем, услышав такой милый сердцу рокот авиационного мотора у причала, она приказала сержанту отходить. Не могла Гайдук знать и о того, что ее, всю израненную, до самолета вплавь дотащил старшина Разлётов. Взлететь они смогли только потому, что сержант Кожин так и остался на причале, прикрывая их пулеметным огнем; штурман гидросамолета какое-то время до взлета поддерживал его огнем из автомата.
Первое, что она услышала, придя в себя, был голос склонившейся над ней Христины Нерубай:
— Что ж ты, голуба моя невенчанная, так долго с того света возвращаешься? Ты, казачка, не дури! Я ведь над тобой промаялась две операции…
— Третьей не будет, — едва шевеля губами, произнесла Евдокимка. — Выкарабкаюсь.
— Ну, выкарабкивайся, выкарабкивайся, голуба моя невенчанная. Как хирург, я свое дело сделала. Теперь дело за тобой да за Господом… К слову, тут полковник один приходил.
— Неужели Гребенин? — попыталась мечтательно улыбнуться Евдокимка.
— Он, сердешный. И как только узнал, что ты здесь? Ума не приложу.
— Где же он теперь?
— Известно, где. На фронте. В полк уехал. К тебе его не пропустили, так он, страдалец, записку начертал, вон, на тумбочке. Да не тянись ты — там всего одна фраза: «Выздоравливай, моя флотская богиня!» И пару шоколадок оставил. Коварный, наверное, этот полковник, как и все прочие мужики. Но ухаживает, поди ж ты, красиво.
— Вас так же приблизительно называть станут. Скажем, «госпитальной богиней».
— Когда два месяца назад мой голубь невенчанный прямо у входа в операционную сердечное прощание мне устроил, знаешь, как называл при этом? «Кровавой фурией»! Я и впрямь вся в крови была после операции… Ну-да разговорилась я что-то с тобой, а не время сейчас. Главное, выкарабкивайся!
Погружаясь в очередную волну забытья, Евдокимка не могла слышать, как уже выписывающийся из госпиталя комбат Корягин вдруг засуетился и бросился к Христине:
— Я тут случайно узнал, что вы оперировали сержанта Гайдука.
— И не единожды, — произнесла хирург, приближаясь к офицерской палате.
— Как он там? Где он сейчас?! Это же мой боец!
— Женская палата у нас одна, — лукаво ухмыльнулась подполковник Христина. — Кому, как не вам, знать это, ловелас вы наш!
— П-подождите, — заикаясь, подался вслед за ней капитан. — Причем здесь женская палата?! Вы что ж это, лучшего бойца моего батальона женской палатой оскорбили? В нормальных, в мужских, палатах мест, что ли, нету?
— Что ж ты, капитан, гуляка флотский? Настолько нюх свой кобелий потерял, что за несколько месяцев так и не понял: на самом деле твой лучший морской пехотинец Гайдук — девица, да к тому же, простится мне, девственница?! — въедливо и громогласно отбрила его Христина, подтверждая свою госпитальную славу мужененавистницы. — Ну, мужики нынче пошли! Ну, мужики!..
Три офицера, свидетели этого диалога, под истошный бас одного из них: «Ты же весь состав флота, саму тельняшку посрамил, капитан!» — тут же впали в истерический хохот. Присаживаясь на всякий случай на подвернувшийся стульчик, капитан Корягин изумленно произнес:
— Да не может быть такого, мужики! Хоть на рее повесьте — не может! Неужели ж он… она, то есть — действительно баба?! И чтобы так вот воевала? Твою ж… — в якорь!
Одесса, 2013 г.Примечания
1
Здесь и далее: шарфюрер — унтер-фельдфебель войск СС: оберштурмфюрер — старший лейтенант; штурмбаннфюрер — майор.
(обратно)2
Едисан (тур. Yedisan) — историческая область современной Южной Украины в междуречье Днестра и Южного Буга. Едисанская орда сформировалась как часть Большой Ногайской орды, но в XVII веке перекочевала в область, носящую это имя.
(обратно)3
Бедарка — одноконная двухколесная бричка, которую вплоть до 70-х годов прошлого столетия использовали в степных районах страны в качестве служебного транспорта.
(обратно)4
Речь идет о мощном укрепрайоне, состоявшем из системы стационарных орудийно-пулеметных дотов, созданном на левом берегу Днестра еще в 30-е годы.
(обратно)5
Ге́нрих Лу́йтпольд Ги́ммлер (1900–1945) — один из главных политических и военных деятелей Третьего рейха. Рейхсфюрер СС (1929–1945). Ви́льгельм Франц Кана́рис (1887–1945) — немецкий военный деятель, начальник абвера (службы военной разведки и контрразведки).
(обратно)6
Э́рих фон Манште́йн (Леви́нски) (1887–1973) — немецкий фельдмаршал, имел репутацию наиболее одарённого стратега в вермахте и был неформальным лидером немецкого генералитета. Звезда Манштейна взошла летом 1940 года во Франции, когда он предложил собственный план под кодовым названием «Удар серпа», основанный на массированном использовании танков.
(обратно)7
Алла (тюрк., устар.) — Аллах, Бог, всевышний.
(обратно)8
Вся территория между Днестром и Южным Бугом, под наименованием «Транснистрия», была объявлена территорией Румынского королевства. Здесь действовали законы Румынии, и в течение всего периода оккупации по правобережью Южного Буга стояли румынские пограничные заставы.
(обратно)9
В 70–90-х годах XX столетия, вплоть до развала Советского Союза, на территории, где происходят описываемые события, располагалась система подземных точек (шахт) базирования ракет дальнего действия, с ядерными боеголовками и подземным командным пунктом.
(обратно)10
Туле (лат. Thule) или Фула (греч. Θούλη) — легендарный остров на севере Европы, описанный греческим путешественником Пифеем; мифическая страна.
(обратно)11
Это объединение, под командованием Гиммлера и при полной ликвидации абвера, произошло в 1943 году, после отстранения и последующего ареста адмирала Канариса, который в последние дни войны был казнен по личному приказу Гитлера как английский шпион и участник заговора против фюрера.
(обратно)12
Ио́н Ви́ктор Антоне́ску (1882–1946) — румынский государственный и военный деятель, маршал, премьер-министр и кондукэтор (аналог фюрера или дуче, рум. conducătorul, conducător) Румынии в 1940–1944 годах.
(обратно)13
Ингул в районе Николаева впадает в Южный Буг и находится западнее города, о котором идет речь в романе; Ингулец — река более полноводная и расположенная восточнее — впадает неподалеку от Херсона в Днепр.
(обратно)14
Всякий «председатель» в украинской интерпретации этой должности именуется «головой».
(обратно)15
Все пехотные части Красной армии в те времена именовались «стрелковыми».
(обратно)16
Гайдуки, хайдуты (венг. hajdú — погонщики скота) — с XVI века слово стало использоваться для наименования отрядов повстанцев из крестьян, ведущих партизанскую войну против национального гнёта на Балканах и в Западной Армении, с турками и Габсбургами. Гайдуками также звались воины личной охраны местных правителей; «придворные гайдуки» — охрана русских царей (XVII–XIX вв.).
(обратно)17
Жанна Мари Лябурб (1877, Франция — 1919, Одесса) — организатор французской коммунистической группы в Москве, участница Гражданской войны.
(обратно)18
Ли́ния Маннерге́йма (фин. Mannerheim-linja) — комплекс оборонительных сооружений между Финским заливом и Ладогой, созданный в 1920–1930 годы на финской части Карельского перешейка для сдерживания возможного наступательного удара со стороны СССР. 132–135 км длиной, эта линия стала местом наиболее значительных боёв в «Зимнюю войну» 1940 года и получила большую известность.
(обратно)19
Считалось, что египетская богиня Изида сопровождала в мир мертвых, олицетворяя образ любви — охраняющей, оплакивающей и воскрешающей.
(обратно)20
Надежда Дурова (1783–1866) служила под именем Александра Александрова; героиня времен Наполеоновских войн. Выйдя в отставку в чине штабс-ротмистра, первая русская женщина-офицер опубликовала мемуары.
(обратно)21
В русской белой армии того времени не существовало чина майора. Поэтому нынешнему званию капитана российской армии соответствовал чин штабс-капитана, а чин капитана следует приравнивать к званию майора. Отсюда следовало, что после капитанского чина в русской армии сразу же присваивали чин подполковника.
(обратно)22
Люфтва́ффе (нем. Luftwaffe) — название германских военно-воздушных сил.
(обратно)23
От аббревиатуры ЧОН, то есть «часть особого назначения». Формировались в каждом городе из сотрудников НКВД, милиции, военизированной охраны и партактива.
(обратно)24
Голая Пристань — портовый городок в устье Днепра, откуда вышло немало моряков речного флота.
(обратно)25
Главстаршина — главный старшина в речи моряков.
(обратно)26
До войны, как и в первые годы ее, ни солдатских книжек, ни каких-либо других документов, удостоверяющих личность, даже кадровый состав Красной армии, в большинстве своем не имел. Это обстоятельство значительно облегчало жизнь вражеской агентуре и усложняло ее нашей военной контрразведке. Оно же приводило к немыслимой путанице в лагерях вермахта, администрациям которых приходилось принимать на веру те данные, что называли сами военнопленные.
(обратно)27
Абсолютное большинство личного состава Красной армии той поры довольствовалось не сапогами, а ботинками, к которым вместо голенищ полагались портяночные обмотки.
(обратно)28
Существует масса свидетельств того, что в первые месяцы войны новобранцев Красной армии нередко бросали в бой, выдавая одну винтовку на десятерых. И подкреплялось это требованием: «Остальное оружие добывать в бою!»
(обратно)29
Барражирование — [фр. barrage] — воен., авиац. патрулирование, дежурство в воздухе истребительной авиации с целью уничтожения средств воздушного нападения противника, для прикрытия своих войск, кораблей флота и т. п., а также для охраны важных объектов.
(обратно)30
Тра́верз (фр. traverse, от traverser, перебегать поперек) — направление, перпендикулярное курсу судна, самолета или его диаметральной плоскости. Соответствует курсовому углу 90°.
(обратно)31
Исходя из штатного расписания, бригада морской пехоты Красной армии времен Второй мировой, как правило, состояла из трех стрелковых батальонов, артдивизиона полковых пушек и минометного дивизиона; отдельного батальона связи, отдельной роты автоматчиков, разведроты, роты противотанковых ружей; отдельных саперной, автомобильной и медико-санитарной рот, а также взвода ПВО.
(обратно)32
Речь идет о немецком самоходном орудии «Шуг», которое на начальном этапе войны считалось самым массовым и мощным.
(обратно)33
Вольтижировка, или конный вольтиж (от фр. voltiger — порхать), — вид конного спорта: выполнение гимнастических и акробатических упражнений на лошади, движущейся по кругу шагом или галопом.
(обратно)





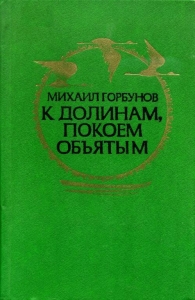
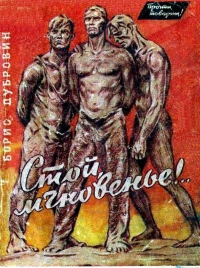
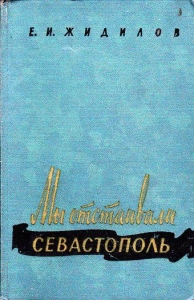

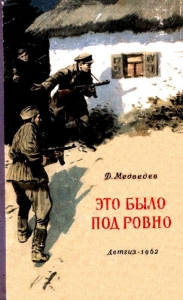
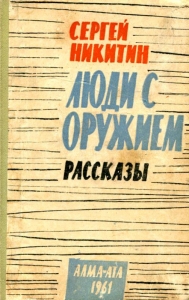
Комментарии к книге «Флотская богиня», Богдан Иванович Сушинский
Всего 0 комментариев