Годины
Жанне Павловне, жене, помощнику, другу
И, упав, ее лицо В губы черные целую… В. Брюсов. «К земле»ГЛАВА ПЕРВАЯ Июль 41-го…
1
Землю как будто наклонили: все, что было на земле, что могло двигаться, медленно сползало на восток. По мощеным трактам, по душным от пыли проселкам, по тропам, промятым прямо по несбереженным в эту лихую годину хлебам, люди шли и не смели остановиться: женщины с детьми на окаменелых от натуги руках, старухи в платках, согнутые тяжестью еще не брошенных узлов, ребятишки, то догоняющие с плачем своих матерей, то снова затеривающиеся в общем движении людей, изнемогающих от усталости, своего и чужого горя, голодности и униженности, — тьмы людей, среди которых двигались подводы, ревели одуревшие коровы с дикими, будто вспухшими, глазами, ползли машины, катились пушки вслед за покорно-бесчувственными лошадьми. Позади, по краям, в самой этой раздавшейся за обочины пестрой людской реке, текущей прочь от закатного солнца, шли другие люди, одинаково одетые в испятнанные потом гимнастерки, в пилотках, а многие и без пилоток, не пряча от солнца недавно стриженные головы. Люди эти, ставшие теперь солдатами, тоже шли на восток, вцепившись усталыми руками в ремни своих винтовок, и качались над их плечами и головами, взблескивая прожигающими отсветами солнца, ненужно длинные штыки. Солдаты шли молча, глядя вниз, в растертую людьми и машинами землю; казалось, никто из них не видел, не хотел видеть стоящие в спелости хлеба, затененные леса по логам, дома деревень на взгорьях, никто из них не смотрел в распахнутое небо, никто из них уже не ждал от знойной, давящей высоты ничего, кроме лиха.
Макар Разуваев перешел за обочину, спустил с натертого плеча лямку; пулемет, привязанный к вожже, дужкой придавил серые лопухи, пыль потекла с помятого кожуха, с окованных, пообтертых до лоска колес. Пулемет он подобрал у Рудни, на перекрестке дорог, на бугре под березами, где лежали два пулеметчика в взгорбившихся на спинах гимнастерках; по-уставному раскинув ноги в еще не стоптанных ботинках, они лежали голова к голове, и, видно, давно. Из всего, что случилось за первую и вторую неделю июля: бомбежек, людских страданий, солдатской горечи, — он почему-то особо запомнил этих пулеметчиков на бугре у дороги, лежащих в тихости, без пилоток, голова к голове. Сбоку пулемета свисала лента с недострелянными патронами, рядом стояли три коробки с открытыми крышками — одна порожняя, две полные, с уложенными лентами. Снаряд пропахал землю прямо по тугим корням, чернотой взрыва окинув по низу березы. Выше стволы чисто белели, и живая тень листьев шевелилась на белых стволах, на еще не обмятых гимнастерках, на стриженых затылках парней. Если бы не земля, надорванная снарядом, не черная гарь на стволах, можно было подумать, что на бугре, в тени листьев, заснули два умаявшихся подпаска. Может быть, потому он и взял пулемет и повез за собой в скопище людей, отступающих в глубь России, что стриженые эти парни, чем-то похожие на знакомых ему семигорских подпасков, не успели дострелять припасенные для боев патроны.
Макар расстегнул, растащил до плеч как будто влипший в тело комбинезон; сидеть в танке — куда ни шло, но для июльской жары и пеших дорог — не одёжа! Шлемом утер лицо, губами ощутил соленость сопревшей подкладки, хотел сплюнуть, но сухой рот не набрал слюны; языком потрогал занывшие от соли губы.
Мимо теперь шли только солдаты, замыкающие неоглядную колонну беженцев, шли вразнобой, тяжело переставляя будто неразгибающиеся в коленях ноги. Качались лица, одинаково серые от пыли; из белых, промытых потом глазниц глядели невидящие глаза, казалось, безразличные ко всему на свете. Солдаты как будто вплывали в душную пыльную завись, не ускоряя, не замедляя движений; за собой они оставляли какое-то неопределенной величины безлюдное пространство, в которое с той же неостановимостью, с какой шли они, входила чужая, вслед им идущая сила, и оттого, что были они последними и за ними оставалась пустота, над которой они уже не были властны, шаг их казался особенно тяжким.
Макар пристроился к солдатам, впереди неулыбчивого лейтенанта в ремнях, при кобуре, с коротким немецким автоматом на груди. Лейтенант был из казахов или татар; плоское его лицо и узкие щелки черных, прицеливающихся глаз он видел и прежде и знал, что лейтенант, по приказу капитана, ведущего колонну, следил, чтобы никто не отставал в пути, ни по случаю, ни по своей воле; лейтенант уже много дней исполнял приказ неотступно, как будто не чувствуя ни усталости, ни жары. Макар видел взгляд следящих за ним черных глаз, но в пыльной духоте, объявшей дорогу, не хотелось даже говорить; объясняться он не стал, просто пошел следом за солдатами, приноравливаясь к их тяжелому, неспешному шагу. В хвост колонны он перешел от нарастающего беспокойства за все множество людей, собранных на одну дорогу. Не далее как третьего дня, вот так же после полудня, из-за леска сзади и слева наскочили на колонну немецкие мотоциклисты. Веером развернули мотоциклы по выгону, стараясь поглубже охватить движущийся поток людей, и пока, взбудораженные появлением врага, люди суетно растекались по канаве, ложбинам, хлебам, автоматчики, не сходя с мотоциклов, деловито, сосредоточенно били в них из пулеметов, автоматов, даже из короткого установленного в коляске миномета. Сеть трассирующих пуль трепетала над дорогой, опрокидывала людей; люди разбегались, кричали, рыдали, стонали, голоса их глохли в хлопках разрывающихся мин, ровном гудении хорошо отлаженных пулеметов, прерывистом по́треске автоматов, — казалось, саму землю хлестали свинцовыми кнутами, и лопалась земля, и проступала кровь.
Тогда еще не было у него этого подобранного на другой день пулемета; была у него, тоже подобранная, самозарядная, не очень надежная винтовка. Ожесточаясь от бессилия, он пытался сдвинуть заклиненный затвор, чтобы выпустить хоть несколько пуль в бесстыдно краснеющие под расклешенными касками хорошо видные лица. Недружный винтовочный огонь от дороги не останавливал лихую забаву немецких солдат. И страшен был бы конец настигнутых на той дороге людей, если бы не оказалось среди отступающих солдат артиллеристов с двумя «сорокапятками». Пушки успели развернуть. Первые же снаряды в куски разнесли два мотоцикла. И Макар, отбросив бесполезную винтовку, со злым удовлетворением, с чувством обретенной силы смотрел, как в блеснувшем пламени брызнули обломками еще две машины. И словно обрезало щелканье и свист, враз оборвалась раскинутая над дорогой и лежащими людьми сеть огненных пуль. Автоматчики круто развернулись; подпрыгивая вместе с мотоциклами на неровностях, обгоняя друг друга, неслись они по выгону, торопясь убраться за лесок. И когда сошлись у выступающего в луг осинника, увидел Макар, как на огненном всплеске взрыва поднялся и перевернулся колесами вверх еще один мотоцикл. Возбужденный отбитой опасностью, он подошел к артиллеристам сказать благодарное слово и остановился, не понимая: сержант, похоже — командир орудия, матерясь, отчитывал молоденького наводчика за тот последний выстрел, которым он поднял в воздух мотоцикл. Наводчик стоял у пушки, виновато опустив голову и руки, пощипывал пальцами складки помятых солдатских штанов, но по чумазому от пыли и пота его лицу открыто блуждала ликующая улыбка. Свистящий, сорванный, наверное, еще в первых боях голос сержанта старался сбить радость с лица молоденького наводчика, и Макар собрался было вступиться, успокоить сержанта, но тут увидел, как бережно уложили артиллеристы в один-единственный, на две пушки, пустой ящик два последних снаряда, и все понял; молча отошел, унося в себе еще не осмысленную горечь так непонятно идущей войны.
Люди собирались на дорогу, топтались, оглядывались, как будто не знали, как отойти от тех, других, кто не поднимался с пыльных обочин и посохлой травы открытого луга, но скоро каждый нашел свое место; сначала медленно, потом все заметнее люди потекли друг за другом, по праву живых оставляя тех, кому уже не надо было уходить от войны.
Макар помогал прибирать убитых. В канавы складывали всех вместе: солдат, женщин, старых, молодых.
Вдвоем с молчаливым пожилым солдатом подняли они с дороги небольшого, как подросток, старичка в просторном полотняном костюме, с седой бородкой, с седыми растрепанными волосами; смотрел старичок одним неподвижным глазом. Когда его положили в канаву, Макар принес его вещи; легкой белой шляпой накрыл лицо; пачку плотно увязанных книг поставил, у изголовья; прочитал на одном из корешков: «Докучаев», подумал: «Перехоронять будут — приберут».
Обочь дороги наткнулся на опрокинутую детскую коляску, побитую пулями, в коляске была подушка, обшитая по краям розовой лентой, с ручки свисал маленький носок. Макар было прошел коляску, но вернулся; подушка еще хранила вмятину от ребеночьей головы, и почему-то эта, казалось ему еще теплая, вмятина подействовала сильнее другого. Он снял с ручки белый с красными полосками носочек — весь-то не длиннее его пальца, — не ведая к чему, сложил, сунул поглубже в карман: причудилось, кто-то будет искать потерю и носок окажется кстати. Про потерю никто не спросил, но о коляске и оброненном носочке помнил он долго.
Движение колонны день ото дня замедлялось, как будто каждый пройденный километр добавлял ношу людям. И Макар беспокоился: немец мог догнать людей, прежде чем они выйдут к днепровским переправам.
Тревожил его именно тот немец, который шел вслед им, потому что самолеты в эти дни колонну не бомбили; гулом заполняя небо, согласными косяками они шли к востоку: что-то было там важнее отступающих по всем дорогам колонн; кто-то там, впереди, принимал на себя бомбы и смертный град бьющих с воздуха пулеметов.
В стекающий к днепровским переправам, разнолюдный поток Макар попал уже после того, как на последних всплесках горючего загнал свой танк под густую тину пруда около брошенного лесного кордона. В пруду оказалось достаточно глубины, чтобы скрыть под водой тяжелую машину вместе с заклиненной башней и бесполезной теперь пушкой. Случилось это дня четыре назад — дни он плохо различал в почти безостановочном, отупляющем движении. Но день, когда война подступила не в мыслях, не в опыте других, подступила к глазам, опалила, казалось, само сердце, он помнил до ясности, как помнил день смерти отца и час прощания с Васенкой, на берегу Волги, у тревожно и тоскливо пахнущих бревен, где оглушительно хрустело под сапогами иссохшее еловое корье.
Война явилась к нему на железнодорожном полустанке, среди полей и рощ, где мирно пахло мазутом от нагретого за день щебня и шпал. В голове эшелона сипел окутанный паром раненый паровоз: час назад «мессершмитт» прошел над их танковым эшелоном, дал очередь в паровоз и пропал в белесой, выпревшей за жаркие дни высоте неба. Не думалось в той остывающей тишине вечера, что́ может последовать за этим, как будто случайным, пролетом.
Паровоз дотянул эшелон до полустанка. Объявили приказ о выгрузке. Уже сняты были растяжки, уложены стальные ленты, приставлены шпалы к последней платформе, на которой стояла их новенькая «тридцатьчетверка», Макар уже готовился залезать в свой люк и задержался: такой спокойной, мягкой тишины он не слышал за многие дни торопливого пути сюда, на фронт. Пели птицы. Он хорошо помнил, что птицы пели в частых елях, подступающих к разъезду с восточной стороны. В другую сторону, под низкое солнце, уходило открытое поле; высокая, уже в колосе, ржица спокойно стояла, дожидаясь своего срока. «Дозреть-то дозреешь. Найдутся ли руки тебя убрать?..» — думал Макар; безлюдно было вокруг, покинутым гляделся и единственный на станции домик, с растворенными окнами, с распахнутой дверью, А ржица стояла, она была из той, еще мирной, жизни, и грустно было смотреть на поспевающие в безлюдье хлеба. Рядом, на броне, был командир, молоденький их лейтенантик. На спешной формировке и на пути сюда, к фронту, Макар так и не определился в своем отношении к новому для него человеку. Понимал: бой — это не поле пахать; в бою каждый из них, втиснутый в свое место, будет поступать уже не по своему разумению — будет под властью ума и умения командира. А вот какой ум и уменье у мальчишки в неполные девятнадцать — этого-то Макар с твердостью определить и не мог. И хотя сам был аккуратен в своих водительских обязанностях, исполнителен в командах, думал, наблюдая губастенького, с нежной застенчивостью в глазах лейтенанта: «Не командир еще!..» Скребла по сердцу мыслишка — как еще скребла! — не по опыту, не по возрасту доверили машину: «тридцатьчетверок» всего-то на весь эшелон было четыре!..
Потому Макар как-то даже оторопел, услышав доверительный голос: «Хорошо-то как, Разуваев! Косить — самая пора…» Какое-то созвучие тому, что было у него на душе, услышал Макар в голосе лейтенанта, хотел было по-доброму ответить, да — выбрала же война минуту! — на дальнем краю поля, ниже багрового, располневшего к заходу солнца, замелькали быстрые огни.
Что это за огни, он понял, когда рвануло насыпь у колес соседней платформы, и тихий вечер взвыл, и земля загрохотала от падающих на полустанок снарядов.
Макар не помнил, как оказался за рычагами, как запустил мотор, сквозь гул и удары донесся до него, словно задавленный в горле, испуганный крик:
— Поше-ел!..
Макар двинул танк на косо приставленные, к платформе шпалы; заставил себя на минуту забыть об огне, озаряющем все вокруг, сосредоточенно свел машину и, когда траки лязгнули о рельсы и танк осел, рванул его к откосу и дальше вниз, в затишь низины.
Что было потом, вспоминалось Макару не само но себе, все накрепко связалось каким-то особенным образом с лейтенантом, с молоденьким их командиром. Пока, подхлестнутый испуганным его криком, Макар гнал танк, прикрываясь спасительной высотой насыпи, лейтенант как будто срывал с мальчишеской своей души все, что было на ней прежде, что мешало, как хорошие одежды мешают в черной работе: растерянность, мягкость, робость непривычной власти. Первая же его команда: «Стой, Разуваев! Куда?!», в которой еще слышался казнящий себя стыд за испытанный страх, объявила в нем командира.
— Через насыпь, Разуваев! Во фланг! — скомандовал вдруг ожесточившимся голосом лейтенант, и Макар с готовностью подчинил себя почувствованной командирской воле.
Он запомнит на всю жизнь то, что увидел с высоты насыпи.
По открытому разливу хлебов широким полукругом шли к железнодорожному разъезду чужие танки, покачивали темными угловатыми лбами, на ходу жалили густой вечерний воздух языками огня. На полустанке пылали платформы. В пламени стояли танки; их пушки, повернутые в сторону поля, стреляли, — там, в огне, в бою, погибал их эшелон. На что-то надеясь, Макар придержал машину, увидел, как с задней, еще не разбитой, платформы сполз танк соседа Артюхова, тут же, словно пластаясь по насыпи, понесся по шпалам к ним. Выползала из пламени на заднюю платформу еще одна «тридцатьчетверка» — Коноваленко. Но полыхнувший взрыв подломил угол платформы, танк Коноваленко осел, как тонущий корабль.
— Артюхов!.. Артюхов!.. — кричал лейтенант. Рация Артюхова не отвечала, Артюхов как будто не слышал, не видел. Танк его не дошел до них какой-то сотни метров, круто развернулся, бросился вниз по откосу навстречу немецким танкам.
— Вперед! — крикнул лейтенант. Макар, стараясь не терять из виду Артюхова, сорвал танк с насыпи, погнал вслед. Но Артюхов, как ослепленный зверь, несся напролом, и напрасно взывал к нему осипшим голосом лейтенант.
— Стой, Разуваев! — приказал лейтенант. — Артюхову, видать, вожжа под хвост попала. — Выходи на край поля!
И тогда, и сейчас, заново все переживая, Макар не мог до конца понять, как пришла к молоденькому, губастенькому, болезненно застенчивому, вспыхивающему не только от слова — от взгляда их лейтенанту вот эта командирская трезвость. От испуга, потерянности, стыда, отчаяния, бешенства — до спокойной власти над собой, и всё за какие-то минуты! В другое время, в другом месте, в обычном движении жизни на такой душевный перелом понадобился бы десяток неспешных лет.
Успокаиваясь спокойствием командира, Макар выглядел впадину, прикрытую деревьями, проломил под деревьями кусты, вывел танк на кромку поля. Сразу увидели они изломанную дугу стягивающихся к полустанку немецких танков; гусеницами утопая в хлебах, они ползли теперь медленно, приостанавливались, стреляли и снова подвигались к пылающему эшелону. Позади них, среди поля, горело несколько машин, черные дымы тянулись к зависшему над лесом солнцу. С болью за тех, других, кто остался на платформах, Макар подумал: «Сами горели, а этих били…» Он приблизил лицо к щели, сжал рычаги, ожидая команды. Но тут враз всплеснули листьями, пошатнулись, опрокинулись правее их осины; придавливая поваленные деревья днищами, выползали на край поля две испятнанные желтизной и зеленью громады. Он видел короткие, утолщенные к башне пушки, черные прямые кресты на крутых боках и, оцепенев в настороженном любопытстве от первой опасной близости врага, часто с трудом глотая вдруг загустевшую слюну, следил, кося глазами, как шевелились и взгорбливались на роликовых блоках до блеска обкатанные траки гусениц; у одного из танков успел заметить черный, густой выхлоп, подумал: «Горючее переливает!..» — и тут же, сбрасывая оцепенение, тревожно позвал:
— Лейтенант! Два справа…
— Вижу, — сквозь зубы отозвался лейтенант.
Над головой Макара, оглушая, ударила пушка, сиреневым светом окинуло стволы и листья осин; огненный прочерк достал мотор дальнего танка, и вместе с вывороченным над мотором железом выплеснулось на башню пламя. Тут же откинулась крышка, суетливые руки охватили края люка: из башни, как из воды, вынырнул человек в черном шлеме. Черных людей, торопливо спрыгивающих на боковины машины, Макар видел вполглаза: теперь он следил за другим, ближним, танком. И чадящий мотор, и копоть на красновато освещенном солнцем пятнистом боку, и раскрытый буксировочный крюк — все видел он в отчетливости, как, бывало, в один взгляд замечал всякую малость на входящем в ворота МТС тракторе. Не сразу он понял, почему первый выстрел командир направил по дальнему танку: близость этого танка казалась опаснее. Теперь, вспоминая, Макар знал, как точно рассчитал лейтенант даже в первой для него встрече с врагом: второй танк мог бы одним доворотом укрыться за корпусом ближнего танка, и неизвестно, чем бы тогда кончился их поединок.
Плохо он знал своего командира. Просто не успел узнать! Война никому не дала успеть. Не дала она пожить и молоденькому их командиру.
Макар отлично видел немецкую бронированную машину, наполовину вползшую в хлеба. Как бы в удивлении, она остановилась после первого их выстрела; большая, с круглой нашлепкой, ее башня разворачивалась: кто-то там, в башне, торопился довести, нацелить на них ствол пушки. Движение пушечного ствола завораживало, расслабленные руки и ноги не чувствовали ни педалей, ни рычагов; он ждал команды, только команды, а в сознании умирала тоскливая мысль: «Не успеть, не успеть…»
Плохо, все-таки плохо он знал своего командира! Об этом он успел подумать еще раз, когда услышал медленный, какой-то неживой, в то же время успокаивающий голос: «Под башню, Руфат… Не спеши. Под башню… Под башню…» И когда на добирающем разворот стволе немецкой пушки обозначился черный круг пустоты, вспышка вновь осветила багровой синевой кусты и рослые хлеба. Рванулось из пятнистого танка упругое пламя, башня отделилась, с какой-то неуклюжестью запрокинулась в хлеба. От близкого взрыва Макара качнуло на сиденье, дрогнули на рычагах руки; с другого, горящего, танка взрывным ударом сорвало дым и людей.
— Так… К праотцам оба… — сдавленно прошептал лейтенант, как будто не веря тому, что сам сейчас совершил. Прорезался вдруг высокий мальчишеский его голос, возбужденно, отчаянно он крикнул:
— Разуваев! А ну…
Макар, приходя в себя, пригнулся к рычагам, холодок прошел от плеч до рук; он почувствовал, что командир, упоенный счастливой победой, совершит сейчас что-то уже непоправимое. Но лейтенант не договорил. Наверное, оба враз они увидели, как из-за горящих среди хлебов немецких танков, подбитых орудиями погибающего эшелона; выкатилась «тридцатьчетверка» Артюхова. Озаряя себя сполохами выстрелов, одинокий танк мчался в самую гущу вражеских машин, добивающих в неторопливости, объятый дымным пламенем эшелон.
Макар смотрел, как слепо и отчаянно мчалась «тридцатьчетверка» в затылок дугой развернутых немецких танков, и в эти последние минуты, когда Артюхов был еще жив, уже пережил его смерть. Он видел, как развернулись четыре танка, с двух сторон пошли наперехват; огненные пути трассирующих снарядов скрестились на «тридцатьчетверке».
Артюхов горел, тяжелые клубы дыма оседали на поле; «тридцатьчетверка», казалось, плыла по черной реке.
Танк Артюхова теперь мчался, как одичалый конь с огненно-черной, развевающейся гривой; вошел в дугу вражеских машин, вдруг вцепился правой гусеницей в землю, развернулся, в бок ударил ближайшую машину. Полыхнул огонь в вечернем, еще светлом поле, и тут же густой чернотой дыма накрыло насмерть сцепившиеся танки.
Макар до упора нажал сразу две педали, танк взревел, готовый сорваться с места: Макар был уверен, что лейтенант вот-вот обрушит команду и выметнутся они в слепой ярости туда, в поле, где сгорал Артюхов.
Лейтенант молчал, молчал много дольше, чем нужно было для того, чтобы дать команду: в наушниках только часто потрескивало от ревущего мотора. Макар сбросил газ, в беспокойстве повернулся, потряс лейтенанта за ногу. Лейтенант отозвался чужим голосом:
— Что, Разуваев? Живы. Пока живы… Ну что, за Артюховым пойдем? — спросил он всех троих, притихших на своих местах, и сам ответил: — Погибнуть — ума не надо, кто воевать будет?! Слушай приказ, Разуваев! Скомандую — тут же назад. На полную железку. И не к насыпи, а по лощине, к лесу!.. Заряжающий! Работать тебе за двоих. Давай, Руфат, начинай!..
Ахтямов стрелял молча, исступленно. Вражеские машины засекали сполохи выстрелов, останавливались; трассы немецких снарядов прожигали кусты, в которых стоял танк, но команду лейтенанта Макар услышал только тогда, когда танк содрогнулся от доставшего его снаряда.
В сумеречности июльской ночи Макар вел танк безлюдными полями, обходя зарево полустанка. Лейтенант стоял в открытом люке, зарево как будто жгло его, время от времени он ронял команды:
— Левее, Разуваев… Еще левей…
В напряженном его голосе слышалась боль, казалось, даже слезы. Макар понимал командира: потрясенный гибелью эшелона, он хотел мести. Он даже всхлипнул от радости сбывшегося ожидания, когда в уже устоявшемся рассвете, на выходе из овлажненного росой бора они увидели колонну немецких грузовиков. Крытые брезентом машины спокойно шли по высокой, мощенной булыжником дороге, почти за каждым грузовиком катились, подергивая зачехленными стволами, орудия на резиновом ходу.
Макару не нравилась эта длинная опасная вереница вражеских пушек, но лейтенант уже командовал, сдерживая звенящую силу голоса:
— С головной начнешь, Руфат! И — подряд… Разуваев, подтягивайся к дороге. Ближе… Ближе…
Макар, огибая горушку, осторожно подвигал танк к дороге, прикрывая его насколько можно густой здесь сосновой порослью. Стрелять из-за горушки было бы в самый раз, но командира он уже понял: лейтенант жаждал разметать колонну огнем и тяжестью танка. Полыхнувшее на дороге пламя как будто разорвало первую машину пополам. У второй — снарядом выбило передние колеса; огонь бойко, как по сухой траве, побежал по развороченному капоту, заплеснул через выбитое стекло в кабину. В третьей машине, похоже, взорвались снаряды: брезент над кузовом распахнуло, тонкостволая пушка, оторванная от прицепа, развернулась, как на льду, опрокинулась, сползла по откосу колесами вверх. Из-под брезента других остановившихся машин, как картошка из прорванных мешков, сыпались на дорогу солдаты. Лейтенант стрелял, пули дырявили брезент, разбивали стекла кабин, валили орудийную прислугу. Макар видел огонь, взлетающие колеса, куски железа, падающих на дорогу людей, но сердце его двоило холодком: в колонне не было паники, солдаты не разбегались: суетно, но быстро они отцепляли орудия, расчехляли стволы, здесь же, на дороге, разворачивали. Макар видел, как у выдвинутых из-за дальних машин на обочину орудий опускались, будто живые, стволы, нащупывали цель.
Он понимал, что произойдет, когда повернутые к ним орудия откроют огонь, понимал, что назад по склону, поросшему мелким сосняком, им уже не уйти; пожалуй, поздно и таранить отцепленные и развернутые пушки. Оставался единственный путь: выскочить на дорогу перед горящими машинами, прикрываясь расползающимся дымом, промчаться по прямой здесь дороге до леса. Прикинув этот единственный спасающий их путь, он, напрягая голос, предупредил:
— Командир, надо уходить…
Лейтенант был весь в ярости боя: он видел, как падают под его огнем враги, и чувствовал свою силу, он мстил и не мог остановить себя.
На дороге горела уже вся голова колонны, когда перед танком вспухла рыжая пыль, взлетели в воздух комья земли, ветви сосен; в грохоте выстрелов и взрывов Макар расслышал исступленный, ликующий крик:
— Вперед, Разуваев! Круши!
Это были последние слова молодого их командира.
Из-под второго залпа Макар вывел танк: под его умелыми руками тяжелая машина рванулась с места, будто конь, огретый кнутом. По откосу он выскочил на дорогу у пылающих грузовиков, в дыму заметил людей и орудийный ствол, нацеленный к лесу, с ходу бросил танк по обочине к развернутой за горящей машиной пушке.
Нет, не исполнилось яростное желание лейтенанта: не побежали немецкие пушкари ни от горящих грузовиков, ни от несущейся на них стальной громады. Что удержало солдат у пушки: вера в свою силу или властная команда офицера, стоявшего с поднятой рукой у радиатора еще целой машины, — но выстрелить солдаты успели: когда он почти доставал гусеницей до пушки, тупой удар снаряда звоном раздался в ушах, как будто вмял голову в плечи. Хода танк не потерял, и Макар довершил свое дело: смял пушку и расчет при ней и, перед тем как ударить в квадратный нос грузовика, уширенный высоко поднятыми круглыми фарами, наконец-то увидел растянутое ужасом лицо офицера. Всей тяжестью танка Макар вздыбил, развернул грузовик поперек дороги, баррикадой загородил обстрел пушкам, стоящим в колонне; не слыша голоса командира, провел танк через жаркое пламя горящих головных машин, донесся серединой дороги в спасительную тень высокого бора.
На брошенном кордоне, куда привела их лесная дорога, они вытащили из башни командира. Лобовая броня танка выдержала пушечный выстрел в упор, а вот осколок брони вошел лейтенанту под шею.
Хоронили командира на краю поляны, под низкими ветвями дикой яблони. В мрачной немоте смотрел Макар, как наводчик Руфат ножом врезал в дощечку слова: «Лейтенант Соколов Володя». Что Соколов — Макар знал, что Володя — узнал вот теперь. Губастенький мальчишечка-командир — Соколов Володя…
Заново проживая те дни, вспоминая лейтенанта, без шлема лежащего на плащ-палатке, с волосами, светлыми, спутанными, челочкой зависающими на лоб, Макар, напрягаясь от протестующего чувства, думал: «А ведь лейтенант-то, Соколов Володя, похож на Васенкиного братика, ну вылитый Витька!..»
Руфат Ахтямов погиб под бомбежкой, уже не в танке, в колонне отступающих солдат и беженцев, к которой они примкнули, больше суток проблуждав по лесам. Заряжающего Бокова, родом из-под Курска, он потерял при налете автоматчиков-мотоциклистов.
Теперь Макар шел один в множестве незнакомых людей, и в памяти его сверкал огонь и грохот разрывал землю, в смерть уходили люди, которым не должно было умирать. И командир танка Соколов, мальчишечка Володя, и неистовый в гневе Артюхов, и два пулеметчика под березами, похожие на семигорских подпасков, и детская колясочка в канаве, прошитая пулями, и ученый-старичок, с крест-накрест перевязанной стопкой книг, и наводчик Руфат, и заряжающий Боков, всю жизнь до первого дня войны ходивший в пастухах, — всё ложилось на душу Макару, плотно, одно к одному, и тяжесть этой памяти была так велика, что выдавливала из сердца жалость к себе.
2
У дороги показалась жердевая загородь, обычно отделяющая у них, на Волге, выгоны. Солдатские спины закачались сильнее, солдаты к чему-то поспешали, теснились к левой обочине. Когда за придорожным ольховником открылось нагорье, Макар увидел большую деревню. Три порядка изб, один за другим, тянулись по склону окнами на дорогу, дома были целы, и стекла над распахнутыми створками окон жарко отсвечивали дополуденным солнцем. Даже занавеси и цветки в горшках видел Макар на окнах. Мирная жизнь еще не ушла отсюда, и как-то беспокойно было смотреть на беззащитно-белые платки баб и девок под открытым небом у запруженной солдатами дороги. Босые ребятишки и девчонки, видно не впервой, бежали, торопясь, к домам, размахивая пустыми мисками и кринками, а бабы сыпали горячую картошку прямо из чугунов в бесчувственные солдатские ладони, совали ломтики хлеба, куски сала. И все это в молчании, в привычной хозяйской озабоченности хоть как-то, чем-то посытить оказавшихся в деревне мужиков в солдатской одёже. Только одна из близко стоящих молодух, простоволосая — завитки волос, будто упругие стружечки, свисали по сторонам ее открытого, жалостливого лица, — вдруг выронила опростанный чугун, полой передника зажала рот и, отвернувшись, заглушая в себе рыдания, стояла, вздрагивая спиной. Макар остановился, не решаясь подойти к женщинам, взять у них еду. Он видел, что и широколицый лейтенант-пограничник стеснительно потирает пальцами лоб. Лейтенант не выдержал, медленными шагами подошел к девочке, держащей на раскинутых руках полотенце, с домашними, круглыми, как блины, лепешками. Пряча глаза в припухлых веках, взял одну, быстро отошел на другую сторону дороги.
Рядом с девочкой молча и неподвижно стояла старая женщина с сухим, строгим лицом. Голова повязана платком, узел закрывал шею под острым, по-мужски крепким подбородком. Женщина тронула девочку за плечо, рукой показала на Макара. Девочка тотчас перебежала пологую канаву, меленько и быстро переступая загорелыми ногами, подошла.
— Откушайте, дяденька! — сказала, приподнимая полотенце с лепешками. У Макара будто петлей за хлестнуло горло, не узнавая своего голоса, он хрипло выдавил:
— Спасибо, доченька. Сыт я…
— Не обижайте, дяденька! Бабушка пекла. Вкусные!.. — Девочка смотрела на него чистыми, упрашивающими глазами; по нарядному платьицу, сандаликам, банту в косице можно было догадаться, что девочка в деревне — гостья.
— Ну, возьмите на потом!..
— Ну, разве на потом… — Макар попытался улыбнуться, опухшие губы не послушались. Бережно он взял с полотенца лепешку, придавив во рту слюну, не спеша сломал пополам, хотел прямо так сунуть в карман комбинезона, но девочка угадала его движение, вытащила из-под полотенца обрывок газеты, протянула:
— Заверните вот…
Макар почувствовал у груди надежную тяжесть лепешки, ладонью утер губы, как будто уже поел.
— Мне бы водицы испить, доченька…
— А вот пойдемте! — Девочка заторопилась впереди него к старой женщине, все так же в неподвижности стоявшей у дороги, положила на землю полотенце с последней лепешкой, из ведра зачерпнула кружкой воды. Старая женщина молча остановила ее, нагнулась, подняла из травы кринку, сорвала тряпицу.
— Молока попей! — приказала, как малому, и Макар не посмел ослушаться. Принял кринку, ощущая даже задубевшими пальцами отпотевающий на ее боках холод погреба, поднес к лицу, почувствовал, как задрожали руки и губы, — знакомый домашний запах вдруг обессилил его. Медленно он втягивал, глотал холодное молоко, остужая горячий рот и горло, не в силах оторвать от себя постукивающий по зубам край посудины. Наконец опустил полегчавшую кринку, рукавом виновато промокнул губы. Затушевывая проявленную в голоде слабость, в неловкости спросил:
— Что за деревня?
— Речица, — ответила старая женщина. Она приняла кринку и теперь держала ее на согнутой руке, как ребенка. Строгие ее глаза смотрели на Макара, и Макар видел в черноте ее глаз покорное отчаянье покидаемого человека. Такие глаза он видел однажды у матери: мать стаяла, охватив себя руками, в холодном бараке, у топчана, и молча глядела на отца, а, желтое, замертвевшее его лицо, на замкну́тый синими губами рот.
Стоять под взглядом старой женщины было трудно, еще труднее было уйти, и Макар ненужно шарил рукой по комбинезону, то застегивал, то отстегивал пуговицу, еще болтавшуюся на остатках нитки.
Девочка подошла к старой женщине, подлезла под ее опущенную руку, заглядывая в лицо, спросила:
— Бабушка Анна, а еще солдаты придут?
Макар хотел поклониться и отойти, суровостью прикрывая саднящую свою вину перед старой женщиной, перед внучкой ее, перед всей этой тихой смоленской деревней, последние часы живущей миром и добром, и не осилил: ноги словно приросли к земле. Он смотрел, как чистая, по-городскому нарядная девочка, еще не понимающая, откуда и зачем идут солдаты мимо бабушкиной деревни, так порывисто желающая новых добрых дел в этом уже обвалившемся мире, ласкаясь, терлась лбом и щекой о безответную руку старой женщины, и чувствовал, как бешено понеслась ему навстречу бесконечность дороги, по которой он отступал. Оттуда, из глубины России, как будто придвинулось Семигорье, с покатостью серых крыш, с печными дымами, ниспадающими к полям, с открытостью Волги, пахнущей арбузной свежестью; в какое-то мгновение Семигорье сместилось, встало здесь, у дороги, на взгорье, на месте этой смоленской деревни, и Макару невозможно стало дышать.
Старая женщина, не отнимая руки, о которую все терлась, ласкалась, девочка, молча глядела на него, сомкнув сухие, в морщинах, губы. Она все понимала накопленной за годы жизни мудростью, понимала и не осуждала, она просто смотрела на Макара, как будто не верила, что может уйти из их деревни последний русский солдат. И Макар из-под обожженного солнцем лба и до сивости выгоревших бровей смотрел ответно и тяжело в глаза старой женщины, и пальцы его сжимали и скручивали край расстегнутого комбинезона.
Опустив голову, он стряхнул с ладони раскрошенную пуговицу, сказал, будто самому себе:
— Стало быть, Речица… — и пошел, тяжело ступая, к пулемету. В канаве он подобрал оржавленный обломок лопаты, сунул под локоть. Отвернул пробку кожуха на пулемете, вернулся, взял ведро с водой, заполнил кожух всклень. Все делал он теперь обдуманно и спокойно и, ставя ведро на место, посмотрел на старую женщину не винясь.
Солдаты уже отходили от стоявших вдоль обочин баб, девок, стариков. Отходили поспешно, не оглядываясь, по необходимости разрывая ту родственную близость, которая в общей беде устанавливается вдруг; пустое пространство между притихшими людьми и уходящими солдатами ширилось на глазах, как ширится на реке вода между причалом и отплывающим пароходом.
Макар уже в неторопливости оглядел поле по другую сторону дороги, с леском по взгорью, отвязал вожжи, бросил на обочину, снял с пулемета связанные коробки с лентами, пристроил на плече.
Лейтенант-пограничник, с лицом казаха; и черными, непроницаемыми глазами, вернулся к нему, спросил:
— Что не идешь, танкист?
Макар повертел обломок лопаты, прикидывая на глаз его прочность, поднял повыше дужку пулемета, так, что кожух ствола почти уткнулся в дорогу, сказал:
— Всё, лейтенант. Дошел.
Он видел, как до лезвия плоского штыка сузились и без того узкие глаза лейтенанта, по-недоброму вздулись, отвердели под смуглой кожей широкие скулы.
— У меня приказ, танкист, — проговорил он медленно, голос его вдруг стал железно-холоден. Макар не сумел растянуть в усмешку непослушные губы, только поморщился, поглядел на лейтенанта, как будто издалека.
— У меня свой приказ, лейтенант, — сказал он как-то даже устало. — Передай капитану: часа на два немца задержу. На дольше — едва ли… Ну, прощай, лейтенант!..
Макар, натужась, перетащил пулемет через канаву, слегка приседая, пошел к бугру у леса, обходя поле низкого, полегшего белесого ячменя.
Лейтенант, будто сопровождая его, прошел по дороге, держа руки на автомате, понял Макара, крикнул:
— Эй, танкист! Фамилию, адрес скажи!..
Макар приостановился, тылом ладони отер потную под подбородком шею, сказал нехотя:
— Из России я, лейтенант…
3
Носками ботинок срывая закаменелую землю, упираясь локтями и коленями, Макар втащил пулемет на бугор, попытался протолкнуть на взлобок, руки подломились, он ткнулся лицом в хрустнувшую под щекой траву. Комбинезон на спине раскалился, как плита, пот со щек натекал на губы, не было сил далее слизнуть разъедавшую губы соль.
Так бы и лежать, не шевелясь. Но с высоты открытого неба снова плывет гул самолетов. Макар поднимает голову: всё те же, всё не наши… Спустя какое-то время вздрагивает земля, как будто боль проходит по земле от тяжелых тупых ударов, — и всё оттуда, от Днепра, куда уже много дней течет мутным половодьем вконец измотанное тысячелюдье.
Макар подтянул к животу колени, руками уперся в землю, с трудом поднялся. Постоял, широко расставив ноги, с высоты оглядел место, где предстояло ему быть.
На взлобке оказалась траншейка с опавшими стенами, с отвалами, размытыми дождями, уже поросшими травой. Оказалась она в нужном месте, и Макар прошел над траншейкой, догадываясь, по мелкости и давности ее, что рыли здесь ребятишки; видать, местная школа проводила военную игру, ребятишки держали свою оборону, лицом к дороге, и вряд ли думали, что их окопчики, вырытые для игры, сгодятся для настоящего боя.
Осматривать, куда и как идет траншейка, Макар не стал. Обломком лопаты пробил отвал, подтащил пулемет, подогнул под станок дугу, втиснул «максим» в расширенный в сторону дороги прокоп, расчетливо заботясь, чтобы кожух ствола оказался ниже бруствера. Потом неспешно, но и не давая себе отдыха, заглубил в выбранном месте траншейку, чтобы стоять в ней в полный рост; с правой стороны часть бруствера отвалил, сровнял, поставил на площадку коробки с лентами.
Поглядывая на пока еще пустынную дорогу, некоторое время занимался пулеметом. Больше всего другого он опасался теперь песка и пыли: машина, бывшая с ним, должна была сработать в свой час чисто и точно. Тряпицы в карманах он не сыскал. Оглядел словно залуженный маслом, пыльный, растрепанный на коленях комбинезон, усмехнулся собственной нерешительности, пригнулся, норовясь располосовать штанину, вспомнил об исподнем белье. Рубаха, мокрая от пота, расползлась до швов, когда, спустив комбинезон, он тянул ее со спины, — однако на обтирку влажное тряпье годилось.
Макар вынул замок, осмотрел, потрогал пальцем, привычно определяя износ рабочих деталей, — пулемет не из новых, поработал порядком, но служить вполне мог, — уложил замок на тряпицу, отросшими ногтями соскреб набившуюся в сочленения грязь; аккуратно протирая, не досуха снимал нечистую, но нужную для работы смазку. Вспомнил, что внутрь деревянных рукоятей обычно ввертывается масляный ерш; напрягая измазанные, скользящие по насечке пальцы, отвернул похожую на медный пятак крышку. Ерш был на месте, сочился прозрачным маслом — убитые под березой пулеметчики, по всему видать, были заботливее ребята.
Теперь насухо он протер замок, по нови смазал, поставил на место. Прислушиваясь, опробовал спуск. Механизм сработал чисто, боёк щелкнул коротко и сильно. Макар вставил ленту, оттянул замок, вогнал первый патрон в ствол.
Пока Макар сосредоточенно работал, ощупывал, прочищал, смазывал железо, он как будто забыл о войне. Теперь, отладив машину, привычно вытирая тряпьем замасленные руки, вспомнил, для чего готовил ее. И лицо его, дочерна обожженное зноем, затяжелело, в глазах, нездорово углубившихся, оттененных более светлыми, чем все лицо, подглазьями, проступила боль.
Солнце стояло за спиной; дорогу, круто изгибающуюся здесь почти встречь солнцу, Макар видел отчетливо — от густого придорожного елошника на повороте до сизого, истаивающего в знойном мареве леска. Все видимое пространство дороги было не меньше полутора километров, но открыть огонь и расстрелять первую ленту Макар решил в упор, когда колонна выйдет к деревенскому выгону и подставит свой бок.
Глаза, воспаленные от бессонницы, солнца и пыли, слезились, всегда остро видевшие, порой двоили предметы, и Макар обеспокоился, как бы не подвела его в нужную минуту наплывающая слеза. Высмотрел по ту сторону дороги отсвечивающий на солнце валун, аккурат на том месте, где старая женщина подала ему молоко и городская девочка, еще не видевшая войны, суетилась в детской озабоченности накормить как можно больше идущих мимо солдат. Белый валун, похожий на бычий лоб, хорошо был заметен, по нему Макар и определил ту черту, за которую не должны перешагнуть немецкие солдаты, по крайней мере до тех пор, пока работать будет пулемет. С бруствера попытался на глаз замерить расстояние до валуна, но понял, что высота обманывает. Не доверился он и телеграфным столбам с еще не порванными проводами, хотя точно знал количество метров между ними. Мысленно поворачивал расстояние между четырьмя столбами, умещал это расстояние между валуном и своим окопом, но ошибка могла случиться, позволить же себе хотя бы короткую пристрелку он не мог.
Еще раз настороженно оглядев безлюдную дорогу, пустоту окрестных полей, он пошел прямиком к валуну, считая шаги. На кромке ячменного поля было замешкался, не сразу решаясь ступить в хлеба. Опустив голову, будто виноватясь перед кем-то, пошел, пыля и придавливая к земле усатые, похрустывающие колосья. Прикрывшись от солнца ладонью, внимательно оглядел свой бугор. Отсюда, от дороги, не видно было ни разрытой земли, ни самого пулемета — склон сплошь пятнали красновато-бурые разводья цветущего щавеля, скрывали впадины и выпуклости, и Макару почудилось, что сухую землю бугра как будто уже оплескала кровь.
На обратном пути он обошел поле, спустился в окоп, поднял прицел, поставил планку на сто семьдесят пять метров, винтом наводки приспустил ствол, поймал в глазок розовеющий на солнце валун. Медленно повел ствол влево, проверяя, точно ли над дорогой движется линия прицела, слегка углубил правое колесо, проверил еще раз и удовлетворенно положил свою тяжелую ладонь на готовый к работе горячий, маслянистый металл.
Только теперь Макар услышал тишину. Все время, пока он был занят делом, звучал в ушах устоявшийся за дни и ночи отступления топ солдатских ног: солдаты, казалось, тяжело ступая, как будто все шли и шли где-то за его спиной. Теперь, когда он положил руку на готовый к работе пулемет и посмотрел в небо, на слепяще белые, будто впаянные в синеву облака, он удивился тихости дня. Где-то глухо гудела война, а здесь, в полуденной, уже спадающей жаре, недвижно стояла тишина; слышно было, как в лесу постукивает дятел, шелестит под налетающим ветром поле; Макар слышал даже вкрадчивый, царапающий звук — то надломленный сухой стебель терся о кожух пулемета. И только теперь, услышав этот слабый царапающий звук травины о железо, осознал, что остался один.
Чувствуя неприятный, тягучий холодок в груди, Макар сидел в неподвижности, не зная, как распорядиться выпавшим вроде бы ненужным теперь временем. Пытался припомнить, какое сегодня число июля, и не припомнил, и больше не вспоминал. Он старался войти в окружающую его тишину без времени, принять все вокруг, как оно было сейчас, в этом знойном дне июля, и не давал себе думать о прожитой жизни и о том, что случится здесь через какое-то время. Он просто ждал, когда начнется то, что сам себе определил.
Не торопясь, Макар расшнуровал, стащил с занывших в неподвижности ног схожие с булыжниками ботинки. Оглядел швы, сбитые каблуки, стертые на сгибе подошвы. Бросить не решился, выбил в окопной стенке заглубок, аккуратно, нос к носу, поставил. «Послужат кому-никому…» — подумал с привычной заботой о ком-то, кто придет сюда уже потом. Изопревшие портянки постелил под ноги, хотя прохлада глубинного песка не беспокоила, а утишала боль избитых в ходьбе ступней. Давая отойти натруженным рукам, уложил ладони на коленях, как это делал обычно перед большой работой в поле, в мыслях еще раз перебрал: все ли готово, не забыл ли чего?
Землю снова били, Макар спиной ощущал ее дрожь. От особо сильных ударов вздрагивал душный воздух. Гул доносился с двух сторон: из-за леса и с другой стороны — из-за горы, на которой стояла деревня. Много дней сопровождал их этот затихающий только в ночи, охватывающий гул, и теперь, выйдя из общего бездумного поспешания, Макар ясно понял, что гул этот сближается и, похоже, скоро соединится там, куда шли отступающие войска. Если немцы, идущие им вслед, еще раз догонят и остановят их хотя бы на полдня, дойти до Днепра и выйти за Днепр люди уже не успеют.
Одолевая ломоту, непослушность усталого тела, он выбрался из окопа, с настороженностью одинокого человека вгляделся вдаль. Дорога, насколько видел ее Макар, была, как прежде, безлюдна; от безлюдья, неподвижных горячих полей, от притихших на взгорье изб с наглухо захлопнутыми окнами исходила тревожность, как от подступающей грозы. Ощущая колкое тепло сухой земли и оттого высоко поднимая босые ноги, он пошел было вдоль траншейки поглядеть, что там, на бугре у леса, но тут же, закаменев лицом, вернулся к пулемету; как-то вдруг он понял, что смотреть вокруг ему без надобности.
Макар давно не ел — последний, раздавленный в кармане, кусок хлеба сжевал в позавчерашний день, после того как отбили наскочивших мотоциклистов. Теперь, в бездействии, голод одолевал до дурноты. Умеряя торопливость рук, он с бережностью вытащил из кармана комбинезона лепешку, отломил выпирающий из просаленной газеты край, задрожавшими губами выхватил прямо из черных пальцев. Едва удержался, чтобы не проглотить целиком. Жевал медленно, чувствуя, как немеют отвыкшие от работы скулы. Сухой, воспаленный рот не принимал еду; только дожевывая третий кусок, ощутил вместе с кисловатым, разжиженным наконец-то проступившей слюной тестом тягучий привкус топленого масла, который прежде знал по праздничным матушкиным пирогам. Голод от проглоченных кусков стал острее. Макар с ладони ссыпал в рот опавшие с лепешки крохи, стараясь отвлечься, расправил на колене просаленный обрывок газеты, в котором была лепешка. Печатные строки, с машинной аккуратностью подогнанные одна под другую, он сначала просто просматривал, потом с любопытством, затем и с жадностью стал вникать в смысл. В словах, которые оказались на обрывке, не поминалась война. Газета была довоенная, наверное еще майская, потому что в заметке, написанной неведомым человеком, говорилось о том, что в каком-то колхозе «Победа» запаздывают с севом яровых. С язвительностью уверенного в себе человека корреспондент спрашивал, куда смотрят беспечные руководители: на небо или на опыт передовых хозяйств?! Макару такие слова были знакомы по своей районной газете, и, когда на обратной стороне оторвыша он прочитал, что некто Титов И. В., тракторист, борясь за сталинский урожай, поставил рекорд и на тракторе ХТЗ трехлемешным плугом за день работы вспахал восемь гектаров, жизнь, недавняя, привычная, рабочая, по́том которой он пропитан был, казалось, до костей и которой столько лет жил в спокойном удовлетворении, прихлынула из памяти, опрокидывая все запреты отупленного голодом и усталостью разума.
Увидел он, прежде всего другого, мать, даже не ее саму, а ее глаза и руки. Глаза, пустые, неподвижные, смотрели, не видя его, на жестяную звезду над свежим холмом могилы, а руки, холодные, зашершавевшие от бесконечности всякой работы, шарили по его шее и плечам, как бы ища, за что ухватиться. Под звездой лежал отец, загубленный бандой «зеленых» — сынками сельских богатеев. Отца, комбедовского активиста, взяли на крыльце дома, подвесили к березе, разорвали лошадьми. Макару шел одиннадцатый год, но в тот день он узнал, как люди, обычные на вид люди, превращаются в зверей. Руки матери наконец отыскали его руки, уцепились за них, как за спасение. С отчаянностью он сдавил их своими еще не сильными руками, прижал к жарким от горя глазам. Он выстоял в тот день, на себя принял свое горе и горе матери.
Среди прихлынувших воспоминаний ясно увидел он мать и в другой час — когда война объявила свой всеобщий сбор. Откуда бы ни смотрела на него мать, когда вместе с Иваном Митрофановичем полдничали они в последний раз, — от горящей печи, от лавки, на которую выставляла с шестка горячие противни с пирогами, от сундука в горенке, в которой лежали ее заветные вещи, — отовсюду сторожили его обеспокоенные глаза. И не страх он видел в ее глазах, а заботу, одну только заботу, чтобы все ладно было у него и там, на войне, чтоб не пал в тягостях духом, верой и правдой служил в ратном деле родной земле. Может, думала мать в тот час не так, как теперь казалось ему, но беспокойство ее и заботу о том, чтобы все у него было ладно на войне, он видел и знал точно. Забота подвела ее и к заветному сундуку. Достала тот, легкого пуха, платок, которым мечтал он укрыть стеснительные Васенкины плечи, хотела положить в солдатский его мешок. И застыли у груди ее руки с платком, и такую тоску по несбывшемуся увидел Макар в материнских глазах, что при всей своей сдержанности опустил голову, долго сидел за столом, не в силах слова молвить. Платок он велел носить матери. Но мать на глазах всех, кто был в тот час в доме, свернула, прибрала платок в сундук, сказала сурово: «Кому куплен, тому и подаришь. Когда придешь…»
4
Из притихшей деревни донесся тоскливый коровий рев, какой-то задавленный, будто из наглухо закрытого двора. Так неожиданно он нарушил устоявшуюся душную тишину пополудня, что Макар враз напрягся, поглядел на дорогу.
Вдали, там, где повис на проводах сбитый столб, поднялись серые вороны, лениво махая черными крылами, полетели над полем к лесу. Макар скорее почувствовал по дрогнувшему сердцу, чем осознал, что час, которого он ждал, наступил.
Дорога у дальнего лесного клина обозначилась неровной пыльной полосой. В пыльном тумане, нависшем над дорогой, завиделись серые фигуры, двигались они к нему.
Макар судорожными глотками прогнал в сухое горло вдруг скатавшуюся в ком слюну, встал к пулемету. С настороженностью, с нарастающим напряжением следил за приближающейся колонной.
Он видел: колонна пешая — ни мотоциклистов, ни машин, ни танков, по крайней мере впереди, не было, — Макар отметил это про себя с облегчением… Немцы шли вольно: каски у пояса, рукава курток засучены, поперек груди автоматы. Шаг уверенный, голоса горластые — перекрикиваются оживленно, будто не на войне.
Два офицера впереди колонны, в руках снятые фуражки, размеренно и сдержанно помахивают ими в такт шагам. Офицеры завидели на взгорье дома, подобрались, сначала один, потом другой надели фуражки, надвинули покрепче на лоб.
Макару удобно было глядеть — солнце стояло за левым его плечом, и, может быть, потому, что ясно он видел всю многокилометровую, выползающую из пыли силу, тоскливо замирало сердце.
Метров на полста опережая офицеров, шли по дороге семь автоматчиков охранения. Эти семеро путали расчеты Макара: если он пропустит их и откроет огонь по колонне, автоматчики окажутся почти в тылу и бой окончится намного раньше, чем это нужно Макару и солдатам, отходящим к Днепру. Если первую очередь он направит в этих семерых, колонна заляжет, не получится тот опустошающий удар в упор, который так тщательно он готовил.
В беспокойстве, с холодным недружелюбием следил Макар за автоматчиками: умостив руки поверх висящих на груди автоматов, с ленивой небрежностью утомленных работяг, они как раз выходили на ближний изгиб дороги; еще шагов сорок — пятьдесят — и поравняются с валуном. Макар охватил теплые ручки пулемета, слегка присел, ловя в глазок прицела красновато отсвечивающий на солнце валун, большими пальцами нащупал предохранитель и спуск.
«Нет, этих пропущу. Первая лента — в упор, по колонне», — в последнюю минуту решил Макар, подавляя прошедшую по спине к затылку дрожь.
Автоматчики миновали валун, приостановились, разглядывали молчаливые дома будто вымершей деревни. Колонна ходко подвигалась к ним, пыль поднималась, растекалась по сторонам дороги. Казалось, вражеская колонна выползала из густого белесого тумана.
Первый автоматчик из головного охранения повернулся лицом к офицерам, указал автоматом на деревню. Офицер повелительно махнул рукой, автоматчики, будто в раздумье, постояли, нехотя двинулись серединой дороги. В это время офицеры поравнялись с валуном.
Макар, щуря левый глаз, чуть стронул ствол пулемета вправо, до фигуры головного автоматчика, приподняв предохранитель, вдавил спуск.
Он хорошо видел, как согнулся, будто от удара в живот, первый автоматчик. Развернулись на месте и, как будто удивленно посмотрев друг на друга, упали навзничь оба офицера. Потом все смешалось: дорога до ближнего изгиба кипела падающими, шевелящимися телами, как вспоротый суком муравейник. То, что минуту назад было колонной, сползало в обочины и на поля, обнажая словно дымящуюся дорогу.
Макар присел в окопе. Вслушиваясь в треск автоматных очередей, выдернул отстрелянную ленту, вставил другую — последние свои патроны, двести пятьдесят, из которых каждый он должен был выпустить теперь бережно и точно.
Прислонясь щекой к горячему пулемету, он наблюдал то, что делалось внизу. Немцы копошились на обочинах, отстегивали от поясов, надевали каски. Но Макар видел, как много из упавших осталось лежать на дороге с непокрытыми головами, пыль, поднятая пулями и людьми, оседала на их лица и затылки.
Близкого посвиста пуль Макар не слышал; похоже, немцы в неожиданности случившегося пулемет не засекли. К тому же солнце мешало им видеть, и Макар подумал, что дело складывается к лучшему.
Из обочин дороги солдаты вставали; пригибаясь, перебегали на поле, стреляли короткими очередями по буграм.
Вслед поднялась уже цепь автоматчиков, пошла в рост. Двигались они левее бугра, на котором был он, но Макар следил за ними с недобрым предчувствием: срезать редкую цепь он не сумеет — солдаты тут же залягут, но после второй очереди он уже выставит себя, как мишень на полигоне.
«Второй бы пулемет туда, к лесу, — с бесполезной расчетливостью думал Макар. — Зажали бы всю колонну намертво. А теперь, мудри не мудри, стрелять придется в открытую…»
Он сознавал, что видит землю в последний раз. Оглядел небо, где в вышине, загромождая синь, стояли сомкнутые горы облаков, темных снизу и ослепительно белых вверху; всмотрелся в дальний лес, отчетливо разделенный облачной тенью; глянул на уходящее по косогору вниз косматое от густых, развалившихся в тяжести колосьев белесое ячменное поле и в жалости ко всему, что оставлял на земле, трудно вздохнул и положил ладони на ручки пулемета. Смотрел он сейчас на подходящих к бугру автоматчиков, но видел близкий, заслоняющий их, малиновый огонь иван-чая прямо перед собой. Автоматчики, выдирая ноги из густого ячменя, шли не пригибаясь и уже не стреляли. Ободренная тишиной, поднималась на всем видимом протяжении дороги и уложенная Макаром колонна. Солдаты отряхивались, закидывали на шеи ремни винтовок, с опаской подходили к тем многим, кто лежал в пыли и не поднимался.
Зная, что бой теперь пойдет в открытую, Макар как бы перестал замечать опасность, идущую с поля, и повернул пулемет на дорогу — здесь, в скоплении врагов, пули отработают положенное им вернее. Стронул предохранитель, но спуск нажать не успел: на холме, у леса, вдруг заработал пулемет. По округлому гудящему звуку Макар распознал «дегтярь» — свой, русский, ручной пулемет. Пули, посланные с холма, прошли где-то выше автоматчиков, идущих по полю, вразброс ударили по дороге и по придорожному пыльному, елошнику, срезая листья и ветви. Но и этого неприцельного огня было достаточно, чтобы изменить все движение боя.
Автоматчики залегли. Солдаты с дороги волной накатились на поле, с ходу припадая в ячмень. По краю поля и дальше, по всей дороге, покатились, опережая друг друга, хлопки выстрелов, дробь быстрых очередей.
Бугор у леса задымился разбитой, поднятой в воздух землей. В белесом дыму плескались на вершине и по всему открытому склону быстрые разрывы мин. Вряд ли можно было остаться живым в этом огненном проливне, и Макар принял как неизбежное то, что пулеметчик с «дегтярем» замолчал. Солдаты, лежащие в ячмене, поднялись, повинуясь командному крику, настороженно и быстро пошли вверх по склону.
Макар не торопился стрелять. Он приспустил прицел и, когда достаточно плотная ближняя к нему часть цепи развернулась, приоткрыв спины, хорошо прострочил по цепи сбоку, с удовлетворением отмечая, как заваливаются солдаты в ячмень по одному, по два, и не по своей воле.
Такого замешательства среди врагов, какое случилось после второй его пулеметной очереди, он не видел с начала войны. Как волна, нахлынувшая на берег, вдруг останавливается и, опадая и рассыпаясь, откатывается назад, так рассыпалась вся видимая Макару цепь; обгоняя друг друга, солдаты и автоматчики бежали вниз, к дороге, западали в елошнике, в придорожных канавах. Макар не удержался и подогнал их короткой очередью, пустив пули туда, где бегущих было погуще.
Теперь воздух рвался со свистом и стоном над ним, взрывы раскидывали его бугор, накрывали пыльным туманом пулемет и траншейку.
Макар вжался в окоп, приник к земле, мужеством было даже высидеть под этой убивающей пляской металла.
Поднялся Макар, когда вокруг затихло. Немцы шли на него от дороги цепью, он видел под касками их лица, багровые в низком солнце. Двумя короткими очередями, по левому, по правому краю, он заставил залечь всю цепь, он хотел как можно дольше удержать расстояние между собой и врагами.
После очередного шквала огня, когда притихало и в воздухе и на земле, Макар поднимался, смотрел сквозь оседающую пыль на ячменное поле, на дорогу. И всякий раз, когда он смотрел, он видел близко перед собой, на бруствере, малиновое пламя одинокого иван-чая. Удивительно, но на этой перевороченной пулями и осколками земле цветок стоял на своем тонком стебле, и Макар, взглядывая на его спокойное цветение среди беспорядка боя, успевал подивиться его негаснущему цвету. И хотя в жизни он никогда не связывал свою судьбу и случающиеся вокруг знамения природы, на этот раз он как-то поверил, что, пока цветок горит, он, Макар, будет жить.
В какой-то момент — часы и минуты уже спутались в сознании — он почуял неладное: в наступившей вдруг тупой после грохота тишине услышался рокот мотора. Он поднялся, глянул поверх пулемета и с впервые почувствованной беспомощностью, как-то сразу ослабев, прислонился к обвалившейся стенке своего неуютного окопа.
Танк вывернулся откуда-то из хвоста колонны и теперь катился по дороге, закрывая пылью, как дымовой завесой, поле. Но вот, он словно запнулся перед неподвижно лежащим поперек дороги солдатом, крутанул плоским лбом, объехал по обочине. Чем ближе подходил танк, тем все осторожнее и как-то суетнее обходил он лежащих в пыли и наконец остановился: убитые солдаты лежали здесь сплошь, перекрывая дорогу.
Танк попятился, развернулся на месте, переполз придорожную канаву, набирая скорость, покатил краем поля на Макаров бугор.
Макар приподнял из короба остаток ленты, прикидывая последний свой запас — патронов оставалось на хорошую очередь; с сожалением подумал, что эти патроны потратит сейчас, и, наверное, без пользы. Он знал, успел разглядеть, что на него шел не танк, как показалось ему вначале, а танкетка с незакрытой и достаточно широкой смотровой щелью. Попасть пулей в щель — расчет шаткий, но другого не было ему дано, и Макар приготовился встретить силу последней оставшейся у него силой.
Прицел он опустил до упора, направил пулемет чуть правее середины лба набегающей танкетки и, слившись с пулеметом и чувствуя, как от напряжения каменеют плечи и пальцы, почти не слыша наплывающего гула и треска мотора, ждал того мгновения, которое одно могло ему помочь.
Когда, нырнув в косую впадину под бугром, танкетка будто выпрыгнула на склон и, задрав тонкий ствол пулемета, по-звериному юрко поползла вверх, нацеливаясь на него, Макар надавил спуск. Он видел, как брызнула осколками разбитая фара, вскипела и побелела у водительской щели озелененная броня. Левая гусеница вышвырнула песок, машина почти на месте развернулась и затихла.
Плохо веря в случившееся, Макар отер холодный лоб, осторожно ощупал голову под слипшимися волосами, — показалось, волосы мокры от крови. Не был страшен теперь и чужой пулемет: танкетка наклонилась так, что, если бы тот, другой оставшийся в живых, переставил пулемет даже в боковую щель, все равно он не достал бы его огнем.
Макар привалился к своему пулемету, не в силах унять дрожь в ногах. Шагах в двадцати стояла танкетка, потрескивала перегретым, теперь остывающим мотором. Макар слышал знакомое потрескивание усталого металла, слышал возню внутри танкетки, настороженно поглядывал, ожидая, что крышка люка вот-вот откинется. Не сводя глаз с танкетки, нащупал конец пулеметной ленты, с ощущением вдруг образовавшейся пустоты пальцами дважды пересчитал оставшиеся патроны — было их три. Дело шло к развязке. Но колонна немецкая лежала. И хотя теперь он был почти начисто безоружен, она лежала, придавленная к земле той огненной памятью, которую он оставил у врагов.
Что-то должно было произойти, и Макар ждал, стараясь уже не думать, как это произойдет. Странно, но, обессиленный долгим неравным боем, он сожалел сейчас, в последнем своем ожидании, не о том, что по своей воле выбрал этот неуютный бугор у незнакомой ему смоленской деревни Речица, — он сожалел о том, что не мог теперь удержать в неподвижности лежащих перед ним чужих солдат.
Все, что случилось чуть позже этого часа, было уже по-военному буднично. Обогнав остановившуюся колонну, подошел тяжелый танк, перевалил через дорогу, спокойно, даже не стреляя из пушки, двинулся полем на бугор. Макар, отстранившись от пулемета, смотрел на завораживающее мелькание гусениц, мнущих почти спелый ячмень. И когда мелькание и блеск стальных отполированных дорогами траков стало нестерпимо, пригнулся к пулемету, повернул ствол к скоплению солдат у края придорожного елошника и послал туда последние пули. Грохот работающего металла, лязг гусениц заглушил его выстрелы. Опрокидываясь в окоп, Макар сквозь поднятую пыль, дымную, опахнувшую его бензиновую гарь успел заметить близкий малиновый огонь иван-чая — цветок жил!..
Когда танк, с аккуратно отпечатанными желто-черными крестами на боках, сделал свое обычное на войне дело и, выбрасывая вбок черные выхлопы дыма, ушел к дороге, к бугру направился генерал и два немецких офицера. Впереди них и по бокам шли шестеро солдат в касках, настороженно выставив перед собой автоматы.
Генерал, самый медлительный из троих, поднимался по склону, как по крутой лестнице. Лицо его было мрачно. Сомкнув губы, нервически раздувая ноздри, он с трудом сдерживал шумное дыхание, время от времени промакивал чистым белым платком лоб под черным козырьком высокой фуражки.
Генерал встал над вмятым в песок пулеметом, кистью руки опираясь на выставленное вперед колено, сделал повелительный жест. Тотчас в замятую танком траншейку спрыгнули автоматчики, руками разрыли окоп, приподняли голову Макара. Смертная белизна его лица проглядывала даже сквозь обожженную солнцем темную кожу, из угла стиснутого рта натекала на подбородок кровь, сыпалась из густых жестких волос набившаяся в них земля.
— Hier Hände! Zeigen Sie mir die Hände![1] — приказал генерал. И когда из земли высвободили руки Макара и разбросали их по сторонам, генерал, уже не сдерживая раздражения, закричал:
— Ich sehe keine Ketten, die ihn an das Maschinengewehr fesselten! Ich frage Sie, wo die Ketten sind?![2]
Офицеры вытянулись. Они не смотрели на генерала, они смотрели на раскинутые руки Макара.
— Noch zwei — drei solche Russen, und von meinen Soldaten bleiben Kreuze. Birkenkreuze![3] — отчетливо, выделяя каждое слово, сказал генерал. Он повернулся, пошел вниз, ставя ноги на каблуки. Каблуки съезжали по крутому склону, генерал оступался, взмахивал рукой с зажатым в ней белым чистым платком: было в нем что-то от птицы, падающей с высоты.
ГЛАВА ВТОРАЯ Переправа
1
Степанов не мог различить, где берег, где вода и есть ли на всем видимом ему пространстве отдельные люди, — все смешалось в одну будто на огне кипящую массу. Людские толпы стекали от жиденького побитого леска по открытому песчаному склону к реке, туда, где ближе казался другой, спасительный, берег; вся обширность реки, просвеченная высоким солнцем и голубеющая вдали, была багрово-серой здесь, на переправе. В воздухе еще стоял гул немецких самолетов; обломки разбитых понтонов, лодок, расщепленные бревна от давно, и теперь снова, разбитого моста сносило течением реки вместе с кровавой пеной, телами людей и лошадей, копнами сена, тележными колесами. Самолеты ушли, и людская лавина снова потекла с берега в узкие горловины двух понтонов, протянутых по обе стороны разбитого моста, закрывая путь всему, что было на колесах. Танки, беспомощно выставив короткие стволы пушек, словно тонули в обтекающей, их плотной человеческой массе. Лошади, впряженные в артиллерийские орудия, понукаемые отчаянными жестами сидящих на них ездовых, яростными их криками, почти неслышными в общем плотном, как будто сгущающемся и нарастающем беспокойном шуме, как-то еще протаскивались вместе с людьми, но в конце концов и они остановились, не дотянув до понтонов.
Нижний по течению наплавной мост был разбит, но люди уже не могли остановиться: напор общего движения сталкивал их в широкий разлом, солдаты падали в воду, старались добраться до другого, развернутого течением, конца. Кто-то добирался, кого-то выносило на стрежень, и головы плывущих пропадали в заворотях неспокойной воды; многие, перебирая руками боковины понтонов, тянулись обратно к берегу, от которого они хотели уйти.
Выше этих двух понтонов, наведенных саперными частями отступающей армии генерала Елизарова, жались к береговому лесу не менее многолюдные толпы беженцев. С высоты берега видны были повозки, коровы, козы, тачки, коляски, пестрые платья и платки женщин; у кромки воды, будто испуганные кулички, сновали ребятишки. Переправа разделила военных и невоенных людей. Сдвинутые сюда отступающим фронтом гражданские люди даже не пытались пробиться на воинскую переправу сквозь плотную солдатскую массу. В той безнадежности, в которой они оказались, они искали свои пути на другой, им казалось спасительный, берег. Кто-то, видимо, нащупал что-то похожее на брод. Многие уже шли по воде, придерживая на плечах узлы и ребятишек. Люди медленно брели, будто сцепленные друг с другом и, перепоясывая светлое пространство реки, и, насколько видел Степанов, дотягивались до противоположной стороны. Ближе к тому берегу, там, где обширную отмель огибало русло, людей как будто размывало: кто-то решался и плыл, многие, в надежде на помощь с того берега, стояли по пояс в воде, ожидая. И тех, кто ожидал, становилось все больше…
Арсений Георгиевич Степанов прибыл в армию генерала Елизарова два дня тому назад, уже после того, как части, составляющие армию, дважды прорывались сквозь охватывающую их танковую группировку генерала Гудериана и, после тяжелого сражения, с большими потерями вышли севернее Смоленска к Днепру. Степанов распоряжением Ставки был назначен на место погибшего в этих боях члена Военного совета армии, в боях участвовать ему еще не пришлось. Он только приглядывался к новой для него фронтовой обстановке и пока что мыслил и оценивал то, что видел, памятью прежней, пережитой им в молодости гражданской войны и опытом мирной партийной работы. Потому, когда с берегового возвышения он разглядел заполненный людьми берег, он понял, что перед водной ширью реки в худшем положении, чем армия, находятся тысячные толпы беженцев. Давняя выработанная деятельная потребность помогать тому, кто слабее, быть там, где труднее, побудила Степанова к естественному для него решению организовать переправу выше понтонов, там, где искали себе путь оставшиеся без помощи люди. Поддаваясь потребности быть там, где беда казалась большей, он с обычной своей, сейчас особенно ощутимой хрипотцой проговорил:
— Смотри, Иван Григорьевич, сколько там женщин и детей! Пойду помогать…
Генерал Елизаров, стоявший рядом со Степановым, бывший в одних с ним годах и в равной власти над вверенной им армией, но переживший и понявший за неделю отступления и боев больше, чем за годы всей своей военной жизни, очевидно, понял это чисто человеческое побуждение своего нового комиссара. Напряженным взглядом оценивая возможности наведенной и снова разбитой переправы, зная предел оставшегося времени, которое с каждой минутой как будто спрессовывалось вослед им идущей немецкой армией и все ощутимее превращалось из понятия жизни в понятие смерти для многих тысяч сдвинутых к переправе людей, — зная все это, видя и беженцев, остановленных рекой, и общую солдатскую стихию, которая выше возможного заполонила обе нитки понтонов и с которой уже смешались части его армии, понимая, что только огневые средства, выставленные на том, противоположном берегу, в какой-то мере еще могут спасти людей, задержанных на этой стороне реки, поднял на Степанова глаза, охваченные воспаленными, припухлыми веками, сказал, самой категоричностью голоса удерживая его от невозможного сейчас шага:
— Нельзя, Арсений Георгиевич. Армию погубим. И тех людей не спасем. Немецкая пехота на подходе к Речице. От Речицы до места, где сейчас с тобой стоим, три часа хода. Бери на себя левый, действующий, понтон. Сам займусь разбитым. Немедленно надо перебросить на тот берег всю артиллерию, по возможности — танки. Там их примет, распределит по рубежу полковник Самохин. Имей в виду: заслон в сторону Речицы слаб. Противника не удержит. В лучшем случае предупредит. Все, Арсений Георгиевич. Пошли действовать!
Степанов принял как необходимость то, что сказал, что приказал ему и себе командующий. Молча кивнул; затаивая неловкость и вину перед пестрой толпой людей там, у леса, решительно пошел вниз, запыленными сапогами осыпая с иссохшего склона песок.
— Погоди-ка, Арсений Георгиевич! Куда это ты один? — окликнул генерал. Но в шуме напряженного, непрерывного движения тысяч людей Степанов его не расслышал. Генерал движением руки подозвал автоматчика — знакомого ему паренька с почти девичьим, даже в усталости привлекательным лицом, приказал:
— Чудков! Возьмешь пятерых из взвода автоматчиков и — за комиссаром. Ни на шаг от него!.. — и подумал с тревожностью: «Еще не понял ты этой войны, дорогой товарищ Степанов: Не понял…»
2
Степанов не смог бы пробиться к понтону, если бы не молоденький автоматчик Чудков. Он появился вдруг, на ходу доложил: «По приказу генерала с вами, товарищ дивизионный комиссар!..» — и повел его, высвобождая ему дорогу, среди солдатских плеч и спин, обтянутых выбеленными до портяночной бесцветности гимнастерками; от солдат, как от измученных лошадей, терпко пахло потом. Чудков лавировал в душном, почти не двигающемся людском столпотворении, как лодочка среди сплошнякам идущего по воде молевого сплава. Он то просил голосом негромким, убеждающим: «Отдайся чуток, солдатик! Приказ генерала. Генерала приказ, говорю!» То мальчишеский, задиристый его голос вдруг обретал командирскую силу, когда, затертый массивными солдатскими телами, откуда-то снизу он кричал: «А ну, не напирай! Расступись, говорю. Дай дорогу начальнику переправы!..» Сам выбравшись из этой живой глубины, он выводил комиссара и уже похлопывал кого-то впереди по широкой спине, с веселой отчаянностью бросал шуточки в гущу, казалось, безразличных, ко всему притерпевшихся людей: «И спина же у тебя, дядя! Не спина — плот. Подавайся к реке, на тебе два солдата поплывут!»
Степанов с трудом протискивался за веселым, сразу расположившим его к себе пареньком и все острее чувствовал, как опасно напряжена охватившая его со всех сторон солдатская масса, движимая сейчас единственной близко видимой целью — уйти на тот, свой, берег, за спасительный рубеж реки, оторваться наконец-то от назойливости огненного немца. Почему-то именно два слова — «огненный немец» — повторял он с особой настойчивостью, когда пробирался к переправе, мысленно прикидывая, как овладеть движением тысяч людей. Слова эти, запавшие в память, услышал он ночью от пожилого солдата, который, как узнал он, оказался земляком — семигорским жителем, Василием Ивановичем Гожевым, работавшим у Ивана Петровича Полянина при лесхозовских лошадях. Самого человека он не вспомнил — не с каждым встречался и говорил на широких дорогах, — но общих знакомых они тут же, в сложившейся беседе, припомнили с понятным интересом. Солдат и сказал рассудительно эти не сразу показавшиеся ему важными слова: «Нонешний немец, товарищ комиссар, огненный немец. Огня у него много. С земли, с неба — отовсюду у него огонь. А мы все с винтовочкой — пять пуль, и то чередом. И не то чтобы духом пали, про то не скажу. Но ежели огнем не раздобудемся — не кинем немца назад. Это уж так, товарищ комиссар…» Так сказал ему бывший конюх, теперь солдат Василий Иванович. Шли они в еще светлой ночи июля, в одной из растянувшихся по дороге колонн, шли вольным усталым шагом, беседуя накоротке. Еще с гражданской войны, в долгих походах, любил Степанов пристраиваться к бойцам и говорить вот так, без каких-либо условностей. Он и теперь, прибыв на фронт новой войны, оживил в себе прежние комиссарские привычки и доволен был, что в первом же безрадостном переходе попал на рассудительного земляка, к тому же повидавшего немца. Как ни короток был разговор, Степанов запомнил солдата, запомнил и слова с их по-солдатски выстраданным смыслом, — приоткрывалось нечто, имеющее отношение и к общему отступлению их армий, и к новой для него войне.
«Огненный… огненный немец…» — думал Степанов, пробираясь в плотном окружении автоматчиков вслед за умелым Чудковым и повторяя слова солдата: «Огня у него много… огня…» Он был уже невдалеке от понтона, когда занимавшая его, казавшаяся важной мысль отступила перед охватившей его вдруг неприятной потревоженностью: в шелестящем шуме движения множества людей он отчетливо расслышал откровенно насмешливый голос: «Расступись, солдатня, — начальство драпает!..» Степанов тут же повернулся на голос, на мгновение увидел нацеленный в него враждебный взгляд высокого, выше многих других, солдата. Загорелое его лицо чем-то — сытостью, что ли? — отличалось от всех виденных им за последние дни солдатских лиц. Подозвать солдата, внушить ему что-то Степанов не успел: враждебный ему насмешник будто растворился среди покачивающихся грязных от пота и пыли солдатских лиц. И самого Степанова уже сдвинуло от того места, перенесло ближе к понтону. Но услышанный им насмешливый голос, откровенно рассчитанный на то, чтобы возбудить людей, полоснул будто шашкой, и какое-то время Степанов не мог подавить чувство растерянности, слепо двигался в безразличной к нему, теснящей его, все уплотняющейся солдатской массе.
У воды, перед накатом из толстых, измолотых ногами и колесами бревен, открывающим путь на понтон, Степанов попытался остановиться. Чувствуя всю безнадежность одиноких своих усилий, но еще больше понимая необходимость немедленного действия, он, в окружении автоматчиков, поднялся по исшарканному, разболтанному настилу, остановился с краю, повыше, чтобы могли его видеть, вскинул руку, напрягая грудь, крикнул во всю возможную силу голоса:
— Солдаты! Внимание!.. Освободить проход танкам и артиллерии!..
Голос его за годы кабинетных сидений, видно, потерял былую командирскую властность, может быть, просто потонул в гуле множества других голосов, ругани, рокоте моторов, ржании лошадей, шорохе тысяч ног, мявших сыпучий песок. Но вид дивизионного комиссара, стоявшего на возвышении, в полной форме, при ясно видимых знаках различия, при орденах, которые Степанов все надел, отправляясь на фронт, на какое-то время приостановил ближайших к нему, уже подступавших к переправе солдат. Напряженными спинами сопротивляясь общему движению, они упирались ногами, старались задержаться перед комиссаром, но напор людей, двигавшихся к реке и ничего впереди не видящих, кроме недалекого спасительного берега, был неостановим: упирающихся солдат подняло и понесло на Степанова, как полая стремительная вода поднимает и несет впереди себя летние жиденькие запруды. Снова хлынула на понтон людская масса, и автоматчики едва успели оттеснить неосторожного комиссара от ее сметающей силы.
Степанов видел и сознавал, что людской поток, в котором смешались остатки соединений, частей, разных родов войск, где четкий, привычный для солдата и командира воинский порядок был разрушен оглушающими ударами врага, невозможно ни вдруг остановить, ни подчинить даже высокому командирскому приказу. Вся масса войск, стекающая с берега на переправу, подчинялась сейчас не армейскому закону, имя которому — воля и слово командира, а тому, казалось, неподвластному закону необходимости спасения своей жизни, который действовал вопреки воле и слову командира. И хотя страх, подгоняющий людей к переправе, не был той гибельной для армия паникой, которая совершенно лишает солдата разума, достоинства и силы, он все же был, этот страх, — люди не хотели оставаться на открытом, ничем не защищенном берегу, каждый из них для себя знал и верил, что, прорвавшись через бомбы и огонь самолетов за пространство реки, они наконец-то найдут тот прочный рубеж, откуда начнется порядок, ясность и утерянная под напором врага военная их сила.
Поверх плотно окружающих его автоматчиков он вглядывался в солдатские лица, понимал страх и надежду этих солдат, рвущихся на понтоны, знал, что все эти люди так или иначе должны уйти на тот берег. Но знал он и другое: на том берегу не ждут их свежие дивизии и готовые рубежи, что все эти солдаты разбитых соединений, разными дорогами приведенные к переправе, пополнят полки их отступающей армии, будут в спешке рыть иссушенную землю, сами создавать тот рубеж обороны, в который сейчас верили; знал он и то, что «огненного немца», даже на широкой реке, винтовками и пулеметами не задержать. Каждого солдата в отдельности он мог бы убедить в том, что ему, солдату, без артиллерии не выстоять за рекой, и каждый в отдельности солдат понял бы то, чего добивается он, и посторонился бы, и пропустил орудия и танки. Но солдат было тысячи, и остановить, убедить каждого он не мог, — команда его не действовала, да и голоса его не слышали эти тысячи. Все это Степанов сознавал, напряженно вглядываясь в проходящих мимо него в угрюмой торопливости солдат. Но то, что он сознавал, не делало его сильнее: мудрость не всегда сила. Чтобы поступить по необходимости, нужна была сила бо́льшая, чем заполнившая весь берег реки людская стихия. Такой силы у Степанова не было. Автоматчики плотно прикрывали его спинами, ощетинив перед собой резные стволы автоматов; но это была лишь сила, охранявшая его, комиссара, и привести ее в действие против людей, даже исступленных жаждой спасения, он никогда бы себе не позволил. Но Степанов не был бы Степановым, если бы признал свое бессилие. Он знал, что должен овладеть переправой, должен навязать необходимый для этих людей порядок. Мысль его работала быстро, настойчиво выискивала решения, тут же взвешивала, отвергала. Наконец решение появилось, ему нужны те шесть танков, которые стояли метрах в ста от понтона, казалось намертво зажатые стекающими к реке людьми.
— Чудков! — Степанов окликнул негромко, но молодой автоматчик тотчас повернулся, смотрел на комиссара сочувствующим взглядом. И, видя этот его взгляд, в котором не было растерянности, была только готовность помочь, он не приказал, а скорее попросил:
— Чудков, старшего командира вон тех танков ко мне…
В живых глазах Чудкова вспыхнула откровенная радость от того, что комиссар и в безнадежности нашел какое-то решение. В радости он выдохнул: «Есть!» — что-то сурово сказал автоматчикам и снова, как остроносая лодочка, ловко толкнулся навстречу сплошному, на него идущему людскому потоку.
Вернулся Чудков раньше, чем Степанов ожидал. За ним как будто выдрался из движущейся солдатской массы танкист в истрепанном, потерявшем цвет комбинезоне; шлема на нем не было, волосы, будто пук спелого, спутанного ветром ячменя, прикрывали висок и серое от пыли ухо.
— Старший лейтенант. Один за всех командиров 121-го танкбата… — выговорил он глухо. Голос его едва можно было расслышать: его занемевший от усталости язык едва проталкивал слова.
Степанов видел, какую усталость носит в себе старший лейтенант, и постарался не заметить, ни нарушенной формы доклада, ни распахнутого ворота надорванного комбинезона; он догадывался, через какой огненный ад прошел этот по виду безразличный ко всему молодой командир, и, не желая показывать свое человеческое сочувствие, которое вопреки всему в нем было, стараясь возбудить в танкисте какой-то последний резерв его человеческой силы, сказал:
— Прошу вас, старший лейтенант, сделать невозможное: подведите танки, отгородите танками горловину понтона. Если в ближайший час мы не переправим на тот берег артиллерию — люди на берегу обречены…
Танкист с трудом удерживал тяжелые веки, веки опускались на глаза, он даже покачнулся в забытьи, вздрогнул, приходя в себя из мгновенного сна. Слова, которые ему говорили, медленно входили в его сознание. Степанов повысил голос, резче, чем прежде, спросил:
— Вы поняли, старший лейтенант?
Танкист старался понять, что от него хотят; рука его поднялась, в неловкости придавила к горлу надорванную половину ворота, скользнула по груди. Невозможно было представить, в который раз он преодолевал усталость, но сознание вернуло его в действительность: взгляд прояснел, руки вытянулись вдоль тела, голосом глухим, но достаточно отчетливым он сказал:
— Понял вас, товарищ дивизионный комиссар!..
Степанов кивнул:
— Исполняйте! Возьмите автоматчиков, они помогут. Хоть метрами, хоть сантиметрами, но приказываю двигаться к понтону!
Старший лейтенант и автоматчики пошли в обход, вдоль берега, с трудом одолевая напор встречь им идущих солдат. Один Чудков не двинулся с места. Степанов вопросительно и недовольно смотрел на него, но маленький автоматчик как будто еще крепче врос в песчаную кромку берега, где сейчас они стояли. Искоса, напряженным взглядом, он смотрел на Степанова, опережая его слово, неуступчиво сказал:
— По приказу генерала не имею права оставить вас, товарищ дивизионный комиссар! — и как бы для убедительности обеими руками тряхнул висевший на груди автомат.
В душе Степанов одобрил солдатскую исполнительность упрямого автоматчика.
Поджидая танки, не вполне уверенный в том, что старшему лейтенанту удастся продвинуться к переправе, он с давно забытым чувством бессилия оглядывал ближайший к понтону, заполненный напирающим войском берег. Среди множества словно плывущих лиц взгляд выхватил вдруг знакомое лицо высокого усмешливого солдата, который, явно рассчитывая на солдатское расположение, выкрикнул смутившие его слова. Взгляды их опять встретились, и Степанов опять отметил на обожженном, как у всех, солнцем, но сытом лице бегающие, как будто что-то ищущие глаза. Высокий солдат тут же исчез среди голов и плеч, лицо его промелькнуло уже ближе, но в стороне от понтона, и Степанов с неприятным удивлением подумал, что солдат не торопится на переправу. Было что-то настораживающее в назойливом присутствии этого странного солдата. Но возникшая было настороженность тут же ушла: он увидел, как качнулись стволы танковых пушек: разделенные людской текучей массой, танки начали медленно сдвигаться. Сомкнувшись, посверкивая сквозь покрывающую их пыль металлом, танки короткими, какими-то судорожными рывками, но все-таки поползли. Однако, пройдя половину нужного пути, машины встали: перед самым понтоном солдаты как будто слипались друг с другом, пробиться сквозь сплошную людскую стену было невозможно. За танками втянулись в проложенный ими коридор несколько артиллерийских упряжек. Теперь все они снова замерли; по-прежнему двигались одни солдаты, с еще большей исступленностью прижимаясь к впереди идущим, — глухо, безостановочно людская масса втискивалась на понтон.
Степанов ясно представлял, какой кровавый ад случится здесь через час-два, когда на переправу выйдет немецкая колонна. Он знал, что должен принять решение — не свойственное ему, жестокое решение, но принять его он должен.
Старший лейтенант-танкист, наполовину высунувшись из открытой башни, сорванным, каким-то рыдающим голосом бесполезно материл закрывших ему путь солдат, и Степанов, понимая, что должно сейчас случиться по его приказу, уже повернулся к Чудкову, готовый послать его к старшему лейтенанту-танкисту.
Приказать он не успел: воздух прорезал гул моторов. Из-за леса, с той стороны реки, вынырнула тройка «мессеров», ринулась с нарастающим созвучным ревом вниз, нацеливаясь прямо на горловину понтона, у которого стоял Степанов.
Минуту, назад казалось, что нет силы ни отодвинуть, ни задержать наплывающее на понтон половодье отступающих армий. Но лобовой нарастающий рев стремительно пикирующих на переправу «мессеров» оказался для людей сильнее страха той опасности, которая была где-то за их плечами. Под ударившим в воду и в песок проливнем пуль сплошная масса солдат будто вздыбилась, люди волнами отплеснулись от понтона на обе стороны, насколько это было возможно в той тесноте, в которой они были. Самолеты, оглушая, пронеслись, казалось, над самыми головами, взмыли в небо, широким кругом пошли на новый заход. Степанов, хмурясь от проявленной слабости, поднялся от бревна, к которому его придавил моторный рев и хлещущие удары пуль, движением руки отряхнул песок с груди, с колен, с неожиданным облегчением увидел почти свободную от людей горловину понтона. Не сразу понял, почему не двигаются к понтону танки, не сразу услышал, кому и что кричит высунувшийся из башни танкист. Потом понял: перед танком лежали убитые солдаты, и старший лейтенант-танкист кричал автоматчикам, чтобы они оттащили убитых. С тяжелым, похожим на упрек себе чувством Степанов подумал, что старший лейтенант-танкист не исполнил бы его вынужденного жестокого приказа, если бы такой приказ ему, дивизионному комиссару Степанову, пришлось отдать.
Автоматчики, озирая небо, с суетностью движений и какой-то виноватостью на лицах, оттаскивали к свободной кромке берега убитых. Степанов видел, как повсюду, в приостановленном движении войск, попарно, по трое, солдаты выносили убитых и раненых к крутояру, и удивительно было смотреть, как податливая, только что, казалось, наглухо отвращенная от всяких разумных поступков людская масса упредительно раздвигалась перед солдатами, несущими скорбную ношу. Он успел это заметить и в озабоченности своим делом почувствовал, что сможет совершить то, что надлежало.
Пока «мессеры», сопровождаемые настороженными, недобрыми взглядами тысяч глаз, делали по небу широкий круг, танки подвинулись к воде, лбами уткнулись в зады друг друга, наискось перекрыв горловину понтона, — проход остался лишь с той стороны, где был Степанов. В этот проход устремились стоявшие за танками четыре упряжки с полковыми пушками, грохоча колесами по бревенчатому настилу, въехали на понтоны. И тотчас, как будто все ждали увидеть это движение, масса войск, отринутая было огнем самолетов, с еще большей стремительностью хлынула на переправу. Солдаты, отсеченные стеной содвинутых танков, с шумом входили в воду, и уже с воды, сбоку, взбирались на колеблющийся и оседающий под тяжестью людей, орудий, лошадей наплавной мост; эти солдаты сдерживали, но уже не останавливали движения въехавших на понтоны артиллерийских упряжек. Степанова теперь беспокоил хотя и ослабленный, но по-прежнему неуправляемый поток людей, который прохлынул в оставленный проход. Тяжелые 152-миллиметровые орудия на тракторной тяге, которые было двинулись к понтону, опять встали, захлестнутые плотным движением солдат. Нужна была еще какая-то сила, какое-то решительное действие, чтобы отсечь, хотя бы на самое малое время, напористый поток пехоты, пропустить, кроме двух тяжелых гаубиц, еще четыре видимые ему батареи полковых орудий, обоз с ранеными, несколько танков, безнадежно застывших на крутояре. Обдумывая свое возможное решительное действие, Степанов в то же время следил за самолетами, почему-то не уходившими от реки. «Мессеры», сторожа, но уже не останавливая общего движения людей, делали третий широкий круг над переправой. Похоже было, что они израсходовали боеприпасы и теперь звали другие самолеты на легкую добычу, и люди догадывались об этом, еще нетерпеливее теснились и торопились пройти опасный путь.
Один из самолетов вдруг отделился, кренясь и снижаясь, вышел на середину реки, выровнял полет, нарастая звуком мотора, устремился на переправу, Степанов видел, как от самолета отпало, показалось почему-то — желтое, тело бомбы, и короткий свист ее, пронизывающий воздух, оборвался глухим, каким-то утробным взрывом. Река взыграла, как будто кто-то снизу с силой выбросил воду в небо, опрокидывая и смывая с моста людей; нитка сочлененных понтонов лопнула, концы разорванного моста под напором течения начали расходиться.
Самолеты наконец ушли. От противоположного берега отплыли две лодки; часто махая веслами, люди спешили к месту разрыва. Видно, кто-то из саперных командиров на том берегу неотступно следил за работой переправы, потому что ниже торчащих из воды свай старого, почти полностью уничтоженного бомбами деревянного моста уже действовала и вторая нитка понтонов, у которой распоряжался генерал Елизаров. Степанов видел, как медленно ползли по тем понтонам артиллерийские упряжки в таком, же плотном, окружающем их потоке солдат.
Степанов и не глядя на часы чувствовал, как, сжимается время, беспощадное к нему, к этим тысячам людей, задержанным рекой, — время определялось сейчас только пространством от недалекого села Речицы до этой вот переправы. Едва Степанов давал себе думать о том, что случится здесь, когда выскочат на крутояр немецкие танки, — сохло горло, сводило плечи, как будто лед протаскивали по спине: ни одно из бывших здесь, зажатых людьми орудий не смогло бы сделать даже выстрела!
Солдаты видели разведенный, забитый людьми мост и все-таки продолжали продвигаться, еще больше уплотняя, казалось, до предела заполненные понтоны; многие, проталкиваясь мимо стоявшего в окружении автоматчиков комиссара, забредали в воду, прихватывали отпилки бревен, плавающие в реке доски, оглобли, тележные колеса, придерживаясь боковых понтонов, плыли к тому берегу, надеясь на всесильное русское «авось».
Взглядом напряженным и пристальным Степанов выискивал в людском потоке еще какую-то силу, способную принять и исполнить его приказ. Для себя он уже определил эту силу и каждого, на ком видел знаки командирского отличия, окликал громко и властно. И лейтенанты, капитаны, старшины подчинялись его властным окрикам, выбирались из плотного людского скопища, как будто виноватясь за себя, за своих и не своих солдат, с тяжелой, глухой настойчивостью заполняющих переправу, докладывали о себе, вставали позади, ожидая указаний. Группа командиров росла, и Степанов видел, что обретает силу, которой прежде у него не было; плечи его как будто становились шире, он чувствовал, что эти уже подвластные ему широкие плечи смогут помочь ему в нужный момент. Саперы на лодках и солдаты, облепившие понтоны, натужно тянули канаты, сводили концы порванного взрывом бомбы и расчлененного течением наплавного моста. Сейчас понтоны соединятся, и снова взыграет в людях, исступленных усталостью, жарой, постоянной близостью смерти, стихия видимого им на том берегу спасения — и тогда ни отсекающая танковая изгородь, ни заслон из автоматчиков и командиров не удержат с трудом освобожденную горловину понтонов.
Ищущий взгляд Степанова отметил на высоте берега новую, только что появившуюся часть. Взгляда было достаточно, чтобы увидеть, что эта новая небольшая часть и в отступлении сохранила свой воинский порядок. Командир остановил бойцов на склоне, подозвал к себе других командиров, все они встали в полукруг, разглядывая затопленную войсками переправу. Солнце освещало склон, высвечивало лица стоящих на склоне людей, и Степанов, сощуренными глазами заостряя взгляд, с чувством нужного ему обретения разглядел на плотном невысоком командире зеленую фуражку пограничника.
Он обернулся к группе собранных им командиров, быстрым взглядом выделил артиллерийского капитана, судя по крупным чертам лица, твердому подбородку, спокойному прямому взгляду — человека неуступчивой воли, сказал, подойдя на шаг:
— Задание вам, капитан. Передайте командиру только что подошедшей части приказ: пробить к переправе коридор, подтянуть к понтонам все застрявшие пушки. И помогите ему, времени мало!
Капитан исчез так быстро, что Степанов не успел дать в провожатые ему Чудкова. Внимание его тут же сосредоточилось на все возрастающем напряжении у входа на понтоны. За танковой загородью по-прежнему двигалась в реку не могущая остановить себя людская масса. Часть солдат, общим напором сброшенная в воду, плыла к тому берегу, придерживаясь свай разбитого моста. Многие плыть не решались, лезли из воды на понтоны, кричали, в нетерпении ожидали, когда саперы вновь спаяют оба берега реки. Вся половина моста вместе с артиллерийскими упряжками, с трудом туда проведенными, и теперь стоявшими, и тоже сплошь облепленными солдатами, напоминала раздраженно гудящий пчелиный рой, случайно опустившийся на переправу.
Другой поток людей, стремящийся на мост и приостановленный автоматчиками и старшим лейтенантом-танкистом, загнавшим свой танк почти в горловину понтона, набирал всё бо́льшую, угрожающую силу. Степанов видел, как под напором хмурых, озленных препятствием солдат пятились автоматчики — спинами они жались к танку, лица их были бледны и решительны, но они тоже понимали, что бессильны перед массой напирающих на них людей. Артиллерийский капитан еще не дошел до командира-пограничника, Степанов видел его, в зеленой фуражке, в окружении своих командиров. Саперы почти состыковали понтоны, еще несколько минут — и солдаты ринутся на переправу, и все опять вернется к началу.
Надо было выстоять, совсем немного, но выстоять: он видел, как выдрал себя из плотной массы людей артиллерийский капитан, спеша побежал на склон, Степанов обернулся, негромко, как будто не приказывая, сказал:
— Товарищи командиры, прошу помочь… — и первым шагнул к танку, в еще свободное от людей пространство. Он не рассчитывал на физическую силу своих с возрастом ослабленных мускулов, да и смешно было бы рассчитывать на физическую силу там, где не могло помочь даже оружие, — он рассчитывал на то, что ближние к нему солдаты, пока приостановленные, оторванные от общего стихийного движения, не могут не вспомнить про свой солдатский долг в виду стоящих перед ними, с высокими воинскими званиями, командиров.
Но прежде, чем Степанов успел что-либо сказать, он увидел среди одинаково осунувшихся, угрюмых, даже озлобленных лиц уже знакомое ему, отличное от всех других лицо высокого солдата. Солдат был близко, настороженно следил за каждым движением Степанова, и, когда взгляды их встретились, солдат не заспешил, как это было прежде, укрыться за чужими спинами. Напротив, он как-то ловко скользнул телом между молча и нетерпеливо стоящими солдатами, передвинулся ближе. Его усмешливо растянутые губы, будто прицеливающийся взгляд явно выражали готовность к действию. И Степанов, взглянув на передвинувшегося ближе к нему высокого солдата, вдруг ясно понял, что этот солдат без пилотки, недавно наголо остриженный, с настороженным взглядом неглупых глаз, отлично знает, что только он, дивизионный комиссар, стоящий здесь, у начала переправы, пока еще мешает общему взрыву все сметающей людской стихии.
Степанов опять ощутил неприятное чувство от близкого присутствия этого непохожего на других солдата, хотел сказать Чудкову, чтобы подвели к нему странного человека, но вздрогнул от натужного, взвинченного до пронзительного крика голоса:
— Братцы! Немец на переправе! Все тикай на паром!.. Бей предателя-комиссара…
Когда слух изумленного Степанова еще воспринимал натужный, насильственно взъяренный голос высокого солдата, он увидел направленный ему в грудь пистолет.
Выстрел он тут же услышал, но удара пули не почувствовал. Еще не успев понять, он увидел, как обмякло на руке высокого солдата маленькое тело автоматчика Чудкова; Чудков подогнул колени, как-то нехотя, лицом вниз, повалился на песок.
Степанов на гражданской войне и в мирной жизни встречался с трусостью, изворотливостью, даже предательством. И все-таки, по устоявшемуся в нем, несмотря на горький опыт, доверию к людям, по обретенному им в этом доверии душевному благородству, не предполагал до самой этой минуты, что нынешний враг, превосходящий в огне и военной силе, еще и грязен, и коварен, и подл даже в таких вот мелких проявлениях войны. Ни на минуту он не сомневался, что высокий солдат — не боец Красной Армии: ни один из советских солдат не мог бы поднять руку на своего комиссара. Потом, вспоминая все, что было на переправе, он, словно шкуру, сдирал с себя былые представления о войне, о враге, с которым пришлось сойтись в противоборстве, и молча и тяжело страдал, переживая в себе ту, прежде немыслимую им, кровь, которую увидел на переправе, — за одни сутки переправа обнажила перед ним все, что не было еще прожито на самой войне.
У высокого солдата уже выбили пистолет; и те самые до безразличия усталые солдаты, которые в отупении, в страхе перед идущим вслед немцам готовы были, отводя глаза, протолкнуться в общей массе мимо пытавшегося остановить их комиссара, — те самые солдаты теперь ломили диверсанту руки к спине так, что грудью он давил согнутые колени, пытался повернуть лицо к солдатам, с яростью пойманного зверя рвался, кричал проклятья комиссарам, и кто-то из солдат шагнул к нему и наотмашь ударил по мокрому, раскрытому рту.
Степанов обводил медленным взглядом плотную, близкую, шумно дышащую на него толпу; ему казалось, толпа стала еще плотнее и неподвижнее: солдаты, которые были впереди, будто вросли в размятый песок берега и силой напряженных ног и плеч уже сами противостояли напору тех, кто был позади. От передних пошел и говор, быстро передаваемый по сторонам и в задние напиравшие ряды: «В комиссара стреляли… диверсанта словили…»
Степанов слышал перекидывающийся говор, удивленный, вроде бы даже виноватый, отметил и упорствующих общему движению стоящих перед ним солдат, как заметил для себя и то, что бывшая почти безликой, казалось, безразличная ко всему, кроме движения, людская масса вдруг обрела лица, одинаково хмурые, утомленные, но отличные одно от другого. Он видел и лица солдат, взахлест охвативших руки диверсанта. Один, что был невысок, но крепок в груди, придавливал заломленную руку с какой-то злорадностью в выпуклых глазах, косо нацеленных в темный стриженый затылок пригнутого к самому песку диверсанта; другой, пожилой и похудее, в мятой, почему-то мокрой пилотке, крепко прихватив сильное плечо все еще пытавшегося кричать подлеца, с угрюмостью смотрел на лежащего у его ног молоденького автоматчика Чудкова. Степанов вглядывался в лица солдат и на хмурых — старых и молодых — лицах, одинаково темных, как будто усохших от зноя на открытых дорогах отступления, не видел сочувствия стрелявшему мерзавцу — Степанов даже про себя не мог назвать его солдатом. В числе других вокруг стоявших военных людей он увидел и знакомого рассудительного земляка Василия Ивановича Гожева — стоял он прямо в воде, мокрый по грудь, с перекинутой за спину винтовкой, придерживал на плече бухту пенькового каната, в другой держал топор: видно, кто-то нарядил его, а скорее всего — по своей воле он шел помогать саперам. Василий Иванович как вступил в воду, нагруженный саперным припасом, так и остановился в полуобороте, став свидетелем того, что случилось; в его лице, озабоченном работой, Степанов не прочитал ничего, кроме тяжелой сдержанной гадливости. Многие солдаты, встречая взгляд Степанова и виноватясь за случившееся зло, отводили глаза; пожилой боец с курчавой, словно опаленной, щетиной на скулах, бывший ближе других к Степанову, глаз не отвел: как бы не уступая Степанову своей самостоятельности, сузил глаза, сказал вроде бы за всех:
— Дайте его нам, товарищ комиссар… Не из наших он! Надо думать, специально забросили!
Вокруг стояли те же солдаты, которые минутами раньше не слышали, старались не слышать его приказов. Надо было чему-то случиться в этой многотысячной, разобщающей души людей стихии спасения, чтобы люди вновь почувствовали свою причастность к общему делу. Солдаты, видевшие сотни смертей в боях, лежавшие под бомбами в пулеметным огнем, сражавшиеся и отходившие под силой немца, не могли, не оказались равнодушными к рассчитанной подлости, к этому выстрелу из-за их спин. Те самые солдаты, которые не хотели его видеть и торопились пройти мимо, теперь стояли и ждали его приказа.
Степанов все это чувствовал, видел и, как бы заново обретая силу, данную ему его воинским званием, негромко сказал:
— Спасибо, солдаты, за веру! — и, обращаясь к автоматчикам, товарищам Чудкова, приказал: — Расстрелять…
3
Слаженная, послушная воле командира воинская часть майора погранвойск влилась в людское половодье, колыхнула, раздвинула, как раздвигает многопудье волн упрямая грудь парохода. Солдаты майора пробились и тут же, будто надолбами, вросли в песок — образовали коридор от артиллерийских орудий до танковой загороди. Упряжки лошадей, исступленно подстегиваемые ездовыми, двинули орудия к понтону, влились в общее, уже начавшееся по наплавному мосту движение. Трактора подтащили ближе тяжелые гаубицы, и Степанов понял, что пик той невероятной трудности, перед которой он был поставлен обстоятельствами и словом генерала Елизарова, миновал. Когда он это понял и, чувствуя облегчение, снял фуражку, серым от пыли комком платка протер мокрую от пота голову и тоже потную, горевшую от солнечных ожогов шею, в небе снова обозначился гул: шестерка «юнкерсов» заходила к реке, как всегда со стороны солнца, хотя каждый из сидящих там, в крылатых машинах, не мог не знать, что на переправе не было зенитных средств — три зенитных батареи, открывшие огонь по первым появившимся самолетам, были начисто разбиты бомбами.
Самолеты вышли на открытость, реки, друг за другом низко прошли над скопищем войск, заставляя людей падать и цепенеть в ожидании смерти. Лихой, впритирочку к воде, пролет для бомбежки был не нужен — это была игра в силу. И Степанов, понимая это, оглушенный дрожащим, трамбующим воду и землю, забивающим слух ревом, с трудом, но устоял, не лег под перекладины понтона.
Тень от самолета как будто ударила его по лицу — он откинул голову, дотянулся пальцами до ворота гимнастерки, тяжестью руки разорвал: ворот душил.
«Юнкерсы», отблескивая выпуклостями крыльев и кабин, ушли в солнечную высь, не спеша построились в круг, и первый самолет, опрокидываясь на крыло, пошел с нарастающим воем вниз, растягивая круг в спираль.
В памяти Степанова остался однажды пережитый им на охоте случай: к пролетающему над озером чирку метнулся болотный лунь. Вскинув напряженные крылья, вытянув вперед когтистые лапы, он с высоты косо падал на молоденькую, летящую над водой уточку, и уточка, заметив падающую на нее тень смерти и отчаянно заспешив, вдруг покорно раскинула крылья и приняла удар; у нее еще было мгновение занырнуть в спасительную воду, но страх сковал ее, и возможное спасительное мгновение не спасло. Степанова поразила тогда не сама гибель уточки — поразила беззащитность одной живой частички природы перед силой, быстротой, когтями такого же другого живого существа, сотворенного той же природой, — беззащитность и, особенно, покорность, какая-то как будто уже от рождения заявленная покорность перед другой враждебной силой.
Когда ведущий «юнкерс», растягивая круг в спираль, пошел вниз, к незащищенному скоплению людей, Степанов напряженным, обострившимся взглядом увидел вытянутые вперед колеса, расширенные шпорами кожухов, и мгновенно вспомнил мохнатые, нацеленные ноги хищника. И та давняя мысль о силе и покорности, которой он был тогда свидетель, отозвалась в нем протестующим, упругим толчком. Он понимал: ничто — ни высокое воинское его звание, которое имело власть над солдатами его страны, ни физическая, еще сохраненная им сила, ни богатый опыт нравственной жизни, помогающий ему понимать людей и влиять на их судьбы, — ничто не защитит его от падающего на него самолета, придуманного человеческим умом, нацеленного на него чужим, враждебным ему человеком. Сейчас, здесь, на переправе, открытой недоброму небу войны, он был как та, памятная ему уточка в последнем своем полете. Но все в нем протестовало против покорности падающей на него силе. И, задавливая в себе тоску от предчувствия возможной близкой смерти, силой ума, волей своей одолевая дикий позыв броситься под слепую защиту ободранного, зашарканного ногами бревенчатого наката, он заставил себя остаться на месте. Он никому ничего не приказывал, он просто стоял, широко поставив ноги, среди бегущих от понтона и от берега к лесу людей, гонимых знакомым ему страхом смерти, и, не отрывая взгляда от падающего к реке самолета, все-таки успел заметить краем глаза, что вдруг образовавшееся вокруг него безлюдное пространство вновь наполняется движением командирских голов и плеч; оттого, что он заметил это движение стягивающихся к нему людей, он почувствовал себя тверже.
Степанов смотрел, как приближается, увеличивается в размерах вытянутая вперед, будто живая, морда самолета, отблескивая лобовым фонарем кабины; веером выпали из-под колес черные предметы, к реву мотора добавился нарастающий, как у сирены, просверливающий душу звук. В то мгновение, когда бомбы отделились, самолет будто клюнул пронизанное солнцем пространство и круто, как по горке, пошел вверх, оставляя в воздухе летящие к воде снаряды.
Почему-то на этот раз летчика, ведущего всю шестерку, привлекли не понтоны и не остатки свай когда-то бывшего здесь деревянного моста. Выше по реке, где пологая песчаная коса ближе всех отмелей подходила к другому берегу и люди тысячами шли по косе, по воде, плыли там, где не доставали дна, где образовалась своя отчаянная переправа, перепоясавшая реку настолько плотной живой стеной, что за ней — это было видно от понтона — река словно бы набухла и даже подтопила песчаную пологость берега, — именно туда, в эту живую, движущуюся людскую череду, в которой мало было солдат, но почти сплошь шли и плыли беженцы из занятых чужой армией городов и селений, косо летела с воем, с нарастающим визгом быстрая стайка бомб. Другие налетчики в точности повторили то, что сделал первый из них; шесть бомбовых залпов с дробным, сотрясающим все окрест гулом разметали живую людскую плотину. Вскипевшая мутная вода хлынула в обозначившиеся провалы, вместе с пеной, кровавой в отблесках солнца, сплошь поплыли по текучей середине реки человеческие тела.
Шестерка «юнкерсов» выстроилась в круг, и, как будто повторяя для зрителей устрашающий цирковой номер, пошел вниз, растягивая круг в спираль, все тот же первый самолет. На двух ревущих его моторах встопорщились, забились, словно от ураганного ветра, огненные усы, и по краю реки, по измятому сухому песку берега, на котором ничком сплошь лежали люди, осыпью ударил убивающий металл.
Степанов стоял, плотно упираясь расставленными ногами в песок, как будто собирался устоять даже тогда, когда ударит в него снаряд. Приподняв левое плечо, наклонив голову, он из-под глыбастого лба, затененного козырьком фуражки, следил за каждым низко проносящимся, казалось лихо играющим силой крыльев, пулеметов и пушек, ревущим стервецом; он как будто закаменел под секущим воду и людей невообразимым проливнем. Он выстоял двенадцать огневых штурмов и, когда последний самолет ушел ввысь, оставив на земле замирающий вой, едва оторвал будто вросшие в песок ноги. Он еще плохо воспринимал обычные звуки, и странно было ему видеть, как беззвучно по всему широкому берегу поднимались живые солдаты, осторожными улыбками виноватясь перед мертвыми, в неловкости отряхивались, косились на небо, где после оглушающего рева, казалось, беззвучно ходили в высоте по кругу неулетающие самолеты.
Степанов снял фуражку, медленным движением провел ладонью по бритой, в струях нервного пота, голове. Голоса он уже слышал, но не мог понять совершенно новый здесь, на переправе, непривычно слабый звук. Он повернулся; взгляд его выхватил кромку берега и лежащую в воде, на спине, женщину; волосы ее, распущенные, почти белые, колыхались, темнея в приливах воды, колыхалась вместе с водой откинутая рука, глаза смотрели в небо. За женщиной, у бока ее, что-то слабо шевелилось.
Степанов подумал, что женщина еще жива и пытается рукой дотянуться до раны. Но взглядом, вдруг обострившимся до боли, заметил другие, маленькие руки, цепляющиеся за складки платья, лобастую голову с наплывом мокрых волос, глаза, распахнутые недоумением, растянутый в плаче рот и сквозь гуд, еще стоявший в ушах, услышал сам плач и разглядел всего младенца: суча голыми ножками, младенец выбрался наконец из воды и, цепляясь за платье и пачкаясь в крови, упрямо полз к безответному материнскому лицу.
Среди неподвижных лежащих в реке тел он заметил другое суетное движение — выбирался из воды мальчик с белыми, как у женщины, волосами, выбирался как-то странно, на боку, рывками поддергивая тело, обтянутое мокрой матроской и липнувшими, к телу короткими штанишками на лямках. Только теперь, когда мальчик выполз на мелкое место, Степанов заметил, что за мальчиком черным полотенцем тянется полоса крови, и, чувствуя, как каменеют виски и боль стягивает затылок, разглядел, что мальчик в синих штанишках ползет без ноги; ни гримасы боли, ни слез на белом лице, только испуг. Из последних сил он спешил доползти до матери и не дополз: руки подогнулись, он упал лицом в воду и уже не поднялся.
Степанов не успел ни сказать, ни приказать — лица солдат и командиров, бывших вокруг, поднялись к небу: снова приближался самолетный рев. Из круга, образованного шестеркой, один из самолетов снизился, шел над самой водой, ревом моторов глуша звуки земли, он как будто оглядывал содеянное, покачивал крылами, всем показывал свои черно-желтые кресты. Степанов увидел за стеклом кабины голову в шлеме, в квадратных очках, показалось даже, что летчик в очках удовлетворенно ему улыбнулся. Степанов перехватил эту улыбку тяжелым, страшным взглядом: рубец, которым он был отмечен еще в гражданскую войну, проступил и угрожающе багровел на крутом его надбровье. Случись кому-нибудь там, на мирной, обычной его работе, принять на себя подобный его взгляд — человек счел бы себя уже ненужным ни людям, ни делу. Но летчик, которого видел Степанов, был из чужого мира, он не был в его власти. Возможно, в какое-то мгновенье летчик тоже разглядел человека в фуражке, может быть, понял, что стоит у понтона командир, и, может быть, пожалел, что бомбы сброшены и все патроны расстреляны; он повернул лицо и поднял руку в перчатке. И Степанов понял этот жест уверенной в себе силы: летчик обещал возвратиться.
…Степанов молча стоял, чувствуя, что еще что не способен владеть собой. Все, что он видел за дни фронтового присутствия, что принимал как неминуемую жестокость войны, обретало иной смысл: прежнее понимание военных действий, с которым он пришел на войну, переставало в нем быть. Действительность оказалась страшнее: враг не различал войско и беженцев, солдата и младенца — он посылал огонь туда, где людей было гуще, он бил там, где можно было больше убить. Страшным своим взглядом он провожал самолет и, может быть, впервые до ясности прозрел тупую смертную силу, которая обрушилась на его Россию; и от мгновенного этого прозрения сдавило сердце сознанием долгой, кровавой, всеохватной, ничего не прощающей врагу войны.
Он овладел собой; увидел пробирающегося на мост с топором и лесиной уже выделенного им из всех прочих знакомого семигорского солдата Гожева, обратился к нему:
— Василий Иванович! Прошу вас: убита женщина, мать. Ребенка надо передать какой-нибудь женщине из беженцев. Видавшей горе женщине. Вы поняли меня?
— Как не понять, товарищ комиссар! — тоже не по-уставному отозвался Гожев. Положил лесину на понтон, топор заткнул за пояс, под висевшую на спине винтовку, в неторопливости направился к убитой женщине. Степанов и все стоявшие с ним рядом молча смотрели, как неспешно он подошел, с мягкой настойчивостью отцепил от материнского платья обессиленного криком младенца, обмыл ему ноги, прижал к себе, прикрыл бережливыми ладонями, обходя людей, тяжело пошел по растоптанному песку к лесу. Степанов проводил его взглядом, жестко глянул на стоявших вокруг командиров, стараясь удержать в себе пробужденную недобрую силу и все-таки чувствуя, как прорывается она в его напряженном голосе, отрывисто и четко приказал:
— Все пулеметы — «максимы» и ручные — поставить для стрельбы по самолетам! Все, сколько есть в наличии на берегу. На танки, на телеги, колеса, столбы, — но поставить! Дать огонь! Дать огонь! И никому у пулеметов не ложиться. Стрелять. Бить!..
Он помолчал, с трудом справляясь с ненужной в приказе яростью.
— Вам, капитан. Собрать все топоры и пилы. Взять людей. Валить лес и вязать плоты. Понтонами и переправой войск занимаюсь я. Переправляйте беженцев. Это люди. Это наши люди!..
Степанов повернулся и, зная, что слова, сказанные им, обернутся сейчас делом, не оглядываясь, стал пробираться краем забитого людьми наплавного моста туда, где саперы вместе с солдатами, неудержимо матерясь, тянули канаты, в который уже раз стягивая снова разорванные понтоны.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ Годиночка
1
Трудно возвращался Макар обратной дорогой, к жизни, которую, казалось, навсегда оставил на выжженном июльским зноем бугре, в опахнувшей его бензиновой гари, под изламывающей тяжестью танковых траков.
В полузабытьи ощущал, как давила его земля, задыхался от ее тяжести; языком раздвигал губы, сквозь щелочку со свистом тянул воздух, загонял с клокочущим сипом в непослушную грудь; воздуха не хватало, и снова чужая сила тащила его к раскрытым вокруг черным безднам. Макар помнил, что сам избрал смерть и принял ее в окопе, на холме, близ незнакомой ему деревни, живущей последним мирным днем, и все-таки чувствовал блуждающую рядом жизнь. В смуте низко плывущего над черными безднами дыма время от времени различал малиновый огонь иван-чая, видел, как вздрагивал в пыльных всплесках земли и металла, клонился в ветровом вое пуль крохотный в зачужавшем пространстве земли цветок, и в благодарном чувстве спасения тянулся к его огню всем, что еще было в нем живого.
В каком-то из дней явственно различил он острожное прикосновение пальцев к гудящим болью вискам, что-то щекотно трогало оживающий краешек губы. Попробовал отвернуться — голова не послушалась, голову будто приклепали к плечам. Макар догадался: щекочут его чьи-то волосы, кто-то низко наклонялся над ним. Прохлада освежила лоб, овлажнила рот. Кто-то был рядом, кто-то оберегал его от давящей тяжести земли. Он подумал: «Васенушка…» — и снова упал в темноту.
Глаза он открыл, наверное, ночью; понимал, что глаза открыты, смотрел осмысленно и не видел ни звезд, ни нависающего над окопом бугра земли. Он помнил, что стрелял по немецкой колонне при склонившемся пополуденном солнце, — значит, пролежал он в земле вечер и часть ночи. Но ведь лето, июль! В июле даже у ночей нет такой вот непроглядной осенней тьмы! Он поднял руку, повел вкруг над собой, рука пристукнула с певучим отзвуком сухого дерева. Пальцы скользнули вниз, ощупали выпуклости бревен, дощатый край нар. Нет, он не на бугре. И не в земле. Он — у людей.
Словно бы в ответ на его стук, напахнуло движением воздуха от бесшумно приоткрытой двери. В проеме забрезжил сумеречный свет, даже не свет — обозначилась полоса светлее, чем все вокруг. Он почувствовал прикосновение легкой, озабоченной руки и, успокаиваясь и снова забываясь, подумал: он — дома…
2
— Вот так случилось с тобой, бедовый человек. Понесли хоронять, а ты будто землю сыру почуял. Выстонал. Взяли тебя перед смертью на поруки…
Старая женщина перед ним на табурете. Все в ней в достоинстве и силе. Тусклый свет из узкого, в две ладони, оконца, прорубленного в бревенчатой стене, дает разглядеть суровость лица, худобу щек, подбородок редкой для женщины твердости, Старая женщина сидит, умостив руки на коленях, юбка, по исконному деревенскому обычаю, длинна и широка, цветом — черная; темные руки слабо проглядывают на ней. Но Макар помнит сухие ее руки с узкими, поистертыми между суставов, пальцами, — это они сорвали тряпицу с крынки, подали ему погребного молока. От молока и заныли зубы и сердце на той пыльной дороге, обочь которой стояла старая женщина и, под ее рукой, девочка городского обличья.
Старая женщина говорит с Макаром, но взгляд ее обращен в себя:
— Герой ты, солдат! Когда молока подавала, в глаза глядела. Что, думаю, солдат, у тебя на сердце? Не в отход идешь, ворогу землю оставляешь. Боль видела. Что совестишься — тоже видела. А что готов себя в землю положить — того не выглядела. А ты вон какой! Сто семнадцать крестов с касками поставили они у школы. Ночь собирали, утро хороняли. У тех, кто хоронял, не печаль — страх в глазах. Вот что сделал ты, солдат. Знаю, сам на то пошел. Потому герой… — Старая женщина смотрит теперь на Макара, в глазах скорбь и дума. — Пока ты жизнь нашаривал да в силу входил, немец край заполонил. Слышала, за Смоленск, к Москве пошел. На дворе осень. Недолга́ — и зима подвалит. Окрепнешь — что делать будешь, солдат?!. Дочь, Анна, надумала тебя в Речице оставить. Говорит, здесь наших дождешься. Анне ты обязан. Счастье твое, солдат, что в твой смертный час она при мне оказалась. Доктор она, жизнь в тебе удержала. Таиться не стану, полюбился ты ей. Ведаю, все ведаю, солдат. Беда лютая по земле разошлась. А сердце своим законом живет. Беда свела вас: ее, горемычную, и тебя, солдата-героя. Может, не на время свела?.. Как смотришь на то, солдат?..
Макар лежал на большой крестьянской подушке, перебинтованный по груди полотенцем, вытянувшись, как того требовала Анна. Такого разговора он не хотел, не хотел отяжелять неблагодарностью душу старой женщины, потому, тушуя неловкость, с осторожностью сказал:
— Непростое то дело, Таисия Александровна. Человек я для вас незнаемый.
— Полно, солдат. Человека и по взгляду узнают. Себя ты делом обозначил. Большое сердце надо, что бы по своей воле промеж людьми и смертью встать. Тут не обманешься, солдат. И внучок Серега свою весть подает. От отца родного отбился. А к тебе припал. Стало быть, есть к чему припадать. Нет, солдат, для нас ты человек знаемый. Останешься — за себя не страшись. Пожалуют гости — прежде меня убьют. Потом Анну. Потом Серегу. Только после того до тайной этой кладовочки доберутся. Говорю, стало быть, знаю, — под моей рукой и Анна, и Серега поднялись. Что скажешь, солдат?.. — Взгляд старой женщины в упор — ждет, ни в ту, ни в другую сторону не торопит.
Макар понимал: слово старой женщины — крепь, пулей бей — не отступится. У него слово тоже обратной силы не имеет. Потому молчал Макар. За прикрытой дверью, за двойными стенами жила своей притихшей жизнью изба. В долгом одиночестве он изучил каждый, даже невнятный, редко проникающий сюда из жилой половины звук. Улавливал глухое мычание где-то запрятанной коровы. Настороженное затишье на деревенских дворах и улице, без привычного петушиного ора, без собачьего лая. И свыкся с нехорошей тишиной, вроде бы безлюдной, время от времени нарушаемой лишь трамбующим гудом пролетающих самолетных армад да накатной дрожью проходящих в спешке по дороге танков. Потому до невозможности громкий нетерпеливый крик на воле, у маленького, в две ладони, оконца, будто ударил его.
— Мама! Ну, мама же!.. — Близкий выстрел был бы для него меньшей неожиданностью, чем этот тревожный детский крик.
Макар приподнялся, боль резкого движения едва не кинула его обратно, он удержался, настороженно слушал, спрашивая взглядом.
Старая женщина не пошевелилась, ровным голосом пояснила:
— Не признал? Внучка моя, Годиночка. Лепешкой-то тебя потчевала!..
Макар и сам догадался, что кричала та, городского обличья, ясноглазая девочка, что суетилась при дороге на виду старой женщины; до сих пор, в доме и около, он не слышал ее голоса, думал, памятную ему девочку куда-либо отправили. Старая женщина как будто успокаивала Макара. Но взгляд ее напрягся, ушел за окошко: в деревне, придавленной войной и немцем, детей отучили кричать. Макар, чувствуя тревогу старой женщины, спросил:
— Что же, имя такое — Годиночка?
— Нет, солдат, не имя. Внучку Катенькой зовут. А для меня — Годиночка, — в лихую годину в разум входит. — Спокойствие, казалось, вернулось к старой женщине. Но тут новый крик, еще более нетерпеливый и громкий, услышали они оба:
— Мама же! Ну, скорей… Там пленных дяденьков ведут!
Макару показалось, что старая женщина хочет встать, но руки на ее коленях не пошевелились, только лицо, белое под черным платком, медленным движением поворотилось к оконцу.
— Пусти меня, мамочка! Я картошек им снесу!..
Оба, Макар и старая женщина, понимали, что Анна старается увести девочку. Сухо треснула, глухо откинулась пустым лесом, ударила дробным звуком в оконце автоматная очередь. И тут же отчаянный детский вопль, казалось, прорезал стены:
— Они дяденьку убили-и-и!..
Анна втащила в дом кричащую, наверно, бившуюся у нее в руках девочку; Макар это почувствовал по тому, как дрогнула от прихлопнутой двери стена. Первый раз за все дни, что провел он здесь, он слышал через стены и двери неостановимый плач потрясенной Годиночки.
Старая женщина сидела неподвижно, оборотив лицо к оконцу. Поднялась, сдвинула табурет в угол, выпрямилась, ровным голосом сказала:
— Думай, солдат…
3
— Дядь Макар, эва чего тебе припас!
Серега положил на табурет тяжелую ребристую гранату, прижал ладошками, как живого птенца. Макар отвел детские руки, взял гранату. Запал был вставлен. Подумал с неуютным холодком, что мог бы натворить этой опасной штукой неуемный малец, убрал от греха под подушку.
Серега, хитро щурясь, наблюдал за лицом Макара, заученным движением тут же вытянул из-за пазухи пистолет, заблестев глазами, ловко прицелился в пол.
— Ну-ну!.. — только и сказал Макар, стараясь быть спокойным, принял пистолет из тонкой мальчишеской руки.
Серега, довольный тем, что удивил, устроился на табурете, подсунул под себя ладошки, вобрал голову в плечи, затих. «Одобрения ждет!» — понимал Макар; давно он чувствовал неловкость перед старательным мальцом за постоянную и, наверно, обидную свою сдержанность. Люди, которым он был обязан жизнью, сам дом, еще целый, не порушенный войной, все больше располагали к себе. Макар это чувствовал и страшился нарастающей в нем ненужной привязанности. Как-то он поднялся, придерживаясь за стены, за нарочно натасканный к двери кладовочки хлам, малыми шагами пробрался на поветь. В знакомых запахах, в просторности под высоко поставленной крышей долго стоял, утишая бьющееся в радости сердце, разглядывал пыль в солнечном луче, округлое, пестрое, словно половичок, пятно на полу. По узким оседающим половицам пробрался к сену, опустился на колени, подгребал шуршащие запашистые вороха к лицу, тихо смеялся, вдыхал ненасытно болезненно стиснутой грудью. В углу приглядел старые рассыпанные кадушки, не утерпел: сидел на полу, умеряя дрожь ослабевших пальцев, отбирал ровные клепки. Собрал кадушку, сдавил обручами; подбить до упора не решился, хотя и нашарил в рухляди старый топор, — знал, как опасен рабочий стукоток в бабьем дому среди чужого порядка жизни. В желании довершить работу терпеливо дождался самолетного гуда, под все заглушающий моторный рев осадил охваты, оставил кадушку на виду. Анна по-докторски ему за вольный выход; но блеск ее глаз в ту минуту, когда застала она его в раб выговорила оте, он увидел и долго пребывал потом в задумчивости — Анна могла понять и так, что показанной хозяйской заботой ответил он на слово старой женщины. Вот еще и Серега. Припал к его солдатской руке малец, выросший в бабьем миру. Ждет не только одобрения — ждет мужского понимания. Ласки ждет.
Макар разглядывал ужавшегося на табурете мальчишечку. Ни оттопыренные большие уши, ни цветком распахнутые толстые губы, ни простодушно вздернутый нос в непропадающих конопушках — хоть руками обирай! — не действовали на Макара так, как чувство своей солдатской вины за этого вот Серегу, за многих других подобной судьбы мальчишечек и девчоночек, с таких-то лет оставленных у смерти на виду. Пригладить бы белые слабые волосы, к себе прижать, собой оградить бедового мальца от гуляющего по земле лиха. Сумели бы, еще как сумели бы они поладить на удивленье всему свету! Да беда — свет-то теперь не свет, темь кромешная, война, огонь да дым на земле. Когда-то солнце проглянет! Не решился Макар, не приласкал, побоялся обмануть, поманить на короткий срок. Задавливая мечту и жалость и солдатскую свою вину, сказал с нарочитой командирской суровостью:
— Докладывай, что на воле, Сергей!
Серега встрепенулся, покрутил упрятанной в плечи головой, сузил глаза в недетском, осуждающем прищуре.
— От света до темна идут! Все туда! К нам! Пушки разные, машины. Всех курей по дворам переловили… Самолеты с неба не уходят. И сколь ни гляди, все не наши… Где наши-то, дядь Макар?
Макар сам не ведал, где, что и как, но ответил:
— Велика война, Сергей. В других краях, надо думать, летают!
Серега снова ужался, уставился в пол с недетской сосредоточенностью. Вскинул вдруг голову с белыми, вразброс растущими волосами, задрожав губой, крикнул:
— Тимка Кривой в полицаи записался! Казнить его будем! Раз предал.
Макар, сдерживая себя, провел медленно рукой по захолодавшему лицу, сказал:
— Казнить — штука серьезная… Казнить-то как? Думали?
— Знаем как! Подсидим и дадим из винтовки! А то из пулемета!
— Пулемет-то откуда?
— У нас что хочешь есть. Патронов мало. А оружья — набрали. По лесам-то его накидано! Пулеметов два было. Один сгубил…
— Недосмотрел, что ли?
— Нет. Когда ты, дядь Макар, на дороге их сре́зал, я у леса на бугре лежал. Ну и стеганул из ручника, как полем они пошли. Ну!.. Такой шум устроили, еле утек! Ходов разных у нас там понарыто, а то бы не спроворил! А пулемет разнесло. Это потом, на другой день, как вернулся, увидел!
Макар до ясности помнил, как после кинжального огня по колонне немцы хлынули на ячменное поле, еще не разгадав от слепящего их солнца, где поставлен пулемет. Тут-то и ударил ручник. Его и засекли. И весь огонь с дороги и поля пришелся по дальней, у леса, горушке. Вот кто, оказывается, принял на себя первые в том бою пули и мины!.. Он думал: приникший к нему мальчишечка только мечтает о войне. А мальчишечка-то уже весь в войне!
Цепляясь за округлые бока бревен, Макар сел, голосом, загустевшим от волнения, позвал:
— Поди сюда, Сергей.
Серега послушно поднялся, встал рядом, стеснительно поджал к бокам локти, опасливо поглядывал на туго забинтованную полотенцем грудь. Макар бережно взял тонкую, как пруток, руку, потянул к себе, И когда Серега оказался рядом, заговорил, сбиваясь на шепот:
— Спасибо, друг-товарищ! Кровью с тобой мы теперь паяны. Это, брат, крепко. На всю жизнь… — Он прижал, утопил в окладистой, непривычно мешающей бороде, доверчивую мальчишескую голову, в неловкости прихватывая истерзанными в болях губами вихор волос, шепнул:
— Ты вот что, брат, Тимку до времени не трогай. Примечай пока, что к чему. Сил наберу — вместе судить будем.
Серега откинул голову, внимательно посмотрел в глаза Макару.
— Не обманешь? — спросил серьезно, не отводя глаз.
— Что за вопрос, Сергей! Мы же в одном бою были! Как? Принято?
Сергей подумал, кивнул, соглашаясь.
— С наскоку, брат, войны не одолеешь. Давай уж вместе. Как солдаты.
И снова, уже не сдерживаясь, прижал мальчишку к себе.
4
Макар поднялся, сел, когда Анна с привычной беззвучностью вошла, напахнув запахом печного дыма от принесенных с собой в чугунке углей. Он слышал, как ощупью она опустила дерюжку на оконце, некоторое время стояла неподвижно, прислушиваясь; она всегда прислушивалась, когда входила, — враждебен был мир за стенами дома, люди привыкли таиться. На этот раз Анна прислушивалась не к тому, что было за стенами дома; она выжидала, молча и напряженно; в кладовочке, уже накопившей прохладу осенних ночей, Макар чувствовал исходящее из темноты, почему-то беспокоящее его тепло.
Анна наконец пошевелилась, слабо подула на угли, ответно набухшие малиновым жаром, запалила стружку, от бегущего, коптящего ее огня зажгла лампадку, давно привешенную в его кладовочке взамен лампы. В тускло-ровном желтом свете лампадки, стеснившем темь, оборотила к нему лицо, смотрела все с той же напряженной выжидательностью, будто не знала, как заговорить в не теперь возникшем затруднении. Макар не выдержал ее взгляда, пошутил:
— Солдат выжил. В путь пора. А доктор вроде бы не рад! — сказал и почувствовал ранящую жестокость своей суетной шутки. Красивое лицо Анны, в охвате черных гладких волос, с открытым лбом, энергичными, видимыми даже при слабом освещении, линиями тонкого, сжатого с боков носа и сосредоточенно сдвинутыми прямыми бровями, с твердым, как у матери, подбородком, идущим к общему решительному ее виду, будто застыло в мгновенном выражении боли. С заметным усилием она встала рядом, медленными движениями рук, не меняя на лице выражения болезненной напряженности, молча освобождала его грудь от тугих охватов холстины. Быстрые ее пальцы, привычно придавливая кожу, пробежали по срастающимся ребрам, по левой, правой стороне груди, подлезли под бороду к шее, прощупали ключицу, задержались в ямке на жиле, бившейся тугими частыми ударами. Макар почувствовал, как напряглись ее пальцы, настороженно взглянул, увидел закрытые глаза, почти одну линию бровей над тонким побелевшим носом, увидел, как дрожит, словно вырывается из отчаянно прихвативших ее зубов бунтующая нижняя губа, и притих в мужской неловкости. Ему казалось: он и Анна долго шли по обе стороны одной стены, шли, сдерживая себя, затаенно слушая шаги друг друга. Оба понимали: сколько бы они ни медлили, стена рано или поздно кончится, неминуемо окажутся они друг перед другом, глаза в глаза, и придется им решать и поступать в согласии или несогласии ума и сердца. Макар почувствовал: стена кончилась, они друг перед другом и нет между ними ничего, кроме пустого короткого пространства и до невозможности напряженных рук.
Анна не устояла: пала на колени, охватила, ткнулась горячим лицом ему в грудь.
— Макар, — выстонала она. — Родной мой! Не пущу. Мой ты! Для себя выходила. Для себя к жизни вернула. Не отдам! — в забывчивости она с такой силой прижалась к его груди, что Макар едва перехватил крик; уходя от боли, от рук Анны, привалился к стене, поймал наконец дыхание.
— Солдат я, Анна… — сказал тихо.
— Нет! — шепот Анны был похож на крик. — Нет. Ты уже не солдат! Все, что ты мог как солдат, ты сделал! Ты был убит. Я выходила, оживила тебя мертвого! Слышишь? И не для того, чтобы ты снова пошел погибать!..
Своя правда была у Анны, и Макар знал ее правду. Но вместе с жизнью Анна вернула ему и его душу, и отступиться от того, что было его душой, Макар не мог. Обидеть Анну он не смел и все-таки говорил, умеривая неприятную ему дрожь голоса.
— Солдат я, Анна. Раз живой, — значит, солдат. На войне мое место. Пока война — солдат я, Анна…
Анна, откинув голову, смотрела черными в полумраке глазами.
— Что же делать, Макар? Люб ты мне. Люб! Понимаешь?.. — Неожиданно злым движением руки она отерла глаза, заговорила, словно что-то обрывая в себе:
— Вот что, Макар. С тобой пойду, слышишь? Где ты будешь, там и я буду. Где хочешь: на войне, в партизанах — хоть в аду! Только с тобой! До смерти, Макар, слышишь? Что молчишь? Возьмешь?
Макар нагнулся, помог Анне подняться, как больную, усадил рядом; не укрывая ни лица, ни глаз, сказал:
— Не про то разговор, Анна. Для меня все вы родные. Покуда жив, так оно и будет. А плохую память о себе оставить не могу. Что поделаешь, такой вот!..
Анна, как будто вдруг озябнув, крепко охватила свои плечи, молчала, пригнув к груди голову.
— Ладно, Макар, — сказала, все еще не в силах подавить ознобную дрожь. — Дурь дурью, бог с ней. Ты вот что скажи мне: война кончится — придешь? — Она смотрела, не сводя с Макара напряженного ожиданием взгляда. — Молчишь? Или жена есть?..
Макар покачал головой.
— Тогда что же? Ждет тебя кто?
Макар ответил не сразу:
— Ждет.
— Кто же?
Макар помедлил, сказал тихо:
— Васёна.
Анна отвернулась, не совладала с обидой, насмешливо спросила:
— Что-то долго думаешь! Себе не веришь или ей?
Макар так же тихо ответил:
— Верю. Себе верю. И ей.
— Так бы и говорил, солдат; любишь, да не меня! — Анна встала. Огонек в лампадке заметался, вытянулся, отделив от себя столбик копоти. Зябко потирая плечи, Анна шагнула по узкой кладовочке: шаг в угол, шаг обратно, сказала тоскливо:
— Нехорошо что-то мне, Макар. И неспокойно! Не совестно, не стыдно — неспокойно…
В скорби уже осознанной потери она одиноко стояла у стены.
Макар молчал. Анна с трудом отклонилась от стены, подошла, в сдержанной озабоченности уложила его на подушку, накрыла тяжелым стеганым одеялом. Взяла полотенце, которым после осмотра всегда туго бинтовала смятую грудь Макара, сложила, как обычно складывают отслужившее белье, сказала с не переболевшей горечью:
— Без доктора теперь обойдешься, солдат. — Задула лампадку, ощупью вышла, тихо прикрыв дверь.
Шагов Макар не слышал, лишь уловил обостренным в одиночестве слухом скрип оседающих половиц. Темнота не давала различить, кто вошел. По тому, как сухо пристукнула по краю нар рука, нашарила, придвинула табуретку, по медленному, с остановками дыханию он догадался, что села с ним рядом суровая мать Анны, старая женщина, Таисия Александровна Малышева. В молчании сидела долго, так долго, что от ожидания ее слов заломило у Макара в висках. Старая женщина пришла глубокой ночью; знал Макар, пришла неспроста. Сейчас она скажет свои слова, и слова эти будут как приговор ему, его совести, его жизни. Он ждал, не шевелясь, изредка сглатывая ненужно копившуюся в сухом горле слюну. И старая женщина, как бы заново в медлительном молчании все пропустив через себя, сказала:
— Надумал, солдат. Знаю. Скажу тебе, как на духу, — полюбился ты мне. Любее зятя ни одна из дочек для меня не сыскала бы. Но ты надумал. И благословляю тебя, солдат. Путь ныне у всех один — через войну. Но, коли выживешь и нас бог упасет, возвернись. Хочу глянуть на тебя победного. Зла на Анну не держи. И когда уходить будешь, руки поцелуй. За что — знаешь. Еще об одном, солдат. Случится что со мной, с Анной — Годиночку-Катеньку в сиротах не оставь. Это мое к тебе слово.
Старая женщина встала. Макар почувствовал движение ее руки над собой. Старая женщина его перекрестила.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ Под Москвой
По осенним истоптанным, размытым машинами и лошадьми дорогам, сквозь мокрые леса, по уныло-желтым бесприютным в своей брошенности полям, мимо деревень и накрытых черными дымами пожарищ городов стягивались к Москве солдаты сражающихся армий, дивизий и полков, орудийные упряжки, тягачи с гаубицами, кавалерийские части, и обозы, и еще сотни и сотни солдат, оставшихся без рот и взводов. Рассекаемые танковыми клиньями, прорываясь с отчаянными боями из окружения, теряя соседей по флангам, сходились они снова, смутно угадывая движущийся фронт, и шли, и шли, ожидая увидеть в мутных осенних далях, где-то за лесами, за полями, настороженно притихший на семи холмах стольный город, чувствуя оскорбленным сердцем, веруя не умирающей русской верой, что там-то и окажется конец их тяжкого пути, там-то и обопрутся они на святую для всей России вековую опору и на силу свежего войска, собранного с других земель к красному Москве-граду. И тогда уже все, — как ни был долог отходной путь, а дальше немецкая броня не сдвинет их, потому как дальше Москвы земля хоть и есть, но она уже невозможная для врага земля. Под немецкий сапог и так оставлены тысячи верст исконно своей землицы, сколько можно еще оставлять, хотя бы и напролом прущей силе!
И солдаты шли, стекались к подмосковным лесам, к деревням, городкам, и малое сливалось с большим, большое сливалось с еще большим, и все, что еще могло быть силой, сходилось, врывалось в неуютную от осенней непогоди, но последнюю на воинском их пути землю и вставало, чтобы быть живу или мертву, но не сдвинуться с рубежа. А если сдвинуться, то только туда, где начинался тяжкий в горький их путь, — в обратную от Москвы сторону, теми же памятными, навек вразумившими их дорогами, туда, откуда все началось, — к Берлину.
И недоумение от того, что не по своей воле оказались они здесь, под самой почти Москвой, отуплявшее болью и скорбью души людей, перерастало в ненависть, и ненависть становилась силой.
Так было по всему отступающему с запада фронту, так было и в армии генерала Елизарова, с боями, с потерями, в усталости и озлобленности и с нарастающей надеждой отходившей к Москве через Калугу на Серпухов.
1
— Комиссар, я сделал все, что мог. Наверное, больше, чем мог. Обстоятельства оказались сильнее. Когда нет доверия ко мне как командующему армией, мое участие в войне теряет смысл. Не осуждай, Арсений Георгиевич. Но другого выхода я не вижу… — Генерал Елизаров медленным движением раскрыл кобуру, вынул пистолет, положил на стол перед собой.
Степанов смотрел в изменившееся лицо генерала, с желтой, как будто присохшей к скулам кожей, с остро и недобро смотрящими из припухлостей отекших век неподвижными глазами, и ощущал пустоту в душе. На стиснутых губах генерала он видел неровную белую полоску. Эта нехорошая накипь на губах была знакома Степанову; такие, казалось намертво сжатые губы, с кипенью проступившей на них слюны, он видел у генерала в день прорыва армий из Вяземского котла. Тогда пистолет, настороженно лежащий сейчас на столе, был в напряженной руке генерала Елизарова с уже взведенным курком и был так же предназначен оборвать генералу жизнь.
Армия прорывалась через смертельную загородь немецких танков, осатанело бивших из пулеметов по тысячам бегущих им в лоб людей. И оба они, и генерал Елизаров, и Степанов, с пистолетами в руках в спешности шли, насколько хватало сил, среди бегущих на танки солдат, и оба готовы были выстрелить себе в сердце, если кому-то из них случится упасть на землю еще живому.
То было перед врагом…
Степанов, стараясь медлительностью собственных движений удержать генерала Елизарова в неподвижности, поднял со стола ленту телеграфного разговора командующего фронтом; пропускал между пальцами шелестящую, словно обжигающую руки ленту, перечитывал четко отбитые по узкой бумажной дорожке слова:
«Вы сдали Калугу. Не думаете ли вы так же легко сдать Серпухов? Имейте в виду: враг может вступить в город, лишь перешагнув через ваши с членом Военного совета трупы…»
Слова, казалось, всвистывали, ударяли, как пули. Это был первый телеграфный разговор нового, только что вступившего в должность, командующего фронтом; тем непереносимее воспринимались слова, бившие в их с генералом Елизаровым человеческое достоинство.
Пистолет тяжестью своей придавливал складки раскинутой на столе карты с сеткой квадратов, проткнутых широкими телами синих стрел, с редкими красными подковками удерживаемых армией рубежей, и Степанов со сковывающей душу мрачностью думал: «Каким же должно быть действительное положение под Москвой, если фронт первые свои разговоры с генералами начинает с подобной жестокости!..»
Он смотрел на вороненый, лоснящийся маслом, настороженно-безотказный в продуманном своем механизме личный пистолет генерала Елизарова; не давая окрепнуть в себе созвучному настроению, собирал ум и волю, чтобы найти слова, способные оказаться выше оскорбленного достоинства. Слов не было. Степанов близок был к тому, чтобы опередить руку командующего, взять со стола пистолет и уже потом, постепенно приглушая опасно обострившиеся чувства, спокойно обговорить и обиду и долг. Но даже сейчас он сознавал, что генерал Елизаров не из тех людей, чью руку можно перехватить. Перехватить он должен был его волю. Потому, сдержав уже готовое движение, нарочито замедленным шагом отошел от стола, сел на лавку, положил ладони на колени; стараясь быть будничным в движениях и словах, сказал:
— Садись, Иван Григорьевич. Подумаем…
Генерал Елизаров стоял, упираясь сжатыми кулаками в стол, голова его была в упрямом наклоне, кожа высокого, открытого лба в тяжелых складках, неподвижный взгляд упирался в пистолет, лежащий у правой руки. Слов, обращенных к нему, он не слышал, и Степанов с бо́льшим напряжением повторил:
— Сядь, Иван Григорьевич. Сядь…
Генерал Елизаров с трудом оторвал от стола затяжелевшие кулаки, распрямил, сжал пальцы, как будто проверяя их силу, взглянул непонимающим взглядом.
— Сядь, Иван Григорьевич, — потребовал Степанов.
И генерал, подчиняясь его настойчивому голосу, сел у окна.
Слышно стало, как снаружи обсыпает бревенчатые стены дождь, потрескивает под напирающим ветром угол дома; рябое от капель стекло дребезжало в раме, сопротивляясь ветровым толчкам.
Степанов не чувствовал себя спокойным, хотя отвел от стола и усадил генерала. Что-то разладилось в, казалось бы, прочно установившемся созвучии их умов и понимании долга, и ощущать этот вдруг случившийся разлад было невыносимо.
С генералом Елизаровым он был связан не только должностью, общей ответственностью и равной опасностью в событиях идущей войны; привязывала его к генералу и чисто человеческая симпатия, которая рождалась у Степанова всегда трудно, но, родившись, уже не знала предела.
Генерала он раскрывал для себя в стремительно изменяющихся событиях войны, когда многие из придуманных людьми условностей, в большей части искажающие суть человеческих отношений, отпадают за ненадобностью.
В том состоянии, в котором Степанов был, он не мог припомнить все, из чего складывалась его симпатия и даже любовь к генералу. Но что-то помнилось и сейчас, когда приходилось как бы заново определять свое отношение к, казалось бы, уже ясному в своей сути человеку.
Степанов и теперь помнил отупляющий грохот боя на левобережье, когда армия, переправленная за Днепр, не только выстояла, но и приостановила перед своим фронтом напор немецкой силы. Тогда впервые он увидел генерала в бою. Спокоен генерал не был; до неприятности возбуждался, когда бой выходил из-под его власти. Но был совершенно бесстрашен даже перед близкой опасностью: и тогда, когда танки прорывались к КП, и тогда, когда почти вплотную подступали медлительно-нахальные автоматчики и земля оторопело дымилась от бьющих в нее пуль. Хладнокровие генерала перед опасностью, когда в груди вместо сердца образуется холодная пустота и разум слепнет от жажды спасения, Степанов не сразу постиг. Понял потом, когда в одну из тихих минут спросил:
— Спокойствие твое — откуда, Иван Григорьевич?
И генерал ответил:
— От простого, Арсений Георгиевич. К смерти готов. Потому и делаю, что положено, не думая о самой смерти.
Слова тогда показались Степанову еще недоступной ему мудростью нынешней войны; слова он запомнил. Хотя именно готовность генерала к смерти особенно настораживала теперь.
На третий день того же памятного боя, в наступившем еще до захода солнца неурочном затишье, оба они выбрались из полуразвороченного блиндажа на вольный, еще пахнущий толовым смрадом воздух. Пошли по избитым, покореженным полям к полковым позициям, где, казалось, не было и не могло быть ничего живого. Но жизнь была и на мертвой земле: они встречали солдат в заваленных песком и деревьями траншеях, вокруг кухонь в испятнанных взрывами лощинах, у заглубленных в землю орудий, слышали говор, чей-то смешок, и Степанов, все это видя, слыша, понимая, что армия, на которую враг почти трое суток обрушивал все, что мог обрушить из орудий смерти, жива и способна стоять на рубеже, неподобающе волнуясь, поздравил генерала с как будто очевидной для них обоих победой. Генерал удивил ответом.
— Пока это стойкость. До победы еще далеко, Арсений Георгиевич, — сказал генерал; прикрываясь козырьком фуражки от мешающего ему закатного солнца, вглядываясь за излучину Днепра в западный странно затихший берег, пояснил: — Фронт велик, устоишь сам — не удержится сосед. И не помочь — не знаешь, где, что у него и как. Вслепую бьемся, не видя соседа, не зная врага. Вижу: вышла на меня мотопехота, танки. А что за части — бывшие ли в боях, потрепанные ли, какой комплектации, какая у них поддержка — не ведаю. Считаю танки уже на поле боя. Наши армии — как острова среди все время прибывающей воды. Вот первая наша беда, комиссар. — И спросил, прицеливаясь острым взглядом:
— Не приходилось тебе в карты поигрывать?
— До карт ли было, Иван Григорьевич! — Степанова вопрос обидел.
— Я не о том. Смотри. Вот он, в этом пространстве, невидимый стол между мной и Гудерианом. Он зрит все мои карты. Со всех сторон направлены на меня зеркала его разведки. Он учитывает даже передвижение моей танковой роты! Я же вижу только ту карту, с которой он ходит. К тому же знаю, что на руках у него полно козырей. У меня же козырь один — мужество и стойкость солдата. А ставка — много больше, чем собственная моя жизнь. Понимаешь теперь, почему он бьет нас на этом кровавом столе?!
Другим, не просто воюющим, но страстно желающим найти возможности победы над сильным врагом, видел он генерала Елизарова под Ельней, в трудный момент, когда штаб фронта каждодневно, настойчиво и недовольно требовал от командующего объяснений, почему части армии недопустимо медленно ликвидируют ельнинский десант (как выяснилось позже, не десант, а глубокий прорыв немецких подвижных частей, остановленный восточнее Ельни), и генерал, стараясь уйти от досаждающей ему мелочной опеки, с малым своим штабом, из трех человек, дневал и ночевал, в дивизиях. С какой-то ищущей тревожностью следил он за атаками полков, и открытое, крупное, красивое его лицо искажалось до неузнаваемости, когда длинные солдатские цепи, охватывающие склоны высот, никли под плотным огнем пулеметов. Степанов хорошо помнил, как однажды оба они наблюдали очередную медлительно-тяжелую атаку полка, привычно развернутую фронтом. Солдаты поднялись, дружно пошли цепью на высоту, но не одолели и половины нужного пути: начали цепляться за бугры, валуны, цепь зашаталась, сломалась, залегла. Поднялась вторая цепь, третья, четвертая и — все повторилось. Странно суетливый, молодой подполковник, почему-то ходивший в заместителях умного командира дивизии Самохина, припадая к стереотрубе, громко говорил с явным желанием обратить внимание командующего на выучку одного из своих полков:
— Как, как идут! Смотрите! Это же Боевой устав в действии!
Подполковник, занятый стереотрубой, не увидел взгляда генерала. Руки генерала Елизарова дрожали на бинокле; не отрывая от черных окуляров глаз, он тихо спрашивал полковника Самохина:
— Что думаешь делать, Егор Захарович?
— Что уж тут думать, товарищ командующий! Атаки надо прекратить. Положим лучший полк. И дело не сделаем.
— Высота нужна. Думай, думай, Егор Захарович! Немцы недолго упорствуют, натыкаясь на сопротивление. Обходят. Ищут стыки. Бьют по слабым местам. — Он говорил приглушенным голосом, для одного полковника, и, хотя Степанов видел, как нетерпеливо подергиваются веки его прижатых к биноклю глаз, генерал не торопился открывать Самохину свое, видимо уже сложившееся, решение.
— Думай, Егор Захарович. Думай.
Высоту взяли утром. Ночью группа автоматчиков, усиленная четырьмя ручными пулеметами, обошла позиции противника, атаковала на рассвете с тыла. Полк не сумел взять. Неполный взвод, действующий по еще не созданному Уставу войны, сбил сильного противника с высоты.
Генерал счел нужным разобрать ход боя. И когда командиры собрались, и разбор был сделан, и высветлена и одобрена полководческая мысль Самохина, генерал сказал:
— А теперь прошу разрешения на притчу. Адресую ее прежде всего себе. Но и каждому из вас, — глазами он выискал молодого подполковника, того, что восхищался уставным усердием полка, посмотрел пристально. — Так вот. Не знаю в какой, но, несомненно, жаркой стране умирала от жажды обезьяна. Пески кругом! Но пальмы и кокосы на них росли. И обезьяна знала, что своим соком кокос может ее спасти. Вцепилась в пальму, трясет из последних сил. Не падает кокос! «Думать, думать надо…» — говорит себе обезьяна. Ходит, думает. Нашла палку. Дотянулась, сбила кокос. Напилась. Побежала дальше жить.
Шел человек. Тоже от жажды умирал. Увидел на пальме кокосы. Потряс — не падают. Трясет, трясет — не падают! «Думать надо. Думать…» — говорит человек. Сел. Вдруг вскакивает и кричит: «Зачем думать? Трясти надо!..»
Пока затихал несмелый смешок, генерал молчал. А сказал неожиданно жестко:
— Так вот, командиры. Кто хочет победы — обязан думать!
«Вот-вот, дорогой Иван Григорьевич, — мысленно говорил теперь Степанов, припоминая былую силу генерала. — Даже эта твоя любимая притча оборачивается против тебя. К пистолету тянешься. А кто думать будет?!»
Выдержав достаточно долгое молчание, чтобы притушить опасно обостренные чувства, Степанов, глядя в нездоровое, до невозможности истомленное постоянным перенапряжением воли лицо генерала, проговорил, твердостью голоса обрывая саму возможность сочувствия:
— Так вот, командарм. Не нам помогать врагу своей смертью. Погибнуть мы можем только в бою. Другого ни тебе, ни мне не дано. Нет у нас с тобой права свои жизни у Родины отнимать. Вот мое слово, Иван Григорьевич. Другого не будет.
Генерал Елизаров не шелохнулся; как сидел, опираясь на раскинутые по лавке руки, так и остался в таком отрешенном состоянии. Только тяжелые веки на мгновение приоткрыли глаза — в Степанова как будто ударил острый, напряженный взгляд.
— Теперь меня послушай, комиссар, — голос генерала был медлителен и недобр. — Днепр, переправу помнишь? Тыщи солдат. Две нитки понтонов. Бомбы, пули с неба. И три-четыре часа времени. Чтобы эти тыщи перешли Днепр. Могу сказать теперь: в живых не думал остаться. Солдат переправляю, а время свою черту подводит. Вот-вот немец к реке выйдет. И — все. Армию у переправы не развернешь. Когда противник на твоих плечах, как высоко кулаки не вскидывай — на земле лежать тебе… Было у нас четыре часа времени. Четыре! А к переправе немец вышел через восемнадцать! В девять двадцать пять. Когда мы, в общем-то, готовы были его встретить. Почему враг подарил нам полдня и ночь? Зря у немцев, сам знаешь, ничего не бывает. Что-то, значит, случилось. Знать психологию противника — это иметь две армии вместо одной. Послал людей в Речицу. Прояснилось. Какой-то пулеметчик, без приказа, по своей воле, подчеркиваю, по своей воле, по убеждению, по долгу — выделяй что хочешь, — остался в Речице. Колонну расстрелял в упор. Держал под огнем несколько часов. Свежее немецкое кладбище видели разведчики. Сто с лишним крестов. Колонна, что должна была догнать нас на переправе, вышла из Речицы только утром.
Теперь думай. Казалось бы, малое — солдат. А на солдате том держалась судьба армии. И ты, комиссар, не сидел бы сейчас в этой избе, если бы не другой солдат, подставивший себя под пулю. Тот самый молоденький автоматчик Чудков…
Ты меня пойми. На войне — в жизни то же самое, но на войне особенно — все сцеплено. Каждое событие, поступок, даже слово одного так или иначе отражается на других, на общих событиях войны. Все мы — от маршала до солдата — сцеплены живой человеческой связью. Долгом, совестью, умом, чувством. Из общей нашей сцепленности душ только и может родиться победа.
Устав нынешней немецкой армии категорически утверждает: «Приказ есть приказ». Жестокостью гитлеры добиваются исполнительности. Им важен действующий солдат. Как часть некоей хорошо продуманной и запущенной на войну машины. В этом главная опора их военной силы.
У нас — тоже приказ. Но когда я приказываю солдату или командиру, я знаю, что приказываю еще и человеку. Приказ мы накладываем на убежденность солдата. Не знаю, как вел бы себя тот пулеметчик у Речицы, если бы я приковал его к пулемету только жестокостью своего приказа. Для меня он свят одним тем, что сам отдал себе приказ на смерть…
Степанов уловил горькую и — знал он — справедливую мысль генерала. Но сейчас важна была не сама мысль, справедливость или несправедливость ее. Важно было, что генерал высказал свою боль. Мысль высказанная — Степанов это знал по своему опыту — ослабляет свою побуждающую к действию силу.
Генерал Елизаров сменил отрешенную позу, навис крупным телом над своими коленями, стиснул тяжелые кисти рук; Степанов понял, что генерал способен слушать. Встал, пошел к столу, отмечая про себя, как неприятно гулко отдаются в пустоте избы шаги. Приподнял телеграфную ленту, нашел конец; придерживая в пальцах, но глядя на генерала, сказал:
— Читал я в трудах одного умного военного теоретика, что у полководца должно быть равновесие ума и характера. Это для нас с тобой, Иван Григорьевич. Не хочу ни успокаивать, ни разубеждать тебя. Но в телеграфном разговоре есть требование командующего фронтом доложить шифром план обороны города. Требование это к тебе как командарму. Ответственность, как видишь, с тебя не снята.
Генерал поднимался, не глядя на Степанова; медленными движениями одну за другой застегнул на кителе пуговицы, так же медленно, по-прежнему избегая смотреть на своего комиссара, подошел вплотную к столу.
Степанов, напрягаясь до боли в глазах, следил за рукой генерала. Рука легла на пистолет, пальцы привычно охватили тяжелую рукоять. Приподняли без стука. Генерал подержал пистолет в руке, медленным движением опустил в кобуру. Только теперь, когда Степанов услышал царапающий звук вдвигаемого в тугую кожу металла и успокаивающий щелчок застегнутой крышки, он увидел, что длинная телеграфная лента смята в его руке — пальцы держали короткий оторванный ее конец.
2
На крыльцо вышли вместе. Дождь, все последние дни нудно исхлестывающий поля и дороги, перестал, видно, во второй половине ночи: темные доски ступенек были мокры, перильца пообдуло. По своей привычке все замечать и сопоставлять (по изменениям он ощущал движение времени и предугадывал смену явлений) Степанов отметил, что ветер переменился: ощутимо входил в еще влажную, ознобливающую погоду холодок. Отметил он и как будто ничего не выражающий, кроме усердия, зоркий взгляд немолодого часового, вытянувшегося под непросохшей еще плащ-палаткой при появлении генералов. Степанов кивнул солдату. Проходя, еще раз близко взглянул в немигающие, сдержанно-внимательные солдатские глаза; хотел понять: слышал ли? Догадывается ли повидавший жизнь солдат о том, что было, что могло произойти в доме, неприкосновенность которого он охранял в ночи? И подумал невесело: «Как часто с усердием мы ограждаем себя от опасности, существующей вовне. И всегда ли до́лжно озабочиваемся опасностью, могущей невидимо подняться из человеческой души?..»
Вместе с генералом они проехали, где не могли проехать — прошли, заткнув под ремни полы шинелей, чавкая и скользя сапогами по унылым в общей осенней распутице позициям передовых частей. Трудное положение армии после прорыва из Вяземского котла Степанов знал, теперь видел воочию. И когда генерал Елизаров, замкнутый, недоступно-сосредоточенный, не сдерживая ни горечи, ни ярости, почти выкрикнул:
— Все видишь, комиссар? Пятьсот штыков на дивизию! И никаких, по крайней мере мне известных, частей позади! Они, — он ткнул рукой в сторону, где был противник, — мы и — Москва!.. — Степанов понял и горечь и ярость человека, которому до́лжно было остановить до этого дня неостановимое. Как понял и то, что ярость генерала не была яростью бессилия: в горькой этой ярости было что-то от оскорбленного воинского и человеческого достоинства, которому так долго пришлось пребывать в униженности отступления, и эта ярость предела оскорбленности была сейчас по душе Степанову. Желая укрепить генерала в его полезных сейчас чувствах и пробудить в нем ощущение собственных возможностей, сказал ему в тон:
— Все правильно, Иван Григорьевич! Но ведь и противник уже не тот! Ты сам это почувствовал по последнему бою — в действиях его теперь больше отчаяния, чем силы. Зима вот-вот станет. А победа ему и не светит!..
В доклады командиров дивизий и полков, в разговоры командарма с начальниками воинских служб Степанов не вмешивался. Важны были ему сейчас не цифры количественного состава частей, оставшихся единиц вооружения и не слова, из которых составлялись далеко не бодрые доклады командиров, — все это вбиралось и взвешивалось опытом и умом генерала; для него, для Степанова, важно было уловить другое: ту сцепленность чувств, долга и совести, о которой думал и говорил с ним в тревожной ночи генерал.
Генерал молча выслушивал доклады, коротко приказывал, и по тому, как и что он приказывал, Степанов чувствовал, что для самого генерала рубеж, занимаемый его армией по изгибающейся среди полей и лесов, черной от стылой воды реке, — действительно последний, и по долгу, и по совести.
На пути к дожидавшейся в рощице машине генерал Елизаров остановился на когда-то мощенной булыжником старой дороге, в виду обрушенного деревянного моста, сказал, все еще не умея или не желая выйти из хмурой сосредоточенности ума:
— Вот здесь наиболее и вероятен главный удар. Здесь брод. Другого по фронту армии нет. Сюда стягивает Гудериан и танки…
Степанов прислушался, уловил в шумных порывах холодного ветра многоголосое медлительное рокотание на той стороне реки, у леса, клином выходящего в поле. Если это были действительно танки, то видимое бездействие командарма не казалось Степанову уместным. Генерал Елизаров, как будто не замечая настороженно-вопросительных глаз комиссара, разглядывал заостренным, перебегающим взглядом фронт реки; похоже, он уже видел то, что будет на этом открытом береговом пространстве, если не в ближайшие часы, то завтра, и крупные черты его осунувшегося лица каменели.
Генерал знал, что должен доложить члену Военного совета армии созревшее в уме решение боя; не отрывая взгляда от реки (неловкость от пережитого ночью в крестьянской избе все еще стояла между ними), он заговорил ненужно резким голосом:
— Переброшены и окапываются сейчас вдоль дороги две полковые батареи. Фланги оставлены без орудийного прикрытия. Если расчет верен, выстоим. Самохина со всеми оставшимися в его дивизии людьми ночью передвигаю сюда. Гранаты, бутылки — всё, что может быть использовано против танков, — сюда. Свой НП тоже ставлю здесь, у дороги. Сдержим танки — будем жить…
Генерал, видимо, сам почувствовал излишнюю резкость своего голоса, сказал уже спокойнее:
— И все-таки на месте Гудериана я бы на день-два повременил. Танкам нужен маневр. А земля твердеет на глазах. Впрочем, холода — не их союзник. К зиме немецкая армия не готова. А вот наши люди крепчают, Арсений Георгиевич. Духом крепчают. Ты это чуешь? — Неловкость помешала ему повернуться к Степанову, посмотреть с открытостью, как бывало прежде, в глаза, но голос его на последних словах дрогнул — генерал ждал понимания и сочувствия. И Степанов, помогая утвердиться нужному им обоим созвучию мыслей и чувств, сказал:
— Как решил, так и делай, Иван Григорьевич. Ответственность, а стало быть судьба, у нас с тобой одна. А настроение людей я чую. И морозу — быть!..
3
Генерал оказался прав: противник выжидал.
Солдаты на всех позициях армии углубляли старые, долбили и копали новые траншеи, выносили на бруствер тяжелые, как валуны, комья смерзающейся глины. Полки зарывались в низкие прибрежные холмы с таким исступленным упорством, как будто земля, на которой сейчас они стояли, была для них действительно последней.
Степанов смотрел на копающих землю солдат и чувствовал, как предстоящим боем уже завязались в один узел его собственная судьба и судьба генерала, судьбы ближайших к нему и всех других видимых вдали солдат, и судьбы командиров, которые еще не вышли, в возбуждении теснились в душной штабной избе. Генерал только что обсуждал с командирами дивизий и полков возможные направления ударов немецких сил по позициям армии. И хотя предположения генерала казались обоснованными и убедительными казались возможные действия полков, Степанов знал, что предвидеть все движение еще не начавшегося боя невозможно. Всякий бой — знал Степанов — развивается по своим законам, когда необходимости и случайности едва ли не равны в своем воздействии на общий его исход; и от сознания невозможности знать действительное движение предстоящего боя на рубеже, выбранном не ими, но временем и обстоятельствами войны, — рубеже, последнем для них с генералом, а может быть, и для всей армии, — неприятно придавливало сердце. Как всякий человек сильной воли, он предпочел бы не ждать (неопределенность всегда унизительна для человека), он предпочел бы пойти навстречу неизбежному; но начало событий не зависело ни от него, ни от генерала.
Вопреки тревожности, идущей от ожидания, все определеннее завладевала его душевным состоянием вера в возможный достойный исход уже вплотную подступившего к ним сражения. И вера эта укреплялась, и не только тем, что фронт беспокоился оборонительными их возможностями и скупо, но добавил им орудийных стволов и даже два тяжелых танка, — в сложившемся по фронту армии соотношении сил это уже мало что меняло, — вера в возможный достойный исход назревающих событий укреплялась в нем общим настроением людей, в котором Степанов видел последнюю в сложившихся обстоятельствах и решающую силу их армии. Вера шла к нему от людей, которые сейчас в солдатских шинелях, томясь ожиданием боя, ходили в захолодавших окопах, с хрустом продавливая ботинками первый, настывающий по дну траншеи ледок; от командиров, от тех, кто чудом остался в живых после гибельных боев и долгих дорог; от генерала Елизарова, чья душевная боль и оскорбленное достоинство уже перешли в твердость и расчетливость готового принять бой командарма.
Особенно он почувствовал эту общую веру на только что закончившемся совещании у генерала. Почувствовал и, может быть, впервые за время пребывания в действующей армии не счел нужным смягчить ни слова в жестоком приказе генерала Елизарова. Не счел нужным смягчить, потому что люди, пронесшие на себе через пол-России скорбь отступлений и утрат, готовы были принять такой приказ. Он только постарался вынужденную жестокость приказа наложить на свою убежденность; он только в свои слова вобрал чувства, которые, он знал, были в сердце каждого из сидящих перед ним в тесной штабной избе. Он сказал:
— Друзья мои, товарищи боевые! Все можно отдать: жизнь можно отдать. Москву отдать невозможно. Здесь нам стоять. Здесь и выстоять. Другого никому из нас не дано…
Степанов зашел под старые обдутые до последнего листа ветлы, давая остыть неспокойным чувствам, наблюдал, как в таком же заметном возбуждении расходились командиры, на ходу торопливо глотая махорочный дым. (Генерал Елизаров остался верен себе: даже на этом, для многих, наверное, последнем в их жизни совещании он не разрешил курить.) Теперь командиры жадно затягивались, озабоченно прощались, разъезжались в полки и батальоны; и возбужденность их и озабоченность были Степанову по душе. И когда полковник Самохин, человек, чья крупная голова была посажена прямо в широкие плечи, скорее грузный, чем плотный, но энергией, умом и полководческим умением удивляющий, зажав в кулаке уже раскуренную, прожженную, казалось, насквозь, но почему-то оберегаемую им трубку, задержался около комиссара и, глядя из-под низких, крышечками, бровей назад, вдаль, где в охваченном тучами пространстве не виделась, но угадывалась памятью, чувствами ОНА, единственная и святая для каждого, кто причастен был к России рождением, судьбой или надеждами, сказал, будто из сердца вырывая слова: «Всё, значит. До края дошагали…» — и пошел короткими быстрыми шагами к коню, которого, уже оседланного, придерживал сидящий на рыжей лошади ординарец, Степанов совершенно утвердился в вере, что люди с занятых позиций не сойдут.
Отчетливый топот коней какое-то время дробил тишину пустого поля, затих в стороне передовых позиций. Степанов с наслаждением вдыхал знакомый ему по своим северным краям морозной свежести воздух, чувствовал, как медленно стекает куда-то на дно души, скопившаяся за месяцы фронта физическая и нравственная усталость, высвобождая, казалось бы, уже весь, до последней капли, израсходованный запас сил. Широкое, однообразно-серое небо привлекло его обостренное внимание. Низкая, бегущая над землей, казалось, нескончаемая навись туч, так долго угнетавшая нудной мокрядью поля, дороги и людей, бредущих этими дорогами, теперь как будто поднялась, просвечивала желтыми и голубыми окнами. Но не сами светлые окна — предвестники погодных перемен — привлекли внимание Степанова. Он видел, как быстро бегущие тучи вдруг начинали сдерживать свой бег: какие-то, еще не чувствуемые на земле, ветровые потоки уже шли встречь их движению. И встречные эти потоки были настолько сильны, что порой вздыбливали тяжелые, набегающие тучи. Они словно наталкивались на невидимую твердь, клонились влево, вправо, опускались, поднимались; их подпирали другие, сдвигали, опять как будто начиналось общее движение. Но копившиеся в высотах неба встречные ветры обретали силу. И тучи снова вздыбливались, зависали, не находили себе пути.
С каким-то незнакомым ему чувством живого соучастия следил Степанов за могучим борением в огромности надземного пространства; край светлого холодного неба ширился на его глазах.
К ночи вызвездило. Ударил мороз.
ГЛАВА ПЯТАЯ Иван Митрофанович
1
Второй день Ивана Митрофановича знобило. Думал, лихорадка вернулась, прежняя, еще с гражданской: потреплет — отпустит. Но жар не прошел. Голова — не тронуть, словно чугун, вынутый из печи. Ноги узоры плетут. И клонит к земле. Так бы и припал, отлежался на земле-матушке. Пока шел от конторы к дому, раз шесть прислонялся то к плетню, то к росшим в улице ветлам. А дома как повалился в постель, так уж и не поднялся — в жару да в бреду пролежал полную неделю. Шура — жена, верный друг с давних, еще молодых годов, не успевала менять мокрые рубахи на худом, будто из одних костей сложенном, теле.
На восьмой день жар прошел, глаза углядели потолок, ровную матицу с давним оржавелым крюком для колыбели, крест оконного переплета, просинь июльского неба за стеклом.
Слабый, тихий лежал Иван Митрофанович, седой волос торчал с запавших щек; табачной желтизны усы уже не топорщились, как бывало, обвисали на спекшиеся от жары губы. К полудню попросил Иван Митрофанович мятой картошки с молоком, но поесть не осилил — с ложки покормила Шура, ни взглядом, ни словом не выдала дурного предчувствия, которому на этот раз уже не могла не поверить. Нашла силы даже пошутить: опрокидывая ложку в непослушный рот мужа, сказала с доброй ворчливостью, как не раз, бывало, на веку:
— Горюшко ты мое ясно-луковое! Шея-то совсем цыплячья стала…
На что Иван Митрофанович, тоже с привычной ворчливостью и непривычной, тронувшей ее ласковостью в голосе, отозвался:
— Сколь помню, все такая была…
На другой день пришел Натоха — деревенский брадобрей, привел лицо Ивана Митрофановича в нужный порядок, даже пообтер «тройным» одеколоном из пузырька, еще до войны припрятанного на важный случай. Причесанный, посвежевший, одетый в чистую рубаху-косоворотку, Иван Митрофанович сел на кровати, подперев спину подушками, велел позвать Васену.
Васенка пришла, тихо села на табурет, подняла на Ивана Митрофановича глаза, полные участия и тревоги. В углах ее все еще нежных, стеснительно сомкнутых губ Иван Митрофанович заметил горькие вмятины, которых не помнил, и подумал, что общая для всех баб жизнь солдатки метит и Васену. О горестных своих заметах не сказал, только долго глядел запавшими глазами, любуясь мягкостью и добротой ее лица, всей красотой ее, как будто бы притененной, не раскрытой еще сполна нужной для того радостью, с предубежденностью искал в стеснительном ее облике знаки еще робкой, но давно угаданной им душевной силы. Изменить исподволь выношенное, с разных сторон продуманное решение он уже не мог и теперь в просветленном от болезни состоянии которое, он знал, пришло ненадолго, хотел поговорить о том с Васенкой.
— Васенушка, ты уж не серчай, что позвал в неурочное время, — сказал он, обласкивая ее слабым голосом. — Как видишь, уже не я себе приказы спускаю. Командир надо мной теперь шибко недобрый — отымает и времечко и силы. Речь-то вот о чем: тебе, Васенушка, колхоз принимать, тебе, хорошая моя, больше некому…
Видел Иван Митрофанович, как откачнулась Васенка, вскинула к груди испуганные руки; тронул исхудалыми пальцами усы, спрятал за ладонью понимающую улыбку.
— Первый шаг только и страшит, Васенушка! Потом разойдешься, ходишь-бегаешь, останову не знаешь. Колхоз-то без председателя. Мужиков война подобрала. Бабьим село стало. А вот землица семигорская, как была, вся на месте. Как подумаешь, сколько ее, матушки, под войну ушло, так каждый наш бугорок отдышать хочется! Солдат без хлеба не навоюет. А хлеб, он весь сейчас в женских руках, Васенушка. Как теперь говорят: «Война, товарищи…» Вернее и крепче слова нет для нонешней поры. Вот и я к тебе с этим словом: война, Васенушка! Тут, как говорится, через себя прыгни, а что надо — сделай. С людьми о тебе говорено. В районе знают. Сверху и снизу «добро» дано. За тобой теперь дело, хорошая моя!..
— Иван Митрофанович, родненький! Да что вы говорите такое! — Васенка разволновалась до красноты на щеках. Она не могла усидеть на табуретке, вскочила, отбежала к окну, умоляюще прижала к шее руки. — Надсмехаетесь вы надо мной, Иван Митрофанович! Нехорошо-то как!.. Разве смогу я? Время-то какое? А я что? Сама десять раз сделаю, чем кого заставлю! Кроме слова доброго, ну, ничегошеньки у меня нет! С чем я к людям-то пойду?! Нехорошо, Иван Митрофанович, ой, нехорошо!
Иван Митрофанович слушал, давал выговориться, а провалившиеся его глаза блестели в глубоких морщинистых глазницах, как от яркого света. Когда Васенка выговорилась, и замолкла, подперев в расстроенности чувств подбородок, и отвернулась к окну, Иван Митрофанович подозвал ее, усадил на табурет, накрыл влажной холодной рукой ее руку, сказал:
— В том-то и сила твоя, Васенушка! В годину горькую людям доброе слово твое нужно, душа твоя ясная дорога́. Приказать-то не труд, труд — исполнить. Крестьянскому усердию ты цену знаешь — сама с малых годов в работе. Так кому, как не тебе, вместе с людьми на земле хозяйствовать?! Я, Васенушка, с радостью еще бы век рядом с людьми пожил, косу в руках подержал, отбедовал бы вместе с вами. Вместе и победным временам порадовался бы. Да что отмерено человеку, того, видать, никто не переменит. Спокойным хочу быть. А спокойствие мое — ты, добрый наш человек! Увижу в твоих руках дело — мне легче будет. Легче, Васенушка! Забота — твое дело. По сердцу и по разуму твое…
Иван Митрофанович приклонил к плечу голову, рукой, такой же белой, как подушка, посилился толкнуть с груди одеяло.
Васенка, напугавшись, бросилась перед постелью на колени: видя, что Ивану Митрофановичу плохо, приспустила одеяло, ухватила будто неживую руку, страшась его забытья, торопилась разговорить:
— Иван Митрофанович, родненький! Что надобно-то? Сейчас отогрею, руку-то отогрею… Вот так… — Она гладила, дышала на его руку, старалась дыханием вернуть ей тепла.
Позади всхлипнула Шура. Васенка не оборотилась, еще усерднее задышала в холодную ладонь Ивана Митрофановича, и неживые пальцы его, будто и впрямь отогретые Васенкиным дыханием, пошевелились, Иван Митрофанович открыл глаза, посмотрел на Васенку, на Шуру, улыбнулся виновато.
— Жил… Никого не пугал… А тут вроде бы пугать начал. — Он шутил, отгонял страх от дорогих ему людей. Собравшись с силами, старательно выговаривая слова, попросил:
— Шура, Васенушка, как бы мне лошадку. На поля глянуть. Соскучал по воле…
Васенка, глотая слезы, сама запрягла старого, печально вздыхающего мерина, положила в телегу побольше сена, накрыла рядном, повезла уложенного и укрытого одеялом Ивана Митрофановича за село.
На горушке, у края ржи, откуда видны были и дальние поля, поставила телегу в тени берез, подложила под голову Ивану Митрофановичу прихваченную из дому фуфайку, чтобы удобнее было глядеть на колосья и зазелень леса у Туношны, хотела отойти, не мешать, во Иван Митрофанович позвал:
— Не уходи. Сядь. Вроде бы отдышался, говорить хочется. Что я хотел тебе сказать… Да вот… До войны еще, помнишь заспорил я с Андриановым. Точно, при тебе было. Председателю хлеб сдавать, а у молотилки нутро приболело, так разладилось, что эмтээсовский докторишко рукой махнул да сгинул. А Василию Ивановичу хоть за черта ухватиться, лишь бы сделать. Он батю твоего, Гаврилу Федотовича, и призвал. Не тебе говорить — в мастерстве твой батя башковит. Поклонишься, посулишь — блохе подковки навесит. Я бы не против, сам поклонился бы для дела, да пора-то какая — матушка твоя, помирает, а Капка на глазах всего села Гаврилу Федотовича хороводит… Андрианову про то сказываю, а он, будто жеребчик, на дыбки. Тебе, кричит, мораль дороже зерна! Дороже, говорю, Василий Иванович, дороже, горячий ты мой человек! Ты колхоз перед Гаврилой Гужавиным на колени ставишь. Мужику кураж, другим пример. А пример такой: ни закон для тебя, ни мораль, ежели дело умеешь. А так ли оно, Васенушка? Ты тогда с обидой на меня глядела. Не терпелось тебе, чтобы батя добром себя проявил. А я устоял. Жалел, а устоял. Даже перед тобой, Васенушка! В дальний колхоз за Макаром съездил, он дело нам свершил. Да так, что до сих пор машина молотит. Не гляди так жалостливо, Васенушка! Не суди старика: ему помирать, а он всё про то… Ни к чему бы теперь поминать, вроде пустяшное дело. А скребет тут, хочу, чтоб тебе помнилось. Дело почнешь, Васенушка, — делягой не стань. В жизни человек и дело вообще-то об руку идут. Но ты гляди: как человек дело ладит и как живет. Тут тебе такая книга — всё в нее вписано… Макарушку что-то поминаю. Каково-то ему там, не на хлебном — на бранном поле?! — Иван Митрофанович со вниманием поглядел на Васенку, понять хотел: по-прежнему ли дорого ей Макарово имя, но увидел в ее глазах такую боль, что и пытать не стал.
— Прости старика, договорю уж… Бывают, Васенушка, в жизни выверты. Бывает, что и свои золотые руки мужик пропивает. Но это такая уж несуразность, что словом не обозначишь. Хотя что уж, могу сказать: золото без ума не на пользу… Заговорился, старый, но ты потерпи. Все кажется, не углядел чего… Ты с главного начинай, Васенушка. С земли. Дело — оно все вокруг себя завертит. Люди к делу льнут. Заладится — тут и счастье твое. Что-то мне, Васенушка, не дышится. Вроде бы и воздух вольный, а тяжко. Бок давит. Подыми-ка меня повыше… Ладно, ладно, хорошо…
Иван Митрофанович поднимал голову, а она валилась; так и умостил он ее на правом плече, выпирающем под сатиновой, полинялой от времени, теперь просторной ему рубахой-косовороткой. Всю жизнь носил такие: то серые, то синие, то под пиджаком, то навыпуск с пояском, но — всё косоворотки. Были они такой же принадлежностью его вида, как усы, в бодрости — встопорщенные, в тягости — будто дождем обмоченные.
Васенка глядела на знакомую, залатанную на локте рубаху, на обвислые теперь усы, и обида за Ивана Митрофановича, за то, что не дала ему жизнь ничего другого, кроме забот о людском устройстве, о старых и малых, о несчастливых и порадованных судьбой, о всех, кто ходил-бегал по семигорской земле, кто обихаживал ее, скупую на отдачу кормилицу, — обида за то, что жизнь взяла все, что могла взять от его ясного ума и неспокойного сердца, и дала ему такую малость от общей людской богатости, захлестнула Васенку. Горьким и несправедливым почудилось ей то, что Иван Митрофанович один здесь, у конца своей жизни, растраченной для всех, что одна она при нем и одной ей он говорит слова, слушать которые надобно всем, и нетерпеливое желание тут же поправить несправедливость заполнило Васенку. Она ухватила вожжи, в поспешности стала заворачивать лошадь, чтобы собрать на сельсоветской луговине вкруг Ивана Митрофановича все село, чтоб все могли его видеть, слышать, внимать ему. Но едва заворотила нерасторопного мерина, Иван Митрофанович остановил ее.
— Куда это ты, Васенушка? Пошто заторопилась? — слабым голосом окликнул он, тужась поднять от плеча голову. — Сорви-ка мне колосок, с той вон ржицы. Зерно хочу потрогать…
Васенка подала ему стебли с колосьями, самыми большими, какие только могла в торопливости найти, бережно вложила колоски ему в ладонь. Иван Митрофанович медленно, один за другим, согнул длинные худые пальцы, прикоснулся к выпуклостям плотно сидящих зерен, и по выболевшему, испятнанному темными метами его лицу прошла улыбка, никлые, табачного цвета усы пошевелились, на какой-то миг вроде бы встопорщились. Из-под полуоткрытых век смотрел он на Васенку, будто запоминая, нежданно пошутил:
— Вот, болтают, усы у меня прокурены. А ведь в жизни не курил! Давай-ка теперь, Васенушка, на Волгу…
Пологой дорогой, вдоль Немды, затененной зарослями ракит, Васенка выправила к Волге; поставила телегу у воды так, чтобы Иван Митрофанович мог видеть всю ширь и даль пустой в этот час реки. Свежестью наносило от плеса. Волга дышала: скатывалась с широкой ее груди вода, набегала на песок, уносила обратно с берега шевелящуюся полоску пены. Мерные вздохи Волги, шелест воды по песку, неподвижные, вечереющие дали обласкивали взор и слух, и Васенка, давая Ивану Митрофановичу углядеться Волгой, молча и участливо стояла, прислонившись к теплому, остро пахнущему крупу мерина. Иван Митрофанович, однако, не видя Васенки, опять забеспокоился, позвал.
— Что хотел еще сказать тебе, Васенушка… Опять плохи у нас дела. До Волги фашист дошел. Но ты верь. И народ уверуй: победа за нами будет. Так и сказывай — русские, мол, долго замахиваются, но бьют напрочь… Да, вот оно, главное, что хотел. Мне бы, Васенушка, руку омочить!
Васенка знала пологое твердое дно, осторожно пустила мерина в Волгу. Когда заднее колесо притонуло по ступицу, Иван Митрофанович свесил руку, коснулся воды бережно, будто припоминая забытое ощущение, процедил сквозь согнутые пальцы упругую, податливую течь. И дрогнуло, сместилось небо; и показалось Ивану Митрофановичу в последнюю минуту жизни, что вместе с небом качнулась и Волга; припала к нему и — приняла…
Васенка видела, как обвисла рука Ивана Митрофановича, выпали из ладони смятые колоски, покружились, потыкались остьями в пальцы, поплыли, топорщась на светлой речной глади, все дальше, все быстрее, запропали среди ряби, дробящей на мелкие блестки опаляющий Волгу пламень заката.
Васенка сложила на груди Ивана Митрофановича руки, сорвала с шеи платок, накрыла ему лицо. Плохо разбирая от натекающих слез дорогу, правила, шагая обочь телеги, к Семигорью. Никогда прежде она не чувствовала такой беззвучной пустоты вокруг: ни тогда, когда проводила на войну Леонида Ивановича, ни тогда даже, когда оставила на погосте матушку. Душа будто повисла, и не было теперь у нее опоры. Рядом с безгласным Иваном Митрофановичем вышагивала Васенка, молча откидывала из-под глаз слезы, без надобности торопила свой шаг.
В Семигорье въехала с видом скорбным и решительным. И когда у дома Обуховых собрались люди, бабы запричитали, отделилась от начавшейся суеты и людности, пошла, опустив голову, мимо огородов по некошеной луговине к Туношне, — снова горе вошло в ее жизнь, и надо было пережить его.
ГЛАВА ШЕСТАЯ Пахота
1
Бился, захлебывался младенческим лепетом в просторном, загустевшем от синевы небе жаворонок. А у земли было парко; и запахи, какие бывают только по весне после ранних дождей, в уже устоявшемся тепле, исходили из тронутой плугом глуби.
Васенка слушала жаворонка, вдыхала пахучую теплынь пробужденной земли, готовой принять, выколосить каждое павшее в нее семя, чувствовала, как и в ней разбуживается вроде бы пристынувшая за вдовьи зимы сила и надежда на радость, хотя бы на простую радость дарового летнего тепла. И, плечом напирая на залосненную лямку вожжи, она с ожившим любопытством поглядывала из-под низко повязанного платка на баб, тянущих с надрывной старательностью на вожжах борону, хватко цепляющуюся за комья земли, неумело расковырянной плугом. Поле на быках пахали мальчишечки — Мишка Петраков да Вовка Шайхулин: приходилось радоваться и тому, что в свои десять да двенадцать годочков сумели они как-то отвалить землю, поднять наверх ее родящее нутро. Быков и трех старых, негодных для войны меринов она отправила поднимать другое поле; а по этому, вчера паханному, сами бабы, сцепившись, где по четверо, где впятером, с утра потянули бороны. В той упряжке, в которой были Фенька, Женя Киселева и Маруся Петракова со старшенькой светленькой Нюркой, тянула свою лямку и Васенка. В каждом шаге она видела сразу всех и в отдельности каждую и каждую чувствовала и понимала, как себя. С левой стороны, задевая ее жарким, мокрым плечом, шла в коренниках простоволосая Фенька, шла, по-бурлацки нависнув над землей, сминая отваленные плугом пласты крепкими, напряженными в икрах ногами. Рыжие ее волосы полохались по щекам, по белой, в крупных веснушках, шее; лямка вминалась в старую кофту, под кофтой круглились, выпирая тканину, тугие груди. Фенька шла мерно, как будто давно привыкла к этой лошадиной работе, и справляла, ее, как все, с непривычной покорностью. Рядом с Фенькой торопилась, оступалась невеликонькая росточком Маруся Петракова, остроносая, большеротая; в натуге кривила бледные подвижные губы, высоким голоском постанывала в действительном старании. «И за что только душа цепляется? За кости, что ли?» — думала Васенка, крепче надавливая на вожжу, чтобы хоть чуток облегчить Марусе тягу. С усердием тянула упряжь своим худеньким плечом и Нюра; все старалась, жалеючи мать, зашагнуть хоть на полшага вперед. Васенка отметила это с одобрением: она вызнала про сердечную привязанность Витеньки к Нюре, и хотя скрытного характером братика взяли в город, на завод, и по редким письмам она чувствовала уже полную его самостоятельность, все-таки с доброй строгостью приглядывала за Нюрой, в душе привыкая к ней, как к будущей невестке. Обочь Васенки шла левым плечом вперед Женя, закинув руку за спину, на вожжу, захватив ее цепкими пальцами. Оборачивая свое широкоскулое лицо к Феньке, дурашливо выкрикивала хриплым своим голосом:
— Давай жми, Сивка-Бурка, рыжая каурка! Без мужика рожать не научены, так хоть подможем матушке-землице жито выродить! Эх, шевелись, бабы-лошади! Хороша сбруя, Фенькиным грудям в самую пору…
Женя балагурила, но Феньку ее слова задели, она повела натужными глазами на Женю, зло ругнулась:
— Тарахтелка тракторная! Грому на все поле, а толку чуть…
Хмурость, однако, не задержалась на распаленном работой лице Феньки; она закинула голову, не останавливая шаг, нашла в синем мареве дрожащее пятнышко жаворонка, улыбнулась призывно полными губами то ли птахе, то ли своей памяти. И Васенка, встревоженная Женькиной задиристостью и уже готовая помешать ненужному разговору, увидела ее улыбку, с облегчением подумала: «Ну, и уладилось! Только в словах мы, бабы, ершисты. А на деле — добрее не сыщешь. Ой, бабы, ой, страдалицы мои! Мужикам даже там, в боях своих, молиться на вас да молиться…»
Васенка наблюдала за всеми четырьмя упряжками: все они двигались по пахоте, и Васенка радовалась этому медленному, терпеливому движению, как только можно радоваться большому, нужному, еще вчера, казалось, невозможному, а сегодня удачно начатому делу. К вечернему, низкому солнышку, хотя и с остановками, с перерывами, но большое, гектар в шесть, поле разборонили.
На подгибающихся ногах доволочив борону до края последней полосы, Васенка отбросила лямку, распрямилась, оттягивая прилипшее к телу платье, и, платьем опахивая разгоряченное потное тело, подумала с усталой удовлетворенностью, что завтра можно засылать на это поле севцов. Она уже прикинула поручить это завершающее общий труд дело Феде-Носу, одному из четырех семигорских мужиков, оказавшихся не на войне, по возрасту обойденных даже трудповинностью. Почему-то именно к старому Феде она испытывала безотчетное доверие, хотя Федя-Нос ни по внешности, ни по характеру не был похож на покойного и посейчас так нужного ей Ивана Митрофановича.
Оглядев пробороненную, не очень-то ровную открытость поля, она перевела взгляд на видимое за низкой лесной порослью, что укоренилось на меже, другое, еще большее поле, наполовину расковырянное плугом, и к ее лицу, без того притомленному, добавилось озабоченности. Она вспомнила разговор в райкоме, у Кобликовой Доры. Слова Доры о железной, прямо-таки стальной необходимости закончить пахоту и сев в ближайшие три дня не очень-то добавили Васенке бодрости — слишком ясно виделся разрыв между необходимостью и возможностями семигорского колхоза. И тогда, в райкоме, и теперь чувствовала она беспокойство. Нет, не перед устрашающим взглядом требовательной Доры — беспокойство она чувствовала от своей, всегда живой совести, которая не давала ей забыть о войне, идущей так далеко от Семигорья и так близко от ее сердца. Она понимала, что одно, даже удачно сделанное дело — это еще малость. Это такая малость — хлеб с одного поля, — что до солдат этот их хлеб может просто не дойти. И такая ли важность для войны, для солдат, что хлеб на этом поле взойдет от последних бабьих сил, на поту, на слезах, на безголосой тоске вдов и детишек, в одинокости оставленных у земли?! Важность в том, чтобы хлеб был…
«Всё одно — надо, — думала Васенка, глядя на то, другое, только наполовину паханное поле. — Эту половину до тёмок и оборонуем. Так и скажу: надо, мол, девки».
Баб будто кнутом стегнули: заголосили все разом, замахали руками, когда услышали о другом поле. Маруся Петракова так даже одной рукой махнуть не осилила: подняла из муравы испачканное землей лицо, маленькое, с большими, как будто навсегда испуганными, глазами, не сказала — выдохнула:
— Всё, Васена. Силов нету. Завтра разве на корячках из дома выползу.
Васенка сама видела: обессилели бабы. И, смиряя свое беспокойство за многие еще не сделанные дела, за неостановимое солнышко, все ниже клонившееся к мохнатой загороди бора, и жалея всех баб вместе и каждую в отдельности, сказала голосом, в котором больше было участия, чем строгости:
— Ладно, девки, Отложим до утречка. Но завтра хоть на корячках, хоть ползком, но второе поле пробороним…
2
Васенка почти не спала ночь, полную шорохов, возни, птичьих кликов, слышных в раскрытое окно с залитых половодьем лугов; различала и утиный кряк, и тонкий долгий посвист куличков, и возбужденный говор гусей, учуявших с высоты милую им землю. Весна всегда тихо радовала ее общей напористой суматохой жизни, исходящей отовсюду: и от самой земли, и от затеплевших небес, и от проясненных людских глаз; слушая весеннюю ночь, она досадовала на себя за то, что в ее обеспокоенную заботами душу прорывались всякие памятные ненужности, которые она силилась сейчас не помнить.
Натуга на пашне не обошлась и для Васенки. Ноги-руки, налитые тяжестью, были как в болезни: чуть пошевелишься — прокалывает с живота до спины, плечи крутит в жгуты. И все же, сомкнув плотно губы, чтобы случаем не простонать, не разбудить Женю, по давней привычке стелившую себе постель на печи, и не потревожить Лариску, приткнувшуюся к боку, и Ваню-Рыжика, устроенного на широкой лавке в лучшем углу дома, и Машеньку, вовсе отбившуюся от Капитолины, она неслышно ворочалась со спины на бок и обратно, болями тела заглушая гомонившую за окном весну. Приподнявшись на локте, она осторожно подвинула к стенке Лариску, подсунула под голову ей угол подушки, сама легла повыше, нашла наконец нужное положение, ушла мыслями в трудные и необходимые утренние заботы. Главным ее беспокойством была забота допахать и проборонить второе и еще одно, тоже большое, поле. Не только умом она понимала, каждую минуту жизни чувствовала, как нужен тот хлеб, который, кроме них, некому ныне посеять и собрать,— нужен всем: и городу, и ребятишкам, и бабам в деревнях, но прежде всего — войне, солдатам, наконец-то погнавшим врага от Волги, за Дон, до самой Украины. Украину Васенка не представляла, не ведала, что там за люди, какая там земля,— так уж получилось, что нигде она не была дальше зареченского города, который и был центром их района. Но войну представляла. Война была для нее близко, она как будто слышала ее, а в зимние ночи, когда от забот случалась бессонница, ясно видела полыхающее по фронту пламя. До того ясно, что даже чувствовала лицом жар горящей земли и с болью глядела, как пламень охватывал бегущих солдат, и солдаты горели, как молодые сосенки в лесном пожаре, и пепел вместе с черным дымом поднимался в небо, летел под облаками и оттуда, сверху, падал на города, на деревни в руки баб неживыми листками похоронок. И черные листки, летевшие оттуда, с горячих полей войны, заживо подкашивали баб, навек сиротили ни в чем не виноватых ребятишек, саму землю, тоже ни в чем не виноватую. В думках о войне Васенке часто виделась та большая волжская баржа, зачаленная к дебаркадеру, которая увозила к войне семигорских и других окрестных мужиков. Видела на барже и Макара в той чудной кепочке. И, как в яви, опять дивилась незнаемой прежде кепке Макара, глядела с пристальностью в его косящие, как у коня, глаза. Даже в ночи, не под чужими взглядами, стыдилась она того, что видится ей не Леонид Иванович, а Макар, и, стыдясь грешности своего сердца, заставляла себя думать не о своей, а о той общей беде, в которой горевала вся Россия. Думала она о России и снова — в который раз! — ужасалась той огромной барже, которая такое великое множество мужиков оторвала от земли. И забота о том, как управиться с полями, уж не со всеми — хотя бы на самой родивой земле,— управиться теми бабьими силами, что оставила война Семигорью, не давала ей спать. И опять мысли ее скатывались к Макару, и уже не со своей, от сердца идущей тоской, а с председательской озабоченностью она думала: «На денек бы Макарушку в Семигорье. Хотя б на утречко! Нашелся бы, отладил бы нам какую-никакую машину. И управились бы, в самую пору управились бы с заботой…» Васенка в суровости сжимала губы, думала, что так бы оно и было, возвернись Макар в село: встретила бы она его только так, как председатель встречает механика…
Пристроилась Васенка на подушке, ушла в думы, а тело и в удобстве заломило. Повернулась на правый бок — не лежится, повернулась на левый — тяжко; опять примостилась на спине, закинула руку за голову, даже дыхание придержала, перетерпливая идущую по телу ломоту. В самое это время и послышался хриплый шепот Жени:
— Что, Васка, неровно дышишь? От весны, что ль, распалилась?..
Васенка, напугавшись, что Женя подумала бог знает что, собралась с силой, ровным тихим голосом ответила:
— Заботы голову заботят. Боюсь, Женя, не спроворим мы с севом…
Она слышала, как Женя возилась, слезая с печи, прошлепала босыми ногами по полу, потеснив Васенку, села на край постели. В светлом проеме открытого окна хорошо прорисовывались крупные, почти мужичьи черты ее лица, волосы, заброшенные назад, худая темная шея над серой просторной рубахой, в которой она всегда спала. Потомившись в молчании, Женя охватила свои угловатые плечи руками, будто себя обогревая, сказала напрямки:
— И мне видать — не осилим. Бабы два дни в борозде — не кобылы. Вот что, добрая наша председательша: добудешь две бочки керосину — вспашу и отбороню тебе полтора поля…
Васенка хотела бы поверить, да не поверила, — видать, замечталась на печи верная, заводная на всякую диковинку подружка! Сказала с прощающим вздохом:
— Мечтала и я, Женечка, о такой силе. Да вся наша мечтанка — те же бабьи руки да то же наше терпение. Ничегошеньки другого не осталось!..
— Сказала, значит, смогу! — рассердилась Женя. — Не на гулянья, чай, утекла. В эмтеэсе, считай, третью неделю ковыряюсь. С миру по железке — старому колесничку на жизнь! Завела старичка. Гудёт!.. Доставай керосин — пахота будет.
Васенка скинула с постели ноги, ткнулась лицом в жилистую, теплую шею Жени:
— Ну, что бы я без тебя делала, выручалочка ты наша. И крышей поделилась, и обогреваешь. И дух крепишь…
— Полно тебе, Васка. Еще пойдешь икону с меня заказывать! — Женя хотела погладить Васенку, но застеснялась, только подбила неумело ее мягкие, спадающие на спину волосы, сказала сурово:
— Керосин, керосин добывай!..
— Добуду, Женечка. Добуду! Быть того не может, чтобы на такую нужду люди не откликнулись!..
3
Васенка редко бывала в райцентре и теперь дивилась городу, еще по-зимнему притихшему и малолюдному даже в этот синий слепяще-солнечный день. Она обходила склады, магазины, конторы, советы, комитеты и нигде не добыла даже малого бидончика керосина, А ей нужны были бочки, две большие железные бочки, чтобы оживить старый Женин тракторишко и на него, готового к работе железного конягу, переложить с перетруженных бабьих плеч тяжкую земельную работу. Только две бочки. Целых две бочки! Наконец Васенка узнала: керосин есть. Но под многими железными замками. И ключи от всех замков — у секретаря райкома партии, у Дарьи, у Доры Павловны Кобликовой. «Да что уж раньше-то не могли сказать! — сокрушалась Васенка, измученная хождениями и уговариваниями. — Давно бы все решилось!»
Согбенный старичок, сидевший за дверью с вывеской «Райплан», — тот самый старичок с белым хохолком на голове, который, сжалившись, открыл ей наконец керосиновую тайну, — услышав ее убежденные слова, осторожно отвалился на спинку стула, посмотрел на нее очень внимательно, потом склонил к плечу седую голову и голосом тихим и проникновенным сказал:
— Дай бог, чтобы ваша вера помогла вам…
Васенка вошла в кабинет Доры Павловны стремительно и легко, как привыкла за последний год входить в любые учрежденческие кабинеты, будь то по вызову или по делам колхоза. Даже тяжелые кирзовые сапоги, доставшиеся ей в наследство от Леонида Ивановича, не топотнули по все еще желтому, но уже с пролысинами полу, плавно донесли ее до широкого, в треть кабинета, стола. Смахнув с головы на плечи рябенький ситцевый платок, добытый из матушкиного сундука, она с улыбкой на своем открытом, оживленном быстрой ходьбой лице и с верой в то, что все решится быстро и хорошо, проговорила:
— Вот и до вас, Дора Павловна, дело довело!
Дора Павловна, не поднимая головы от разложенных перед ней бумаг, молча повела рукой, показывая на стоящий перед столом стул. Васенка потеребила узел платка на шее, сказала в живости:
— Да у меня дело-то минутное! Не надобно, чай, и время тратить.
Но протянутая рука Доры Павловны оборотилась к ней ладонью, остановила ее, и Васенка, пожав плечами, села.
Дора Павловна продолжала молча изучать бумаги. Васенка, смиряя свое нетерпение, с полуулыбкой разглядывала ее. Хотя Дарья Кобликова стала властью, самым главным человеком в районе, и под ее рукой были председатели всех колхозов, в том числе и она, Васена Гужавина, все равно и теперь она не знала перед ней робости. Оттого ли, что сама Кобликова была семигорского корня и с детства зналась как соседка «тетка Дарья», то ли Иван Митрофанович как-то исподволь приучил ее в любом начальнике видеть понимающего человека, но на самых строгих совещаниях, когда от железных слов Доры Павловны мрачнели даже покалеченные фронтом мужики, она не опускала глаз, не клонила головы.
Доре Павловне было уже около сорока, но была она по-своему красива — не только глубокими твердыми чертами лица, подобранными аккуратно в высокую прическу волосами и темными, вразлет, бровями на белом, без заметных морщин, лбу, но самими движениями головы, рук, бровей, медлительными и в то же время выразительными, подчеркивающими ее достоинство и власть. Васенка про себя даже любовалась этим ее медлительным достоинством и думала: если бы не холодящий взгляд ее голубых немигающих глаз, то прежняя тетка Дарья, нынешняя Дора Павловна, была бы на зависть привлекательна и люди, имеющие к ней дело, не столько боялись бы, сколько поклонялись ей.
Телефон беспокойным своим дребезжанием нарушил Васенкины раздумья. Дора Павловна и теперь не подняла от бумаг красивой головы, подождала, когда телефон зазвонил в третий раз, медленно повела рукой над столом, привычным, точным движением взяла трубку:
— Да, я, — сказала она ясно и четко, и в этом ее «да, я» было столько подчеркнуто-властного достоинства, что Васенка, с любопытством глядя на бывшую, не безгрешную, Дарью, подивилась — в который уже раз! — ее способности утверждать себя даже перед телефоном.
— Закончим через три дня, — спокойно говорила в трубку Дора Павловна; а разговор, как поняла Васенка, шел о севе, и разговаривала Дора с областью. — Да, по всем колхозам. Безусловно. К плану добавим, как было обговорено. Благодарю. — Она не спеша положила трубку, наконец посмотрела на Васенку.
— Слушаю вас, товарищ Гужавина, — тем же подчеркнуто-властным голосом сказала она и, не убирая со стола рук, сочленила над бумагами пальцы с тщательно и ровно подстриженными ногтями.
Васенка, как бы оставляя при Доре Павловне строгий официальный ее тон, с доверительностью рассказала о запаленных на бороновании бабах, о том, как Женя Киселева оживила старенький, давно списанный трактор, и о возникшей своей, вернее общей, колхозной заботе.
— Нам бы только две бочки керосина, и мы легко бы подняли и засеяли два оставшихся поля! Главное, сберегли бы до макушечки настрадавшихся баб, — сказала она и улыбнулась, веруя, что все нужное обговорено и Дора Павловна сейчас так же спокойно и властно распорядится о керосине.
Дора Павловна смотрела на Васенку немигающими глазами, как будто ждала услышать еще раз о том, что поведала только что Васенка.
— Кто вам сказал, что у нас в районе есть лишнее горючее? — после долгого молчания спросила Дора Павловна. И Васенка, не думая о том, что доверчивость может обернуться кому-то неприятностью, простодушно разъяснила:
— В райплане у вас старичок есть такой седенький. Вошел он в наше положение. И присоветовал обратиться к вам…
— Галкин?! — Одна из бровей Доры Павловны поднялась в неприятном удивлении, глаза остановились в неподвижности на квадратной массивной чернильнице. Васенка не знала, что с этим согбенным старичком, который, как это она узнала потом, по годам вовсе не старичок, у Доры Павловны было связано самое неприятное в ее жизни воспоминание. Казалось, все ушло, забылось: человек, попавший по ее обвинению в места очень далекие, вернулся, продолжал жить и работать, растворился в жизни их городка. Но он был. Значит, было и то, что случилось в свое время. И хотя сам этот человек уже не имел значения для Доры Павловны, — для нее имело сейчас значение только то, что кто-то, помимо ее воли, посмел открыть кому-то скупые резервы, с трудом, при личном ее участии, добытые в области, — все же неприятное ее удивление усилилось от того, что не кто-то другой, а именно этот человек нарушил ее строгое установление. Первым движением ее чувств было тут же взыскать, поставить на место этого неприятного ей и теперь человека, — она даже потянулась к телефону. Но, пожалуй, впервые властная, не знающая сомнений ее рука остановилась: Дора Павловна увидела, как испуганно метнулся взгляд Васенки, сначала на телефон, потом на ее руку, как, все поняв, она подняла на нее глаза, полные раскаяния и мольбы. Похоже, семигорская красавица, в мужской робе и кирзовых сапогах, уже до горести переживала то, что еще не случилось. И, отступая перед мольбой и открытой доверчивостью Васенки, Дора Павловна не дотянулась до телефона, в досаде снова сочленила пальцы над бумагами:
— Как дети! Все вы как дети!.. — вдруг раздражилась она и передернула полными плечами, будто ознобило ее под плотно облегающим ее фигуру темно-синим шевиотовым костюмом. — Скажите, товарищ Гужавина, фронтовую кинохронику вы колхозникам показываете? Видели ваши люди, как солдаты на руках, на своих плечах тащат пушки в бой? Тащат под бомбами, под снарядами, под пулями?.. А вы тянете по полю борону и не слышите даже гула фашистского самолета! Над вами, как прежде, мирное небо. Тяжело? Да. Порой очень и очень тяжело. Но кому сейчас легко, скажите мне, товарищ Гужавина?!
Васенка опустила голову. Верные слова Доры Павловны тронули отзывчивое на чужие тягости ее сердце. Даже стыдливая краснота проступила на ее и теперь еще нежных щеках. Еще бы минута — и, наверное, она встала бы и, согласно вздохнув и повинившись, пошла бы к себе в Семигорье утешать и уговаривать баб. «Но керосин-то ведь есть?! — Эта мысль ожгла ее. — О том Дора ни слова! Керосин-то есть! И трактор может пойти. Зачем же опять на баб, когда пускай на сегодня, но можно снять тягу с размозоленных бабьих плеч?!»
Васенка подняла глаза, и Дора Павловна увидела в ясных ее глазах, какого-то теплого, песочного оттенка, не смущение, а твердость.
— Про солдат мы знаем, Дора Павловна, — тихо, но с неожиданной неуступчивостью сказала Васенка. — И про бомбы и пули — знаем. И про тех наших мужиков, которым уже не, страшны ни снаряды, ни пули, тоже знаем, — память о них бабьими слезами до сих пор не залита. Но сказали бы нам с вами спасибо мужики-солдаты, когда б увидали своих баб в борозде заместо лошадей?! Бабы сами пошли на пашню, сами бороны потянули, потому как видели: край подошел, до самой до необходимости. Но баба — не конь: когда силы у нее кончаются, кнутом ее не подгонишь. Уговорить и то слов не найдешь, когда знаешь, что у ворот починенный трактор стоит, а здесь, за рекой, на вашем складе, горючее припасено. Для какой надобности — не ведаю. Может, керосиновыми лампами на совещании светить, может, бумажки писать — не ведаю того. Но то, что первее всех бумажек — хлеб, тот, что должны мы посеять, знаю твердо.
Дора Павловна слушала в неподвижности, даже как будто дышать перестала, изумленная неожиданным поворотом разговора. Она привыкла к тому, что после ее речи люди молча вставали и с охотой или неохотой — это ее не касалось — шли исполнять ее волю, общую партийную волю, как думала Дора Павловна. Сейчас же случилось необычное: речь ее не только не направила, но обернулась несогласием, даже отпором!
Дора Павловна как бы издали изучала раскрасневшееся, прекрасное даже в сердитости лицо Васенки, думала со спокойным холодком еще не проявленной власти о неприятном ей райплановском работнике: «Нет, определенно, этого проболтавшегося человека надо безжалостно наказать. Нарушает порядок, возмущает умы… А что же делать с этим неоперившимся еще председателем? Сердца много вкладывает в дело — понимания недостает».
Васенка в горячности говорила:
— Ну что из того, Дора Павловна, что кто-то ночью лишнюю бумажку напишет? Всё одно кому-то на стол ляжет. А хлеб? Прямо в руки да на зубок. Кому-то силу даст, чье-то сердце согреет. Тому же солдату, что сегодня фашиста положит, завтра может, сам от пули умрет…
«А есть убежденность в этой красавице, — думала Дора Павловна, против воли любуясь Васенкой. — Дадим возможность себя проявить. Может быть, действительно дело сделает…»
— Довольно слов, товарищ Гужавина, — сказала Дора Павловна голосом таким твердым и властным, что прервать ее никто бы уже не решился. — Вот вам записка. Получите на складе бочку горючего. Но помните: за правильное использование каждой капли отвечаете головой.
Васенка держала в руках записку и не знала, радоваться ей или печалиться? Одной бочки едва ли хватит на половину поля. А дальше что?
Дора Павловна отлично поняла растерянность Васенки, глаза ее чуть заметно сузились, она спросила холодно:
— Вы не удовлетворены? Тогда положите на стол записку, попробуйте решить свои заботы без райкома.
— Нет, нет! — испугалась Васенка и крепко прижала записку к груди. — Другую половину мы наберем. Обязательно наберем! По всем домам пройдем. По плошечке, по ковшичку, а все равно наберем!
— Это другой разговор! — Дора Павловна встала. — Еще одно: к спущенному вам плану сева прибавьте десять гектар. Желаю успеха, товарищ Гужавина!
4
— С кого начинать-то, дядя Федя? — Васенка в растерянности стояла перед крыльцом, не зная, как приступиться к трудному делу — собрать не бочку, а теперь уже, после щедрого подарка Доры, полторы бочки керосина, собрать по деревне, по домам, которые с начала войны живут без света. В скольких домах, в которых приходилось ей бывать в темные, зимние вечера, видела она вспомянутую теперь лучину, горячую с черной копотью над корытцем с водой! В редком дому светила керосиновая лампа, да и то притушенно, вполсилы, чтобы надольше хватило еще довоенного, у всех скудного запасца.
Федя-Нос спустился с крыльца, с осторожностью переставляя согнутые старостью ноги, обутые в плетенные при свете горящей печи, не обношенные еще лапти, вгляделся участливо в глаза расстроенной Васенки.
Отяжеленное могучим носом лицо Феди теперь почти до глаз заросло сивым, с проседью, волосом: в первый год войны, когда все Семигорье жило в тягостной подавленности от долгого, неостановимого отхода Красной Армии аж до самой святой для каждого русского человека Москвы, Федя-Нос, допив последнюю бутылку самогона, схороненную от прошлых годов в картофельной яме, поклялся не стричь ни бороды, ни усов, ни на голове волос до тех пор, пока не сгонят фашиста с России. И хотя с того дня Федя до невозможности оволосатился, Васенка не смела даже про себя осудить его, — чутьем доброго человека понимала, что в чудаковатом этом упрямстве старика была боль за Россию, за себя тоже, по годам и всем прочим неспособностям оставленного с бабами, поодаль от ратных дел.
Дядя Федя глядел из волос с участливым вниманием, и, если бы к краям глаз не набежали хитроватые морщинки, Васенка так бы и не поняла, что дядя Федя улыбается, — ни губ, ни щек в его усах и бороде не было видать.
— Так с чего начинать-то, дядя Федя? — как-то жалобно снова спросила Васенка, чувствуя себя перед молчаливой мудростью Феди несмышленышем.
— А вот с меня и начинай, — сказал Федя, простотой своих слов ободряя Васенку. — В войну мы не с бедной жизни вошли. Ежели не хлебом, то прочим несъедобным припасцем не каждый себя обделил. Заходи в дом. Ну, коли некогда, погодь тут. Я сейчас… — Вернулся Федя-Нос с четвертной бутылью, оплетенной ивовым прутом.
— Вот, в общий котел для начала. Чуть не полная. Припасал на пасеке вечерять. Да разве возможно ныне этакое богатство одному тратить?! Бери. Рад, Васенушка, послужить землице нашей.
Васенка, обняв бутыль, как ребятенка, несла ее к Жене на двор, не слышала ног от легкости на сердце. Бережливо, до капли, слила керосин в бочку, прежде припасенную, в волненье слушая, как булькают и плескаются о пустое дно первые литры тракторной силы. На деревянную пробку накинула чистую тряпицу, плотно заткнула отверстие в бочке. С той же бутылью, что передал ей дядя Федя, вышла в улицу, раздумывая, к кому заявиться теперь. Глаза остановились на окнах магазина с наглухо закрытыми ставнями. Капитолина торговала только в дни, когда привозила из города кой-какой товар; а так магазин был пуст, и открывать его было незачем, и большую часть времени Капка проводила дома, в жилом пристрое к магазину. После того как батя с превеликим, на все село, шумом проводил Капку из своего дома, она недолго отирала углы на стороне, вернулась вскорости в Семигорье завмагом, заняла пристрой на законном основании.
Васенка знала, что Капитолина дома — из трубы потягивал дымок; прикинув, что у кого-кого, а у Капки она возьмет не меньше двух бутылок керосина и тем закрепит счастливое начало затеянного дела, направилась к пристрою.
Капитолина куда-то собиралась — сидела за столом, недовольно глядя в зеркало, крутила только что вымытые волосы на бумажные жгутики. У печи, на мокром табурете, стоял неубранный таз с мыльной водой, на шестке лежал мокрый кусок хозяйственного мыла, огромный, чуть не в полкирпича, пахнущий керосином кусок. Васенка прежде другого разглядела мыло и в озабоченности от постоянной нехватки всего самого необходимого подумала: «Этаким куском полсела можно обмыть! А эта одну себя, не жалеючи, мылит». Однако вдаваться в недобрую сторону дела Васенка не стала, без приглашения села на лавку, поставила на пол между ног бутыль в плетенке, с легкой усмешкой осведомилась:
— Для кого красоту крутишь?
Капитолина наклонила голову, с обеих сторон узенького лба упали незавитые пряди, повисли настороженно, как рога у коровы; из-под поднятой к волосам голой руки она покосилась на бутыль, спросила, хмурясь:
— Что, без света контора не пишет?
— Пишет. У нас заместо лампы до ночи солнышко! — отшутилась Васенка и почувствовала, наблюдая прихорашивающуюся Капку, как сердце прихватывает памятью: от горестей, что принесла в ее жизнь бесчувственная Капка, нет-нет да подступало, а в последний год все чаще и острее, желание прихватить под кофту короткий конский кнут и где-то на безлюдье, не для чужих глаз, хлестнуть раза два по бессовестному ее лицу. Васенка теперь уже не пугалась этого, невозможного для нее прежде желания, но сдерживала себя и виду не показывала, как до дурноты тяжко ей встречаться с бывшей своей мачехой. Сдержалась она и теперь; стараясь говорить помягче, объяснила:
— С бутылью, да по другому делу. Трактор запускаем, надобно керосину полторы бочки. Вот хожу, собираю по домам…
Капитолина метнула на нее странный взгляд, накрутила последний пучок волос на жгутик и, похожая теперь головой на кудрявую овцу, молча пошла к печи, слила воду из таза в ведро, ногой с грохотом задвинула пустой таз под лавку.
— Нету у меня, — сказала она, как отрезала. Не оборачиваясь сунула в печурку мыло, заткнула тряпкой от посторонних глаз. Пригнула голову к жаркому челу печи и так, в согнутости, стояла, подсушивая волосы.
Васенка покосилась на ее тяжелый зад, с неожиданной для себя веселой дерзостью подумала: «Вот бы сейчас-то кнутом приложиться!» — но вслух сдержанно:
— Не для себя керосин-то.
— То-то и оно, — отозвалась от печи Капитолина. — На должность влезла, а ума для дома не хватает. Была блаженная, такой и осталась.
Капитолина не видела, как в добрых Васенкиных глазах засветился недобрый огонь, и, только услышав незнакомый ей прежде твердый голос, от неожиданности выпрямилась, едва не задев головой печь. Васенка, глядя из-под сдвинутых бровей ей в лицо, говорила:
— Керосин у тебя есть, Капитолина. И ты мне его дашь. Вот эту бутыль заполнишь и еще свою нальешь! — Васенка встала, не давая гневу излиться, прошлась по тесной горнице; словами ударяя в слабые места Капитолины, досказала:
— А не дашь то, что положено, не выйдет завтра трактор — придешь и впряжешься в борону рядом с другими бабами! Все тебе ясно? Вот у меня предписание райкома и лично Кирпичева. — Она вынула из кармана куртки, показала сложенную вчетверо пустяковую бумажку с нарядами за прошлый месяц. Васенка знала, как боится Капитолина потерять свое сытое место, доставшееся ей какими-то хитрыми ходами, с помощью самого председателя сельпо Кирпичева, и потому не сомневалась в том, что на этот раз Капитолина Христофоровна сдастся без боя. И в самом деле, Капитолина, потрясенная сразу всем: незнаемой прежде начальственной твердостью Васенки, участием в делах ее самого Кирпичева, ви́дением пахотной борозды, по которой ей, не дай бог, придется тащиться в конячьей упряжи, — будто прикипела к печи.
В кудельках закрученных волос, багрово освещенная с одной стороны огнем, она следила за руками Васенки, как загнанная в угол нашкодившая кошка.
Васенка подержала на виду бумажку, не спеша засунула обратно в карман, подняла, поставила на лавку бутыль.
— Так что наполняйте, Капитолина Христофоровна! Тратить на вас время больше не можно.
5
К Петраковым Васенка не хотела заходить: какой с них спрос за керосин, когда картошки и той в подполе не сыщешь — подобрали всю еще до мая. Нюра, однако, увидела ее с крыльца, в радости, стесняясь, позвала:
— Зайдите к нам, Васена Гавриловна!..
Нюра всего на годочек старше Зойки, но вытянулась чуть ли не вровень с самой Васенкой. Хоть и худа, и бледна, а глаза живые, и вся какая-то располагающая к себе, — недевичьей озабоченностью, что ли?
Нюра зазвала Васенку, стояла теперь перед ней потупившись, теребила рукав старенькой, от стирки потерявшей цвет, кофты.
— Ну что, светленькая! — ободрила ее Васенка. — Где краски-то на веснушки взяла?
— Ай, да ну их! Будто с берез сыплются, — в сердцах отмахнулась от своей горести Нюра, не поднимая на Васенку глаз, едва слышно выдохнула: — От Вити второе письмо нам…
Васенка видела, как закраснели мочки ее ушей, даже на бледных щеках проступили пятнышки радостного смущения, с материнской, грустной понятливостью подумала: «Вот и подросла невестушка для Вити. Да можно ли в общем-то горе о свадьбе мечтать?!»
— Что пишет-то? — спросила, припоминая, что им с Зойкой братик прислал только одно, совсем коротенькое письмишко, и то давно, сразу как призвали его в город.
— Отписал, что все ладно! В слесари-сборщики поставили. Моторы собирает. Для танков, надо понимать. А вот про тягости — ни словечка! Такой он — про плохое разве напишет!
«Да, он такой!» — подумала Васенка, облегчаясь мыслью, что и у братика наконец что-то налаживается в жизни. И, не подумав, спросила:
— Письмо-то дашь поглядеть?
Сказала и запереживала за милую ей девушку — в такую неловкость поставила! Нюра не осиливала поднять глаза, руки ее метались у ворота кофты.
— Там, Васена Гавриловна, стихи… Ну, понимаете?.. — пролепетала она. — Нужное-то я сказала…
Васенка привлекла к себе девушку, успокоила:
— Понимаю, все понимаю, светленькая. Главное, что у Вити все ладно. Это — главное, Аннушка!
— Я тоже так мечтаю. Вот честное слово! — Нюра оживилась, и Васенке радостно было от ее маленькой, ну, совсем маленькой радости. «А может, и не маленькой?» — подумала Васенка, входя вслед за Нюрой в-дом.
Маруся, всегда шумливая, раздраженная голодностью и заботами, на этот раз встретила ее по-тихому, даже какой-то испуганной улыбкой. Ополоснув в корыте руки, суетно вытерла их о подол, шагнула было к лавке, но подломилась в пояснице, охнула, ухватилась за бок.
— Вота где твоя пахота! — Она жалобно смотрела, ждала, что Васенка сейчас выговорит ей за то, что надумала домовничать не по времени, и тут же, в своей жалобности, с беспокойством взглядывала на Нюрку, стараясь угадать, не худой ли разговор был у них на крыльце, — о письме она знала, и надеялась, и страшилась за возможное счастье. По улыбчивости Васенки, по светлому лицу дочки углядела лад и враз успокоилась, опустилась на лавку, кинула на колени маленькие сухие руки.
— Что, опять на пашню тащиться? — справилась в сей минутной покорной готовности подняться, снова впрячься в бурлацкую вожжу.
И Васенка, глядя на нее, вдруг подумала, что за эту вот всегдашнюю ее готовность к любому надобному делу прощает ей все, как простила прошлым летом карманы, набитые еще не отвеянным зерном. Она знала, чем грозит это Марии, только и сказала, очутившись перед страшным для Семигорья случаем, суровостью скрепив готовое сорваться в жалость сердце: «Вернись, Мария, на ток. И сама — слышишь? — сама, до зернышка, обратно, в общую кучу…»
Васенка старалась не помнить про тот случай, сейчас ненароком вспомнила, и, видать, не к добру: заметила на сдвинутом в угол, затертом половике меньшую из Петраковых — большеголовую, плохо растущую Верку, с торопливостью отгрызающую от куска, цепко зажатого обеими ручонками; по-зверушачьи настороженно Верка глянула и тут же опять припала к куску. Васенка видела наметанным глазом, что лепеха, которую с такой жадностью изгрызала меньшая из Петраковых, спечена почти из чистой муки, и, чувствуя, как в новой жгучей догадке останавливается, будто спицей проколотое, ее измученное терпеливостью сердце, подумала: «Не хватит у меня добра. На всех не хватит. Не сдюжит сердце. Господи, зло уже в сердце идет!»
Наверное, она побледнела и пошатнулась. И Маруся увидела ее лицо и то, что она пошатнулась, увидела, и взгляд ее, полный отчаяния, боли и гнева, и пронзительный крик ее, все понявшей, был страшен:
— Нет! Нет! Нет! — Маруся кричала, оборотив кверху, к Васенке, маленькое остроносое лицо, выставив перед собой худые до прозрачности руки. — Нет! Ни зернышка, ни былиночки не брато!.. Нюрка с Валькой, они, они выручатели! На старых остожьях, в мышиных норах нашарили колосков. С полбадьи нагребли! Дали ржаного духу нюхнуть. А ты!..— Маруся упала головой на стол, затряслась в плаче. Нюра глядела на Васенку не виноватясь, может быть, впервые за свои семнадцать лет осуждала она Васенку взглядом.
— Правду мама говорит,— тихо сказала Нюра.
И Васенка расслабилась духом, сама молча заплакала, подошла, села рядом с Марусей, мягким, успокаивающим движением обняла. Она всегда сострадала Марусе-матери, этой невысоконькой, как подросточек, худенькой женщине, в вечной хлопотне добывающей себе и деткам право на любовь и жизнь. Благородство конюха Василия Ивановича, который так просто, по доброй воле вошел в неустроенную петраковскую семью отцом и хозяином, потрясло ее. И было, было! — зайдясь однажды в тоске от грубости Леонида Ивановича, она позавидовала непутевой Марусе за то счастье, что в спокойной убежденности принес ей конюх Василий Иванович Гожев. И знала Васенка: случится, сгинет на войне Василий — Маруся в тот же день наложит на себя руки. И никто, ничто не остановит ее! Сразу, от одной смерти, добавится на земле пятеро круглых сирот, потому что вся их опора, вся вера, надежда — он, Василий Иванович — муж, хозяин, отец. Сейчас, в мыслях казня себя за нанесенную в торопливости обиду, она в жалости гладила жесткое, казалось, из одной только кости, плечо Маруси, утешая ее и себя, с обычной своей мягкостью говорила:
— К лучшему дело-то складывается, Марусенька. В который раз Женя выручает. Может, и впрямь обойдемся без бабьих сил и мук. И под времечко подгонимся… — Сказала она о тракторе, о заботе, которая повела по селу, и Маруся тут же отошла, тут же закипела общим делом, как чугун с водой у огня. Всегда у нее так: подхватит слово и пойдет катить, не зная останову! Углядела она непорядок и в Васенкином деле и тут же определила виноватого. Поворотилась к Нюре, привскакивая на лавке, размахивая в нетерпеливости руками, заголосила:
— Ты-то, тихоня, с чего бездельничаешь?! Вота, колхозный комсомол, — одно название! Председатель с бутылью по миру ходит, а тебе не в догадку девок собрать! Васек Обухов был бы — хвосты бы вам накрутил. Накрутил бы! Ишь, заступила его место, а чему выучилась? Речи на собрании кричать?! А ну, крутись, бессовестная. И живо чтоб!..
Нюра ни с какого боку не чувствовала себя виноватой, широко раскрыв большие глаза, в удивлении спрашивала:
— О чем ты, мама? О чем?
— Как о чем? Бери вон бутыль да с девками по селу. Не председателево это дело по домам обираться!
Маруся уронила на колени руки, с видом человека, утвердившего наконец-то должный порядок, умолкла.
Нюра поглядывала на Васенку, пожимала плечами, бледные ее губы еще берегли невинную улыбку.
— Васена Гавриловна, но я только узнала! Зараньше бы сказали, мы б за утро сделали.
— И теперь не ночь! — вставила свое быстрое слово Маруся.
Васенка рассмеялась: усердие старших Петраковых было до радости трогательным. Стараясь не уронить в достоинстве Марусю, она сказала:
— А что, Нюра, дело-то и впрямь для вас.
— Да разве мы хоронимся?! Это вот мама, ей только бы ругать. А вы-то, Васена Гавриловна!.. Сейчас вот своих девчонок да мальчишек соберу. И в Починок, и на Хутор сбегаем! Вот только говорить-то как? Давайте, мол, керосин, и все? Или как-то умеючи, что ли?..
Васенка улыбнулась.
— Умеючи, Нюра. Кто от Доброго сердца да понимания свой последний припас отдает, тому низкий поклон. Ну, а кто про совесть забыл, на того и речей не трать! К тем сама потом схожу. В глаза погляжу.
6
К вечеру Васенка оказалась за Нёмдой, в бывшем лесхозовском, теперь леспромхозовском поселке, все с той же своей неотложной заботой. Нюра с девчонками, к ее радости, наносили с полбочки керосина. Женя, нагрузившись двумя ведерными бидонами, уже ушла в МТС перегонять трактор к полю. А Васенка, в уме прикидывая невспаханные гектары, все не могла успокоиться — по запасу никак не выходило тех литров, что были надобны.
В бараках повидала семигорцев, которые отбывали трудовую повинность на зимних лесозаготовках, теперь торопились довершить сплав, чтобы успеть вернуться к земле; многого они не насулили, да и не могли при всем желании: «Вот придем, в бороны впряжемся. А керосину — вон разве из лампы слить…»
Пораздумав, Васенка постучалась в дом Поляниных. Елена Васильевна вечеряла одна и выказала ей такую радость, что Васенка даже в нынешнем своем почетном положении застеснялась корыстного своего прихода.
Елена Васильевна на керосинке разогрела чайник, достала с самодельной полки, прибитой над узкой железной кроватью, наверное, рукой самого Ивана Петровича, весь припас сладостей. Припас уместился на блюдечке — четыре розовых карамельки, два куска сахара, три квадратных, фабричной выпечки печенины.
— Видите, что у нас есть? Паек Ивана Петровича выручает! — сказала она с заметной гордостью к тому богатству, что оказалось на столе. — Иван Петрович на сплаве. А я вот с бухгалтерией. Нужда появилась, пришлось и бухгалтерию освоить. Вы пейте, Васенушка! Леонид Иванович пишет ли?
Васенка от слов Елены Васильевны притемнилась лицом, взгляд ее скользнул в сторону, остановился на окне, еще освещенном слабым закатным светом, в горестной раздумчивости, с видимой неохотой она ответила:
— С дороги весть подал. А больше ничего. Ни письма, ни похоронки.
Елена Васильевна чутко уловила в голосе и в словах Васенки что-то похожее на отчужденность к Леониду Ивановичу; свои давнишние мысли о талантливости Васенки, поистине непостижимой ее красоте и доброте она помнила и теперь, слушая ее, думала, удовлетворенная своей проницательностью: «Все-таки я была права: талант, одухотворенность и бездуховность грубой силы несовместимы в жизни!»
— Не надобно о том, Елена Васильевна, — попросила Васенка. — Лучше про Алешу скажите…
Про Алешу Елена Васильевна могла говорить бесконечно; даже по ночам она переговаривалась с Иваном Петровичем, то растравливая, то успокаивая себя полуночным тихим разговором. От Алеши сейчас шли успокаивающие письма. Часть их недавно вывели из боев, стояли они на реке Угре, под известной Елене Васильевне Знаменкой. И то, что Алеше выпала судьба воевать именно под Знаменкой, откуда пошел весь ее род — и отец и мама, — особенно ее волновало. В войну, в лихие годины, люди не могли без веры, своя вера была и у Елены Васильевны. И в том, что фронтовые дороги привели Алешу на землю ее предков, мнилось ей знамение в благополучном для Алеши исходе войны. Перед Васенкой Елена Васильевна не таилась, говорила про все, что думала, что чувствовала. Васенка слушала ее, сопереживала ее волнениям, надеждам, а глаза ее туманились от своей вдовьей одинокости, которую почему-то особенно чувствовала она ныне, по бурной весне. Как-то неожиданно подумалось, что все заботы ее о земле, бабах, их детишках, об эвакуированных ленинградцах, которых доныне расселяли в деревнях по обеим сторонам Волги, хлопоты вот об этих литрах горючего, которые привели ее и в дом к Елене Васильевне, что всё ее заботное житейское поле, которое она так старается охватить глазом и своей душевной силой, — есть ли это то самое важное, что надобно ей самой?! Вот близкая ее сердцу Елена Васильевна. Хоть и в леспромхозовском доме, думала Васенка, а угол все же свой, прочный. И работа при ней. И заботы велики ли? Ивана Петровича встретить да сыночка с войны дождаться. А у меня? Ни дома, ни хозяина. Лариска с утра без глаза. Будто сирота! И заботы, заботы, свои и чужие, — все на мне! Будто некому и печься о колхозной жизни! Столь годов прожила, и все не своей волей. Всё в услужении, всё в покорности: перед батей, перед Капкой, перед Леонидом Ивановичем. Теперь перед всем селом! Что я за человечинка такая, которой тащить за собой и борону, и чужие судьбы?! Самой-то много ли надо? Обеим с Лариской ломоть хлеба на день, кружку молока да пяток картошин. Помогала бы по надобности, как все другие. Время бы сыскала, чтоб с Лариской да Рыжиком походить у Туношны, поглядеть на синих стрекоз, живой водой налюбоваться… И с Дорой до душевной надрывности не объяснялась бы. И этот, будь он неладен, керосин сердце б не мотал! Слила бы в бочку тот жбанчик последний и ждала бы смирнехонько, пока добрая Женя поле вспашет…
Никогда прежде такие мысли не являлись Васенке. Что ни случалось, все принимала, все благословляла она в своей доброте. И хотя душа порой рвалась от боли, от чужого зла, — все было ей ладно уже тем, что было. А теперь вдруг что-то сорвалось в душе. Устала, видать, устала в не своих заботах! Что-то, незнакомое прежде, явилось в ее мысли, и Васенка ужаснулась тому, что надумалось ей под доверчивую речь Елены Васильевны. Ужаснулась сама себе, тому, что может оказаться другой — недоброй, и в зависти.
Ладонями Васенка провела по захолодевшему от дурных мыслей лицу, подобрала упавшие к щекам прядки волос, вздохнула трудно. И вышло так, что трудным своим вздохом она как бы посочувствовала ожиданиям и надеждам Елены Васильевны. По крайней мере, Елена Васильевна так поняла ее трудный вздох и, принимая ее сочувствие, в неушедшей еще разволнованности чувств старательно разглаживая перед собой старенькую, пообтертую на углах клеенку, тоже со вздохом проговорила:
— Да, вот так: даем жизнь детям, чтобы потом всю жизнь тревожиться за них! И Лариска ваша растет. Сколько еще с ней беспокойств впереди!
Васенка будто ухватилась за память о Лариске, с ожившей тревожностью подумала: «Ведь с утра одни с Рыжиком в доме! Ни Жени, ни меня!» Поднялась, стоя у стола, молча застегивала пуговицы на куртке. В прозрачных весенних сумерках, проникавших в комнату, светлело ее лицо, кисти сдержанно двигающихся рук.
Елена Васильевна даже растерялась от торопливости Васенки, прижала к груди руки, испуганно спросила:
— Уж не обидела ли я вас, Васена?!
— Что вы, Елена Васильевна, какие обиды! Забот много. А ведь я к вам по делу. Керосин собираю для трактора. Пахать надо, а без горючего напашешь ли? — Васенка говорила, как всегда, мягко, но внутренне напряглась, ждала, что ответит Елена Васильевна. Она не сомневалась в добром ее расположении к себе и вообще в доброте ее. Но одно дело — доброта от избытка, совсем другое — когда у тебя горсть сахара на месяц и последняя бутыль для керосинки!
Елена Васильевна колебалась какую-то минуту.
— Хорошо, Васена. Я сейчас отдам, что у нас есть. Только не торопитесь, пожалуйста! Сейчас свет дадут, мы и разберемся.
И действительно, в лампочке над столом закраснела нить, стала накаляться, наконец загорелось неярко, но комната осветилась.
«Доживем ли мы до такой благодати?» — с ревнивым чувством подумала Васенка; забота Ивана Петровича недолго радовала семигорцев: на второй день войны село отключили от электричества. Но лампочки в домах никто не снимал, все верили: война кончится, свет вернется.
Елена Васильевна, задетая самостоятельностью и неожиданной твердостью Васенки, вгляделась в ее лицо с новым, тревожащим ее чувством. В мягкости, покорности той Васенки, которую она знала, она всегда чувствовала что-то близкое ей самой; было даже как-то легче утешаться мыслью, что не одна она, но и Васенка, одухотворенная невесть откуда взявшимся талантом доброты, тоже жертва собственной покорности. И вдруг, вот сейчас, она почувствовала в Васенке нечто, не свойственное ей прежде. И в милом лице ее, в котором всегда читалась застенчивая готовность услужить, в лице, сейчас хорошо освещенном, увидела она иное, какую-то, обращенную не к ней, раздумчивость взгляда усталых глаз и совсем уже обидную неуступчивость в красивом складе потвердевших губ. Все это, незнаемое прежде, Елена Васильевна увидела вдруг, и горькое чувство человека, остающегося на дороге в одиночестве, легло ей на сердце. Горечи своей она не выдала, заторопилась, прошла в кухонку, из-под стола достала двухлитровый жбанчик с крышкой, поставила на плиту.
— Вот, Васена, все, что у нас есть. Почти полный. Иван Петрович, сами знаете, больше положенного ни капли не возьмет. Ну да ничего, чай да картошку можно на плите готовить! — Она сказала это с какой-то даже вызывающей веселостью, как будто дополнительные трудности военного быта ее уже не страшили, — ей не хотелось уступать в причастности к общим заботам. И когда Васенка, тронутая ее старанием, сказала с прежней мягкостью: «Сердце не велит брать, да надобность заставляет…», Елена Васильевна на какой-то миг полностью удовлетворилась ее словами. Васенка собралась уходить и жбанчик уже держала в руке, явился Иван Петрович. Боком перешагнул высокий порог, стащил фуражку с потной головы, сквозь очки, будто не узнавая, уставился на Васенку. Сейчас совсем он не был похож на городского человека, на известного всем «директора Ивана», как с уважением величали его между собой семигорцы. В лоснящихся грязью сапогах, в брезентовом плаще, на распахнутых полах которого, и на рукавах тоже, густо лепилась грязь, с небритостью по подбородку и низу щек, с колюче торчащими потными волосами, он был похож скорее на оплеснутого волной шкипера с проходящей баржи, чем на директора городского обличья, каким привыкла видеть его Васенка.
Елена Васильевна, глядя на мужа, всплеснула руками:
— Бог мой! Не иначе — глину месил!
— Хуже, матушка: Нёмду догонял! Вода уходит, плоты на берегу. Часть вывели, больше половины на мели.
Иван Петрович был возбужден, как всякий человек после азартной работы. Васенке, имевшей с ним дело, он был понятнее и даже как-то ближе в этой своей рабочей робе. Она с сочувствием глядела, как, топчась в углу, он скидывал с плеч тяжелый плащ, стаскивал с ног сапоги, не стесняясь ее присутствия. В своем возбуждении он забыл поздороваться, кинул мокрые портянки на сапоги и тут же громко, как будто был еще там, на берегу Нёмды, заговорил:
— Вот вы-то мне позарез нужны, Васена Гавриловна! Понимаете, какое дело. Если завтра не столкнем сплотки — на Волгу лес не выведем… Студентов институт подкинул, да надежда невелика — девчата не парни, ни опыта, ни силы. Мне бы на денек вашего Федора Носонова да еще бы двух старичков, что в прошлом на сплаве промышляли. Как, Васена Гавриловна?.. — Он остановился перед ней, нетерпеливый, с колюче торчащими, намокшими от пота волосами, смешной своим беспорядком в одежде и в то же время завлекающий азартом дела. Васенка понимала его, но, даже желая ему добра, не могла уйти от своих забот, с мягкой укоризной сказала:
— У нас же, Иван Петрович, все остатние мужики на севе!
— Знаю, — Иван Петрович прислонился к подоконнику, остывая от возбуждения, в задумчивости потер пальцами лоб. — Вся беда в том, что нет у нас сил задержать Нёмду! Упустим день — потеряем год.
— Но, Иван Петрович, у нас весенний-то день то же год кормит… — мягкостью голоса Васенка как бы старалась убедить Ивана Петровича в том, что его и ее дело — оба важны, что поделить между ними людей никак невозможно.
Иван Петрович нахмурился, пристукнул рукой по подоконнику, он, видно, не ожидал, что всегда уступчивый семигорский председатель вдруг откажет ему, да еще в крайней необходимости. Он хмуро смотрел на Васенку, думал, понимает ли она, что завтра райком заставит ее отдать ему всех оставшихся мужиков, и даже подростков, заставит, потому что приготовленный лес не может остаться на берегу, — лес нужен заводам, железным дорогам, нужен войне. Ее заставят отдать. «Но зачем же, — думал Иван Петрович, весь сосредоточиваясь на своей необходимости и оттого раздражаясь, — зачем вмешивать власть там, где нужно простое понимание?»
Васенка, будто не чувствуя его раздражения, стояла перед ним, заботливо удерживая в руке жбанчик, глядела ему в глаза с доброй улыбкой. Ни тени упрямства или какого-то там торжества не видел в ее лице Иван Петрович. Только чистый выпуклый ее лоб был напряжен важной для нее мыслью.
— Иван Петрович, — тихо сказала Васенка. — Вы знаете, что наши бабы на себе потащили вчера бороны?! Лошадьми, что остались, пахать не успеваем. А паханое-то разборонить надо, засеять, потом опять заборонить. Половину яровых сеем ныне вручную. Разве стариков с полей сымешь?.. Лес нужен. А хлеб?!
Елена Васильевна, наблюдавшая разговор, снова почувствовала в обычно стеснительной Васенке незнаемую прежде самостоятельность ума, какую-то особенную, смягченную ее добротой твердость и уже не с ревностью, но с молчаливым сочувствием женщины к женщине подумала, что Ивану Петровичу, наверное, придется уступить.
Иван Петрович пытался скрыть раздражение, сухо покашлял в кулак, бросил на Васенку быстрый, недобрый взгляд, отошел, стянул с печи валенки.
— Так, помочь, значит, не можете, — сказал, натягивая на ногу тесноватый валенок; хотел он того или не хотел, но в голосе его прозвучала скорее угроза, чем обида. Васенка улыбнулась спокойной улыбкой человека, уверенного в своей правоте, подождала, пока Иван Петрович справится с валенком, тихо сказала:
— Можем. И понять и помочь можем. Только хорошо ли, Иван Петрович, видеть свою беду и не видеть чужую?.. Вот о чем думается: у вас день в запасе, нам для управы надобно три. Помочь мы завтра вам соберем. А на другой день с нашими мужичками вы своих лошадей подошлете. Вывозка-то закончена, не все лошади у вас при деле? Так-то оба дела зараз решим. Вы бы не сплоховали, и мы бы с севом управились…
Иван Петрович, видимо, уже не ожидал ни понимания, ни участия; в растерянности кинул руку к лицу, сильно потер пальцами лоб, при этом старательно прикрыл ладонью очки, чтобы женщины не заметили размягчившей глаза расстроенности. «Нервишки, нервишки», — думал он и все тер лоб и заминал волосы, как будто досаждало ему невесть откуда взявшееся комарье.
— Что ж, это выход. Спасибо на доброй мысли, Васена Гавриловна, — сказал он с обычной своей хмурой деловитостью, и только Елена Васильевна услышала, как на последних словах голос его будто размылся прорвавшейся против воли теплотой.
«Вот тебе и Васенушка! — думала Елена Васильевна с тайной гордостью. — Ивана Петровича преклонила!»
Согретый добрым участием и уютным теплом, Иван Петрович глазами поискал чайник. Елена Васильевна поняла его взгляд, привычным движением обнажила фитили, зажгла керосинку, из ведра налила в чайник воды. Васенка проследила за движением ее рук, представила, как завтра Иван Петрович придет в такой же усталости, такой же озябший и ему придется еще принести дров, затопить плиту и, сидя на корточках перед дверцей, терпеливо ожидать чашки горячего чая, а утром понадобится опять растапливать плиту, и делать это он будет уже в торопливости, потому что ждать его будут дела и люди, — всё это до Точности представила Васенка и, поколебавшись, поставила жбанчик с керосином к печке.
— Не можу я, Елена Васильевна. Кто и обойдется, а вам в надобность, — сказала она и, готовая попрощаться, направилась к двери. Елена Васильевна с несвойственной ей живостью преградила путь.
— Нельзя так обижать нас, Васена! — сказала она с твердостью, которая редко проявлялась в ней в обычных ее отношениях с людьми. — Мы тоже едим хлеб и должны помочь вам. Хоть в малом…
Она взяла жбанчик, подала Васенке. Иван Петрович смотрел на них, не понимая.
— О чем спор?! — поинтересовался он. Елена Васильевна, не изменяя оскорбленного выражения лица, объяснила.
Иван Петрович нахмурился, прошелся по кухонке от окна до плиты. Этого малого расстояния хватило ему, чтобы обдумать вопрос и решить.
— Ох, женщины, — сказал он со вздохом. — Жбанчики, бутылочки… Трактор — не лампа на столе! — Он говорил сердито, он снова был в своей деловой стихии, и затея Васенки виделась ему игрой, ребячеством. — Вот что, Васена Гавриловна, утром пришлете подводу и отношение: колхоз просит отпустить на пахоту и так далее. От зимних запасов осталась у нас бочка керосина. Думаю, люди сумеют правильно взвесить вашу необходимость и наше временное неудобство. Не зима теперь. Словом, утром жду подводу… Разумеется, — он энергично взмахнул рукой, как будто отсекая сказанное прежде, — эта бочка горючего не имеет отношения к нашей договоренности по сплаву: четыре лошади мы вам выделим.
Васенка, по своей еще девичьей привычке склонив к плечу голову, смотрела на Ивана Петровича растроганно, Елене Васильевне показалось, даже любовно.
Стараясь разрушить это неприятное ей благодарное молчание, она тронула Васенкины пальцы, вложила в них деревянную ручку жбанчика. Васенка перевела на нее свой мягкий взгляд.
— Нет. Елена Васильевна, теперь-то уж точно не возьму. Ваш пай вон какой!
— Не возьмете — навек обижусь! — рассердилась Елена Васильевна, и Иван Петрович с решительностью ее поддержал:
— Не путайте, Васена Гавриловна! Леспромхоз вносит в пахоту свой пай, мы — свой.
Когда Васенка ушла, все-таки забрав с собой жбанчик, Иван Петрович постоял у окна в задумчивости, сказал не то Елене Васильевне, не то себе:
— А не проста эта Васенушка. Не проста!
Почему-то вдруг вспомнился ему Иван Митрофанович Обухов, по-отцовски опекавший Васенку до последнего часа своей так неожиданно закончившейся жизни, снова подумал о Васенке и, не найдя других слов для выражения своих мыслей о ней, пристукнул пальцами по задребезжавшему стеклу.
7
— Ну, Васка, погодка не иначе тобой заказана! Сегодня отпашу последний клин, и можешь рапорт самому Сталину писать. — Женя облизала пообхватанную зубами деревянную ложку, бросила в пустую сковородку, важно поднялась, встала у печи, заправляя кофту в залосненные сатиновые шаровары. Васенка, убирая со стола, сдерживала улыбку, старалась на Женю не глядеть, чтобы нечаянным взглядом не порушить ее важной стати.
Второй день Женю не узнать: будто вернулась в довоенную пору. Когда она появилась у села на пыхающем дымом, рыжем от ржавчины, но родном своем колеснике, да еще в нарочно отстиранной с вечера красной косынке, когда трактор вкатился на поле и плуг врезался в залежалую, непокорную рукам землю, столько торжества силы было в ее лице, что не только ребятня, бабы не выдержали — завопили, ринулись вслед за трактором, как когда-то за первым, еще в тридцатом. Красивой гляделась Женя в этой своей рабочей жадности, весь день красивой, даже тогда, когда с закатом солнца пришла в дом серая от пыли, насевшей от перевороченной земли, не в силах разогнуть перетомленную спину. И сейчас, на утреннем свету, она, как и вчера, была до завидности приглядна нетерпеливым ожиданием важного дела. И в том, как надела она рабочую куртку и с медлительным удовольствием повязала голову кумачовой косынкой, было тоже предвкушение радости и какая-то особая, не бабья, рабочая красота. Не только Васенка, но и Лариска, свесив свои тонкие ножки, водя пальчиком по скамье, смотрела на Женю зачарованно, и Рыжик, что-то уж очень медленно отходивший от недетской сиротской угрюмости, тоже смотрел на свою названную мать с тихим восхищением, как будто только теперь увидал, какая она у него необычная и сильная!
— Ну, загляделись — не икона, — вдруг засмущалась Женя, пригнулась к окну, еще раз убедилась, что трактор стоит у палисада, подмигнула Васенке, взглядом обласкала Рыжика и, уже не в силах сдержать нетерпение, выбежала на волю.
К полю, на котором Женя работала, Васенка пришла уже по низкому солнышку, после дневных хлопот. Женя добирала Заозерский клин, за плугом, ныряя под пыльное облако, тащилась тяжелая железная борона; на остатней, узкой, еще не запаханной полосе поля грудились бабы, белея косынками, а кое-кто и кофтами и босыми ногами, благо — снизошла на землю настоящая летняя теплынь. Задиристый стукоток трактора услышала Васенка еще с проселочной дороги, и так ясно прослушивался он в теплом завечеревшем воздухе, что она даже приостановилась. Война стянула все моторы туда, где Красная Армия билась с врагом; поля давно попритихли; даже в страду они были тихи, носился над ними лишь птичий посвист да бабьи крики. С этой пустой тишиной как-то уже свыклись и ухо и душа, и ворвавшееся теперь в устоявшуюся тишину живое тракторное говоренье было как радость возвращенного довоенного дня. Даже чем-то большим был сейчас для Васенки этот отчетливый голос работающего трактора: был и памятью, и ожиданием, теперь уже верным ожиданием другой поры, когда на семигорскую землю вернутся сила и надежность, отозванные в другие края войной.
Васенка шла к бабам, тоже, видно, обрадевшим от моторного гуда и ожидавшим, когда Женя допашет последнюю полосу. Все были в возбуждении, и, когда что-то звякнуло утробным звуком, и натужный четкий стукоток вдруг оборвался, и трактор осел в землю большими железными колесами, бабы без команды, дружно, ринулись на пашню. Плохо понимая, почему Женя остановилась, они, как муравьи, с трех сторон облепили трактор, на все голоса крича:
— Давай, Женя, жми! Помогаем!..
В старании они тужились, пока Женя не встала над ними, не закричала сиплым, давно сорванным голосом:
— Да что вы, бабы, очумели?! Этакую силу сдвинуть!.. — Завидев подходившую Васенку, сорвала с головы косынку, хлестнула запальчиво по колену, завинилась криком: —Всё, Васка! Напрочь встал мой Сивка — нутро у его порвало!
В наступившей тишине Васенка слышала, как булькает в горячем моторе вода. Потом услышала жаворонка в чистом закатном небе, увидела испуганные глаза баб. И, зная, что пугаться уже нечего, сказала, успокаивая:
— Всё, бабоньки. Ты, Женя, сделала больше, чем нам мечталось. Слезай-ка к нам, боевая наша подружка, поклонюсь тебе!
Женя вытирала косынкой лицо, слушала необычные слова, недоверчиво косилась на Васенку, спросила для верности:
— А трактор? Не осилим с поля стащить.
— А надобно ли? Здесь, в борозде, и побудет. И борону с лямками рядом поставим. Мужики придут, пусть видют, каково нам без них-то было!
Так сказала Васенка, а про себя — то ли от жаворонка, слышного в небе, то ли от счастливой веры, ныне вошедшей в ее сердце, не пугаясь греха, подумала: «Не кому другому — тебе, Макарушка, придется убирать эту память. А прежде наглядишься да еще и повинишься за то, что так долго по чужим краям ходил!»
ГЛАВА СЕДЬМАЯ К фронту
1
Придерживаясь за прохладный поручень, Алеша слегка присел, выискал глазами удобное место, прыгнул с высокой, закиданной окурками подножки вагона. Свежая, еще рыхлая, насыпь осела под ногами, он съехал вместе с шуршащей галькой вниз по откосу, но удержался, не упал; стряхнул с кирзовых сапог камушки, потопал, сбивая с них песок и пыль. Он был доволен, что спрыгнул ловко и красиво и хорошо удержался на крутом откосе. И не мог уйти от ощущения, что с этой минуты, когда он вышел из вагона и вдохнул вот этот необычный, пахнущий войной воздух, на нем остановились чьи-то глаза. Это не были глаза какого-то одного человека: ни генерала, ни солдата, ни той вон красивой девушки в гимнастерке и узкой юбке, не совсем ловко спрыгнувшей с подножки на землю. Нет, глаза эти были знакомы ему и прежде. Они присматривали за ним, когда он ходил еще в школу и уютно жил за спиной отца и матери; присматривали, правда, не всегда, и не за всеми его делами и мыслями, и не так чтобы очень уж строго. Но все-таки присматривали, и заставляли думать, и удерживали от недостойных поступков. Знакомые эти глаза смотрели на него и теперь, но не так, как раньше. Теперь они следили за каждым его движением, следили внимательно, непрощающе, и Алеша чувствовал их пристальный взгляд на себе. Он знал, что глаза эти видели, как ступил он на землю фронта, стараясь выглядеть красивым, и ловким, и чуточку небрежным, и осудили его за то, что он старался выглядеть, а не быть. Он это понял и смутился. И, уже не красуясь, просто следуя выработанной в училище привычке, поправил на еще не отросших волосах пилотку, загнал складки гимнастерки под ремень; однако лямки солдатского мешка надеть на плечи постеснялся, прихватил, как носят чемодан, и пошел к остаткам вокзала, куда двигалась от стареньких пригородных вагонов короткого фронтового поезда толпа военных людей.
Вдоль насыпи, навстречу им, шел человек в черной куртке железнодорожника, негромко выкрикивал, видно, свое привычное: «Вылезай!.. Все, все вылезай! Пути дальше нет!..»
Алеша, отделясь от толпы, прошел дальше беспокойно пускающего пары паровоза. Ожидающий взгляд его словно наткнулся на сдвинутую вбок насыпь, вздыбленный кверху рельс, с которого черным фонарем свисал обломок шпалы, на разметанные бомбами бревенчатые клети моста. Густой, уже осевший в речную впадину дым подбирал под себя обвалившиеся берега; из впадины наносило незнакомым, настораживающим запахом, и Алеша непонятно возбудился и видом разбитого моста, и незнакомо пахнущим из оврага дымом. Взгляд его охватил скелеты опрокинутых под насыпь, обугленных вагонов, заваленную битым кирпичом платформу, полустены без крыш, на которых синяя штукатурка гляделась разбитыми зеркалами, трубы обваленных печей поодаль, за привокзальной площадью, среди искалеченных деревьев, и каждой своей клеточкой, каждой пульсирующей жилкой ощутил жестокую силу, которая совсем недавно, перед тем как вступил он на эту землю, гуляла здесь. И наперекор тому, что видел, что ощущал в опасной близости этой силы, подумал со странным для такой минуты облегчением: «Ну вот, наконец-то я на фронте!..»
Старшой, с которым Алеша ехал из резерва Западного фронта, разыскал его среди поредевшей толпы военных, сказал желчно:
— До города теперь топать! Без этой самой военной власти ни хрена тут не найдешь…
Алеша, как будто не чувствуя досады старшого, счел нужным сообщить:
— Видели? Мост разбомбили!
Старшой как-то странно посмотрел, задавливая в себя обидное для Алеши слово, потер ладонью длинную свою шею, сказал миролюбиво:
— Пошли… — Он возвращался на фронт из госпиталя, и было ему не до Алешиных чувств.
Перед небольшим, почти безлюдным городком с каменными, деревянными, в большинстве порушенными домиками пересекла им путь текущая внизу широкого оврага по россыпям гальки быстрая речушка. Старшой, спускаясь по тропке в овраг, обронил:
— Вазуза… — и, берясь за шаткие перильца узкого, временного мосточка, равнодушно, как показалось Алеше, кивнул направо: — А там — Волга…
Алеша будто споткнулся, загородил собой проход на мостик, глядя то на старшого, то в конец оврага, куда стекала речушка, волнуясь и не веря, переспрашивал:
— Не может быть! Откуда! Это правда?.. Волга и — здесь, на фронте?
Старшой шумно продул свои широкие ноздри, опять, как на вокзале, крепко потер когда-то загорелую, теперь побледневшую от бессолнечной госпитальной жизни шею, промычал что-то, будто от зубной боли.
— Вот что, — сказал он измученно. — Покантуйся здесь часок. Сам схожу, узнаю…
Осчастливленный подаренным ему часом, Алеша накинул на плечо лямки пустого солдатского мешка, побежал вдоль речушки к желтеющему песком бугру, над которым белыми всплесками взмывали и падали чайки. С бугра увидел сильную зеленовато-мутную воду, уходящую в темную сжатость береговых лесов, и, уже зная, что это — Волга, впрыгнул на широкий валун, у крутого лба которого урчали перевитые струи воды, сел, взглядом впился в даль уходящей реки, как будто ждал, что раздвинутся сейчас берега и увидит он отсюда, с прифронтовой земли, родную вольную ширь той, своей, привычной ему Волги. Вода омывала гранитный валун, растягивала, колыхала темно-зеленые волосы лепившихся к камню водорослей, и сознание того, что та самая вода, в холодных струях которой он держал сейчас свои ладони, пройдет неминуемо в какой-то день и час под крутой горой на виду Семигорья, волновало, озабочивало еще неясной ему возможностью.
Загоревшись этой возможностью, он перепрыгнул обратно на берег, пошел быстро вдоль воды в нетерпеливой надежде найти необходимую ему вещь. И — бывает же так! — наткнулся в ручье, вытекающем из ближнего распадка, на замытую в песок бутылку. Увидел косо торчащее темное горлышко и едва поверил ниспосланной ему удаче, когда откопал и вытащил из глубины сырого песка совершенно сохранившуюся бутылку. Из подходящего сучка смастерив и заскоблив ножичком плотную пробку, он вырвал лист из заветного блокнотика, маленьким карандашиком, которым запасся еще в училище, нацелился в бумагу. Подумал: но — кому? Кому пошлет он из тысячеверстной дали свой невероятный привет? Отцу, маме? Но разве дойдет до них, озабоченных буднями и делами, нежданная эта бутылка?! Лучше, конечно, Ниночке. Да, Ниночке. Пусть узнает, что и на фронте она с ним!.. Он прочертил первую букву и тут же ясно осознал, что бутылка в руки Ниночке не попадет. И не потому, что такая его записка была бы ей неприятна, — потому, что Ниночка, увидев плывущую мимо, зовущую к себе высокой деревянной пробкой бутылку, сочтет неприличным вынуть ее из реки, неприличным, даже если бутылка будет у самых ее ног. Он подумал так и, зная, что подумал верно, в огорчении хотел смять листок. И вспомнил о Зойке. Вот уж кто не пропустит романтическую бутылку! Вот кто, едва завидев плывущее необычное послание, бросится в Волгу хоть в непогодь!..
Тут же, уже не раздумывая, Алеша написал:
«Зоинька! Шлю привет тебе командирский с фронта. Скоро начнутся бои. Будем биться до победы. Поклоны маме, отцу, Васенке. Алешка».
Как можно плотнее он закупорил бутылку, уже отвел руку, чтобы бросить подальше, и вдруг тень легла на берег и воду, блеск солнца потускнел на стекле. Он задержал руку, оглянулся: на крутизне склона стояла девушка, та самая красивая, аккуратная девушка в командирской портупее, которая неловко спрыгнула с поезда вслед за ним и которой он хотел и не посмел помочь.
— Бутылки бросают от отчаяния, — тихо сказала девушка; ее внимательные глаза на странно неподвижном лице не скрывали усмешки, и Алеша смутился, какое-то время держал бутылку, как бы взвешивая ее на руке, потом размахнулся и все-таки бросил далеко в текучую воду, как, бывало, бросал на учениях гранату.
— Бутылки бросают не только от отчаяния. Бросают их еще и с надеждой! — ответил он наперекор своему смущению.
— Если с надеждой — это хорошо, — так же тихо сказала девушка. — Вот когда уже нет надежды… — Она медленно пошла вдоль берега; от ручья повернула обратно, снова пошла к ручью. Похоже, она, как и Алеша, кого-то ждала.
Когда появился старшой, девушка подошла.
— Если не ошибаюсь, вы — медики? — сказала она, выпуклые спокойные ее глаза смотрели на старшого устало и чуть насмешливо. Была она в звании старшины, но достоинство, с которым она держалась, шло не от звания, а от какой-то внутренней ее силы, чему Алеша всегда и безнадежно завидовал. Командирская форма, гвардейский значок над выпуклостью груди, пилотка, со вкусом пристроенная в густых темных волосах, только подчеркивали красивое достоинство девушки. И Алеша тотчас пожалел, что военная судьба сделала его медиком. Но старшой с неожиданной улыбкой на хмуром лице подтвердил: «Точно, медики!..» — развел плечи, одернул гимнастерку, стал как будто еще выше.
— Если вам нужен штаб двадцатый, то нам по пути, — сказала девушка без обычной в таких случаях радости. Ее матово-бледное, без тени волнения, лицо не менялось в разговоре, только в заметно выпуклых, влажно поблескивающих глазах, которыми она спокойно смотрела то на Алешу, то на старшого, было какое-то печальное, как будто угасающее, тепло. Восхищенный взгляд Алеши она, видимо, заметила и первый раз улыбнулась странной короткой улыбкой, которая тронула лишь правую половину ее лица.
— Ну что же, надо идти! — сказала девушка; она как будто почувствовала, что теперь к ней перешло право руководить стоящими перед ней такими разными и такими одинаковыми мужчинами в форме военных командиров, и первая начала подниматься в гору.
2
Шли они пустынной проселочной дорогой, через поля и легкие, еще зеленые, пятнистые от солнца рощи. Старшой разговорился, шел впереди, рядом с девушкой, энергично размахивал рукой; потертая кирзовая сумка, низко висевшая на его боку, тяжело постукивала по бедру; в увлечении он не замечал этой походной неловкости.
Земля, по которой они шли, была полосой недавнего наступления, когда после зимней победы под Москвой войска Центрального фронта, собравшись с силой, еще даванули немца, отогнали под самый Ржев и здесь пока остановились, довольствуясь одержанной победой, приводя себя в порядок, сбираясь с новой силой. Если бы не тяжелые дела на юге, под Сталинградом, эта победа была бы совсем хороша, потому что это была первая летняя победа, которая о многом говорила всем, и прежде всего о будущих возможных победах и зимой и летом. Война в каком-то своем мгновении лишь перекатилась через этот заросший травой проселок, не коснулась ни лесов вокруг, ни полей. Впервые после строгих стен училища и цепких, сковывающих взглядов командиров Алеша чувствовал себя свободным, как в недавней юности. Из юности, казалось, выходила и сама дорога и шла, как в Семигорье, под косогор, полями, туда, вниз, к нёмденским перелескам. И шум листвы над дорогой, сухой шелест выстоявшейся ржи, и говор скрытого в елошнике ручья, бегущего обочь дороги, и запахи нагретой солнцем придорожной незатоптанной травы — все повторялось, все было, как помнилось, и Алеша всей своей памятью прожитой жизни призывал сюда, на смоленский проселок, незаботную, улыбчивую свою юность. Воля освежила его, он едва ли не трепетал, как лист, промытый летним дождем, и радовался, и, не умея выразить то, что было в нем, тихо напевал слышанную в Семигорье песенку:
По камушку, по камушку ручей в лесу бежал…Он снова был свободен, он мог остановиться, шагнуть вправо, влево, пойти назад и еще раз полюбоваться той березой, с раздвоенным стволом, которая вон там, за ручьем, отшельницей стояла среди поля, не приминая хлебов, стояла с прядью ранней желтизны и отобранным у солнца светом белого ствола. Он мог испить чистой воды из ручья, уронить с куста на ладонь лиловую ягоду-малину, прижать послушным языком к зубам и раздавить, чувствуя, как бежит от скул на раздраженный сладостью язык торопливая слюна. Он мог бы еще и завтра бродить по этим светлым, распахнутым в поля лесам, потому что никто, ни устно, ни в документах, не указал ему срок прибытия в штаб армии. Он мог бы до завтра, до послезавтра пробыть вон в той деревне, целые крыши которой виднелись за полями, стеснительно и душевно поговорить с невоенными людьми, поуспокоить их своей верой в скорую победу. И вообще, он мог бы многое позволить себе в этом ниспосланном приволье, если бы не длинный, суховатый старшой, который держал у себя карту и знал, куда и зачем им следует идти. Старшой, все время маячивший впереди, рядом с девушкой, не то чтобы портил, но как-то притемнял солнечную радость дня, и Алеша должен был все время видеть его высокую, покачивающуюся фигуру, чтобы не затеряться в пути, и эта его зависимость от совершенно незнакомого человека вызывала временами досаду. Он думал, что, если бы не этот, подвернувшийся в резерве фронта старший военфельдшер, с которым на пару дней связала их судьба, он мог бы идти по этим лесам в вольном одиночестве, а может быть, и не в одиночестве, может быть, вот так же, рядом с красивой неулыбчивой девушкой…
Война притихла, таилась где-то там, за лесами; тишина, совсем мирная, как будто шла вместе с ним. И чувствовал себя Алеша почти счастливым. Он как будто забыл, что его судьба и судьба каждого из многих миллионов людей, составляющих Россию, была давно расписана по фронтам, по заводам, по селам, речным и железным дорогам, расписана и привязана к неотступным нуждам войны, к той общей необходимости, которая с первых дней лихих для страны годин была наречена словами «фронт» и «победа».
Дорога по овражку спустилась вниз, расширилась, ушла под мелкую, прозрачную, струящуюся по гальке воду; за ручьем, взбираясь на бугор, дорога снова обсыхала, светлела на солнце давно не езженными колеями. Старшой, стоя в воде, по валунам переводил девушку на другой берег. Алеша прошел ниже; там, где русло сужалось, он мог бы, хорошо разбежавшись, перепрыгнуть через него. Но ощущение вольности вернуло ему задор юности. Он приглядел тонкую, склоненную к ручью березу, быстро вскарабкался по стволу, как по шесту, и, цепко держась руками за вершину, бросил тело к ручью. В детстве, с мальчишками, подобные фокусы они проделывали бессчетно, и на этот раз ему все удалось: береза, клонясь под его тяжестью, плавно перенесла его на другой берег. Ноги почувствовали землю, он отпустил гибкую вершину и стряхнул березовую пыльцу с рук; нагнулся, чтобы почистить штаны на коленях, и тут услышал донесшийся сквозь елошник, отгораживающий его от дороги, глуховатый голос девушки.
— Он все еще играет!
Алеша понял, что прыжок его видели и слова эти — про него, и притаился, мысленно оспаривая девушку и старшого, наверное согласного с ней, подумал с обидой: «Ладно, ладно! Пока я для вас мальчишка. Посмотрим, что будет после боя!..»
Его привлек непонятный блеск в елошнике, он подошел, в изумлении замер: на мятой плащ-палатке отсвечивала свежей латунью россыпь нестреляных винтовочных патронов. Сотни! Гора новеньких боевых патронов! Закладывай в винтовку и — пали, пали без счета! Железными короткими ручками вверх торчали из россыпи патронов гранаты. Все четыре угла плащ-палатки были закручены в жгуты; кто-то, завязав припасы в узел, тащил их, задыхаясь, к тем, кто был в бою, почему-то уронил здесь, у ручья. Может быть, пуля достала солдата? Может, и лежит он где-то рядом?
Алеша проглядел кусты, вышел на край поля — ни взрытой земли, ни могилы. «А может, все было проще? — думал Алеша, возвращаясь к плащ-палатке. — Может, немцы так быстро удирали, что не было возможности их догнать, и солдат бросил свою ношу? Бросил, чтобы кто-то потом подобрал?..»
Патроны лежали перед Алешей, они завораживали, манили, потрясали своей доступностью, он опустился на колени, подцепил в пригоршню, ощущая их холод и тяжесть, высыпал, снова запустил пальцы в колючую металлическую россыпь.
«Как меняется ценность вещей! И вообще всего! — потрясенно думал он. — Давно ли, ну, месяц назад, их роту курсантов впервые вывели на стрельбище. Каждому выдали по три вот таких боевых патрона. Три выстрела почти за год учебы! Стреляли, конечно, по-разному. Он постарался, он ведь охотник! Две пули послал в «десятку», только последнюю из-за нетерпения чуть занизил. Двадцать девять из тридцати! Перед строем ему объявили благодарность, поручили собрать стреляные гильзы и все оставшиеся патроны, сдать по счету старшине. Он все исполнил добросовестно. Но один боевой патрон почему-то оказался лишним. Он оставил его у себя, еще не зная зачем. Завернул в промасленную бумагу и тряпочку, закопал в землю на задах училищного двора, у забора. Если бы этот боевой патрон у него нашли, он бы ничем не оправдался. Случай мог бы плохо кончиться для него. Но там, в училище, он готов был к любому испытанию ради будущего подвига на фронте. В ночи, в душной комнате, на нарах, под всхрапывание и бормотание своих усталых за день товарищей по взводу, его мысли рвались на фронт, и все возможное и невозможное, что ждало его там, проходило живыми картинами в распаленном воображении. Чаще всего другого виделся бой, в котором все наши уже убиты, и все немцы в поле тоже убиты, и все патроны расстреляны, и он, Алеша, черный от земли и дыма, тяжело поднимается из окопа и вдруг видит, как поднимается в поле и встает один неубитый фриц. И, зная, что у русских все патроны расстреляны, идет к нему, держа автомат двумя руками у груди. Ноги его в кованых сапогах бьют землю, будто копыта лошади, и с каждым шагом оглушительнее устрашающий топот, все злораднее улыбка, все ближе черное дуло автомата. И тогда он, Алеша, не спуская глаз с идущего к нему врага, достает из кармана гимнастерки этот вот завернутый в тряпицу, сбереженный патрон…
Патрон давал Алеше силу верить в то, что последний выстрел останется за ним. Он выкопал этот свой патрон из тайника в тот день, когда начальник училища перед строем зачитал приказ о досрочном выпуске ста лучших курсантов. В кармане гимнастерки, вместе с комсомольским билетом и удостоверением о присвоении звания, он провез свой обласканный мыслями патрон через полстраны, постоянно ощущая у груди его успокаивающую тяжесть. Он довез его сюда, до фронта. Он и сейчас был у него в кармане, так трудно сбереженный уральский патрон. Один-единственный, величайшая его ценность, вдруг обесцененная россыпью, целой горой точно таких же, готовых к бою патронов…
Алеша снова поднял пригоршню патронов, просыпал их сквозь пальцы, подумал, не взять ли в запас? Усмехнулся этой, теперь уже в самом деле наивной, мысли, достал из кармана свой патрон, освободил от тряпочки, хотел бросить в общую россыпь, но сердце почему-то дрогнуло, рука задержала патрон. Пальцы обласкали заостренную головку пули, вытянутое маслянисто поблескивающее латунное тело, целенький, еще не пробитый бойком кружок медного капсюля; улыбнувшись стеснительной улыбкой, он снова завернул патрон в тряпицу, упрятал в кармане на груди.
3
До штаба засветло они не дошли. Алеша готов был идти и в темноте. Но старшого наступающие сумерки беспокоили: он поглядывал по сторонам, вроде бы незаметно, но расчетливо обходил заросшие, покрытые легким туманцем, подступающие к дороге овражки. Тяжелую командирскую сумку с левого бока он перевесил на правый и, как бы случайно, выдернул ремешок застежки из петли.
Девушка теперь шла рядом с Алешей. Заговорить он не смел, молчала и девушка, погруженная в свои, Алеше казалось, нерадостные думы. Судя по ровному ее спокойствию, ее не тревожила быстро наступающая ночь, — ей как будто были безразличны и настороженность старшого, и молчаливое, оберегающее внимание Алеши.
Старшой наконец остановился перед крытым длинным сараем.
— Будем ночевать, — сказал он с ненужной командирской категоричностью.
Влажный, потемнелый воздух холодил лицо, даже плечи под гимнастеркой охватывало холодком; из черного, без дверей, проема призывно наносило теплым запахом свежего сена. Алеша вошел под крышу, густая теплота сохраненного в высушенной траве солнца как будто обволокла его, он едва удержался, чтобы тут же не повалиться в мягкую упругость пахнущих мирными деревенскими днями ворохов.
Старшой стоял у края проема, рукой придавливая к бедру сумку, тихо приказал:
— Осмотри сарай!
И Алеша вздрогнул от холодного его голоса, не доверяющего ни теплу, ни запаху сена.
Уже с тревожностью, рукой ощупывая патрон в кармане, он вгляделся в скопившуюся под крышей черноту, по-охотничьи настороженно, с приглушенно ударяющим в грудь сердцем, обошел вдоль стен высокие вороха. Никто не шагнул ему навстречу, никто не выстрелил; но, если бы кому-то надо было укрыться от их подозрительности, он укрылся бы под любой не различимой в темноте копной. И хотя Алеша обошел сарай, теплая его тишина осталась тревожной. В настороженности был и старшой. Когда девушка, молчаливая их попутчица, спокойно прошла в глубину сарая, разрыла, шурша сеном, себе место и, звякнув пряжкой расстегнутого ремня, легла, старшой неодобрительно и в то же время с каким-то мужским сожалением поглядел в ее сторону, откинул крышку сумки, осторожно вытянул тяжелый плоский пистолет. Передернув затвор, загнал патрон в ствол, мягко щелкнул предохранителем.
— Едва уберег в госпитальной каптерке, — сказал он почти шепотом, как будто оправдываясь перед Алешей. — У нас ведь как: всегда возвращаешься на фронт с голыми руками. Тут, в ночи, столько шнырит их, фрицевских лазутчиков! Умнут и уволокут за милую душу!
Легли они напротив входа, пистолет старшой держал в руке. Алеша не спал: неожиданное откровение старшого, рука, настороженно держащая пистолет даже во сне, даже в тихой этой ночи, в этом всегда убаюкивающем запахе сена, возмутили самую глубину его души. Он лежал с открытыми глазами, повыше примостив голову, рассматривал через проем черную землю, черное, в мерцающих звездах, небо, и душа его не была спокойна. Множество чувств и понятий как будто сдвинулось со своих удобных и, казалось, прочных мест, сошлось в противоречивом, каком-то холодном кипении: что-то опускалось вниз, на самое дно, укладывалось там до какой-то своей поры; что-то поднималось наверх и здесь притаивалось, готовое в нужную минуту увидеть, услышать, причуять, вовремя приготовиться, не упустить того опасного мгновения, когда что-то вдруг навалится из этого вот, ставшего враждебным мира.
Алеша теперь прислушивался к шуршанию мышей, сторожил звуки в тихой ночи, улавливал даже царапающий стук кем-то сбитого с дороги камня.
Подобную настороженность, бывало, он испытывал и в недалекой юности, когда на охотах случалось ночевать одному в лугах или в лесу.
Ночная тьма и тогда казалась враждебной, так же прислушивался он и к шуму леса, и к треснувшей ветке, и крику ночных птиц. Но там, как ни настораживала тьма, он знал, что он — человек, а значит, сильнее всего, что есть живого вокруг. И если какой-то близкий шорох, какая-то причудившаяся опасность очень уж досаждали ему, он вылезал из шалаша или из-под стога и шел на тревожащий опасный звук, сжимая в руках ружье. Он давно убедил себя: чтобы не бояться, надо знать. Он узнавал и уханье филина, и словно из земли идущий смешок козодоя, и стон сохатого на осеннем гону; даже близкий волчий вой уже не цепенил его волю. Свои леса он знал; даже не открывая глаз, знал, на какой сосне уселся филин, через какое болото пробирается лось, в каком камыше, опустив клюв под воду, по-бычьи ревет выпь. «Так было, — думал Алеша. — Там, у охотничьих костров, против меня, человека, стояли только звери и птицы. Здесь же, в этой ночи, в завтрашних ночах, против меня — люди, со всеми своими хитростями, со страшными придумками своего ума; здесь пули, созданные человеком, летят в человека, бомбы разрывают мосты, дома, саму землю, чтобы убить человека; здесь ночь и тьма для того, чтобы человек выследил человека. Здесь все наоборот. И если страх подойдет ко мне и я захочу побороть страх и, как прежде, пойду на звук в ночи узнать, что шуршит в неподвижной траве, отчего скатился с дороги камень, я могу лицом к лицу сойтись с другим человеком — с человеком-врагом. И человек этот убьет меня. Он выстрелит в меня, потому что здесь — война!»
Алеша ловил звуки ночи, в растерянности думал, что здесь — все наоборот: здесь добро — не добро; здесь открытость — смерть; неосторожность — кровь; и ум здесь служит силе…
Осторожно, стараясь не шуметь сеном, Алеша поднял руку, вытер на лбу испарину.
Ему казалось, он один сейчас не спит, один в думах, один стережет старшого и девушку, которая тихо лежит где-то отдельно от них, в ворохах сена. Он лежал, и слушал, и старался не пропустить тех звуков, которые открывают приближение врага.
Из непроницаемо черной полосы леса в неподвижное звездное небо вдруг выметнулись багровые, желтые, зеленые струи, — было такое впечатление, что у далекого, чем-то потревоженного леса дыбом встали огненные волосы.
— Что это? — в изумлении прошептал Алеша, приподнимаясь на локтях.
— Эрликоны. По нашим самолетам бьют, — тихим отчетливым голосом ответил старшой; он тоже не спал. Алеша это понял и почему-то успокоился.
Огненные струи, извиваясь, как водоросли в текучей воде, медленно ползли в черное небо, пропадали среди звезд. Что-то в той стороне вспыхнуло, на мгновение высветлив неровную кромку леса, через какое-то время услышался отдаленный гул.
— Спи, парень, всего еще насмотришься!.. — с какой-то отеческой опекой сказал старшой.
И Алеша, тронутый и успокоенный его участием, закрыл глаза.
4
Штабом армии оказался лес. И начальник санитарной службы армии принял их, сидя на пне. И, хотя он был в хорошей гимнастерке, в мягких сапогах и в зеленых его петлицах, вызывая военное почтение, плотно стояли с каждой стороны по три зеленых шпалы, общий его вид: и расстегнутый ворот, с чистым подворотничком, и седые, видно недавно вымытые, рассыпающиеся редкие волосы, и старческие морщины на плохо загорелом лбу и вокруг добродушно поглядывающих глаз, — общий его вид был совсем не военный. Если бы не форма, Алеша вполне мог бы принять его за деда где-нибудь на лесном кордоне, с лукавством рассматривающего явившихся гостей.
— Ну, что же, — взбадривая свой негромкий голос, сказал он. — Начнем, пожалуй, с девушки.
Красивая их спутница, опрятная, подобранная, успевшая поутру умыться и привести себя в полный порядок, прижала к бокам руки, щелкнула каблуками невысоких, на ее ногу пошитых сапог, сказала ровным голосом:
— Товарищ военврач первого ранга! Со мной дело особое. Прошу отпустить сначала мужчин.
Начальник санслужбы прищурился, посмотрел на девушку, пряча в долгом молчаливом взгляде недовольное удивление. По возрасту девушка годилась ему во внучки; но, кроме того, что где-то там, в мирной жизни, он, наверное, был дедом, здесь, на фронте, он был еще и начальником. И скрытое им недовольство обратилось на старшого.
— Почему только троих прислали? Что, кадров у них нет?
— Не могу знать, товарищ военврач первого ранга! — Старшой вытянулся, и, хотя он действительно не мог знать, на лице его проступило виноватое выражение.
— Не могу знать… — ворчливо передразнил военврач. — И я вот не знаю. Мы же из боев! А медики тоже погибают.
Он оглядел Алешу, потеплел взглядом.
— Ну, а ты, военфельдшер, прямиком из училища на фронт?
— Прямиком. Дождаться не мог, когда попаду!.. — со всей открытостью, на какую был способен, ответил Алеша — его подкупил и добрый взгляд, и голос старого человека; он забыл, что перед ним начальник, почти генерал. Свою оплошность он тут же понял: покраснел, вытянулся в покорной готовности принять выговор.
Но старому военврачу, видно, по душе пришлась бесхитростная открытость юного командира. Он не спеша достал из кармана платок, прочистил нос, Алеша увидел поверх прижатого к щеке платка глядящий из морщин веселый глаз.
— Ну, что же, военфельдшер, пойдешь в гвардейскую дивизию?
Алеша растерялся. Была у него привычка мыслями обгонять события. Еще в дороге, лежа на полке в сумраке вагона, он весь изворочался, стараясь представить свою боевую жизнь на фронте. Тогда же он твердо определил: раз не выпало ему гордой чести быть артиллеристом или летчиком, свою, навязанную ему, службу медика он начнет с самых низов, с самой черной, самой опасной работы. И будет делать эту черную работу в полную силу, даже через силу, и никогда не склонит головы, не пожалуется, если не будет хватать сил. Так он решил, и вдруг — гвардия, — высота, и опять — почет без заслуг!.. С трудом справляясь с противоречивыми чувствами, не отводя взгляда от изучающих его пристальных глаз старого военврача, он все-таки сказал ломающимся от волнения голосом:
— Я только начинаю службу, товарищ военврач! Направьте меня в рядовую часть. Где трудно. И опасно.
— В гвардии, думаешь, не опасно?
— В гвардии почетно. Заслужить надо, товарищ военврач!
Старшого вдруг что-то сдвинуло с места, он шагнул, кинул руку к фуражке:
— Разрешите, товарищ военврач первого ранга!..
Старый человек, сидящий на пне, поднял голову, махнул рукой.
— Знаю, о чем просить хочешь! Мальчик этот прав. Ты из госпиталя, ты воевал. Гвардия тебе по груди. Ладно, пойдешь вместо него. — Он снова посмотрел на Алешу, теперь строго, без улыбки. — А ты, военфельдшер, пойдешь в отдельную стрелковую бригаду. Решил, так держись своего решения. Теперь давай с тобой поговорим, милая девушка!..
Алеша понял, что судьба его решена, отшагнул в сторону. Старшой приблизился, тихо, цедя сквозь зубы, проговорил:
— Отдельная бригада — это бригада прорыва. Записал себя в смертники! Отказывайся, пока старик к тебе настроен.
Алеша сузил глаза, не глядя на старшого, сказал:
— Но ведь и там — люди!..
— Дурной ты мужик! — Старшой в сердцах взмахнул кулаком, отошел и больше не разговаривал.
Военврач просматривал бумагу, поданную девушкой; заметно было, как сходило с лица его ворчливое добродушие, с которым он принимал пополнение. Старый военврач встал, с вниманием и, как показалось Алеше, с почтением оглядел девушку.
— Пройдемте к генералу, — пригласил он.
— Разрешите? Мне одну минуту!.. — Девушка быстро подошла к Алеше, протянула руку:
— Хочу попрощаться, романтический военфельдшер! Постарайся не растерять своей романтики. Как звать тебя? Мне кажется, мы еще увидимся. На фронте это бывает.
Алеша, застыженный общим вниманием, сжимал и от смущения не отпускал теплую сильную руку девушки. Он не умел найти нужных слов и, чувствуя, как заливается краской, глупо спрашивал:
— А вас как зовут? Как зовут вас?..
Когда девушка ответила, он в порыве рвущихся к открытости чувств почти клятвенно заверил:
— Я сам найду вас, Оля! Вот увидите!
Ольга наконец высвободила свою руку, Алеша почувствовал ускользающее движение ее напряженных пальцев и страстно повторил:
— Буду думать о вас, Оля…
В эту прощальную минуту он собрался с силами, близко посмотрел на девушку — спокойное, матовой бледности ее лицо подрагивало в усилии удержаться от улыбки, но улыбка победила. И эта же самая улыбка сделала ее лицо страшным: половина ее лица осталась неподвижной, половина ее лица была мертва! И все ее лицо от этой мгновенной улыбки перекосилось, как мехи гармони, разведенные на одну сторону. Трудным, испуганным усилием девушка погасила улыбку, лицо ее снова стало безучастно-красивым. Но Алеша, потрясенный жуткой тайной ее лица, видел теперь и вывернутое слезящееся веко левого, как будто насильно раскрытого глаза, и легкий мазок седины в волосах под краем пилотки, и темные скопления морщинистой кожи под печальными застывшими глазами.
Он был еще в оцепенении, когда девушка полностью, и, видно, привычно, овладела собой; глухо, без сожаления, она сказала:
— Вот так, милый Алеша. Искать, как видите, меня незачем.
Алеша пришел в себя, обида и боль за девушку, стыд за свой испуг чужим несчастьем как бы заново потрясли его, теперь уже состраданием к чужой боли. И, не лукавя, не опуская глаз под спокойным и печальным ее взглядом, в упрямстве доброты и сострадания, он с честной открытостью сказал:
— Если бы можно было, я бы сейчас пошел за вами.
Девушка смотрела все так же спокойно и внимательно и тихо ответила:
— Спасибо, Алеша. Счастливых шагов тебе на трудных дорогах!
ГЛАВА ВОСЬМАЯ Старшина Авров
1
В чистом небе над старыми придорожными, еще в зелени листьев, березами образовалось белое облачко, донесся хлопок разрыва. Облачко зависло, истаяло. Обозначились три новых, теперь над хлебами, где косили солдаты. Солдаты косили на открытом месте, немцу они были видны, и те из солдат, которые были ближе к разрывам, в настороженности подняли головы.
Когда облачка одно за другим стали быстро покрывать небо над полем, солдаты перестали работать, закинули косы на плечи, не спеша, как от надвигающейся дурной погоды, пошли друг за другом к лесу.
Алеша, опираясь на косье, следил за красиво повисающими в воздухе округлыми облаками и, когда невдалеке, хлопнув, возникло новое облако и по хлебам, будто крупным дождем, хлестануло шрапнелью, вопросительно поглядел вокруг. Бывший тут, на поле, медицинский народ продолжал работать: мужчины косили сухую, перестоявшую рожь, девчата из санвзвода все так же, с ровным азартом, вязали снопы, стаскивали, составляли в бабки. Рядом косил широкий, плотный, медлительный в движениях военфельдшер. Алеша только сегодня узнал, что зовут его Иваном Степановичем, хотя уже три ночи спали они в одной палатке. Казалось, странному этому человеку все равно, кто пребывает с ним рядом, — с Алешей он не разговаривал, по утрам, сидя на пеньке, молча принимал больных и все думал о чем-то, глядя неподвижно перед собой.
Иван Степанович не мог не видеть ударившую по хлебам шрапнель, но от дела не оторвался, девчата тоже стаскивали снопы, и Алеша, с преувеличенной озабоченностью поправив снятый с пояса и концом перекинутый через плечо ремень, пригнул колено, напрягая тело, повел косой по низу высоких, хрустких стеблей.
Новое облачко, теперь уже на правом краю поля, вспухло, брызнуло на хлеба секучим дождем.
Алеша много читал о войне, знал, что такое артиллерийская «вилка», он ждал следующего разрыва — теперь уже над собой. Представлял, как, просеченный шрапнелью, упадет в хлеба лицом вперед, и потому, делая последние, как казалось ему, взмахи, подальше влево выносил сверкающее жало косы, чтобы в последнем своем падении упасть не на заточенное острие. Будь он один, он, наверное, где-нибудь укрылся или отбежал бы к лесу, но под хитрыми, как казалось ему, взглядами работающих девчат не смел сойти с поля, — достойнее было умереть. И Алеша в ожидании уже летящего снаряда косил, и было ему в этом нелегком ожидании жутко и радостно, как было в детстве на открытости луга под черной, громыхающей, бьющей слепящими молниями тучей.
Опасное облако не появилось. Позади, в лесу, где располагался батальон, гулко рванули фугасные снаряды, несколько разрывов вразброс накрыли дорогу, по которой лошадь в галоп несла двуколку. И все стихло, как будто фриц позабавился и успокоился.
Молчун военфельдшер уставил перед собой косу, точил черным дорожным камнем. Алеша, платком вытирая взмокшие от нервного напряжения волосы и шею, счел нужным сообщить:
— Жарко…
Иван Степанович не ответил, сжал губы, пошел напористо валить перестоявшую рожь, обходя Алешу. Алеша тоже некоторое время работал молча. Подбежала вязать за ним шустренькая девчушка со смешливыми глазами, он отложил косу, с готовностью предложила.
— Давайте помогу!
Девчушка, пряча за ресницами глаза, оглянулась на дорогу, идущую от леса, где стояли их палатки, и, лишь выглядев, что дорога пуста, согласилась:
— Помоги!
Алеша длинными руками легко сгреб рожь, поставил сноп под перевясло; девушка, улыбаясь, быстро и туго перехватила хрустнувшие в его объятиях умятые стебли. Он приготовил второй, третий сноп. Девушка, которую подружки окликали Полинкой, ловко вязала, задорно улыбалась Алеше; когда она наклонялась, пилотка падала с ее головы, она смешливо сердилась, пришлепывала ее рукой к волосам. В радости повеселевшего дела Алеша не заметил, как из-за близких плетней деревни, напрочь порушенной войной, вышел старшина их взвода Авров. Только тень на лице Полинки, выгнавшая задор из светлых ее глаз, и настойчивый, даже какой-то испуганный ее шепоток: «Косу бери… Тебе косить надо!» — заставили Алешу оглянуться. Старшина неспешной, нарочито сдерживаемой походкой приблизился к девчатам, постоял, наблюдая их усердие, напрягая голос, крикнул:
— Поднажать надо! Комбат приказал сегодня кончить!
Девчата и санитары, взятые из рот на уборку поля, отмолчались. Авров нагнулся, рукавом гимнастерки, как бархоткой, протер носы припылившихся сапог, упруго распрямился, расправил с боков, сзади гимнастерку, направился к фельдшерам. Алеша почувствовал, как напряглась спина, — чем ближе подходил Авров, тем сильнее росло напряжение. Он сам не знал почему — ведь Авров по званию и положению находился в его подчинении. Но опасность он чувствовал, и, может быть, именно потому, что, вопреки званию, власть старшины не только во взводе, но и в батальоне была очевидной. Алеша это понял на первом же шагу своей службы, с той минуты, когда, желая обрадовать своим прибытием командира, вошел в палатку доложить о себе. Командиром санитарного взвода оказалась женщина; сидела она на спальных мешках, по-восточному поджав ноги в коротких сапожках; ворот ее гимнастерки был по-домашнему расстегнут, в петлицах, рядом с зеленой шпалой, тускло поблескивала змея, обвивающая чашу. Не сразу в сумеречной приглушенности палаточного света он заметил еще одного, стоявшего к нему спиной человека с совершенно прямыми, будто из-под пилы, плечами. Человек не обернулся, не шелохнулся, пока он докладывал военврачу о своем прибытии, и только тогда, когда женщина недовольно сказала: «Хорошо, идите…» — и Алеша из брезентового сумрака палатки вышел на солнечный свет, он услышал, как к шуму желтеющих над палаткой берез примешался желчный голос человека с прямыми плечами; он не слышал, что было сказано, но по резкому голосу понял, что человек, стоявший к нему спиной, был раздражен и знал за собой право выказать свое раздражение командиру.
Присущим ему чутьем, объяснений которому не было, Алеша понял также, что недовольство, выказанное человеком с прямыми плечами, относилось к нему, к его появлению в батальоне, и холодок опасности опахнул его впервые здесь, на фронте, — не от близкого разрыва мины, не от свистнувшей над головой пули, — от жесткого голоса человека, в котором чуть позже он угадал старшину Аврова.
Фронт после почти месячного успешного, но трудного наступления отдыхал, Алеше не терпелось делать положенное ему дело. Но — удивительно! — куда бы он ни приходил: к кухне — проверять чистоту пищеблока, в роты — узнать, есть ли больные, выкопаны ли ровики-уборные, — всюду встречал его старшина Авров. Не по-уставному расставив ноги, утопив под ремень большие пальцы рук, он смотрел настороженно и вежливо, скучным голосом сообщал:
— Все проверено, военфельдшер… — и стоял, постукивая пальцами по широкому командирскому ремню. Однажды Алеша вознамерился помочь девчатам скатывать нарезанные из марли бинты; девчата поспешно, даже как-то испуганно, отвели его помощь, и причиной тому был появившийся Авров.
И вот старшина лично пожаловал взглянуть на труды подопечного взвода!
Не доходя шагов трех до Алеши, он остановился, привычно сунул пальцы под ремень, понаблюдал за неторопливо косившим Иваном Степановичем, перевел глаза на Полинку, спешно, будто напоказ, вязавшую снопы, уже не за Алешей — за старшим военфельдшером; пилотка лезла ей на вспотевший лоб, быстрым шлепком она водворяла ее на затылок, смахивала со лба пот и волосы и, не разгибаясь, раскидывая руки, гребла с высокой стерни очередную охапку ржи.
— Молодчина! — в полный голос похвалил Авров. Однако радости от громкой похвалы не промелькнуло на лице Полинки — напротив, озабоченные ее глаза даже как будто с презрением стрельнули по старшине.
Алеша чувствовал, что Авров копит силу, чтобы обратить свое внимание на него, и ясно ощущал, как от часто постукивающего сердца начинает подниматься к голове жар. Готовый к резкому слову, он ждал, когда заговорит старшина.
— Что-то не своим делом занялись, военфельдшер! — наконец сказал Авров, взгляд его пока не поднимался выше Алешиных грязных сапог. Поднакопив силы, он поднял взгляд до уровня его груди, ожесточая голос, медленно проговорил:
— Косить, косить надо! Здесь не деревня, где девок мнут!
Щеки шустрой девчушки, вязавшей снопы, будто оплеснули кипятком, уронив сноп, она стянула с волос пилотку, закрывая пилоткой лицо, неловко закидывая в стороны ноги, до колен охваченные узкой зеленой юбкой, побежала к девчатам.
Алеша принял обиду Полинки на себя; задетый очевидной несправедливостью, едва сдерживаясь, поднял косу со стерни, воткнул в землю перед Авровым, сказал:
— Собственно, почему вы не работаете, старшина?! Вот коса. Косите!
На этот раз взгляды их встретились, какое-то время они смотрели, как бы взвешивая душевные силы друг друга. Алеша первым не выдержал, усмехнулся, покачал косой, напоминая старшине, что работа его ждет, и тут заметил, как сдавила зрачки запоминающих его желтых глаз Аврова холодная ярость; на какую-то минуту ему стало не по себе.
Чеканя слова, Авров произнес:
— Занимайтесь своим делом, военфельдшер!.. — повернулся так, что сухая земля пылью брызнула из-под начищенных его сапог. Алеше, по званию и по должности, дано было право вернуть старшину, поставить перед собой навытяжку, как это делали командиры в училище. Но чуткий его разум точно взвесил данные ему права и действительные его возможности.
В то мгновение, когда старшина повернулся и пошел, Алеша уже звал, что его окрик Аврова не остановит: старшина был в бою, власть его во взводе была признана, он же, Алеша, в глазах всех был не более чем неоперившимся хлопунцом, никто еще не видел, его полета, и власть, данная ему званием, еще не была закреплена делом. Все это Алеша понял и не остановил Аврова. Плохо владея руками от пережитого неприятного напряжения, он выдернул из земли косу, ни на кого не глядя, встал рядом с Иваном Степановичем.
Разговор его с Авровым был как будто делом личным, но что-то в отношении к нему определенно переменилось: девчата в своей сосредоточенной работе будто по необходимости переместились и теперь вязали снопы за ними, и Алеша, хотя и был в расстройстве от своей нехорошей стычки с Авровым, все же замечал на себе их короткие, выразительные взгляды. Даже Молчун — Иван Степанович, — когда они сошлись направить косы, передавая ему плоский черный камень, проговорил, с трудом разомкнув свои малоподвижные губы:
— Оказывается, горячий!.. Молодой, понимаешь!..
В, казалось, потеплевшем вокруг него воздухе Алеша успокоенно, радостно косил, стараясь свободнее и шире вести косу. От Ивана Степановича он ушел вперед и в сторону, наметив свой прокос до зеленеющих впереди кустиков. Перед кустами он приметил пролысинку, какую-то примятость в ровном наклоне хлебов, и, задав себе урок дойти до этой пролысинки, косил, не останавливаясь. Широким взмахом срезав перед самой пролысинкой густую полосу стеблей, он вдруг, задержал косу, еще не понимая, что́ перед ним, почувствовал, как задрожали пальцы. В хлебах лежал человек, солдат, с котомкой за плечами; лежал боком на винтовке, в каком-то, видно, последнем, усилии оборотив лицо к небу; закинутая левая его рука как будто пыталась снять со спины мешок. Рядом с наголо стриженной головой, у небритого лица с синевой на лбу и щеках, опрокинуто лежала пилотка с зеленой звездочкой и каймой от высохшего уже пота. Из черного отверстия ноздри солдата выполз муравей, пошевелил усиками, деловито побежал по краю отвисшей губы.
Алеша отшатнулся, потрясенно закричал.
Подошел Иван Степанович, подбежали девчата. Солдата на плащ-палатке отнесли хоронить к дороге, на краю спаленной деревни.
Алеша бестолково, в расстроенных чувствах, копал, потом с осторожностью заваливал солдата, морщился от шума сыплющейся земли, старался, чтобы земля с его лопаты не попадала на голову, укрытую плащ-палаткой.
Косить он больше не мог, постоял и побрел в край леса, будто был у себя в Семигорье.
Умостился над ручьем в развалине между старой ольховиной и березой, сидел молча в тесноте стволов, успокаивая в себе ощущение чужой смерти.
«Вот жизнь. Вот смерть, — думал он. — Как далеки были они друг от друга на доброй земле Семигорья! Как близки здесь! Как эти стволы, сдавившие плечи. К какому из них качнет меня завтра? А может, не завтра — сегодня? Может быть, не меня — Ивана Степановича. Или шуструю Полинку. А может, и самого Аврова? Здесь все равны перед лицом смерти. Хорошие и плохие. Добрые и злые. Разумные и неразумные. Так зачем между нами это мелкое зло? Что мы пытаемся делить с Авровым? Власть, самолюбие, лишний котелок каши? Неужели мне, другому, третьему надо что-то еще, кроме возможности честно исполнять свой долг?! Да пусть Авров командует! Пусть! Я сам помогу ему утешиться в самолюбии. Мы просто не поняли друг друга, — думал Алеша, не чувствуя в себе даже ответного желания зла перед открывшейся ему, действительно возможной и, может быть, близкой смертью. — Ведь у нас — один враг, — думал он, ставя себя и старшину по одну сторону против врага, таящегося где-то на холмах, за ржаным полем, на котором они косили. — Нам в самом деле нечего делить! Разве только желание добра тому делу, которому мы призваны служить. Просто нам надо объясниться! — думал он по незабытому убеждению своего чистого, справедливого отрочества. — И всё. Всё встанет на свои места!»
Успокоенный в добрых чувствах знакомыми запахами леса, тишиной умиротворенного в этот час фронта, Алеша поднялся в нетерпении тотчас отыскать Аврова, скрепить добрые свои чувства дружеским пожатием рук. Он еще не дошел сквозь засумеречневший лес до опушки, где были их палатки, как услышал шум плохо сдерживаемых голосов, хлопанье брезента, всхрапы лошадей, постукиванье тележных колес среди деревьев и понял, что в жизни батальона что-то переменилось.
Встревоживаясь этой еще непонятной ему переменой, он побежал к своему месту.
Иван Степанович уже складывал опрокинутую на землю палатку. Увидев подбегающего растерянного Алешу, он, как все не любящие торопиться люди и раздражаясь на то, что торопиться все же надо, сердито дернул угол брезента, недовольно крикнул:
— Пропал, понимаешь! А тут — поход…
2
Разговор с Авровым не получился. Старшина с видимым интересом выслушал сбивчивую, наверное невразумительную, речь Алеши о добре, глубоко затянулся из красного наборного мундштука, закинул голову, выпустил через ноздри в подбородок ему обволакивающий дым, сказал задумчиво:
— В другой батальон проситься тебе надо, Полянин!
Совет старшины неприятно отозвался в душе Алеши: проситься из батальона в какую-то другую часть, да еще самому, и неизвестно, из каких побуждений — по меньшей мере, было странно.
Авров продолжал властвовать в санвзводе: все распоряжения он передавал от имени командира, все они имели силу приказа. И как ни хотел Алеша найти для себя дело, старания его оставались напрасными. В долгих, утомительных переходах и на новом месте, в лесу, где теперь обосновался батальон, он мучился ощущением совершающейся несправедливости.
Он и сейчас ворочался на подстилке из елового лапника, под солдатской своей шинелью, безответно спрашивал себя:
— Но почему, почему? Старшина — и такая власть?!
— Пустой философией мучаешься. Ты давай спи, спи… — Неожиданная речь всегда молчаливого Ивана Степановича подняла Алешу; он сел на хрустнувших под ним ветках, натянул на спину и плечи шинель; он истосковался в душевном одиночестве и готов был говорить хоть с сапогом.
— Подождите спать, Иван Степанович, — попросил он. — Тут душа разрывается…
— Во-во, бомба какая! Ему еще запал не вставили, а он, понимаешь, уже рваться… — Сердитая скороговорка Ивана Степановича на этот раз не обидела Алешу. Молчун фельдшер был раза в два его старше и когда вдруг начинал округло и быстро, почти не раскрывая рта, говорить, то казалось, он сердится. Алеша, однако, быстро разглядел, что Иван Степанович — человек добрый, и если сердится в разговоре, то не на собеседника, а только на то, что заставили его говорить. Они были одни в тесном пространстве низкой палатки, отгородившей их от плотной темноты октябрьской ночи, в которой спали по-походному тысячи разных по характеру, по отношениям друг с другом людей. И эта отгороженность тьмой и влажным брезентом, и в то же время ощущение близкого присутствия множества людей, в чем-то сопричастных его судьбе и судьбе Ивана Степановича, заставляли Алешу быть настойчивым.
— Иван Степанович, ну скажите, почему все-таки Авров командует в нашем взводе? — спрашивал Алеша, не обращая внимания на сердитое ворчание напарника. — Вот вы: три кубика у вас в петлице, а он над вами командует! Почему вы не можете поставить его на место?
— Ты-то чего на место его не ставишь? У тебя то же, понимаешь, два кубика.
— А вот поставлю! И поставлю! — запальчиво сказал Алеша, хотя тут же почувствовал шаткость своего уверения.
— Во-во, ставь козла на рога. — Иван Степанович пустил в темноту неприятный смешок. — Я тебе тут не помогу. Был бы генералом — помог. А в генералы, понимаешь, не берут.
— Ясно. Все ясно. Справедливость устанавливают только генералы! — В голосе Алеши было не столько горечи, сколько презрения. Иван Степанович вдруг рассердился:
— Не буду с тобой говорить! Больно лих. В таком кипятке только глупость варить! Дурак позавидует, умный — уйдет.
По, хрусту вминаемых тяжелым телом веток Алеша понял, что Иван Степанович отвернулся. Недовольный собой и разговором, он тоже лег на спину, натянул шинель до носа, почувствовал на губах солоноватый ворс, сплюнул.
— На меня плюешь?!
— Да что вы, Иван Степанович! — смутился Алеша. — Рот сукном опоганило…
Иван Степанович помолчал, не вытерпел:
— Ты вот что: до боя погоди. Пройдем через бой — он, понимаешь, почистит!
— Разве Авров не был в бою?
— Что был, что не был. На передовую не ходил. На то безотказные девки есть.
— Что же тогда бой изменит?
— Что-что… У тебя свет на старшине сошелся! Плевый он мужичонка. Одна в нем цена — услужливый! Половых в ярославские трактиры из таких набирали. Не в нем, понимаешь, дело… Ладно, спи давай. Устал я говорить. — На этот раз Иван Степанович умолк, и, похоже, до утра; тревожить его Алеша больше не решился.
Когда в неуютном осеннем рассвете он вылез из палатки, медленными движениями расправил занемевшее тело, мысль его возвратилась к ночному разговору. Он вспомнил, что он решил, и знал, что свое решение исполнит. Наскоро позавтракав, он пристроил на коротких, что-то медленно отрастающих волосах пилотку, расправил гимнастерку под солдатским ремнем, на котором по правому боку висела пока еще пустая кобура, — эту командирскую принадлежность он выменял у бойкого солдата за свой паек, — пальцами провел по вороту, проверяя, все ли пуговицы застегнуты как надо, подумал: «Значит, так. Вхожу в палатку, докладываю. Не забыть руку вскинуть к виску, хоть и женщина, но командир! Надо сделать по Уставу. Она скажет: «Слушаю вас…» Тогда и говорю все, как есть. Напрямик. Так и так, мол, товарищ военврач, во взводе нарушены воинский порядок и простая человеческая справедливость. Об этом вы можете и не знать. Поэтому прошу вас… Как это ей все понравится? Не может не понравиться: ведь говорить я буду о порядке. А командир может ли быть против порядка? Сдержанно она поблагодарит и тут же вызовет старшину…»
Перед палаткой командира Алеша еще раз одернул гимнастерку, пальцем проверил звездочку на пилотке; надо было бы постучать, но в брезент не постучишь! Входная пола у палатки не была застегнута, свисала, открывая щель, и Алеша, вежливо покашляв, шагнул под просторный полог. Руку к виску, как положено по Уставу, он вскинул, но слова, которые он тщательно готовил, вдруг остановились у раскрытого рта; в осеннем полумраке палатки он увидел старшину. Авров лежал на застеленной одеялом раскладушке, закинув руки под голову, вытянутые его ноги были скрещены — сапог на сапоге. На земляном полу на коленях стояла женщина, положив голову ему на грудь; распущенные ее волосы покрывали распоясанную гимнастерку старшины, рука обнимала плечо. Женщина резко вскинула голову, и Алеша узнал своего командира.
На какое-то время он оглох; он видел побелевшее до неприятности, искаженное злобой лицо, круглые от бешенства глаза, видел, как в крике ломались и дрожали губы командира. Но не слышал. Не слышал и ничего не понимал. Он опустил стывшую у пилотки руку, незряче нащупал, отодвинул свисающий над входом полог, вышагнул на волю.
Авров окликнул его, остановил, сочувственно глядя, сказал:
— Надеюсь, теперь ты кое-что понял. Просись в другой батальон, Полянин!..
Иван Степанович ни о чем не спросил, только искоса, испытующе глянул в расстроенное лицо Алеши, взял ящик с лекарствами, ушел к своему пеньку принимать больных. Когда Алеша отлежался в палатке; с понурым видом подсев к нему, Иван Степанович сказал своей сердитой скороговоркой:
— Во-во, туда петухом, назад — мокрой курицей! Плохо было, хуже стало. Не слушаешь, понимаешь, что говорят!
Он замолчал неожиданно, так же как начал говорить, локтем придавил крышку ящика, широкой скулой оперся на кулак. Не сразу он заметил упрямую решимость в мрачном взгляде Алеши, а когда заметил, насторожился:
— Что, что еще надумал?! Ты, понимаешь, голову для дела береги!
— А это не дело? Подлый человек среди нас, а мы… — Алеша не договорил, к ним подходил Авров, небрежно поигрывая пустым котелком.
— Сачкуете, доктора? — Старшина был доволен: и сереньким утром, и здоровьем своим, хорошим аппетитом, и тем, что шел за неограниченной порцией завтрака для себя и для своего доброго шефа, — и это полнившее его довольство жизнью и собой ясно читалось на его круглом широконосом лице, в поблескивающих, прицеливающихся глазках. Старшина сверху смотрел на них, смирно сидящих, постукивал от избытка силы котелком о колено; не дождавшись ответа, снисходя к общему их молчанию, сказал:
— Могу подбросить приятную работенку!
В том подавленном состоянии, в котором Алеша находился, он мог бы пропустить мимо себя явно насмешливые слова старшины. Но вид Аврова, вызывающее торжество, которое было в его голосе, движениях рук, в небрежном постукивании котелком о колено, показались ему оскорбительными. Он порывисто поднялся, еще не зная, что сделает. Память вынесла ему видение военного училища и, может быть, не лучший, но простой и мгновенно действующий способ, которым их ротный данной ему властью укрощал любого распоясавшегося курсанта. Он вспомнил ротного, и, встав над старшиной, закричал, почти срывая свой мальчишеский голос, криком прорезая тишину еще по-утреннему молчаливого леса:
— Старшина Авров, смир-р-р-но!
Мгновенный испуг окинул лицо старшины, руки его вытянулись, котелок застыл у колена. Еще бы секунду простоял Авров, и Алеша подал бы другую команду: «Кру-угом, арш!..» — и старшина, хотя бы на малые эти минуты, был бы посрамлен: на пронзительный крик уже выглянули из палатки девчата.
Но оцепенение тут же сошло с Аврова, он сложил на груди руки так, что висящий на локте котелок уперся Алеше, под грудь, сказал едва слышно, чтобы слова дошли только до его ушей:
— Шутишь, фельдшер! Не знаешь того, что иные шутники не доживают и до боя… — Он повернулся, расчетливо толкнув Алешу котелком, не спеша пошел к кухне, поигрывая узким сильным задом.
Под любопытствующими взглядами девчат Алеша стоял, будто настеганный крапивой. Он царапал пальцами кобуру, убеждал себя, что в эту минуту стыда и ярости мог бы — выстрелил бы в туго обтянутый штанами зад Аврова, если бы в новенькой его кобуре был пистолет, а не пара засунутых туда бинтов. Смотреть на Ивана Степановича, на весело шумящих у своей палатки девчат он не решался: он чувствовал свою правоту и в то же время с отчаянием сознавал, как по-глупому бессилен перед житейской хваткой человека, надевшего форму старшины.
Авров возвращался, бережно неся на вытянутой руке тяжелый котелок. Разговором он, видно, не удовлетворился, подошел, остановился так, чтобы Алеша видел котелок, полный каши, явно не по-солдатски залитой маслом, оглядел Ивана Степановича, по-прежнему молчаливо, по-стариковски сутуло сидящего на пеньке, укорил:
— И ты туда же. Смотри, чуваш-темнота!..
Лицо Ивана Степановича медленно краснело; кровь его как будто уже не умещалась в широком теле, растекалась к щекам, короткой шее, к словно помятому, в морщинах лбу. С неожиданной стремительностью он поднялся, ловко сдернул с ящика марлевый лоскут, перекинул через руку напободие полотенца, приклонил к плечу голову, шаркнул по земле ногой, застыл в подобострастном наклоне.
— Чего изволите-с?! — произнес он с искательной улыбкой на багрово-тяжелом от гнева лице.
Авров побледнел, отступил на шаг, повернулся, склонил голову, быстро пошел, почти побежал к палатке командира, не замечая, как выплескивается из котелка каша.
Иван Степанович опустился на пенек, вытирая марлей лицо и отдуваясь, будто после тяжелой работы, произнес в удивлении:
— Дерьмо, понимаешь!.. Не трогаешь, а вонь.
3
В огромной, казалось на весь мир, ноябрьской ночи Алеша старательно кочегарил. Пламя из жерла горящей печи окидывало пляшущим светом утоптанную здесь землю, высвечивало бока свежих поленьев, разбросанную щепу, сапоги, уже крепко побитые, которые он получил еще в училище. Ноги Алеша подсунул как можно ближе к мерцающему на стылой земле отсвету огня: холод прихватывал пальцы сквозь кирзу и портянки.
В огромной трофейной бочке, вставленной внутрь глухой землянки, бушевало пламя; через железные, стенки воздух, запертый в землянке, калился до сотни градусов, в удушающей жаре ссыхалась и гибла на висящих там солдатских рубахах и гимнастерках ползучая тварь, с тараканьим упорством возрождающаяся среди житейских неудобств, тесноты и непросыхающего пота.
Еще минут двадцать — и, не притушая огня в печи, он откинет двойной полог из плащ-палаток, влезет в палящий мрак вошебойки, уклоняясь от малинового округлого свечения раскаленной бочки, на корточках, не поднимая головы в обжигающее подпотолочье, на ощупь скинет с шестов себе на руку сухую горячую одежду, придавливая ее подбородком, неуклюже выберется на волю, постоит, приходя в себя от жары, вдохнет свежий воздух ночи, сбросит поклажу на вешала. С помоста из еловых лап отберет с десяток-другой напитанных густым служивым духом рубах и гимнастерок, снова влезет в удушающий жар слепой землянки; придерживая дыхание, развесит под потолком. Под утро придет за прокаленной одеждой дежурный, раздаст строго повзводно, и сразу всем, чтобы не перемешались чистые с нечистыми, — это на совести ротных старшин, которым на каждом осмотре Алеша все дотошно втолковывал. Пятую ночь, не отлучаясь, дежурил он у этой вот, сделанной по его указаниям, вошебойки. В первые ночи вместе со смешливой, неунывающей якуточкой Ниной Яниус, которую все звали просто Яничкой, они едва успевали до общего подъема прокалить натасканные к ним груды солдатской одежды. Теперь — легче: в эту ночь он сделал лишь третью закладку. Старательную Яничку отпустил отдыхать, а сам, уже попривыкнув к ночному бдению, сидел, сторожа огонь, подкидывал время от времени в печь березовые поленья. Странное состояние души испытывал он: как будто ему, до тоскливого воя изголодавшемуся, вдруг навалили вдоволь хлеба! По-другому он не мог выразить почувствованную жадную радость от первой своей настоящей работы. Он набросился на эту черную работу, как будто действительно она была его хлебом. Почти неделя бессонных ночей, бесконечных проверок по ротам, пререканий со взводными и старшинами, суета с дровами, бочками, чистым бельем, — все было до удушья трудным, но и в этих отчаянных трудностях он не помнил минуты, когда бы ему захотелось все бросить и отступить.
Теперь он знал, что свое первое на фронте дело он исполнил. Он чувствовал удовлетворение от хорошо сделанной работы, оно жило в нем как праздник, который сейчас, в тишине ночного прифронтового леса, он молча в одиночестве справлял.
В радости праздника души он с улыбкой вспоминал самое начало этого трудного счастливого дела, ту самую минуту, когда старшина Авров подчеркнуто значительным жестом выхватил из кармана и молча подал ему письменный (бумаги не пожалел!) приказ военврача.
Будь Алеша помудрее, поопытнее, он если бы и не испугался, по крайней мере, насторожился, — не категоричностью слов, написанных карандашом и рукой Аврова, а явной несоразмерностью того, что он должен был сделать, и того срока, который ему указывали.
«Военфельдшеру Полянину. Под личную ответственность. В недельный срок полностью ликвидировать в батальоне вшивость».
Авров — Алеша теперь это понимал — ждал увидеть на его лице растерянность, испуг, может быть, даже мольбу о пощаде, но Алеша смотрел на старшину с такой открытой радостью, что Авров, заподозрив неладное, даже оглянулся на Ивана Степановича, сидящего тут же на пеньке в обнимку со своим аптечным ящиком.
Иван Степанович дождался, когда старшина ушел, заглянув в приказ, зло ворохнулся на пеньке, вдруг зачастил своей ворчливой скороговоркой:
— Во-во, обрадовался, понимаешь! Вошь тебе не воробей: крикнул, хлопнул — ищи-свищи! Ее, паразитку, к ногтю, она — в рукав, с ворота сбил — она под мышкой, с этого на того, пошла-побежала, без хвоста, понимаешь! Девки всем гуртом вошь давили, благодарности не выдавили. Комбат свиреп, на тебе, понимаешь, отыграется! — Ворчливый говорок Ивана Степановича Алеша слышал и сейчас и улыбался.
С трудом верилось, что он счастлив тем, что оборол какую-то маленькую, влипчивую вошь, которую ни в детстве, ни в юности не видел, не знал, обереженный материнской чистотой и заботой.
Он сидел, согреваемый шинелью и жаром огня, и не совсем понимал, что с ним: как будто не надо было ему ни боев, ни подвигов; казалось, он готов еще десятки, сотни ночей просидеть здесь, у очищающего огня, лишь бы чувствовать, знать, что силы его и уменье творят добро. Он понимал, что сделал малость, самую малость из того огромного долга, который призван исполнить на войне. Но эта крохотная сделанная малость невидимо связала его с батальоном, с разными, не похожими друг на друга, людьми, которые и радовали, и злили, и смешили, и все-таки в конце концов понимали, что озабочен он не собой, а их чистотой и благом. Теплое чувство сделанного добра стеснительно согревало сердце: он готов был для всех людей, собранных в этом холодном лесу, жмущихся сейчас друг к другу в малом пространстве землянок и шалашей, спящих и не спящих в томительном беспокойстве о доме, ребятишках, женах, для всех этих людей, которых он чувствовал за своей спиной, готов был сделать, казалось ему, самое невероятное — отдать им не только свои ночи, свое уменье, силы, но и саму жизнь.
Теплое чувство, которое сейчас согревало его сердце, было ему знакомо, он знал его в счастливые дни и прошлых лет. Удивительным было не само чувство, а то, что рождало это чувство. Он всматривался в себя, с удивлением сознавал, как меняются его отношения с миром. От малости, сделанной для людей, каким-то прежде неведомым ему смыслом начала наполняться его новая обязанность перед войной. В глубине души он сожалел, что выпало ему в военной его судьбе совсем не то, о чем мечталось. Он не сомневался, что был бы хорошим артиллеристом; мог бы стать отличным асом, если бы призвали его в авиацию; мог бы воевать лихим кавалеристом. Собственно, вся его юная жизнь, с его увлеченностью спортом, охотой, водными заплывали, с его силой ног и рук, верным глазом, привычными ночевками в лесах, в одиночестве, в холоде, давала ему возможность быть полезным в любом деле войны. Медиком он стал не по своей воле, медиком сделала его проклятая близорукость. И то, что было нравственным тайным его стыдом, странным образом менялось теперь здесь, в ночи: чувство удовлетворения от хорошо сделанной им работы как будто высвободило его от прежде угнетавшей неловкости за навязанную ему не боевую профессию. «До боя, — думал Алеша; все-таки какой-то юный чертенок и теперь гулял по его самолюбию. — До боя в любой работе дотяну. А там видно будет, на что и где я гожусь!»
Он не слушал чуждого безмолвной ночи звука, но чувства, настороженно жившие как бы отдельно от занимавших его мыслей, предупредили о том, что поблизости объявилось нечто постороннее, чего прежде не было. Не поднимая головы, не шевельнув даже пальцем, он слухом ушел в ночь, различил, как у болота протяжно прошуршала мерзлая трава, с коротким птичьим всвистом рассекла воздух пригнутая и неосторожно отпущенная ветка. Тут же Алеша неслышным движением прикрыл ранее приготовленным листом железа огненное отверстие печи, сдвинулся в тень землянки. Оружия у него не было; крикнуть, поднять тревогу он не решался, боялся оказаться смешным, хотя находился на краю расположения батальона и охотничий опыт говорил, что краем болота пробирается не зверь.
Алеша нашарил в дровах топор, сжал холодное топорище; в ночи могли быть и немецкие лазутчики, которых так опасно и удачливо для себя повстречал ротный санинструктор Петренко.
Он ждал. Ждал и человек на краю болота. Немой поединок в ночи окончился так же тихо, как начался: человек не мог не видеть, как прикрыл он огонь и затаился, и — отступил. Обостренным слухом Алеша ловил осторожные отдаляющиеся шаги. Потом шаги стали слышней: человек, уже не таясь, пошел лесом к палаткам санвзвода, порой с тупым стуком задевая сапогами о корни.
В досаде Алеша откинул топор; теперь он не сомневался, что подходил к нему в ночи Авров. Что надо было этому человеку? Что хотел он увидеть? На чем подловить?
Он старался отогнать неприятное чувство, подкинул в печь дров, сел на прежнее место, поплотнее охватил себя шинелью, с вновь обострившимся беспокойством подумал о старшине: «Ходит, как зверь! Будто добычу чует».
Он порядочно, как казалось ему, просидел в угнетающей настороженности, пока не различил в ночи другой звук — торопливый, приближающийся к нему легкий топоток. Топоток этот не был осторожным, притаенным шорохом авровских шагов, и Алеша, отходя от напряжения, узнал будто скользящие шаги верной напарницы Янички и, не оборачиваясь, ждал, когда она подойдет. Девушка, будто тьмой вынесенная к свету, с размаху подсела к нему вплотную, охватила его рукой, прижалась щекой к плечу.
— Не замерз?! Лежала, лежала — не спится. Как, думаю, ты там один?
Как всегда, она говорила торопясь, будто захлебываясь радостью, заглядывала снизу в его глаза. Огонь из отверстия железной печки окрашивал будто вечерним солнцем плоское ее лицо, с почти затерявшимся между щек носом; за растянутыми в широкой улыбке губами краснели бугорки влажных десен с плотными, ровными, тоже влажными зубами. Эта недавно появившаяся в батальоне девушка была как будто переполнена радостью своего пребывания на земле и старалась одарить этой живущей в ней радостью всех вокруг. Алеша знал, что она старше его на четыре года, но, легкая в движениях, быстрая, как бельчонок, Яничка гляделась не больше как девчонкой. Для нее, как для Алеши, не было неприятной работы, всюду она торопилась опередить его, с веселым азартом бросалась на любое дело. Общая забота, ночные дежурства у печи сблизили их, детская открытость и простодушие Янички даже смущали его порой.
Вот и сейчас она прижалась к нему, будто к любимому, и, не переставая радоваться живущей в ней, наверное от рождения, радостью, заглядывая узкими, блестящими от огня глазами ему в глаза, ждала от него ответных, призывающих слов. Алеша стеснительно отстранился, делая вид, что высвобождает шею из жесткого ворота накинутой на плечи шинели, боясь обидеть доверчивость девушки, осторожно прижал к себе ее худенькую, подсунутую под локоть руку и, уводя ее и себя от пугающей его чувственности, мягко упрекнул:
— Ты так и не рассказала, как попала на фронт! — Он не почувствовал в девушке и секундной досады от его нарочито отвлекающих слов; Яничка не отстранилась, напротив, как будто даже спасительнее к нему прижалась и с той же торопливой радостью, с которой пришла, сказала:
— Я, Алеша, штрафница! Голову от любви чуть не потеряла. Мне и сказали: головы не хочешь — теряй ее на фронте.
— Смотри-ка! Ты, оказывается, шутница! А на самом деле?
— На самом деле! — Яничка заглядывала ему в глаза и смеялась. — У нас в госпитале, в Якутске, лежал парень, русский, хороший парень, веселый. Весь побит — и грудь, и рука, — а веселый! Выхаживала я его, выхаживала и — полюбила! Ему на фронт, а я — не хочу. Взяла его документы, число переправила в бумагах. На целую неделю для себя Ванечку оставила! Вот дура, да?
— Ну, почему же, — смутился Алеша. — Теперь вот жалеешь!
— Не-к, не жалею! Тут лучше. И люди все хорошие. Я здесь больше нужна.
Алеша опять близко увидел по-ночному черные щелочки-глаза; влажные губы Янички, растянутые в радостной улыбке, были совсем рядом с его губами: Он опять смутился. Эта по-детски доверчивая девушка из далекого края была совсем не такая, каким был он, и совершенной противоположностью строгой, сдержанной, милой ему Ниночке (странно, подумал мимолетно Алеша: Нина — Ниночка, одно имя и — такие разные!) и все-таки, все-таки, именно эта простодушная открытость, теплая, живая близость доверчиво жавшейся к его плечу девушки рождали стыдное для него сейчас желание. Он склонился, влекомый дурным чувством, шепнул: «Нин…» — и похолодел: произнесенное им слово было как предательство. Это полное любви слово принадлежало другой Ниночке; ей он шептал это слово в маленькое чуткое ухо в ночи, под мраком парковых деревьев; ей бережно выписывал на листках курсантских писем. И не от этой приникшей к нему девушки, а от той, неповторимой, его Ниночки, пришли сюда, уже на фронт, опаляющие слова:
Полюбила сокола Самого высокого. Всем парням не равного, Самого желанного…Алеша осторожно высвободил руки, взял с плеча девушки упавшую пилотку, положил ей на колени. Он и теперь не хотел обидеть доверчивость Янички, сказал, виноватясь:
— У меня ведь девушка есть…
Он почувствовал, как замерла Яничка под ласковостью его руки, и тут же вскочила, и, будто не было его слов, засмеялась открытым, беззаботным смехом.
— Давай, Алеша, парилку разгружать!
Она взмахнула пилоткой, весело подпрыгнула и первой побежала к землянке.
4
В один из дней тишина рухнула впервые за долгий месяц мирной, совсем не фронтовой жизни. Он увидел их, вползающих в просвет заиндевелых сосновых вершин, раньше, чем пронесся по лесу какой-то сдавленный, как будто еще не уверенный в близости опасности и в то же время вмиг выжигающий все прочие будничные заботы крик: «Во-оздух!..» Крик этот, кем-то рожденный, тут же подхваченный на разные лады другими голосами, перекидывался, звучал по окрестным лесам, но Алеша уже ничего не слышал, стоял у печи с поленом в руке и оцепенело смотрел, как по небу на лес, в котором он был, надвигались не живым, не птичьим, а выправленно-машинным, будто спаянным, строем тяжелые самолеты. Солнце снизу подсвечивало широкие, неподвижно раскинутые крылья, бело-мохнатые от покрывающего их инея; черные в середине, они казались прозрачными по краям, и оттого каждый из них походил на огромную вошь, и все они, будто вши, замедленно вползали в раздвинутый болотом просвет бледно-голубого, в морозной туманности, неба.
Алеша еще не мог взвесить действительную меру опасности, которая надвигалась на него и на тысячи других людей, уже много дней живущих буднично под хвойной зависью леса, но то, что опасность надвигалась вместе с гулом работающих в небе моторов, он чувствовал, плечи его, бывшие только что сильными и послушными, вдруг странно ослабли, дрожь пошла гулять по рукам и пальцам. В удивлении он оглядел полено, будто не понимая, откуда и зачем в его руках эта березовая плаха, торопясь освободить руки, засуетился, сунул полено привычным ему движением в горящую печь. Не успел распрямиться, как вырос перед ним Авров, взгляд его суженных ненавистью глаз будто высверливал ему зрачки:
— Ах ты, гад… Падла… Немцам сигналишь?! — торжествующий его шепот раздирал Алеше грудь. — А ну, глуши свою вшивую баню!
Гул с неба потряс лес и саму землю. Старшина по-птичьи вобрал голову в плечи, обратил лицо вверх и вдруг, утробно хрюкнув, перепрыгнул через груду дров; его распахнутая, вздутая горбом шинель, как спина испуганной, уходящей вглубь рыбины, обозначилась и пропала среди, казалось, спасительных стволов сосен.
Алеша взглянул на хорошо видный дымок, лениво поднимающийся изломанной лесенкой к хвойному переплетению ветвей, и понял, чем грозил ему и всем вокруг этот, в другое время безобидный, синевато-белый след топящейся печи. Одним сильным движением он прыгнул на покатую крышу парилки, содрал с себя шинель, придушил трубу тяжелым комом солдатского сукна, спрыгнул к печке, приставил лист железа к жаркому челу, срывая ногти, отворотил ком мерзлой земли, придавил им железо, чтобы по случайности не отпало.
Только теперь он взглянул в гудящее моторами небо. Строгий машинный порядок, прежде связывающий самолеты, нарушился: бомбовозы теперь по отдельности разворачивались над лесом, каждый своим телом пробивал клубящийся в небе морозный туман, выискивал себе цель, не обращая внимания на робкие, зависающие то там, то тут округлые плотные облачка разрывов зенитных снарядов. Один из бомбовозов проходил как раз над головой Алеши; прерывистый гул моторов словно трамбовал землю, и эта падающая с высоты тяжесть звука придавливала плечи, как будто вминала его в то место, где он все еще оцепенело стоял. Гул возрос до такой силы, что бьющий плотный воздух, казалось, мог проломить сейчас голову. Алеша почувствовал, как мал, как беспомощен, как беззащитен он перед нависшей над землей, выискивающей его силой, — дикий страх, который в эту минуту был сильнее его достоинства и вола, сорвал его с места.
Он мчался от леса в болото, невероятными звериными прыжками перемахивая кусты, моховые кочки, старые пни, стоящие на пути сосенки, мчался, как одуревший от близости гончих заяц, все спасение которого было в скорости и выносливости длинных ног. Но, как ни стремительно мчался он, вкладывая в слепой бег всю скопленную за жизнь силу, он не пробежал и сотни метров, тогда как самолет за эти же минуты его бега пролетел по избранному им кругу километры. Когда, запаленно дыша, он наконец остановился на другом краю болота и взглянул в небо, бомбовоз с тем же нарастающим ревом снова шел прямо на него. Алеша бросился назад, потом в правый край, в левый, и всюду, где он искал спасения, оказывался над ним тяжелый бомбовоз, ревущий ревом всех своих моторов.
Из тысяч людей, затаившихся сейчас повсюду, эта ревущая, свободная в своем движении громадина как будто выбрала его одного, мечущегося среди лесного болота, и неотвязно шла за ним, выжидая время уронить из-под заиндевелых крыльев принесенные с собой бомбы.
Затравленный, обессиленный, сжимая в кулаке измазанную пилотку, Алеша в последнем прыжке вломился сапогами в молодой ледок болотной мочажины, увяз в торфяной жиже и повалился, подминая телом упругие, хлестнувшие его по лицу прутья. Лежа, он лихорадочно протер полой гимнастерки забрызганные грязью очки, опасливо глянул вверх: тяжелый бомбовоз теперь уже точно шел к нему, разрывая воздух ревом моторов. Он все-таки нашел его, забившегося в край болота, выискал из беспредельного простора неба, выбрал для своего черного дела именно эту, гибельную для Алеши точку!
Алеша угадывал, что сейчас произойдет самое жуткое, что только есть на свете. И ничто: ни словно вымерший лес, ни впадина болота, в которой с ощущением своей ничтожности он лежал, ни люди, только что бывшие вокруг, ни далекая сейчас родная его мама, может быть, прозревающая вещим своим сердцем эту погибельную его минуту, ни сам он, Алексей Полянин, сильный, разумный, полный жгучего желания жить и делать людям добро, — никто, ничто не сможет оградить его в эти последние минуты от нацеленной в него вражеской силы.
То, что он угадывал, случилось: от широких крыльев самолета, будто стайка головастиков, пущенных в воду, отделились бомбы; новый, свистящий, усиливающийся с каждым мгновением звук, который был страшнее оглушающего рева моторов, неотвратимо приближался, леденя голову. Алеша с почти угасшим сознанием подумал: прежде чем оборвется этот нарастающий вой падающих бомб и грохот взрывов заглохнет в окрестных лесах, его уже не будет среди живых. «Прощай, мамочка… Все-все прощайте…» — крикнул в мыслях Алеша, вжался лицом в мокрую холодную землю.
Потом, когда небо очистилось от гуда и самих самолетов и возвращенная лесу тишина оживилась возбужденными голосами людей, Алеша, растерянный, грязный, жалкий, но совершенно целый, подошел к тому месту, где упали бомбы. Бомбы упали даже не в болото, в котором он лежал, — земля была разворочена по краю леса — здесь лежали опрокинутые взрывом сосны с обломанными ветвями и побитыми вершинами. С обнаженных влажных корней отваливались комья, с шорохом катились по свежей желтой супеси, с легким плеском падали в уже проступившую со дна, заполнившую круглые ямы воду.
Он стоял у шелестящего края воронки, думал, что мог бы лежать на месте этих уже навсегда мертвых сосен, что вообще могла бы быть на его месте такая вот пустота бомбовой ямы. Но он был жив. И оттого, что продолжал жить, и не какой-то другой, а прежней своей жизнью, и весь установленный в его душе, ясный ему порядок чувств и мыслей, определяющий его жизнь, тоже был при нем, он должен был ответить перед самим собой за дикий, слепой страх, который он испытал перед только показавшейся над ним смертью.
«Что это было?.. — думал Алеша, пытаясь понять себя в том, что произошло. — Что со мной?» — думал он, помня, как готовился к любым случайностям войны. Он помнил, как у врача-старушки рвал без наркоза корни сломанных зубов, испытывая себя на боль. Как, будучи уже в училище, стоял, закаменев, но не опускаясь даже до малого унижения перед самым высоким начальством, которое в бешенстве отчитывало его за неуставные вольности в учебных военных играх. Как мыл полы, чистил сортиры, перевязывал в госпиталях, на учебной практике, тяжелых солдат с отвратной вонью гноя на застарелых ранах. Все это он делал вопреки своей разнеженной, страдающей даже от грубого слова, даже от случайного недоброго взгляда, ранимой душе. Делал, чтобы знать, что он в силах, что он может сломать в себе любое нежелание, все привычки устроенной своей жизни ради исполнения назначенного ему долга. Он готовился к пыткам и к самой смерти. И теперь жили в его памяти деревня Петрищево и казненная Зоя; он читал и перечитывал в спрятанной у себя газете о ее подвиге, как верующий перечитывает святую для него Библию. Ставил себя на место Зои под петлю виселицы, не однажды мысленно проверял себя на готовность к подобной смерти. Он верил, что готов быть на войне. Готов и на войне. Готов и на виду смерти не уронить ни своего достоинства, ни достоинства тех, кому был обязан жизнью…
«Что же случилось? — думал Алеша. — Как случилось, что первый же фашистский бомбовоз сломал мою волю? Неужели страх перед настоящей смертью сильнее, чем всё продуманное и прочувствованное наперед? Зачем тогда разум? Зачем воля? Зачем я человек, если я делаюсь как обезумевшая овца и слепо несусь от смерти? Стыд-то какой! Весь я в позоре, как в этой вот болотной грязи!..» Алешу охватил тот совестливый стыд, который всегда возникал в нем, когда он делал дурной поступок по слабости души. Он подошел к опрокинутой сосне, попробовал отереть налипшую на ладони грязь о ее шершавую кору и вдруг отвел руки: ему показалось кощунством лепить свою грязь на павшую от бомб сосну.
Он пытался вспомнить, как вели себя другие люди под налетом немецких бомбардировщиков, но вспомнить ясно не мог. Он не смотрел, что делалось вокруг. Все же смутно помнилось, что другие люди; по крайней мере в начале налета, тоже метались по лесу. Но легче от того ему не стало. Он отвечал за себя. И перед своей совестью.
Стоя у пустоты бомбовой ямы, с трудом устанавливая необходимый ему порядок в перевороченной страхом и стыдом душе, он вдруг подумал с ясностью, с какой никогда прежде о смерти не думал: «Да, смерть одна. И одинаково страшна для всех. Но умирают по-разному. И если я хочу быть человеком в жизни, я должен быть готов к тому, чтобы человеком умереть».
Он вернулся к парилке, не замечая ни грязных сапог, ни подтеков торфяной жижи на одежде; время от времени, он только зябко поводил плечами от неприятной, холодящей сырости в рукавах. Хотя мысли о будущем своем поведении на войне ему были ясны, нравственно он был подавлен и, как провинившийся человек, хотел одиночества. Здесь, у потухшей печи, где он пристроился, свесив с колен грязные руки, и застал его старший лейтенант-особист. В полной форме, аккуратный, чистенький, от сапог до воротничка гимнастерки, от фуражки без единой морщинки на тулье до блестящих ремней двойной портупеи со свисающими с нее по бокам тяжелой кобурой и планшетом, он, можно было думать, только что приодел себя для парадного выхода, хотя Алеша знал, что этот старший лейтенант ходит по расположению батальона всегда в таком вот неприкасаемо-аккуратном виде. Когда он по-хозяйски сел рядом, подставив под себя чистый чурбачок, Алеша с завистью к его, виду подумал: «И где только он был в час бомбежки?!»
Старший лейтенант не терзал его душу допросом, напротив, был подчеркнуто-вежлив и как будто щадил его самолюбие: больше разглядывал, меньше расспрашивал о том, как случилось, что он, военфельдшер, подложил в горящую печь дрова, когда уже была объявлена по батальону воздушная тревога.
Побыл он недолго, наверное, потому, что своим цепким взглядом увидел и наглухо закрытое чело печи, и трубу, заткнутую шинелью. С необидным сочувствием, даже как-то дружески посоветовал:
— Приведи-ка себя в порядок, военфельдшер… — и ушел, спокойный, уверенный в себе, оставив запах одеколона, звук скрипящей портупеи, блеск отличных хромовых сапог.
Опасности в разговоре старшего лейтенанта он не уловил. И только потом, когда особист ушел и Алеша, расколов ледок, умылся в ручье, и, вконец продрогнув, надел задымленную шинель, и долго махал руками и прыгал, согревая себя, он вспомнил Аврова, вдруг шагнувшего к нему в расчетливо выбранную минуту откровенной его растерянности, и тоска, совершенно похожая на тоску, которую он испытал в болоте под нарастающим свистом падающих бомб, сдавила его сердце. Нет, это не был страх, — он слишком верил в справедливое разрешение всех вопросов жизни, чтобы испугаться представителя неведомой ему особой службы государственного надзора; но почувствовал тоску гонимого зверя: он не сомневался, что и эту, всегда неприятную для, людей, службу направил против него старшина Авров.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ Добрые люди
1
В этом просторном, людном по вечерам шалаше Алеша отогревал душу. Жили здесь артиллеристы, но вокруг невидимого со стороны костра, разведенного в ямке, посередине шалаша, собирались разные по возрасту и по службе люди, те, кому артиллеристы, по каким-то неясным для Алеши причинам, симпатизировали. Собирались перед отбоем, уже в осенней темноте, и, хотя не женщины хозяйничали на этих вечерах, — были здесь одни мужчины в одинаковой военной форме, — все равно, сам уют тесного сидения вокруг огня в неспешном, часто веселом и остром разговоре как будто возвращал каждого, вычлененного войной из привычного семейного и трудового круга, к счастливым, как теперь казалось, временам довоенной жизни.
Старшим по званию в шалаше был командир батареи старший лейтенант Романов, человек распахнутого сердца, всегда нетерпеливый, всегда рвущийся в спор, вносящий во фронтовое застолье больше суеты, чем порядка. Настоящим же хозяином уютного костра, чая и неспешных бесед был лейтенант Жимбиев, казах с широким красивым лицом, который, как постепенно узнавал Алеша, командовал орудийным расчетом в батарее Романова.
Алеша наблюдал, как умело хозяйничает он у огня, пытался для себя определить возраст лейтенанта и терялся в догадках: судя по гладкой, молодо поблескивающей смуглой коже щек, по ярким губам и совершенно черным, плотным волосам ему не было больше двадцати; по сдержанности движений, по мудрой неторопливости разговора, по тому, как умел он, слушая, смотреть, как бы вбирая узкими, неподвижными, внимательными глазами речь собеседника, он мог бы иметь за плечами вдвое больше. Именно этой уверенной взрослой сдержанностью и спокойной распорядительностью привлекал молчаливое внимание Алеши лейтенант Жимбиев.
Каждый, кто приходил побыть в шалаше, выкладывал на расстеленную у огня плащ-палатку свой пай к обязательному чаю: пару сухарей, кусок хлеба или сала; Алеша обычно приносил в марлевой салфетке сэкономленный сахар. Жимбиев всю еду делил, красиво раскладывал, заваривая чай в полуведерный медный чайник, где-то раздобытый его солдатами. Чай он всегда заваривал сам, сам и разливал с бережливостью по кружкам, и взгляд его глаз, следящих за темной, вытекающей из носика горячей струей, был молитвенен. Как бы ни был горяч разговор, все замолкали, когда Жимбиев разливал чай, смотрели на его короткие сильные руки, умело удерживающие тяжелый чайник; от любимого им усердного действа на его широком, с раздутыми крыльями ноздрей, носу проступали в горячих отсветах огня мелкой высыпкой капельки пота.
Алеша осторожно пригубил налитый ему в кружку чай; рука не выдержала обжигающий пальцы жар нагретой кипятком жести, он пристроил кружку в развилке упругих еловых лап, на которых сидел. Но пахучий парок, который он успел вдохнуть, тронул память, и тут же сердце сдвоило удары, в груди заныло: увиделись отзывчивые на его просьбы мамины руки; протягивающие ему через стол на блюдце чашку, с торчащей, позвякивающей о край ложечкой, и Алеша, сознавая, как далеки сейчас от него мамины руки, с молчаливой благодарностью обласкал взглядом и Жимбиева, и Романова, и всех других, сидящих кругом, принимающих в ненадолго установившемся молчании кружки, дымящиеся парком в ощущаемой все-таки в шалаше прохладе. Алеша понимал, что для самого Жимбиева, для Романова и для всех, кто собирался у костра в шалаше артиллеристов, важен был именно чай и общий разговор за чаем. Чай был их недавним прошлым, был оттуда, из мирной жизни, теперь порушенной войной, и близкая память о доме, оживляемая тесным гостевым кругом и знакомым запахом хорошо заваренного чая, была для каждого как теплинка домашнего уюта, сотворенная под этими чужедальними, зябкими в поздней осени лесами.
Здесь, в шалаше, Алеша не только отогревал свою одинокую душу, — молча внимая людям бывалым, он примеривал себя к уже идущей вокруг новой для него фронтовой жизни и особо, с замиранием сердца, к тем дням, когда в каком-то близком от них месте соприкоснутся непримиримо враждебные друг другу армии, и полыхнет по земле огонь, и, как сейчас в Сталинграде, будут и у них падать и гибнуть люди, и дни станут ночью. Он думал о минуте, когда перед ним появится человек, по имени враг, и он должен будет выстрелить в этого человека, быть может, и убить. Он думал об этой неизбежной, как казалось ему, минуте с опасливостью и смущением, и, когда представлял эту минуту, какое-то хватающее, цепкое чувство, о котором никому он не говорил, нарушало обычно ясный ход его мыслей. В памяти хранилось одно из потрясений юности, когда однажды вернулся с работы отец, снял очки, до онемения сдавил переносье пальцами, чтобы не видеть ни Елены Васильевны, ни Алеши, сказал: «На дороге, в горах, нашли убитого человека…» Алешу потрясло слово: не «мертвого», а «убитого»! О человеке, которого нашли, потом говорил весь поселок, рассказывали — возбужденно, слушали — подавленно; люди долго не могли успокоиться. Алешу событие вывело из душевного равновесия. Он ходил на то место, представлял, как это случилось, и не мог уложить в мыслях, как вообще может такое быть: кто-то у кого-то зачем-то отобрал жизнь! Убил человеческую жизнь!..
Здесь, на войне, было по-другому. Хорошие, добрые люди, сидящие вокруг огня, рядом с ним, с кружками горячего чая в руках, разделяли радость тех, кто стрелял, кто убивал удачливее. Правда, никто из них не говорил: «убил», обычно говорили: «Дали фрицам прикурить!..» Или: «Ну и положили их там!..», но за этими словами все равно стояла смерть. Алеше казалось, что, говоря нестрашными словами о страшном, каждый из говоривших как бы старался оправдать перед собой и другими свою изменившуюся в сторону жестокости душу. Слова «немцы», «фрицы» уже в самом произношении окрашивались враждебным чувством, связывались с понятием «враги» и тем самым как бы отчуждались от тех нравственных принципов, которыми эти добрые люди руководствовались в отношениях друг с другом.
Алеша приглядывался к тем, кто уже был в бою, уже стрелял, убивал, старался найти в них то, что отличало этих людей от других, еще не бывших в деле, или от него самого, и ни в разговоре, ни в поведении, ни в выражении лиц не находил ни жестокости, ни раскаяния. С особой пристальностью он наблюдал сегодня за Петренко, ротным санинструктором, который вдруг попал в герои батальона, хотя до вчерашнего дня был тих и незаметен. Вчера, поутру, Петренко взял в плен немецкого офицера, взял с большим для себя риском, как говорили все, и был уже представлен к награде. Здесь, в спокойном, вроде бы не очень близком к фронту тылу, он совершил то, о чем Алеша мог только мечтать. Совершил и как будто уже забыл о том. Его широкое, с розоватостью здорового человека лицо было спокойно-добродушным, голубые, какие-то не солдатские глаза, как всегда, смотрели на разговорившихся людей с застенчивым вниманием; и кружку с чаем он держал в ладонях у подбородка, как бы скрываясь за кружкой от излишне любопытных взглядов. Интерес он вызывал не только у Алеши — размашистый в движениях командир батареи Романов, подхватывающий с плащ-палатки свою эмалированную кружку, смачно отхлебывающий горячий чай и после шумного глотка возвращающий кружку обратно на плащ-палатку, уже не раз прицеливался озорноватым взглядом к Петренко. Наконец уловил момент, дал по герою залп:
— Петренко! Ты-то чего молчишь? Батальон перебаламутил, всех строевиков опозорил и — любуйтесь, люди! — сидит некоханой девицей! Кайся, Петренко!
Петренко ссутулился, стараясь уйти от общего к нему внимания, мял лоб, брови, укрывал под ладонью проступившую в глазах неловкость; он знал, что здесь, в шалаше, отмолчаться ему не дадут, и, примостив дымящуюся парком кружку на своем сапоге, аккуратно придерживая ее за ручку, поднял на Романова глаза:
— Та что говорить, товарищ старший лейтенант! Повстречались с нимцим, поигрались, вот и… — Он пожал плечом, занялся с кружкой, сосредоточенностью движений стараясь внушить, что говорить ему больше не о чем.
…Весть о том, что Петренко один, без оружия захватил в плен немецкого офицера, облетела батальон вмиг. Алеша, как услышал, рванулся через лес к штабным палаткам, он не мог устоять перед возможностью увидеть живого врага. Плененный офицер был у палатки комбата, под березами. Сам комбат, высокий, нескладный, быстро ходил взад-вперед перед немцем, раскидывая сапогами шуршащие листья, В лице его Алеша видел два отчетливо выраженных чувства: одно из них — радость счастливой для батальона удачи; другое — злобное торжество над наконец-то оказавшимся в руках живым врагом. И это второе чувство было как будто сильнее, и, когда комбат поворачивался и проходил мимо немца, Алеше казалось, он ловит момент, чтобы молча, наотмашь ударить пленного по лицу. Немецкий офицер опасливо озирал возбужденного командира, поднимая поочередно ноги, суетно стягивал с себя пятнистую маскировочную одежду, железные пуговицы не давались его дрожащим рукам, он рвал их спешащими движениями. Выражение его побледневшего лица постоянно менялось: в какие-то мгновения он как будто вспоминал о том, что он — офицер; можно было уловить в его взгляде даже надменность. Но мимолетные эти выражения совершенно тонули в общем состоянии испуга и растерянности, он не мог остановить ни дрожь пальцев, ни подрагивание изломанных страхом губ. Офицер был молод, может быть, чуть старше Алеши, тоже в очках, только хороших, роговых; богатая оправа очков придавала упитанному его лицу интеллигентность, правда, смятую испугом. Молодость пленного, его очки, интеллигентный вид, беспомощность перед чужими ему людьми, во власти которых он теперь был, смущали Алешу. Он знал, что этот офицер, напуганный ожиданием смерти, предупредительно-послушный каждому указующему жесту чужой руки, — враг, враг ему и всем, кто был сейчас у штабной палатки, и все-таки жалел его и думал в смятении, что, приведись ему встретить такого вот немца где-то на впереди лежащих дорогах, он не нашел бы в себе силы выстрелить в него. «Вот комбат — выстрелит! И ударит, и убьет!» — думал Алеша, с нарастающим душевным напряжением наблюдая комбата. Он боялся, что комбат не сдержит себя, ударит пленного — и тогда что-то случится, что-то оборвется в его понимании человеческой порядочности, и он, Алеша, навсегда потеряет уважение к своему командиру.
Алеша старался понять, что чувствуют другие, стоявшие тут же командиры и солдаты. Он видел комиссара Миляева: комиссар батальона сидел на пеньке, положив на колени свою кирзовую полевую сумку, как-то по-домашнему расположив на ней руки, и, как все, тоже смотрел на пленного офицера. Он не вмешивался в поведение комбата. Он только смотрел без сочувствия, с каким-то пристальным, вникающим вниманием; почему-то именно присутствие комиссара успокаивало смятенные чувства Алеши.
Комбат встал спиной к пленному, с высоты роста оглядел молча стоящих среди берез солдат.
— Петренко? Где Петренко?! — крикнул он.
Петренко выступил боком, как будто его подтолкнули. Его округлое мягкое лицо розовело на скулах, но голубые глаза смотрели прямо и твердо.
Комбат шагнул ему навстречу, выбросил вверх кулак:
— Молодец, Петренко! К ордену Боевого Знамени тебя!
Петренко стеснительно пожал плечом, как бы говоря: «Что ж, вам виднее…»
— К ордену тебя, Петренко, слышишь?! — повысил голос комбат.
— Есть к ордену, товарищ капитан, — тихо сказал Петренко и почему-то посмотрел на Алешу. Взгляды их встретились; Алеше показалось, что Петренко смотрит на него с пониманием, он весь вспыхнул от этого случайного взгляда и внезапно, по какому-то неуловимому обороту мысли, подумал: «А Петренко мог бы убить? Ведь не убил. Но мог бы?..»
«…Мог бы?» — думал теперь, сидя в людном шалаше, Алеша, наблюдая, как Петренко старается избежать общего, стесняющего его внимания. Неспокойный Романов давно уже вышел из себя, даже привстал, как будто хотел своими длинными руками дотянуться до упрямого санинструктора и потрясти! Но слова в Петренко сидели мертво, как гвозди в дубовом кряже; и, как старший лейтенант ни горячился, вытягивал он из Петренко одну только фразу: «Та што говорить, товарищ старший лейтенант!..»
— Вста-ать! — вдруг заорал Романов, будто был перед строем батареи, и первым поднялся, подперев высокими плечами тяжелый лапник.
— Товарищ батальонный комиссар…
Никто, кроме Романова, не заметил, как поднырнул в низкий ход шалаша комиссар, никто не успел встать, — комиссар вытянул перед собой ладонь, тихим торопливым голосом всех оставил на местах. Людской круг потеснился: комиссар сел рядом с Алешей, ловко, по-казахски, подогнул под себя ноги. Отодвинуться Алеша не мог и стеснительно и радостно напрягал плечо, когда его касалась плотная, жилистая, быстрая рука комиссара. Комиссар, как показалось ему, был не в лучшем своем настроении, поданную ему кружку чая принял рассеянно и, хотя кружка была горяча, не поставил ее, как это делали все, на колено, а забывчиво держал на ладони.
Алеша осторожно, насколько позволяла ему его стеснительность, наблюдал близко сидящего к нему человека. Он наблюдал его именно как человека, потому что еще дома, под незаметным влиянием отца, учился видеть в любом, даже самом высоком должностном лице прежде всего человека с главными его качествами — добра или зла, справедливости или жестокости, честности, прямоты или всегда неприятной снисходительности к другому человеку.
Комиссар был худ, по росту не велик: даже сейчас, когда они сидели рядом, Алеша нарочито сутулился, чтобы не смотреть на комиссара сверху. И никакой внешней красоты не было в комиссаре: крупная голова, особенно широкая в висках; сухое лицо с неровным, каким-то бугристым носом; пятнистые щеки, когда-то исцарапанные оспой; почти сросшиеся над переносьем брови, на концах загнутые этакими чертовыми рожками; неопределенного цвета жиденькие волосы были сдвинуты на одну сторону, на крупное, чуткое ухо. Не по-военному держалась на его узких, покатых плечах и гимнастерка, хотя, как все строевые командиры, он был перепоясан ремнями и носил кобуру с пистолетом и кирзовую, потертую на сгибах полевую сумку. И походка у комиссара была совсем не строевая: Алеша не раз видел, как ходил он по расположению батальона неторопливыми короткими шагами, наклонив голову, не по-военному закинув руку за спину. Словом, в комиссаре все было вроде бы против красоты и против не такого уж редкого даже здесь, на фронте, подчеркнутого воинского блеска.
Но странно, на этого некрасивого человека хотелось смотреть, хотелось быть с ним рядом; он привлекал; и Алеша, то ли от уважительных разговоров, которые шли про комиссара, то ли по внутреннему чутью на истину, ощущал и верил, что у этого невидного, как будто бы измятого жизнью человека внутренней силищи на сотни людей. Смотреть неотрывно на комиссара, как хотелось, он не решался, — смотрел, не поднимая глаз, на узкие кисти его рук с неразгибающимися до конца пальцами, тоже как будто чем-то измятые. Чай комиссар все-таки выпил горячим и теперь перебрасывал с ладони на ладонь вытащенную из углей и поданную ему картофелину.
— Откуда картошка, Жимбиев? — в голосе комиссара было больше настороженности, чем одобрения. Жимбиев тотчас уразумел и вопрос, и тон, которым вопрос был задан; его непроницаемое для чувств лицо осталось спокойным, спокойным был и ответ:
— Деревня тут совсем гиблая, без домов, без людей, товарищ комиссар. Яму ребята нашли. Много картошки…
— А люди вернутся? Голод встретит? Думал?!
— Думал, товарищ комиссар. Два ведра взяли. От дурного глаза яму укрыли. Сами мало кушаем. Для гостя бережем.
Комиссар умостил на ладони остуженную картофелину, разломил, от каждой половины не торопясь куснул, пожевал медленно, как жуют старики; все поняли: Жимбиева он не осудил.
— О чем шумели? — спросил он, нацеля рожки бровей на Романова.
Романов больше чем надо зашевелился, размашисто кинул руку в сторону Петренко.
— Вот с ним маялись, товарищ батальонный комиссар! Пытали, как фрица сграбастал. А он молчит, как девица про первую брачную ночь!
Комиссар перевел взгляд на Петренко. Алеша быстро взглянул на комиссара, увидел, как затеплились его глаза, и почувствовал: толкнулась в сердце ревность! «Ну, почему, почему не ему выпало военное счастье?!»
Комиссар молча разглядывал Петренко, как будто прощупывал взглядом податливые места его души, и спросил совсем не о том и не так, как спрашивал Романов:
— Зачем в поле-то пошел в такую рань?
И Петренко с неожиданной живостью откликнулся:
— Та привычка, товарищ батальонный комиссар! Хлеб робишь, рано у поле идешь. На солнце дивился… — Петренко, стеснительно улыбаясь, отвечал, комиссару, и Алеша с первых же его слов как будто сам вышел из шалаша и побрел на утреннее поле. Туман уже оторвался от земли, и шел он вроде бы под низкой крышей; влажная, скошенная солдатами стерня обмывала его сапоги. Постоял он у снопов ржи, составленных солдатами в суслоны, погоревал, что зерно осыпается, а в поле немо — ни люда, ни стука молотьбы. Прошел до леса. Назад поворотил. Да захотел дождаться солнца, присел у снопов. Тут и шумнула из пологой балочки стайка куропаток. Куропатки — птицы плотные, заработали крыльями — шум, будто мотор запустили! И что интересно: полетели они оттуда, снизу, и прямо к нему, к человеку! Алеше не стоило бы труда догадаться, что не от спокойной жизни поднялись на крыло куропатки-бегуны. А Петренко еще поглядел-понаблюдал, как опустились они под туманом на краю поля, да еще вспомнил степь за своей хатой! Потом уж поднялся, пошел к балочке поглядеть, что за помеха птиц подняла. Глянул — обомлел: внизу — шапкой докинешь! — семеро фрицев в пятнистых своих халатах, согнувшись, гуськом по балочке пробираются. У первого за спиной ящик-рация, и торопятся они от восхода солнца: подзадержались, проплутали где-то, теперь по намеченной дорожке к себе, за фронт. Подумать есть о чем: их — семеро, Петренко — один; фрицы с оружием, у Петренко — только санитарная сумка через плечо. Да вот незадача: думать некогда! Ринулся Петренко с диким воем вниз, взлетел над балочкой, как орел над пугливой кроличьей ратью. И подхватились фрицы! Не иначе, почудилось им — в засаду угодили. Видел Петренко: последышем драпает фриц в очках, посверкивая мокрыми подошвами ботинок. Бросился за ним. Фриц, видно, от торопливости запнулся, сунулся головой в траву — себе на беду, Петренко на счастье. Пал врастяжку, а на боку лежа, рвет кобуру неверной рукой, отпахнул крышку, рукоять парабеллума из кобуры уже полезла. Вспомнил тут Петренко два страшных для немца слова, не вспомнил даже — слова сами, будто выстрелы, сорвались с языка. «Хенде хох, курва!» — заорал Петренко, сорвал с плеча сумку, крутнул да немцу в ноги. Поджался фриц, руками голову обкрутил, ждет гранатного взрыва. Так вот и ждал, пока из его кобуры пистолет не выхватил Петренко…
Алеша, слушая, по-своему, переживая то, что случилось пережить другому, все время помнил о душевной неопределенности, которая в нем была, когда он разглядывал уже плененного немца. Петренко в случайном столкновении победил, победил без смерти, без крови; это было как раз то, что душевно устраивало Алешу. Но вопрос, коварный, не решенный им, перебивал все другие мысли. А если бы все случилось не так? Если бы немец успел, выдернуть пистолет? Если бы те шестеро не оставили в беде своего? Что тогда? Тогда была бы кровь, была бы смерть…
Он даже вздрогнул, когда в установившемся общем молчании услышал голос комиссара:
— Слушай, Петренко, а вел ты себя не по-умному… — Комиссар глядел на Петренко, щурился, будто целился в одну, только ему видимую точку. — Не по-умному, — повторил он. — Окажись эти семеро сообразительнее — стоять бы тебе сейчас «языком» перед немецким генералом!
Петренко будто отяжелел от мгновенной обиды, ниже опустил голову, нежные еще щеки затвердели, губы несогласно сжались. Не поднимая головы, исподлобья, он смотрел на комиссара, и Алеша поразился упрямой твердости его взгляда.
— Нет, товарищ комиссар, — сказал он, не уступая. — Расчет точный был. В чужой хате вор от кошки за дверь скачет. Я на своей земле был. Видел: фрицы света боятся. Себя выдать боятся. А язык, товарищ батальонный комиссар, коли случится такое, и откусить можно…
Алеша подумал: «И откусит…» — перед ним был совсем другой Петренко.
Комиссар, не скрывая удовлетворения, туго скрестил на груди руки, поглаживая согнутыми пальцами плечи. По какому-то своему, комиссаровскому разумению он вдруг наклонился к Алеше, глядя сбоку, спросил:
— А что думает по этому поводу военфельдшер?
Алеша будто кипятка хватил: изумился дружным к нему вниманием, опустив голову, терпел, пока не отступил от горла жар. Поднял на комиссара горячие от волнения глаза, ответил с убежденностью, на которую только был сейчас способен:
— Петренко — герой, товарищ комиссар! Главное — не убил. Живым немца привел!
Мгновенным, все охватывающим зрением он увидел, как заулыбался, будто в неловкости, Романов, почти закрыл плоскими веками глаза, ухмыльнулся Жимбиев. Петренко смотрел с любопытством, кто-то с жалостью, кто-то с сочувствием. Комиссар будто застыл в наклоне, согнутые его пальцы уже не гладили — сдавливали плечи. Он выпрямился, уперся кулаками в колени, взглядом вроде бы всех приглашая к разговору, спросил:
— Слушай, Петренко! Случись выстрелить в того немца — ты б заробел?!
Алеша покрылся испариной: комиссар открывал для всех его тайные мысли.
Петренко, как тогда у штабной палатки, внимательно посмотрел на Алешу, но ответил не так, как он ждал:
— Выстрелил бы, товарищ комиссар. По нужде бы выстрелил.
— Вот то-то и оно! — Комиссар как будто ждал этих слов. — По нужде! Война вся — страшная нужда. Никого не щадит фашист! И жестокость его добротой не поправишь! Гитлер освободил своих солдат от совести. А человек без совести — разве человек?! Фашизм делает ставку на силу. Признает только силу. Как нам быть со своим добром и человечностью?! Остается одно: на силу ответить силой… Может, кто-то знает другой способ победить фашизм? — Комиссар подождал, не возразит ли кто-нибудь на жестокую прямоту его слов.
Все молчали. Он досказал:
— Один из поэтов нашел такие слова: «Я стреляю. И нет справедливости справедливее пули моей…» Точно сказано. Стоит пропустить эти слова через сердце… Что ж, спасибо за картошку, чай. Время к отбою. По домам?
Из шалаша комиссар и Алеша вышли вместе, вместе по памяти осторожно шли во тьме ночного леса. На опушке, угадываемой по звездному небу, комиссар остановился, сказал с неожиданной теплотой:
— А на Урале звезды ближе — горы!
— Где на Урале, товарищ комиссар? — спросил, волнуясь, Алеша.
— Город такой есть, Златоуст. Не слышал?
— Даже рядом жил!
— Ну? — удивился комиссар. — Где?
— В Миассе.
— Значит, и с тобой мы с одной земли! — Комиссар снова вошел во тьму леса, разговором увлекая за собой Алешу. — В Златоусте я на заводе работал. В цеху у печи стоял, пока легкие не обжег. Таганай знаешь?..
— Как же! Даже лазали с отцом!
Случайный попутный разговор позвал Алешу к откровению. Знать, что комиссар думает о старшине Аврове, было для него так же важно, как знать свое место на войне. Алеша догадывался, что в батальоне с Авровым связано нечто большее, чем знает он. Но спросить об этом прямо он не решился и спросил не совсем о том, что беспокоило его в действительности.
— Простите, товарищ комиссар, — сказал он, обходя темные стволы деревьев и снова оказываясь рядом. — Но как вы относитесь к нашему старшине Аврову?
Комиссар остановился.
— Слушай, военфельдшер! Это я должен спрашивать тебя о твоих подчиненных! — В голосе его звучал упрек и досада. Что-то подсказывало Алеше, что комиссар знает о том, что происходит в санвзводе. Знает. Не одобряет. Но пока почему-то молчит.
Комиссар снова двигался среди деревьев, руками отводя невидимые ветви; чувствуя состояние Алеши, говорил:
— Ты подумай-ка вот о чем. В этом любопытном шалаше тебя приняли. А старшину Аврова я ни разу не видел у артиллеристов. У далеко не простого их костерка! Ни разу!..
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ Комбат-два
1
Разбитая еще по теплу ногами солдат, колесами телег, машинами, теперь затвердевшая, дорога была мучительна. Подошвы кирзовых сапог соскальзывали с земляных глыб, каблуки с хрустом проламывали ледок лужиц, и брел Алеша один, в гулком одиночестве, среди лесов, до отказа набитых людьми, не нужный никому — ни батальону, ни фронту, ни войне.
Оступаясь на колдобинах, он отошел от дороги в лес, опустился под старую ель на подернутые изморозью корни. Уходить от батальона было трудно. Он все еще надеялся, что пересидит здесь, под старой елью; тем временем комбат образумится, пошлет вдогонку своего молоденького связного. Вместе они и возвратятся в батальон. Человек не может не помнить о том, что кому-то сделал больно. На то он и человек, чтобы помнить.
Сам Алеша помнил. Помнил, как по вызову шагнул в блиндаж комбата-два, шагнул в радостной готовности чем-то еще послужить батальону, а вышел, не видя от горя земли и неба. Помнил, как собирал свои скудные вещи в мешок, как, уже покинув батальон, брел разбитой дорогой в другой лес, где располагался штаб бригады. Больше, казалось, он ничего не помнил.
Но проясняющая работа сознания шла в его страдающей душе, и с удивлением он обнаружил, что в зрительной его памяти сохранилось нечто большее, чем холодный взгляд суженных глаз комбата и голос его, бесстрастный и оглушающий невероятным смыслом произносимых слов: «Из батальона вы отчисляетесь за ненадобностью…» Оказывается, он помнил, что комбат-два был без гимнастерки и сидел на краю нар, положив ногу на ногу, и за белым, обтянутым рубашкой его плечом, в углу, темнела наклоненная голова знакомой ему девушки Полинки. Полинка клонила голову не из смущения, как теперь соображал Алеша, — на худеньком, когда-то задорном ее личике уже устоялось выражение вызывающей замкнутости, какого-то отстраняющего презрения, и, может быть, именно к нему, неудачнику, не сумевшему отстоять свое, а может быть, и ее достоинство. Была она уже в заботах о другом человеке и голову клонила к расправленной на коленях гимнастерке комбата, на которую старательно нашивала подворотничок. И чувствовала она себя в блиндаже комбата явно по-домашнему, и сознавать это было больно даже теперь, когда все уже было позади.
Память открылась: все теперь помнилось с отчетливостью второго, уже осмысленного ви́дения. Вспомнилось ясное утро общего построения батальона, комбат-два, нескладно высокий, перетянутый поверх длинной шинели ремнями, его голос, четкий, торжественный, будто одаривающий этой торжественностью весь батальон, застывший перед ним на поляне, и, конечно, он самый, старшина Авров, молодцевато вытянувшийся в трех уставных шагах впереди общего строя. «За отличное санитарное состояние всех подразделений батальона старшине санвзвода Аврову объявляю благодарность!..» — торжествен, звучен в осеннем ясном лесу голос комбата-два; глух, вороват торопливый уставный ответ старшины… Или так кажется? Алеша по всегдашней своей привычке ставит себя на место старшины, старается представить, что можно чувствовать, присвоив чужую благодарность. Нет, это только кажется. Старшина встает в строй рядом, в старании отлично выглядеть крепко задевает его плечом. Взгляд он чувствует: сухие губы растягиваются, роняют холодную усмешку в сторону Алеши, не смеющего пошевелиться в строю. «Ведь пальцем о палец не ударил! Рассчитывал, что неопытный фельдшеришка сломит себя на том, что, казалось, исполнить невозможно!» Но дело было сделано, и Авров сумел подставить свои плечи под чужие достоинства. И откуда такая ловкость? И независимость, и сила? И такая необъяснимая ненависть к нему, Алеше?..
Алеша был в отчаянье; он вспоминал свои отношения с Авровым шаг за шагом, с пристрастием допрашивал себя и ни в чем не находил своей вины.
«Так где же та скорбная черта, что разделяет людей? — в исступлении думал он. — И если она есть, то зачем она?!»
Алеша вдруг вспомнил одно из ворчливых откровений Ивана Степановича: «Ищешь, понимаешь, справедливости. Того самого не знаешь, что врачиха аттестовала старшину. На военфельдшера аттестовала! Старшина ждал приказа свыше. А свыше тебя прислали. Вот ты и ляпнулся, как блин на сытую рожу!.. Ничего ты, дурь-голова, не понимаешь. Зеленый!..»
«Может, и правда зеленый!» — думал Алеша; и виделся ему Авров на раскладушке в палатке врачихи, и сама врачиха на коленях, и голова ее с распущенными волосами на груди у старшины. И тут же, будто это тоже было рядом с тем, что виделось ему, он с дрожью вспомнил случайно услышанный разговор Аврова с Полинкой.
«Ты все-таки пойдешь. — Это был голос старшины. — А я говорю — пойдешь. И сегодня же!» — Голос старшины был жесток, как приказ. «Значит, продаешь?! — тихо сказала Полинка. — Себя продал, теперь меня продаешь?» — Она сказала это с таким презрением, что у Алеши оборвалось сердце. Разговор был не для него, он поспешил уйти. Но на другой день все знали, что Полинка ночевала в блиндаже комбата-два.
Все, что припоминалось сейчас Алеше под старой елью, было как лоскутки разрезанной, разбросанной по дням его жизни, еще не видимой им картины; он знал одно, знал другое, что-то соединялось, что-то было само по себе. И вдруг, как это обычно случается, когда человек долго и мучительно думает об одном, все лоскутки, незнаемые по отдельности, составились точно теми краями, которыми соприкасались в самой жизни, и картина, которая была в действительности, но до сих пор не видимая в своей целостности, вдруг предстала перед ним. И Алеша готов был завыть от того, что увидел.
Начальником санитарной службы бригады оказался хмурый человек, сутулостью, худобой, шалашиком усов под широким носом похожий на памятного ему семигорского Ивана Митрофановича Обухова. Слушал он Алешу, сидя боком к пустому белому медицинскому столику, хмурился, моргал и почему-то прикрывал ладонью ухо, как будто его раздражал тихий голос стоящего перед ним навытяжку совсем еще юного медработника. Не дослушав, он разгневанно стукнул по столу кулаком, и стол дрогнул и сдвинулся на тонких своих ножках. Алеша побледнел; он подумал, что к несправедливости комбата добавится сейчас гнев этого хмурого человека и всё вместе уже бедой обрушится на него, с еще большей высоты, и теперь непоправимо. Так поняв, он обрел силу внутреннего сопротивления. Он еще раз вскинул руку к пилотке, напрягая мускулистое тело, как будто от физической его силы зависела сейчас и убеждающая сила слов, сказал:
— Разрешите объяснить, товарищ военврач второго ранга?..
Хмурый человек, морщась, расстегнул ворот гимнастерки, потрогал шпалы на своих петлицах, проговорил страдающим голосом:
— Нечего мне объяснять, голубчик… — и закричал: — Когда? Когда, я спрашиваю вас, комбаты, наконец, поймут, что медицинскими кадрами в бригаде распоряжаюсь я?! — И снова стукнул кулаком по шаткому, похоже не в первый раз битому столу. — Отправляйтесь обратно в батальон. И служите там, где вас поставили! Я напишу, я сейчас напишу ему, голубчику… — говорил он, в горячности выбрасывая на стол висевшую на его боку тяжелую полевую сумку. Нервно бегающей рукой он нацарапал карандашом на бумаге десяток слов, сложил, протянул Алеше.
— Передашь своему комбату. Иди…
Алеше оставалось откозырять, повернуться и уйти. К лучшему или худшему — этого он еще не знал. Он знал другое: он возвращался к себе, в свой батальон, и радость поднялась в нем таким теплым ответным чувством к сидевшему перед ним доброму человеку, что совершенно по-глупому он забормотал слова благодарности.
Начсанслужбы, видимо довольный неожиданно проявленной своей решительностью, покашливал в кулак, ворчливо останавливал:
— Ладно… Ладно… Достаточно…
Наверное, он чувствовал, что сам уже клонится к растроганности, потому встал и наставительно поднял кверху палец.
— Не меня благодари, голубчик! — крикнул он. — Благодари законы нашей армии!
В батальон Алеша возвращался утром. Переночевал он в одной из пустых палаток полевого госпиталя и теперь шел той же разбитой, еще более скованной ночным заморозком дорогой. Ночь он почти не спал в холодной палатке и сильно озяб; его и сейчас познабливало и подташнивало, похоже, от голода, — спросить в госпитале еды он постеснялся. Но шел он в приподнятости чувств и, пока шел, старался додумать важную, открывшуюся ему вчера мысль.
«Подобное, — думал Алеша, — ищет в жизни себе подобное. И сцепливается, как атомы в молекулы. И образуются цепочки. Короткие, длинные — всякие. Есть цепочки зла, которые сцепливаются из людей недобрых. Из таких, как Авров, как потерявшая себя в своем командирском обличье врачиха, из таких, как комбат-два. Но есть и другие цепочки — цепочки добра. Они составляются из людей как будто незаметных, таких, как Иван Степанович, комиссар Миляев, из таких, как похожий на Ивана Митрофановича Обухова хмурый военврач. Но они, цепочки добра, есть и противостоят злу. И в этом противостоянии чья-то судьба может зависеть от того, у добра или зла окажется больше силы…»
Этой мыслью Алеша удовлетворился, даже как-то успокоился. Поторапливая без того скорый шаг, подумал: «Жить легче, когда обретается ясность…»
Батальон он встретил на выходе из леса; движущимся ему навстречу живым потоком батальон изливался из тесноты лесной дороги на открытость пустого поля. И было в этом движении людей, будто спешащих ему навстречу, нечто до слез волнующее — батальон, казалось, снова вбирал его в себя. Алеша встал обочь дороги, стеснительно улыбался идущим мимо людям-солдатам, уже по-зимнему одетым в ватные стеганые штаны, шинели и шапки; батальон — он знал — теперь каждый день выходил на полевые учения. Он видел многие, уже знакомые ему лица и в то же время с напряжением, с нарастающими тревожными толчками сердца поглядывал вдоль строя людей, готовясь увидеть высокую фигуру комбата. И точно: увидел. Комбат-два размашисто шел по обочине прямо на него, пристально оглядывал строй, как будто не замечая вытянувшегося, ожидающего его человека. Алеша видел эту подчеркнутую отстраненность от него комбата-два и потому, не произнося ни слова, козырнул, протянул распоряжение начальника санитарной службы. Комбат-два приостановился, взял записку, развернул, глаза его сузились, над скулами вспухли желваки. Как будто заново читая записку, он пошел, сначала медленно, затем все быстрее, отлично зная, что возвращенный в батальон человек будет идти за ним, пока он не произнесет своего командирского слова. Комбат-два шел, уже не глядя на бумагу, шел молча, размашисто, убыстряя шаг. И шел за ним Алеша, понимая, что комбат дает ему почувствовать, что власть вышестоящего начальника — случай, власть же его, комбата, в батальоне — закон. И Алеша, чувствуя свое унижение и не смея по закону воинского подчинения повернуться и уйти, шел, все с большим отчуждением глядя в обтянутую шинелью узкую спину комбата-два.
Не поворачивая головы, комбат наконец приказал: «Становитесь в строй!..» — и приказ этот был еще большей несправедливостью: санвзвод в полевых занятиях не участвовал, — при наличии ротных санинструкторов и санитаров военфельдшер на учениях был не нужен.
Человеческая память умеет непостижимым образом приближать прошлое к настоящему. И сейчас, в эту минуту еще не совершенного поступка, память сдернула пелену времени с, казалось бы, уже забытого дня.
Было это в училище. Он стоял в большом, уже опустевшем зале столовой, держа руки по швам своих курсантских синих полугалифе; перед ним, загораживая ему выход широким плотным телом, метался батальонный комиссар — политическая власть училища. Человек, с некрасивым, морщинистым лицом, с нездоровой припухлостью под глазами, не жалея ни голоса, ни своего сердца, кричал на него. Кричал страшно, захлебываясь и разбрызгивая слюну с изломанных злобой губ.
— Мальчишка! — кричал батальонный комиссар. — Захребетник! Подбирало! Сытости, стервец, захотел?! В войну сытости захотел?! Люди под пулями гибнут! Сутками стоят у станка, получая краюху хлеба! Где совесть потерял? Где достоинство потерял?! Гнать его отсюда поганой метлой! — срываясь с голоса, кричал он официанткам, которые в присутствии начальства быстро и суетно убирали со столов. — На минуту задержится — гнать! Гнать!
Батальонный комиссар кричал страшно, и вид его, дурно измененный яростью, презрением к жалкому курсантишке, стоявшему перед ним в нелепых для военного круглых очках, мог повергнуть в отчаяние даже бывалого строевика. Все возможное делал батальонный комиссар, чтобы устыдить его своим презрением. Алеша это видел, но застыло стоял перед унижающим его человеком. Так же молча он выстоял бы, если бы дрожащая ладонь комиссара хлестнула его по лицу. Последним яростным окриком батальонный комиссар как будто вышвырнул его из столовой, так и не увидев раскаянья на ненавистном ему в ту минуту лице курсанта.
Знал бы батальонный комиссар, что было с этим человеком потом! В глухом углу училищного двора, за кирпичной стеной склада, — единственном месте, где можно было уйти в отчужденность от всего прочего курсантского мира, — Алеша до испарины на пылающем лице, до икоты, до судорожных, задавленных в груди рыданий избаливал стыд. И странно — он помнил это, — в его чуткой на обиду, потрясенной душе не было ответного зла на человека, унизившего его. В тот час душевной потрясенности он сумел обратить сжигающий его стыд и презрение на себя. Он нашел в своей курсантской жизни тот отвратный день, когда, побуждаемый будто бы естественным для молодого здорового парня и все-таки низким желанием сытости, спустился вслед за своим пронырливым дружком по взводу, кареглазым красавцем Конюховым, в уже опустевшую после обеда столовую. С той уступки и начал незаметно, по чуть-чуть составляться тот страшный день, когда встал перед ним батальонный комиссар. В жизни все связано: и как нежные узелки и петельки — в кружевах, и как стальные кольца — в цепи. Шагнул — значит, первый шаг сделал. Куда шагнул, туда и повела дорога. Когда знакомый дружку повар впервые выкинул им из кухни в узкое окошко поднос каши, сердце уже дрогнуло стыдом. Потом оно застыло. С застывшим сердцем в госпиталях, на практике, он испрашивал у раненых папиросы, отдавал их где-то в закутке повару, принимал соскребыши с курсантского котла. Так, шаг за шагом, составилось то противное его существу унижение, в котором он молча стоял перед яростью батальонного комиссара. В училище и в курсантском окружении Алеши никто не успел узнать о том, что случилось с ним: батальонный комиссар на следующий день, по давней своей просьбе, отбыл на фронт. Алеша мог успокоиться, мог в себе похоронить и позор и свое унижение. Мог. И не похоронил. В один из вечеров он написал свою «исповедь». Нужно было мужество, чтобы посмотреть на себя яростными глазами батальонного комиссара. Надо было подняться до высшей совершенной справедливости, чтобы сказать о себе с презрением, с отвращением, сказать всему училищу, всем, кто каждый день и час был бок о бок с ним. Он сказал. Сознавая, что идет на новую, еще большую нравственную боль, он поместил свою «исповедь» в ротной стенной газете, которую сам редактировал. Он видел, как толпились курсанты у газеты, замечал ухмылки, слышал смех, ловил на себе злорадные, и недоверчивые, и удивленные взгляды.
Закаменев, как каменел он перед яростью батальонного комиссара, он молча и старательно продолжал исполнять свои курсантские обязанности. Он сказал слово, теперь делал дело. И выстоял. Выстоял перед любопытствующими взглядами сотен глаз и перед парой преследующих его глаз красавца Конюхова. Был день, когда вместе они дежурили в уже опустевшей столовой и уязвленный своей душевной слабостью дружок выставил перед ним, как это бывало прежде, поднос с добавочной порцией лапши. «Рубай, тетенька-философ!» — он похлопал его по плечу с грубоватой покровительственностью, уверенный, что в пустоте столовой, без чужих глаз, друг Алеша не устоит. Алеша устоял. Даже не устоял — по уже созревшему убеждению не принял того, что не было ему положено. Удивляясь своему спокойствию, встал, доделал дела по дежурству и ушел.
Он стал сильнее, чем был. Он это чувствовал. Чувствовали, видимо, и другие. Когда он попал в группу досрочного выпуска и должен был выехать прямо на фронт, к нему, уже собранному в дорогу, уже стоявшему у проходной, прорвался не кто иной, как дружок и напарник, красавец Конюхов. Не обращая внимания ни на команды, ни на командиров, он обхватил его длинными, цепкими своими ручищами, и, целуя и обмазывая совсем уж неожиданными слезами, все силился сказать ему что-то важное, и не мог найти этих нужных, важных слов, и только все с большей силой прижимался мокрой щекой к его щеке, не отпускал от себя, пока решительная команда не разомкнула его, казалось, намертво сцепленных рук. В те минуты Алеша понял, что победил не только в себе. Батальонный комиссар знал, что делал: унижая его в слабости, он заставлял его укрепиться в силе…
Все это память с невероятной быстротой раскрутила перед ним, когда комбат-два жестко выговорил свой приказ. Но комбат-два унижал не его слабость — он унижал в нем человека. И Алеша чувствовал по тупо заколотившемуся сердцу, по дрожи в холодеющих пальцах, что поступит сейчас не по законам армии.
Комбат-два шел размашистым шагом, не оборачиваясь: у него не было сомнений в том, что подчиненная ему батальонная единица не осмелится не исполнить его приказ. Алеша глядел в удаляющуюся твердую спину комбата-два, ощущал силу его власти над собой и все-таки, утверждаясь в несправедливости унижающего его приказа, остановился; потом повернулся и медленно пошел по обочине встречь батальону, с топотом идущему по прихваченной морозом дороге. Когда последние солдаты и замыкающие их командир третьей роты со взводными так же размашисто, как комбат-два, поспешая за общим движением, прошли мимо, Алеша в остром ощущении невозможности оторвать себя от людей, составляющих батальон, повернулся, даже сделал несколько шагов вслед. Но холодный голос комбата-два, который он и сейчас слышал, остановил его в этом последнем спасительном порыве. Он стоял, пока батальон не скрылся в перелесках, сжимающих за полем дорогу, потом, неловко переступая по мерзлым дорожным кочкам, пошел в расположение, сознавая свою человеческую правоту и едва слаживая с сердцем, вдруг отяжелевшим от недобрых предчувствий.
2
Алеша не поднимался, лежал на хвойной подстилке, под двумя шинелями, в мокрой от пота шапке, надвинутой на лоб. Отхаживал его лекарствами из своей аптечки Иван Степанович; он же приносил суп, поил чаем — без ворчливой его заботы Алеша мог бы и не отойти от жестокой простуды, попал бы в госпиталь, — кашель, гулкий, царапающий, истязал грудь особенно по ночам.
Комиссар Миляев явился на третий день его болезни, боком вдвинулся под низкий полог палатки, сел напротив, на постель Ивана Степановича, выставил из-под распахнутых длинных пол шинели острые колени. Алеша заволновался, близко увидев комиссара, начал подниматься, Миляев нетерпеливым движением руки приказал лежать.
Алеша был уже в состоянии слушать, говорить, думать. Приход комиссара его растрогал, но тотчас он предугадал, что комиссар пришел не просто навестить больного. Неприятный холодок подступившей расплаты потек к груди; заныли плечи, ноги заломило чуть не до судороги, он прикрыл глаза, осиливая заползающую в душу слабость. Кажется, это ему удалось. Когда он открыл глаза, встретил внимательный, недобрый взгляд комиссара. Сказал первым, пробивая хриплость в горле:
— Спрашивайте, товарищ комиссар! — Голос его хотя и дрогнул, но слова он произнес даже с жестокостью, обращенной к себе: если чему-то быть, тянуть незачем. Необходимости следует идти навстречу, это первое качество мужественных людей далось ему не легко, но все-таки он выработал его в своем характере.
— Спрошу, военфельдшер! — комиссар продолжал смотреть пристально. — О чем разговор, знаешь? Рассказывай!
Рассказывать, не чувствуя доброго к себе участия, всегда трудно; Алеше было трудно особенно, потому что комиссар был единственным из батальонного начальства человеком, которого он молча, издали, любил. Хрипя, прокашливаясь, тужась, он рассказывал комиссару о своих отношениях со старшиной, о том, как неожиданно вмешался в эти отношения комбат; и дальше, все по порядку, вплоть до приказа встать в строй, который он счел несправедливым. Умолчал он только о том, что довелось ему увидеть в палатке врача, безликого их командира: зная теперь, что это тоже имело отношение к жизни батальона, к нынешнему собственному его положению, он все-таки умолчал о том, — по-прежнему он верил, что отношения мужчины и женщины святы и неприкасаемы, даже у таких людей, как Авров.
Комиссар внимательно слушал; молчал долго после того, как Алеша Полянин высказал все, что казалось ему важным и нужным. После долгого молчания сказал:
— Приказ, значит, был. И приказ ты не исполнил…
— Не исполнил, — послушно подтвердил Алеша.
Комиссар враз как будто раскалился изнутри, сцепил руки, прихлопнул себя по колену, прихлопнул, видимо, больно, поморщился мимолетно в досаде, глянул в упор из-под густых рыжеватых, рогами изогнутых бровей, сказал оглушающе-тихо:
— Ты знаешь, что дело на тебя передается в трибунал?..
Алеша не заметил, как сел.
— Почему в трибунал? Зачем? — недоуменно вышептывал он. Само это слово было не для него. Само слово, которое выкрикивали в запальчивости, и вряд ли к месту, командиры, обычно слабые и жестокие, в училище и здесь, в батальоне, почему-то всегда нагоняло на Алешу тоску. Трибунал — это было нечто чрезвычайное, такое, что навсегда и с позором прерывало привычное движение человеческой жизни, а то и вообще обрывало ее. Трибунал — это было нечто холодное, жестокое, бездушное, обращенное к действительным отступникам от той жизни, в которой он, Алеша Полянин, и все вокруг жили, к тем, кто не хотел защищать эту жизнь, кто вредил этой жизни. Какое отношение трибунал имел к нему? К нему, который сам выпросился в армию, в нетерпении отсчитывал дни, отделявшие его от фронта, и готов был исполнить любое солдатское дело, чтобы хоть что-то добавить к общей победе своей страны?! Нет, это слово не для него. Трибунал! Но почему трибунал?!
— Не понимаю, товарищ комиссар… Зачем это?.. — Алеша попытался перейти с шепота на голос, но простуженное горло не слушалось; сам себе с этим своим шепотом он казался беспомощным и жалким. — Я не знаю за собой такой вины, товарищ комиссар…
Комиссар, не поднимаясь, распрямился, насколько позволял брезентовый полог; темное в полумраке палатки его лицо было повернуто к выходу, казалось, он вглядывался в щель, сквозь которую пробивался внутрь свет холодного осеннего дня. Не глядя на Алешу, с подчеркнутой неприязнью к последним его словам, он сказал:
— На учениях, где приказано было тебе быть, солдат сломал ногу. Ротный санитар не сделал, не сумел сделать того, что положено. Солдат едва не умер от шока, от потерянной крови. Спасли его в госпитале. Командование бригады рассматривает это как ЧП. Виновником комбат считает тебя, военфельдшер.
Алеша почувствовал, как охватывает его озноб, стянул шинель у подбородка, но плечи дрожали, он не мог удержать шинель слабыми пальцами. Он мог бы объяснить комиссару, что никто не поручал ему подготовку ротных санитаров — занимался этим старшина Авров. Что ни один человек из санвзвода не привлекался к каждодневным учениям рот. Что в этот день он вообще был отчислен из батальона, что, задержись он в пути хотя бы на десять минут, он не встретился бы с комбатом. Что все это лишь совпадение случайностей. Но понял: что бы он ни сказал, чем бы ни оправдал себя в своих глазах, в глазах других он все равно преступник. ЧП случилось. Если бы он, Полянин, был там, солдата со сломанной ногой не пришлось бы спасать. На учения он не пошел. Приказ не выполнил. Все ясно. Теперь всем все ясно…
Алеша ощущал совершенную пустоту, — не страх, не удивление, а именно совершенную пустоту, как будто не было у него ни души, ни сердца, а была только вот эта немая, бесчувственная пустота. Из оцепеневшего сознания неведомым путем выскользнула лишь, как пузырь воздуха из воды, одна-единственная, как будто далекая от нынешнего его состояния мысль: «Что же с мамой? С отцом? Проводили на войну. Ждут, что вернусь. А я…»
Поймав концы шинели, сдавив их у подбородка, уняв на минуту дрожь больного тела, Алеша с убежденностью и безнадежностью сказал:
— Все-таки приказ комбата был несправедлив, товарищ комиссар!
— Несправедлив, говоришь?! — Комиссар обжег его взглядом горячечных глаз. — Запомни, военфельдшер, на всю войну запомни: в армии несправедливых приказов нет. Война идет. Каждый день убивают и и убивают людей. Вот где она, несправедливость!.. Там, за чертой фронта! Вот и выхлестывай ту, которая там!..
Алеша смотрел поверх жестко упирающегося в щеку ворота шинели в разгневанное, недоброе сейчас лицо комиссара и, удивляясь вдруг появившемуся безразличию к тому, как и куда повернется собственная его судьба, и уже не пытаясь справиться с дрожью ослабевшего тела, молча и укоризненно возражал: «Нет, товарищ комиссар. Война войной. А несправедливость не только там, за линией фронта. Она и здесь, рядом. И внутри нас она есть. И вы это знаете, товарищ комиссар. Весь батальон заметил, что вы, товарищ комиссар, отделились от комбата, перебрались в отдельный от него блиндаж. И не потому, что так лучше руководить батальоном. Не потому. А потому, что не могли жить рядом с той непорядочностью, которой живет наш нынешний командир. Вы знаете правду о войне и знаете вот эту, мою, правду. Правду о войне вы говорите. Но вы молчите об этой вот, моей, правде…»
Алеша смотрел на комиссара с пристальностью человека, понимающего то, что недоговаривал властный его собеседник. Смотрел, сам удивляясь вдруг появившейся смелости, которая еще вчера была бы дерзостью, для него непосильной. Смотрел укоряюще, с безразличием к своей судьбе, которая сейчас была, наверное, и в руках этого человека. И обострившимся в болезни чутьем чувствовал, что комиссар верно понимает его молчаливый пристальный взгляд, оттого и говорит громче и резче, чем надо бы говорить с больным и, в общем-то, беззащитным в своей вине человеком. В какой-то момент комиссар сделал над собой усилие, сломал в себе неправедное чувство силы и власти над другим человеком — Алеша почувствовал это по отмякшему его взгляду. Возможно, комиссар просто заметил струи пота, стекающие по его лицу, увидел, как бьет его неостановимый озноб, но вдруг с обеспокоенностью сказал:
— Ну-ка, ляг, военфельдшер. Ляг! — Он опустился на колени, неожиданно сильным движением рук уложил Алешу, натянул до носа шинель, подкутал под бока полы, другой шинелью накрыл ноги.
— Давай-ка оздоровляйся, — проговорил ворчливо, как будто был недоволен проявленной участливостью. Помолчал, сказал, прежде чем вылезти из палатки.
— Дело в трибунал я пока не подписал. Пока не подписал, военфельдшер!
Обессиленный Алеша вжался знобкой спиной в жесткие еловые лапы, прикрыл болезненными веками глаза и услышал раскатистый голос комиссара уже там, за палаткой, где — он знал — прохаживался в беспокойстве молчаливый Иван Степанович:
— Почему до сих пор в палатках?! Перед боем санвзвод хотите вывести из строя?! Приказа ждете? А вы что — не командир?! Немедленно приступить к строительству землянок! И больного военфельдшера сегодня же, сейчас же, поместить в теплый блиндаж!
Алеша слушал раскатистый голос комиссара, приноровленный к одновременному разговору с сотнями внимающих ему солдат, и чувствовал, как из-под крепко прижатых к глазам ладоней сбегают на жаркое лицо благодарные слезы.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ На берегах
1
В мире что-то случилось: Алеша почувствовал это тотчас, как только выскочил из землянки и с ходу подцепил на ладонь снега растереть заспанное лицо. Необычность была не в сверкающей свежести белой земли, не в желто-розовых солнечных прочерках на полосатых сугробах между стволами сосен, не в безмолвии красоты, которой всегда полнится зимний лес в ясный утренний час, — ощущение необычности исходило от людей, которые в тесноте стояли, заполнив все видимое пространство леса, в шинелях, шапках, тяжелых солдатских ботинках, с бессознательной цепкостью прижимая к себе взблескивающие затворами винтовки.
Не слышно было команд, обычных при скоплении солдат, шуток, смеха; от батальона, сгрудившегося под пологом заснеженного леса, исходил какой-то особенный не то шорох, не то шелест сдержанного возбуждения.
Алеша слышал этот растекающийся по лесу шелест возбуждения и, толком еще не сообразив, что могло означать это необычное самостийное стояние на морозе солдат, почувствовал, как толкнулось и замерло сердце.
От хозвзвода бежал, придерживая на груди автомат, связной комбата; на разгоряченном молодом лице красногрудыми снегирями пылали щеки. Не останавливаясь, он махнул рукой, весело крикнул:
— Приказ получили! Выступаем!
«Вот оно!» — ясно прозвучало в Алеше; от мгновенного внутреннего напряжения заныло под грудью, как всегда ноет, когда умом знаешь ждущую тебя впереди опасность и все-таки идешь к ней.
«Вот оно!» — гулко и пугающе звучало в Алеше и потом, когда он уже покинул землянку и, готовый к движению, в нетерпении и любопытстве ходил среди тоже готовых к движению в неизвестность солдат.
Он хотел видеть, как ведут себя другие люди, идущие в необходимость боя, и ходил среди людей, смущаясь встречных взглядов и все-таки стараясь угадать то, что было скрыто за как будто бы спокойным выражением солдатских лиц.
Солдаты стояли отдельными кучками, сдержанно переговаривались; у каждого, где бы он ни стоял, говорил или молчал, Алеша, казалось ему, улавливал не относящуюся к разговору, свою, скрытую в себе думу. О том, что эта дума была в каждом, Алеша догадывался по той излишней сосредоточенности, с которой солдаты говорили о рано наступившей зиме, первых больших снегах, о слабоватой, только что выданной им, махорке; по тому, как курили медленными, глубокими затяжками, невидяще глядя из-под надвинутых на лоб ушанок в посверкивающую сквозь стволы холодную белизну полян; по тому, как с непонятной старательностью молодые солдаты, робкими улыбками скрашивая растерянность на своих лицах, обтаптывали неуклюжими ботинками снег, как будто крайне важно было именно сейчас почувствовать под снегом успокаивающую твердь земли.
Даже по тому, как пожилые, бывалые солдаты, занимая свои руки делом, сосредоточенно доставали из подсумков обоймы с патронами, тряпицей тщательно протирали патрон за патроном, Алеша догадывался, что́ чувствовали все эти люди в напряженном ожидании того часа, когда начнет свершаться страшная для всего живого необходимость войны.
У своей, уже покинутой землянки сомкнулись в круг санвзводовские девчата, все одинаково одетые в новые светлые полушубки, в валенки. Первыми они разрушили немоту томившегося ожиданием батальона, — закинув головы, вызывающе глядя в небо, они пели напряженными голосами:
Ты не вейся, ворон, над степным простором, Ты над городами, ворон, не кружи. Мы тебя не любим, мы тебе отрубим Голову и крылья черные твои…Пели девчата для себя, задавливали обеспокоенность перед, может быть, уже близкой смертью, заполняли морозный воздух высокими голосами, и оттого, что наперекор пугающему ожиданию дерзнули они разрушить общую людскую скованность, стало вроде бы легче, свободнее дышать в заполненном людьми лесу.
Кто-то уже шутил, кто-то сдержанно смеялся, над серыми шапками гуще завис махорочный дым; в острой свежести лесного зимнего воздуха как будто пахнуло знакомой будничностью предстоящей работы, которую, покуривая, обдумывают сообща мужики.
А в утяжеленном снегом лесу звенели напряженные девчоночьи голоса:
Мы в бой пойдем со славою за наше дело правое, За чистые, веселые родимые поля…Из штабного блиндажа вышли комбат-два и комиссар; следом, из-под укрытого снегом бревенчатого наката, словно из-под земли, друг за другом поднимались по ступеням командиры рот и подразделений, ступали на мало еще притоптанный после ночной пороши снег.
Алеша как будто впился взглядом в комбата, стараясь угадать, что чувствует он, комбат-два, в эту все открывающую в человеке минуту?
Комбат-два на ходу докуривал из красного наборного мундштука, держа пальцы у губ, в торопливости затягивался, пристально следил за укорачивающимся концом папиросы. Докурил, выбросил окурок, мундштук сунул за отворот полушубка, резким движением натянул перчатки, расправил на пальцах. Минуту помедлил, глянул, сощурясь, в морозную голубизну неба, втянул в себя холодный воздух с такой же точно жадностью, как только что курил, и понял Алеша, с затаенной пристальностью наблюдая, что даже ледяное сердце комбата сжато тоской предстоящего боя. Комбат переглянулся с комиссаром, комиссар спокойно кивнул, и Алеша уже сочувственно проследил, как повелительным жестом комбат-два подозвал к себе командиров рот, что-то сказал, и тотчас, обрывая песню девчат, знакомо разнеслись по лесу командирские голоса: «Первая… Вторая… Третья роты…»
«Вот оно!..» — снова прозвучало в Алеше; все в том же возбуждении чувств он поспешил к санвзводу. Девчата все еще стояли тесным кругом, обнимая друг друга, как будто не в силах расстаться, и только одна из них, не принятая в общий круг, стояла около нагруженной подводы, вызывающе прикусывая губы. Алеша увидел ее, одетую, как все девчата, в светлый полушубок, но словно отторгнутую от всех, и с неожиданным чувством сострадания остановился, — у подводы была та самая, похожая на мальчишку Полинка, которая в землянке комбата-два со старательностью хозяйки подшивала к комбатовской гимнастерке подворотничок. Почему-то она была не при комбате и в стороне от девчат; яркие, накусанные ее губы были как будто обведены темной полосой, и траурная эта кайма вокруг губ и какая-то недобрая отторгнутость от всех больно задели Алешу.
Он хотел подойти, ободрить девушку, но ездовой тронул лошадь, и девушка, неуклюжая в полушубке и валенках, покорно пошла за подводой.
Весь день и в наступивших сумерках сквозь леса, через болота, по заледенелым гатям, с нудными остановками, как будто через силу, подтягивался к передовой батальон, казалось, бесконечный в своей живой, медленно движущейся очереди. Ночь коротали в жиденьком холодном березнячке, на снегу, не разводя костров. Солдаты — кто как мог: в тихих разговорах, в молчаливых думах или в полудреме, привалившись спинами к тонким, податливым стволам берез, — покорно дожидались того часа, когда командиры стронут их с мест тихой командой. Алеша хотя и притомился долгой дорогой, но, как прежде, все ходил среди людей, стараясь проникнуться их состоянием, с любопытством смотрел, как за ближайшим бугром взлетают, зависают в мерцающем ночном небе ракеты и далеко проступают от бледного их света желтые снега.
Под утро, постукивая колесами по неровностям дороги, подъехали батальонные кухни. От сгрудившихся к кухням людей чернотой заплыли снега. В привычной суете у котлов, звяке котелков, в нетерпеливом солдатском говоре Алеша различил знакомые голоса поваров. Что-то в тоне их голосов, не бывалое прежде, остановило его, он подошел ближе.
Он хорошо знал неподступный поварской вид, раздраженные окрики, которыми они осаживали суету у кухонь; на солдатскую очередь всегда они смотрели с высоты котлов, и неуютно становилось от их крика тому, кто дольше положенного задерживал под черпаком свой ожидающий котелок. И солдаты всегда молча повиновались — что поделаешь: повара раздавали пищу, а у пищи своя власть над солдатским желудком! Но тут… Предупредительно-суетно работали черпаками оба повара; в словах, которые говорил то один, то другой: «Погодь…», «Еще плесну…», «По второму подойдешь…» — в словах этих, в голосах, как будто даже заискивающих, необычных для тех, кто кормит, Алеша уловил общую, чувствуемую обоими поварами вину перед солдатами, которых сейчас они щедро кормили в ночи. Повара знали, что сами они остаются здесь, в тылу, перед линией фронта, а солдаты, которых в темноте они даже не могли видеть, пойдут в близкий уже час рассвета под пули, проламывать железо и землю, и сколько их хлебает сейчас из котелков в последний раз!..
«Вот оно!..» — в который уже раз прозвучало в Алеше, обжигая душу необычными ощущениями дня и последней перед сражением ночи. Он разыскал подводу с имуществом взвода, при которой находился Иван Степанович, вместе они поели густого мясного супа, принесенного от кухонь.
— Тут твои граммы. Выпьешь? — спросил Иван Степанович.
— Да нет. Кому-нибудь отдайте, — сказал Алеша, все раздумывая о солдатах, которых почувствовал вдруг совсем не так, как чувствовал прежде. Он обтер котелок снегом, сунул в подводу.
— Мне бы, Иван Степанович, сумку, побольше пакетов, бинтов. Пойду с ротами, — сказал он.
Иван Степанович чертыхнулся.
— Ты, дурь-голова, смерть себе не торопи, — шипел он, как оплеснутый водой накаленный камень, — не твое дело под пулями шастать! Здесь, понимаешь, мне будешь помогать!
Алеша, чувствуя всепрощающую силу уже наступившего важного часа, неожиданно для себя обнял Ивана Степановича, глядя поверх его широкого плеча в обозначившуюся над снегами просветленность неба, сказал растроганно в закрытое шапкой ухо:
— Спасибо, Иван Степанович! Но я все-таки с солдатами…
2
Лопнул стылый, подсвеченный багровостью зари воздух, порванную тишину снова и снова рвали залпы открывших себя орудий. Гул нарастал: вступали в артиллерийскую подготовку другие, невидимые в лесу батареи, как будто торопились догнать тех, кто первыми открыл огонь. Ухающие за рекой особенно сильные взрывы тяжелых реактивных снарядов сливались с общим гулом работающих орудий, и настолько силен был этот гул, сотрясающий землю, что человеческий голос беззвучен был в этом адском грохоте, производимом самими людьми. За береговым бугром, в немецкой стороне, вспухала тяжелая дымная туча.
Солдаты, повинуясь жестам командиров, медленно подтягивались через промятые снега к дороге. Когда люди поуплотнились и батальон неровной, длинной, направленной в овраг колонной вытянулся вдоль дороги, Алеша увидел комиссара, поспешающего по серому, размятому, снегу в окружении трех молодых помощников. В руках у всех были пачки синих листовок, и что-то, наверное очень важное и нужное, было в этих листках, потому что глаза всех четверых на распаренных лицах горели нетерпеливым, шальным огнем. Говорить что-либо в лопающемся от пальбы воздухе было невозможно, и все четверо, оседая валенками в снегу, побежали в разные концы строя, рассовывая в солдатские руки синие листки. Комиссар оказался рядом с Алешей; задыхаясь от быстрой ходьбы, паром теплого дыхания окутывая овчинную мохнатость расстегнутого на груди полушубка, он быстрым движением передал ему листовку, подмигнул из-под рогастой брови — мол, смотри и радуйся — и поторопился дальше к солдатам, которые стояли тесно и безулыбчиво и сдержанно следили, как вспухает за рекой и медленно растекается по снегу непроглядная черная туча.
Алеша взглянул в листок, и ликующая нотка, которую он слышал в себе со вчерашнего утреннего необычного часа, зазвенела в нем во всю возможную силу. Глазами пробегая крупные печатные строки, он выхватывал суть сообщения об окруженной под Сталинградом армии Паулюса, о стремительном наступлении фронтов к Дону, и в радости хотелось ему кричать: «Вот оно! — наконец-то проявляется наша сила!..»
Появились белые танки, будто рожденные самими снегами; неслышные в общем артиллерийском гуде, тяжелые в движении, юркие на разворотах, они медленно тянулись, выхлопывая низкие черные дымы, вдоль дороги в лощину, все туда же, к руслу реки, с непонятным и памятным именем Вазуза, — там и остановились впритык друг к другу, дожидаясь своей очередности. Танковая колонна была настолько велика, что видимый в открытости поля хвост еще не был ее концом — конец затеривался где-то в заснеженности леса. Там же, у леса, с правой стороны, по всей шири опушки проступили плотной, устрашающей чернотой подтягивающиеся из тыла конники — Алеша уже слышал, что через прорыв, который должна проделать во вражеской обороне их бригада, уйдет в тыл врага вместе с танками и конный корпус Доватора.
Обозрив всю, до поры скрытую, теперь явленную к месту удара силу, он уже не мог устоять на месте. В нем ликовал тот доверчивый, восторженный мальчик, который всегда был в нем, который явился с ним и сюда, на фронт. От непрерывных вспышек, пальбы, рева орудий, от вида нацеленных в прорыв танков и конников, подступивших к передовой, поддаваясь нетерпению и восторгу, Алеша сорвался с места, побежал разыскивать Ивана Степановича. С ходу приник к нему; порываясь сквозь вселенский артиллерийский гул к его уху, что-то восторженно кричал, до невозможности напрягая горло, пока не сорвал голос. Тогда он стянул рукавицу, выставил кверху большой палец, ликующе смотрел сквозь очки, ожидая ответной возбужденной радости. Однако Иван Степанович как-то неопределенно поглядел на выставленный палец, не разжимая губ, усмехнулся какой-то ускользающей усмешкой, натянул плотнее себе на квадратную голову ушанку, старательно завязал под подбородком тесемки. Постукивая валенком о валенок, отломил от куста ветку, концом нарисовал на снегу палатку, над ней флаг с крестом, показал рукой на овраг. Алеша кивнул, он понял: санвзвод развернется в овраге. Но не это было важным: все, что могло быть важным, было уже там, за рекой, куда медленно, с частыми остановками, продвигалась живая, настороженно-притихшая, неоглядная в своей растянутости череда батальона.
3
С тех минут, когда с высоты берега Алеша увидел белое пространство реки и людей, которые, выставив перед собой винтовки, покачивая плечами, как будто путаясь в длинных полах шинелей, бежали к противоположному, низкому здесь берегу, с усилием и клоня головы, как бегут против пронизывающего холодом ветра, бежали, еще прикрытые сверху гулом артиллерийской пальбы и воем ракетных установок, хотя с той стороны реки уже стреляли, и на пропаханном сотнями ног снегу рвались с каким-то легким, как будто безобидным дымком мины, и солдаты, словно спотыкаясь о мимолетные эти дымки, падали и многие не поднимались; с тех минут, когда основная, и все-таки, казалось, редкая, цепь солдат накатилась на тот берег и большая ее часть ушла в овраг, оставив на истоптанной реке темные бугорки неподнявшихся солдат; с тех самых минут, когда общее направленное движение людей, называемое наступлением, обозначило себя и как бы потянуло за собой, и Алеша, казалось, забыв обо всем, чем жил до сих пор, и помня только свое решение идти вслед за солдатами, съехал с края откоса на спине, вскочил и побежал за людьми, уже зная, что вернуться с того берега так же трудно, как бежать туда, — прошло сколько-то не поддающихся осознанию часов. Уже не раз он пересекал открытость реки, волочил то молчаливых, то стонущих, то матерящихся от боли раненых, затаскивал их с помощью попутных солдат-связных в блиндажи, нарытые стоявшей здесь до наступления частью, снова шел через реку. И все время, пока он шел, слышал в воздухе знакомый птичий пересвист, — так обычно посвистывали над заснеженными семигорскими полями пуночки, белые, с бурыми крыльями, небольшие птицы, прилетавшие в суровые зимы из тундры. Всегда с любопытством он наблюдал этих быстрых птиц, шумными стаями, с тонким, звенящим свистом перепархивающих над снегами и дорогами, и так памятен был ему посвист пуночек, что, удивляясь тому, как появились они здесь, после адского грохота недавней артподготовки, пытался в минуты затишья даже разглядеть их.
Пожилой солдат, которого он тащил из-под дальнего берега и рядом с которым опустился в снег отдышаться, долго следил за ним в хмурой настороженности, не удержался, спросил:
— Чего все выглядываешь, милок?
Алеша, скидывая пот с лица, смущенно улыбнулся.
— Да птиц! Свистят, а где — не вижу…
Солдат закрыл глаза, поворочал головой в съехавшей на лоб шапке, жалеюще вздохнул:
— Впервой, видать… Такую птицу, милок, поймаешь — не подымешься. Пули это. Вон, с колокольни бьет!..
Алеша с опаской оглянулся на церковь с тускло-красной колокольней, открыто стоящую на крутояре, на самом повороте реки, среди хорошо видного большого села, почему-то еще не отбитого у немцев, и неуютно стало ему среди открытости снегов. Уже без остановок он дотащил солдата до блиндажей и, когда перебегал снова на тот берег, где был батальон и откуда глухо доносилась нечистая стрельба, все поглядывал на темно-красную колокольню, чем-то похожую на обгорелую ель, и пригибался, и даже падал в снег, когда близко слышал знакомый, пугающий теперь, не птичий посвист.
Бой, начавшись, шел уже по своим законам — по законам необходимости самого боя и по возможностям, которые были в бою у людей: солдаты, видимые с реки, перебегали по склону оврага; кто-то стрелял; кто-то падал и лежал не в силах подняться под высверками летящих пуль; кто-то волочил по дну оврага ящики не то с патронами, не то с минами. Но общее, движение шло — полоса соприкосновения враждующих сил медленно, но отодвигалась, то в одном, то в другом месте, в глубь берега от реки.
Действовал по своим возможностям на отвоеванном берегу и Алеша: перебегал, полз, где казалось опасно, выискивал раненых, перевязывал; тех, кто не мог идти, стаскивал под берег, ближе к дороге, рассчитывая, что захватят их обратные, в тыл уходящие подводы. От солдат он отстал. И только тогда, когда прополз наконец сквозь полосу уже порванных, опрокинутых во многих местах проволочных сплетений и пробился через снега на приовражный бугор, тогда только близко увидел замкнутое холмами пространство земли, где шел тот самый бой, к которому так упорно его влекло.
Не сразу он разобрался в том, что происходило на малом пятачке зареченской земли. Он заметил людей в траншее, отбитой у немцев, уходящей правым своим концом вниз к глубокому дну оврага; видел на заснеженном склоне, выше траншеи, лежащих редкой цепью солдат; и под самым гребнем, над которым еще висело задымленное небо, угадал изломанную полосу другой немецкой траншеи. В нее-то, как можно было понять, и пытались втянуться лежащие на снегу солдаты. На глазах Алеши поднялись двое, горбатясь, побежали вверх по склону; поднялось еще с десяток солдат. Тут же запылило вокруг бегущих от множества ударяющих в поверхность снега пуль, и все, кто поднялся, спешно попадали, как будто только и ждали этих оправдывающих их падение минут. Через какое-то время в точности все повторилось, и Алеша в досаде на солдат, которые так трудно поднимались и с такой готовностью падали, с мальчишеской злостью на тех, кто не давал солдатам подняться, пополз нетерпеливо выше на бугор, стараясь разглядеть тех самых, которые стреляли.
Траншея, еще не отбитая у немцев, проглядывалась, и довольно отчетливо, с нового места. Тянулась она сквозь гребень склона, и щель, просекающая гребень, виднелась, как открытая в небо дверь; ее светлый квадрат то закрывался ходившими там чужими солдатами, то снова открывался. Когда тени сходились, над срезом траншеи словно вскипал парок, доносился глухой в снегах, вроде бы безобидный постук пулемета. И было неловко и странно видеть, как от этого глухого, как будто безобидного звука солдаты, поднимавшиеся на склоне, падали и вжимались в снега.
Алешу, видимо, заметили: у глаз возникла и с каким-то свистяще-режущим коротким звуком пронеслась, сверкнув мгновенным видением огня, устрашающе-враждебная ему сила. И так остро ощутил он саму возможность опрокидывающего ее удара, что все мысленное его участие в действиях солдат, замедленно подбирающихся к чужой траншее, исчезло, — спасающим себя движением он тут же сполз, укрылся за бугром.
Все еще ощущая унизительную неподвижность испуганного тела, он подумал о солдатах, которые были там, на склоне, и с какой-то еще не совсем ему ясной мыслью пополз вниз, к кольям, опутанным проволокой. Вытянул из-под лежащего там убитого солдата винтовку, вернулся по свежему следу к бугру.
Страх, который он испытал, он помнил, и память страха теснила ему грудь, и все-таки осторожно, но подтягивался он к верху бугра, прикидывая, как быть ему понезаметнее в белизне снегов.
Не поднимая головы, лежа на боку, он проверил, есть ли в патроннике патрон, передвинул планку прицела, бинтом тщательно протер очки, бинтом обмотал шапку, конец ствола, умостил тяжелую винтовку на ладони.
С такой же тщательностью, как на контрольных стрельбах в училище, он целил в черные тени, заслонявшие в траншее просвет неба. После выстрела просвет открылся. Возбуждаясь первым выстрелом, он перезарядил винтовку, прицелился. Когда появилась тень, снова выстрелил, и снова просвет освободился от тени. Он выстрелил пять раз, не зная, куда попадают его пули, но пулемет не стрелял. Он видел, как перебежками, словно большие, темные, взлетающие и тут же падающие в снег птицы, накапливаются на склоне солдаты, и радовался тому, что они двигаются.
Винтовка была пуста; он вспомнил про свой патрон, который вез с далекого Урала и до сих пор тайно и упрямо носил в кармане гимнастерки, и, радуясь тому, что вспомнил, что патрон действительно был при нем, торопясь, расстегнул полушубок.
Достать патрон он не успел. Что-то вдруг переменилось во всем движении боя.
Солдаты, только что перебегавшие по склону вверх, теперь безостановочно, спасая себя, бежали вниз, назад, к той траншее, которая была отбита у немцев прежде. Солдаты бежали, вбирая головы в плечи, стараясь уменьшить себя на открытости поля, и за ними, невесть откуда явившись, катился, сливаясь со снежностью поля, белый, будто вывалянный в муке, танк; мерцали траки гусениц, вихревое облако летело за танком, и острый язычок пламени бился у правого края угловатой башни. Бегущие солдаты падали, танк накатывался, давил их, разворачивался, настигал тех, кто оставался позади. Он неистовствовал среди бегущих, беззащитных перед ним людей, и от вида его неистовства леденела спина у Алеши под полушубком. Там, за рекой, стояла колонна мощнейших, готовых к бою танков, одного из которых хватило бы остановить это кровавое побоище. Но танки стояли за рекой, танки почему-то ждали, когда эти вот падающие под пулеметным огнем люди пробьют им проход в немецкой обороне. Там, за рекой, на огневых позициях были сотни орудий, один снаряд которых мог бы превратить эту убивающую машину в груду дымящегося железа. Но даже если бы на месте оцепенелого от вида чужой гибели Алеши был самый опытнейший артиллерийский корректировщик, он не смог бы послать в танк и единого снаряда, потому что снаряд рванул бы своих же солдат. На малом пятачке наступления, где был Алеша, должны были быть какие-то свои возможности, должны были действовать другие силы, способные остановить побоище; но, если эти силы были, они почему-то не действовали.
Сейчас Алеша не думал о том, что немцы, поддержанные танком, могут перебежать в свою, отбитую у них траншею, отрезать другие роты, которые бились где-то впереди, в конце оврага, на выходе в поле; он не думал о том, что, если это случится, он тоже не уйдет, потому что река тогда станет фронтом переднего края. Он только смотрел оцепенело и сознавал, что помешать этому чудовищному побоищу бессилен.
Солдаты добегали до траншеи, сыпались в узкую глубь ее, как сыплется в ров оползающая земля. В панической суете людей Алеша не сразу увидел человека без винтовки, в короткой стеганке, в шапке с торчащими кверху ушами, который, будто не видя того, что делается на поле, один шел от траншеи навстречу бегущим. Оказавшись в безлюдье, человек пригнулся, не отводя от тела напряженные тяжестью руки, широкими шагами побежал к близко проходящему танку, охватывая его сзади, как охватывают охотники набегающего зверя. Одну из гранат он кинул, не рассчитав своей силы: взрыв поднял только снег и землю. Танк остановился; что-то зловещее было в том, как медленно он поворачивался лбом к смельчаку. Так же медленно танк двинулся к нему, распластанному, чернеющему стеганкой на размятом снегу. Человек вдруг перевалился с боку на бок, покатился по склону вниз, исчез не то в окопе, не то в воронке. Танк, не прибавляя скорости, подошел к тому месту, где скрылся человек, повернулся вправо, влево, вдавливая своей тяжестью то, что было под ним, спокойно, как вдавливают подошвой сапога окурок. И тут случилось то, чего уже не мог ждать Алеша. Едва танк отошел, нацеливаясь пушкой на траншею, как выметнулось позади его низкой угловатой башни пламя. Взрывом, казалось, содрало половину его белой шкуры; дым, на глазах разбухая, потек на снег. Из черного дыма появился человек в стеганке, без шапки, пьяно шатаясь, загребая ногами, подошел к траншее, повалился на руки солдат. Видно было, как в досаде он растолкал окруживших его людей; покачиваясь, пошел траншеей в овраг; время от времени он останавливался, тряс головой, как будто выбивал из ушей воду.
Алеша перехватил солдата на выходе из оврага. Привалившись к земляному выступу, он лежал на боку, подогнув ноги, выгибал худую шею, хватал красным ртом снег. Алеша, почему-то боясь дотронуться до солдата, припал рядом, переводя дух от бега, с готовностью предложил:
— Давай перевяжу!
Солдат повернул к нему черное, в копоти, лицо, морщась, пальцем засверлил ухо.
— Где перевязать?! — крикнул Алеша, поняв, что солдат не слышит.
Солдат сел, сказал, силясь улыбнуться опухшими губами:
— Бинтов, доктор, не хватит. Всего поломал, сволочь… Руку вот разве перевяжи.
Алеша узнал солдата.
— Ты, Колпин?!
— Я, доктор, я. Видишь, как получилось… — Он все старался улыбнуться страшным черным лицом. Алеша видел улыбающийся сквозь боль взгляд солдата, бинтовал окровавленную ладонь и мучился запоздалым раскаянием.
— Доктор, а доктор! Ты не серчай за то самое… — говорил Колпин, возбуждаясь болью. — Ей-ей, зла тебе не хотел. У солдата, сам знаешь, какая воля…
То, о чем говорил сейчас Колпин, был случай между ними, задолго до боя, еще в лесу, в пору, когда Алеша в безоглядном увлечении первым порученным ему делом искоренял в батальоне вшивость. Казалось бы, всё — искоренил! И вдруг на осмотре в роте — двое. На третий день — опять двое. И опять Колпин с дружком! Нечистых солдат в приказном порядке освобождали от полевых учений: Алеша держал их при вошебойке как рабочих и по три раза на дню заставлял прожаривать все белье, даже чистую смену. Ничего не помогало — на второй день у Колпина опять снимали с ворота живую вошь.
Алеша в яростном негодовании молодости, от непереносимого презрения к телесно нечистому, как казалось ему, человеку, без жалости заставлял его пилить на болоте березы, колоть дрова, топить печь, выжаривать белье. И чем больше он неистовствовал, тем с большей видимой увлеченностью и усердием работал Колпин.
Как-то в ночи Колпин, вроде бы сочувствуя и жалея, подсел к нему, угрюмо сидевшему у печи, сказал примирительно:
— Ладно, доктор. Покаюсь… — Он раскрыл ладонь, багровую в отсветах огня, перекатил короткую, от автомата, гильзу, заткнутую мохом. — Вот вся твоя печаль, доктор. Пленные воши у нас тут, в патрончике. Как проверка — себе да дружку на ворот… У твоей вошебойки хоть в нечистых, а привольнее. Да и рукам привычнее пила да топор… Уж больно убиваешься, глядим. Трудно, ты, доктор, живешь! Хотя и молодой. Вот решили: в успокоение тебе, отпускаем. Все, доктор. Чист теперь твой батальон… — Он вздохнул, сощелкнул патрон с ладони в темноту.
Алеша едва не плакал: так унизительна казалась ему открывшаяся солдатская хитрость. Растроганный неожиданным покаянием, ненавидя и прощая солдата, он горестно воскликнул:
— Воевать-то как будешь, Колпин!
— Да как-нибудь, доктор, — ответил смиренно Колпин. — Мы ж понимаем. Что дозволяешь тут, там не дозволишь… А вот на этакое, доктор, при случае погляди. — Он с неловкостью положил ему на колено квадратик плотной бумаги. — Я, кроме прочего, еще и рисовальщик.
Потом он разглядел карандашный рисунок, где Колпин изобразил его, Алешу, в командирском обличье под березой, у огня; при удивительной внешней схожести было в крутом повороте головы и чертах лица нечто такое, что заставило Алешу, разглядывающего рисунок, краснеть, — безулыбчивость и нетерпимость в колючем взгляде сквозь очки и какая-то насильственная жесткость, пожалуй даже жестокость, в плотно стиснутых губах.
Алеша понял адресованный ему упрек солдата Колпина и не сразу решился отослать рисунок в письме домой. То, что хотел открыть ему умудренный Колпин, солдат с несомненным даром художника, разглядела мама. Как всегда, щадя его самолюбие, она чутко отнесла нетерпимость и жесткость взгляда сощуренных глаз к суровости, общей для солдат, нынешней войны. «Судя по рисунку, ты стал совершенным солдатом…» — писала мама, и Алеша не мог не почувствовать мамину боль от того, что она не нашла в том рисунке ни доброты, ни прежней, милой ее сердцу стыдливой мальчишеской нежности…
Алеша ясно все помнил, забинтовывая разодранную ладонь Колпина, а солдат, измятый танком, возбужденный болью воспаленного тела, все порывался испросить у него прощения за то, что не было его виной.
Колпин закашлялся, согнулся, рукой терзая грудь, сплюнул кровью.
— Ты, доктор, меня не провожай, сам дойду. Делов у тебя и так хватает… — Он поднялся, не сразу установился на ногах. Алеша, остро чувствуя свою вину перед солдатом, крикнул:
— Герой ты, Колпин!…
— А!.. — солдат поморщился. — Надо было ему, суке, дать… — Он пошел кособоча, в неподвижности удерживая склоненную к плечу голову.
Алеша не решился взять с лежащего невдалеке убитого солдата шапку, надеть на живого Колпина. Колпин сам подошел к убитому, с трудом нагнулся, по-дружески похлопал мертвого по плечу, взял его шапку, насунул себе на голову.
Колпин шел по реке, широко загребая ногами, время от времени останавливался, собирал силы, шел дальше, пьяно пошатываясь, не таясь в открытости речного пространства ни пулемета на колокольне, ни минометных батарей, шел, забирая снежной целиной к оврагу. И Алеша взглядом широко раскрытых глаз провожал его до тех пор, пока солдат не дошел до своей стороны и темная покачивающаяся его фигура не укрылась в приовражном, уже безопасном для него кустарнике.
В глубине оврага слышались дружные подбадривающие крики. Алеша встревоженно оглядывался, пока не увидел, как из-за выступа оврага к пологому склону, где горел танк, солдаты, крича, торопливо выкатывали пушку. Под уклон пушка сошла юзом, солдаты, вцепившись, даже придерживали ее. Но внизу она всей тяжестью вдавилась в заснеженный гребень, колеса осели в снегу, и солдаты, облепившие пушку, как ни ругались, не могли надвинуть ее на крутизну.
Алеша, только что проводивший взглядом Колпина, вскочил, подбежал помогать. Увидел среди облепивших пушку солдат багровое от напряжения лицо комиссара; ладонями, грудью напирая на щит, он натужно кричал:
— Взяли!.. Еще взяли!..
Когда пушку общим согласным предельным усилием наконец перекатили, комиссар, переводя дух, сволок с головы шапку, растирая ладонью мокрые, спутанные на лбу волосы, в удивлении смотрел на Алешу, как будто только сейчас разглядел его.
— А ты чего здесь?! — спросил, тяжело дыша.
— Да вот… — не зная, как объяснить, Алеша развел руками, радостно улыбаясь удивлению комиссара и тому, что комиссар видит его здесь, на только что отвоеванном берегу. Открытая наивная радость, с которой он смотрел, не вызвала почему-то одобрительной ответной радости. Лицо комиссара, ожесточенное какой-то другой, важной и спешной заботой, с минутной пристальностью оборотилось к нему; отвлекшись на миг от главной своей заботы, он как будто прикидывал сам факт появления батальонного фельдшера здесь, где, по его комиссарским понятиям, ему не надлежало быть.
— Значит, геройствуешь… — сказал он, часто и шумно дыша. — Геройствуешь, значит, — повторил он и закричал, потрясая шапкой так, как будто ему ненавистно было само присутствие Алеши: — Здесь бой, военфельдшер! Бой! Немедленно за реку! В санвзвод!
Слова и крик комиссара, обращенные против него, были неожиданны и незаслуженно жестоки — радость Алеши потухла. Опустив голову, сжав губы, он молча стоял, всем своим видом выражая упрямое несогласие с тем, что кричал дорогой ему человек. Он считал себя правым: он не бежал из боя, он шел в бой. И комиссар даже в запальчивости, сквозь взбудораженные идущим сражением чувства, сумел разглядеть и понять его обиду. Уже не приказывая, озираясь на пушку, он в торопливости выкрикивал:
— Двое вас, врачей, на батальон! Двое! А нас — тысяча! И на каждого…
Заслышав зачастившую на склоне стрельбу, он тотчас ушел в главное дело идущего боя, до зычности возвысил голос, закричал артиллеристам:
— На позицию выводи! По танку! По танку!..
— Танк подбили, товарищ комиссар! Солдат Колпин подбил! — заражаясь общим, чувствуемым в самом воздухе боя возбуждением, тоже закричал Алеша.
— А!.. Подбили!.. — Глаза комиссара сверкнули мстительностью и злорадством; он выругался сладострастно и непривычно грубо, как, может быть, подобало минуте крайнего ожесточения. Однако солдат, тащивших пушку, он не остановил, а, еще больше увлекая, закричал:
— Давай, давай, ребята! Выводи на позицию! Чтоб ни одна сволочь лба не показала…
Он надвинул на неостывшую, окутанную паром голову шапку и побежал, торопясь, через сугроб, неуклюже вскидывая ноги в простых кирзовых сапогах, к замешкавшимся, суетящимся у пушки артиллеристам.
Возвращаться в санвзвод теперь, когда бой обретал какую-то определенность, Алеша не думал. Здесь он был нужней, он видел это. И тоже побежал, огибая место, где ставили сейчас пушку, к линии разбитых проволочных заграждений: он помнил, что там, у проволоки, лежал не выбравшийся к дороге раненый солдат.
4
Он пробирался вдоль второй линии проволочных заграждений к лежащему там солдату, когда рядом с ним плюхнулась Яничка. Привалилась, обхватила рукой, как будто собиралась прямо тут, на снегу, пролежать рядышком до ночи. Потом стащила с головы шапку, обратила вверх будто в бане распаренное лицо, с мокрыми, по-смешному прилипшими ко лбу спутанными волосами, морща маленький нос, захлебываясь словами, заговорила, сама себя перебивая заливистым смехом.
— Ох и уморилась! В са-амом конце оврага была! Солдатиков поднимала, поднимала… Командир орет, а солдатики позарылись, — ну, будто всех поубивало! Бегу, тащу. Кого за шапку, кого за шинель. Одного, трусливого, со зла даже пнула. «Вставай! — кричу. — Такой разэтакий!..» Раскачались, побежали. А пулемет с горы — вжи, вжи!.. Опять повалились! Ну, работка — помереть!..
Яничка, будто в изнеможении, раскинулась на снегу, в одной руке шапка, на животе сумка с красным крестиком, и Алеша, как ни был удручен назначенным себе делом, улыбнулся беспечному Яничкиному задору.
Горсть зеленоватых пуль пронеслась с такой стремительностью, что только глаз запомнил их мгновенный, будто опахнувший ветром пролет, брызнули щепки с ближайшего к ним кола; задетая пулями проволока звенькнула неприятным железным звоном. Алеша запоздало пригнул голову. Досадуя на свой испуг, поддернул к себе Яничку. В смешливой готовности, будто и не заметив хлестнувших пуль, Яничка перекатилась к нему в умятую ложбинку, с веселым ожиданием заглянула в лицо. Он взял из ее руки шапку, сердито нахлобучил ей на голову.
— Не дури, Яничка, — сказал, хмурясь. — Давай-ка лучше работать…
Яничка засмеялась, повернулась на живот, приподняла голову, разглядывая черный, медленно врастающий в морозное небо дым над горящим танком, удивленно протянула:
— У вас тут и танк долбанули!..
Алеша не ответил, пополз вдоль проволоки к раненому.
Этого совсем еще молодого парня-солдата, до невозможности тяжелого, они, не сговариваясь, потащили за реку. Парень был ранен, наверно, смертельно: пулей раскроило ему темя; но он хрипел, ощущая сохранившейся частью сознания свою жизнь, выгибал, с какой-то яростной натугой грудь, как будто старался подняться на ноги. Парень хотел жить, и Алеша не мог оставить солдата.
По пространству реки, задыхаясь от безостановочной натуги, они волокли на шинели хрипящего, булькающего слюной парня, торопились, напряженно перебирая ногами, почти в рост, совершенно забыв в поспешности дела о высокой колокольне на крутояре. Но именно оттуда, с колокольни, накрыли их пулеметы. Пули засвистали в открытости реки, будто порывы ветра в чердачных щелях, втыкались в снег, казалось, под самыми ногами. Залечь на виду было гибелью, и Алеша подстегнул Яничку яростным криком. Бегом они одолели последние десятки метров, укрылись вместе с солдатом за береговой кручей. Весь мокрый, словно только что выбрался из реки, Алеша обессиленно привалился к откосу, запаленно хватал открытым ртом воздух, скомканным бинтом торопливо протирал заплывшие потом очки, лоб, глаза, подбородок. Надел очки и увидел, как Яничка, замерев, смотрит на парня-солдата.
— Алеша?! — тихо позвала она.
Солдат не хрипел, лежал спокойно, вдавив подбородок в грудь.
Алеша нагнулся, пошевелил парня — на ладони осталась кровь.
— Второй раз убили, — сказал он, вытирая руку о снег, и неожиданно выругался: — Сволочи!.. — Наверное, он побледнел, потому что Яничка переползла, головой сунулась ему в плечо, сказала, утешая:
— Ладно, Алеша! Гляди, сколько их! И на реке. И там, за оврагом…
Тела убитых как-то уже примелькались; смерть парня подействовала. И пуля ударила рядом, могла бы в Яничку, могла бы в него… «Могла. Но не ударила же!» — думал он, трезвея не первым в сегодняшнем дне ощущением пролетевшей мимо смерти. Он начинал понимать, что в медленном продвижении людей, которые упорно стараются проникнуть сквозь заграждения, бьющие в них пулеметы, сквозь разрывы снарядов, мин и черт знает через что еще, спрятанное там, в глубине и вокруг оврага, в этом, может быть, даже наверное, необходимом на войне, но далеко не радостном движении людей, называемом боем, слишком много какой-то общей человеческой боли.
Он сидел на снегу, привалившись к береговому откосу, думал, что все его безрадостное состояние от того, что своего места в бою он еще не нашел. «Что-то не так делаю, — думал он, стараясь вернуть себя в необходимость боя. — Полдня тыкаюсь в то, что перед носом. А стреляют уже в конце оврага. И сколько раненых там. И, наверное, без помощи…»
Яничка толкнула его в колено:
— Гляди, Алеша!
Алеша посмотрел вдоль реки, увидел на дороге, проложенной к тому берегу в глубь оврага, три подводы, груженные ящиками. В ту минуту, когда он посмотрел, за подводами уже опадали комьями льда взрывы долетевших снарядов и ездовые, пригнув головы, бежали к оврагу, побросав лошадей на открытости реки. Следующие три снаряда, так же обозначив себя согласными взрывами, упали ближе подвод. Бурый дым, светлея снизу, потек к лошадям. Лошади, приученные к звукам войны и послушанию человеческому голосу, стояли в упряжи, опустив головы и хвосты. Алеша напрягся, догадываясь, что следующие снаряды упадут на лошадей. И точно: взрывы ударили, казалось, из-под самых подвод. Задняя, соловая, лошадь подняла голову, как будто хотела разглядеть сани и человека, своего хозяина, подогнула передние ноги, как-то нехотя повалилась набок, придавив своей тяжестью оглоблю, задрав кверху другую. Лошадь лежала неподвижно, темнея выпуклостью брюха. Две другие, карие, с черными гривами и хвостами, переступали, но ни одна не сделала движения к своему спасению. В покорности они все так же стояли на открытости реки, пока новые разрывы не повалили их в снег; одна из упавших лошадей какое-то время сучила вскинутой ногой, потом затихла.
— Жалко-то как! — сказала Яничка, напряженно смотрящая на лошадей. — Ума не хватило убежать!
— У этих подлецов — хватило! — Алеша в злости стукнул кулаком по колену, как от холода, передернул плечами, подумал: «В ящиках, наверное, мины, гранаты. Что было бы там, на открытом склоне оврага, если бы у солдата Колпина не оказалось гранат?!»
Выглядывая схоронившихся под берегом ездовых, напрягаясь желанием понять, он думал: «Может быть, они тоже поступили по законам человеческих возможностей?.. Но как же тогда Колпин? Были бы гранаты, но не было бы солдата Колпина, что произошло бы там?!»
— Яничка! — сказал он, суровостью голоса давая понять, что говорит серьезно. — Пойдешь сейчас в санвзвод. Пусть посылают подводы, вывозят из береговых блиндажей раненых. Оврагом подъедут и днем. А я туда, к передним ротам…
— Фига с два!.. — сказала Яничка, и с такой непреклонностью, что Алеша оторопел. — Ты пойдешь и я пойду!..
— Да пойми же! — Алеша пробовал сердиться — приказывать он еще не умел. Яничка, не слушая, навалилась ему на ноги.
— Попробуй вот, встань, — она еще смеялась…
Алеша, сердясь, хотел подняться, но упал, рука его ударила по уже затвердевшему лицу солдата. Он притих, сел, уткнувшись подбородком в согнутые колени.
Яничка почувствовала его настроение, села рядом, прижалась.
— Ой, Алешка! Забыла тебе сказать! — Она обхватила рукав, заглядывала ему в лицо узкими, будто растянутыми к вискам, смеющимися глазами. — Врачиху-то нашу отправили в тыл… Живот у нее! Вот-вот родит… Старшина теперь голенький остался. Другого командира пришлют!..
Ну и Яничка! Было в ней что-то от той, теперь, издалека, особенно милой ему девчонки из Семигорья, удивительной Зойки Гужавиной. Яничка — такая же! Бой идет, смерть у ног, а она живет в своем привычном ей мире, как будто вся эта неестественная для жизни гулкая суматоха, в которой кровью захлебываются люди, никак не может затронуть ее самое!..
С трудом он уговорил Яничку пойти в санвзвод. Яничка вытребовала у него слово ждать ее тут, и на самом этом месте, и с ловкостью неуклюжего с вида зверенка вскарабкалась по крутому откосу на берег, отороченный высокими елями, махнула оттуда, сверху, рукой. Вернуться она могла минут через тридцать, ждать Яничку надо было хотя бы потому, что в сумке у него почти не осталось перевязочных пакетов.
За рекой, уже далеко на выходе из оврага, вперекрест хлестали снежное поле кнуты светящихся в полете пуль. Бой передвинулся, Алеша это видел и почему-то не почувствовал радости от видимого ему передвижения боя.
Только теперь, в одиночестве ожидания, он почувствовал, как устал. Привалился к откосу, ощущая, как неприятно холодит, липнет к словно избитым бокам и спине мокрое от пота белье, но пошевелиться, отлепить от тела мокрую под полушубком рубашку не находил сил.
Дрожание земли он ощутил сначала спиной, потом услышал слитный непрерывный гул, увидел, как вышли из-под кручи берега осторожные на реке танки. Давая подальше отойти впереди идущим, они ровно катили, поднимая снежную пыль, мимо убитых лошадей, брошенных повозок, к оврагу. Нескончаемо, с низким ровным гудом шли танки, выставив из покатых белых лбов башен длинные стволы пушек, и было их так много, так угрожающе сотрясали они берега, что даже вражеские наблюдатели, похоже, занемели на колокольне, — ни одна мина, ни один снаряд не ударили в открытость реки, рассеченной танковой колонной.
«Вот оно! Значит, прорвали!» — встрепенулся Алеша, поднялся, возбуждаясь видом идущей на вражеский берег силы, слушал заметно участившуюся пальбу тяжелых орудий за спиной.
Танки прошли, гул их замер в глубине оврага, слился с привычными звуками идущего боя. Снова перед ним была знакомая открытость реки с еще не рассеявшейся дымной полосой, оставленной танковой колонной. Искрящийся на солнце снег. И в снегу, ближе к тому берегу, бугорки солдат, павших в утренней атаке. И неподвижные лошади у брошенных повозок. И все та же стрельба на склонах оврага.
Он сел рядом с безгласно лежащим на шинели парнем-солдатом, снова привалился к откосу.
«Значит, прорвали…» — подумал на этот раз устало, как о деле, которое давно до́лжно было сделать, а оно все тянулось, не завершалось и наконец вот, как надо, завершилось. «А конники что-то не пошли…» — вспомнил он. И как-то отрешенно от всего, что было вокруг, подумал, что бой — совсем не место для подвигов. Что это, быть может, самая тяжелая работа. Самая тяжелая, опасная и самая горькая из всего, что только может быть…
Из-за реки шел солдат, широко размахивая рукой, с тем безразличием к открытому пространству, с каким обычно уходят в тыл раненные в самом пекле боя. Не было причин волноваться видом солдата, идущего по их с Яничкой следам, но Алеша почему-то насторожился. Когда солдат подошел, обдав шумом и паром тяжелого дыхания, повалился боком в снег, оберегая под шинелью раненую, забинтованную руку, с натугой разлепляя губы, попросил: «Покурить сверни, браток… Кисет в кармане…» — и Алеша, неумело слюнявя, свертывал ему из квадратика газеты папиросу, чувство ожидания нехорошей вести от этого, еще не остывшего от боя солдата усилилось. Так оно и случилось: глотая дым от запаленной самокрутки, между жадными глотками этого нужного ему пахучего дыма и сочными плевками в снег солдат проговорил, кивнув на убитого парня, лежащего у ног Алеши:
— Не дотащил, видать… А там комиссара побило! На самом ходу из оврага в поле лежит. Ни достать, ни доползти…
Алеша как будто не понял, о чем сказал ему солдат, зачем-то стащил с головы шапку, встал. Вдруг суетно скатился с откоса на реку, поднялся, упал, снова поднялся и, с ощущением непоправимой беды, хватая раскрытым ртом воздух, побежал в дальний конец оврага, где безостановочно шел бой.
5
Памятливый ум умеет заново разворачивать в живую картину то, что уже было, что повториться в точности в самой жизни уже не может; но, принуждая движение мысли к тому, что было, память заставляет человека с большей остротой чувства, с большим пониманием и верностью оценок переживать то, что уже свершилось; и час живой памяти совестливого человека бывает часом действительных его страданий.
Так было с Алешей Поляниным, когда лежал он уже в пустой и холодной палатке санвзвода в ночи и тишине умолкнувшего боя. Оживающая память вырывала из прожитого дня, с какой-то устрашающей обнаженностью бросала к его глазам то одни, то другие лица, то опадающие взрывы, то мертвых на белом снегу людей, то горящее черное железо танка, то низкое, задымленное небо. Наконец память выделила самое важное, самое мучительное из того, что было в прожитом дне, что случилось после того, как раненый солдат, выбравшийся из-за реки, глотая махорочный дым и сплевывая, сказал ему о побитом комиссаре и Алеша, не дослушав солдата, побежал.
Он бежал, спотыкаясь, по дну оврага, размятого танковыми гусеницами, мимо людей, подвод, минометной батареи, туда, на выход, где уже почти безлюдный, овраг заметно мельчал и распахивался в заснеженное поле.
Опасную не то насыпь, не то открытую, как ладонь, горушку, на самом выходе в поле, он заметил еще издали: россыпи зеленых и красных, как будто раскаленных, пуль с короткими перерывами и пугающим постоянством проносились по-над горушкой, закрывая из оврага путь; заметил он и неподвижные тела солдат на снеговой ладони.
В последнем распадке он почти налетел на живых солдат, они лежали под горушкой, умяв себя в рыхлый здесь снег, оборотив к нему хмурые лица. Алеша упал рядом; он задыхался от бега, от ощущения непоправимой беды, которое все усиливалось; он не спросил, прохрипел, не узнавая своего голоса:
— Где он?..
Солдат в каске, надетой поверх опущенной и завязанной под подбородком ушанки, оказавшийся ближе, хороня голову, осторожно перевалился на спину, махнул рукой на горушку:
— Тут лежит. Да не взять. Секёт, спасу нет. Варежку кинешь, и ту прошивает. По четверым уж поминки справили…
Теперь, лежа в темной палатке, вспоминая каждое движение, каждое слово укрывшихся в распадке солдат, морщась от боли в ноге, которая время от времени сжимала, подергивала тело, Алеша никого не осуждал.
Но в ту минуту рассудительность солдата в завязанной под подбородком ушанке, его осторожность были невыносимы.
— Эх, вы… — только и сказал он. Он поднялся, не раздумывая, что ему делать и как, метнулся из последних, казалось, сил через раскатанную путами горушку. Он и теперь не знал, как позволил ему немецкий пулеметчик проскочить над смертным пространством: снял ли он с пулемета замерзшие руки или отвел глаза в ту сторону, где вздыбились в задымленное небо черные выворотни взрывов, но нажал он на спуск чуть позже, чем надо бы: прожигающая воздух и снег струя пуль обошла его.
Вспоминая, Алеша чувствовал, как горит его лицо, как будто, задыхаясь, он все еще бежал по снегам; а тело знобило, хотя лежал он в ватном мешке, накрыв себя сверху полушубком. От лихорадочной работы мысли беспокоились руки, он не знал, куда их деть, и то вытягивал вдоль тела, то стискивал на груди. В те минуты, когда он перескочил горушку, он еще не знал, что опасный бег из оврага в поле это еще не конец беды — ждало его другое испытание, о котором он не мог и подумать.
…Все, что сделал он возможного и невозможного, все оправдалось бы, все было бы в радость, в счастливый миг, если бы под наметанным первыми зимними ветрами сугробом лежал, сжимая побелевшими руками ногу, комиссар. Но когда дрожащими мокрыми пальцами Алеша протер над жаркими щеками запотевшие стекла очков и торопливо взглянул, он как будто застыл в горьком недоумении: прежде чем человек поднял и повернул к нему бледное, измененное страданием лицо, по крупному носу, тяжелому подбородку, по всему жесткому, самолюбивому профилю лица он узнал в лежащем на запачканном кровью желтом снегу комбата-два.
У памяти свои законы, — Алеша в это мгновение вспомнил все: и то, как стоял навытяжку в комбатовской землянке, и как человек этот сидел на нарах в исподней рубашке, положив ногу на ногу, покачивал сапогом и покуривал с расчетливой медлительностью из наборного красивого мундштука, подаренного ему старшиной Авровым, чтобы потом, после долгой паузы, ровным, будничным голосом приказать ему покинуть батальон; вспомнил и худенькую Полинку, старательно подшивающую подворотничок к вороту комбатовской гимнастерки; и разбитую, схваченную морозом дорогу, по которой этот человек заставлял его почти бежать за собой, растягивая срок незаслуженного им, Поляниным, унижения; и ухнувшее, как шальной взрыв, слово «трибунал», от которого отвела его твердая воля комиссара. Все вспомнил он в горький миг узнавания, и комбат, лежащий беспомощно под снежным наметом, разглядел недобрую тень памяти в его взгляде — боль и страх заметались в широко раскрытых его глазах.
По обильно напитанной кровью ватной штанине, отвисшей под коленом, яркому окрасу крови на пальцах и серому лицу Алеша понял, что у комбата разорвана артерия. Он мог бы просто не притронуться к этому человеку, все случилось бы само собой: еще пятнадцать — двадцать минут — и, с каким бы отчаянием комбат-два ни сжимал онемевшими пальцами свою простреленную ногу, кровь все равно вытекла бы, вместе с кровью ушла бы и жизнь. Как просто было воздать этому недоброму человеку! Как просто! И никто ни в чем не смог бы его упрекнуть: на кусочке заснеженной земли, они были одни, отрезанные пулями от всех других людей, от всего привычного им человеческого мира.
Молчаливый поединок памяти и долга продолжался в душе Алеши какую-то, как будто повисшую над временем минуту. Потом минута заняла свое место во времени, и Алеша молча стал делать то, что должен был делать. Из пробитой двумя пулями сумки извлек уцелевший жгут, стянул бедро, остановил кровь; через распоротую штанину туго забинтовал пулевую рваную рану. Не пожалел, последним перевязочным пакетом забинтовал и разрезанную ножом штанину, чтобы хоть как-то укрыть от холода наверняка занемевшую ногу. На комбата-два он не смотрел, он делал свою работу, делал так, как делал бы любому раненому солдату, даже тщательнее, лучше, из упрямого желания показать, что он не способен злом отвечать на зло.
Потом так же молча они лежали в снегу, рядом. Комбата знобило, Алеша видел его сцепленные на животе, подрагивающие руки. Он приподнялся, молча расцепил заледенелые руки комбата, натянул на них свои рукавицы, широкий ворот комбатовского полушубка расправил под головой, завязал тесемки ушанки под твердым, как камень, подбородком. Все это не могло согреть обескровленного, лежащего в снегу человека. Поколебавшись, он распахнул свой полушубок, расстегнул полушубок на покорном ему сейчас комбате, охватил ладонями прямые костистые плечи, осторожно, стараясь не задеть раненую его ногу, прижался своим разгоряченным телом. Какое-то время он неловко лежал, отдавая свое тепло, щекой ощущая колючий холод металлических пуговиц гимнастерки, перемогая застойный запах табака и запах чужого ему тела. Комбат перестал дрожать, дышал ровнее. Алеша, стараясь сохранить тепло, запахнул на его груди полушубок, натягивая петли на кожаные пуговицы, поднял глаза и встретил близкий, незнакомый в своем выражении взгляд: всегда холодно-властные, глаза комбата-два благодарили, заискивали, молили.
Алеша понимал: до ночи комбат не доживет; надо было найти путь из снеговой ловушки. Он попытался стянуть к себе под уклон лежащего на снеговой ладони солдата. Но едва пошевелил неподатливое тело, пули взвизгнули, пронеслись у руки, ударили, разрывая на мертвом шинель. Алеша отпрянул, увидел лицо солдата, узнал: вчера утром этот молоденький связной комбата, пробегая мимо, весело крикнул ему: «Выступаем!» — «И вот он — короткий на войне путь», — подумал Алеша с кольнувшим сердце состраданием.
Безнадежно было и пытаться перетащить комбата через горушку, прикрываясь телом убитого связного.
Комбат все видел; уронив голову на плечо, он смотрел, и мольба в его взгляде уже сменилась покорностью тому, что должно быть.
Алеша не помнил, как услышал будто издалека идущий, слабый его голос:
— До дома… сорок верст не дошел… Мать, дети… все тут…
Тоскливые слова комбата словно проскребли по сердцу. С этой минуты Алеша знал, что сделает даже невозможное, но человека этого спасет.
Трудно проследить в меняющемся времени, как детство, с его будто бы наивными играми, вдруг проявляет себя через много лет в сложностях уже взрослой жизни, порой в таких вот опасных обстоятельствах, в каких оказался Алеша, с раненым комбатом на руках, среди идущего боя. Что дало найти ему путь из, казалось бы, полной безысходности: ребячьи ли игры в «белых» и «красных» со снежными крепостями и хитроумными подкопами; водный ли упорный марафон, вылепивший послушное, выносливое тело; охотничья ли страсть, которая научила невидимо подбираться к чуткой дичи, — но опыт бытия, накопленный им за восемнадцать лет жизни, оказался счастливее того военного опыта, которым владел невидимый немецкий пулеметчик. В боку смертной горушки он сумел отыскать похожую на канаву впадину, плотно забитую еще первым оттепельным снегом, заровненную ноябрьскими снегопадами, и, заходясь от боли, отогревая, дыханием побитые бесчувственные пальцы, проскреб каской ход; через тесноту этого хода протащил беспомощного комбата к залегшим в распадке солдатам.
Когда под стук и звень чиркающих землю пуль, вжимаясь в крошево мерзлой земли и снега, рывок за рывком, он протаскивал по прорытому ходу как будто налитого валунной тяжестью комбата, ударило его какой-то твердостью в левое бедро. В запальной суете дела он не обратил внимания на свой ушиб, терпел боль и потом, когда вытянул комбата к распадку и уже вчетвером, на плащ-палатке, они тащили его по оврагу в тыл. Но ясно помнил, как всю долгую дорогу видел заискивающий, признательный взгляд полузакрытых от слабости и в то же время лихорадочно блестящих глаз комбата. Взгляд комбата неотступно следил за ним и тогда, когда, до бесчувствия сжимая пальцами угол плащ-палатки, оступаясь на неровностях дна оврага, он вместе с солдатами тащил его, беспомощно-покорного, и в те короткие минуты, когда, задохнувшись от непосильной для спешного хода ноши, они опускали его, тяжелого, на снег и все четверо падали тут же на холод размятой ногами, колесами и гусеницами дороги. Алеша даже помнил, как обожгло его неожиданное прикосновение чужой руки: где-то уже под берегом, на такой же остановке комбат нашел его руку, слабо, благодарно пожал.
Вконец обессиленные, они вволокли безмолвного комбата в палатку санвзвода. Алеша встал в стороне от тотчас образовавшейся вокруг комбата суеты; он чувствовал, как дрожат ослабевшие ноги, чувствовал боль в зашибленном боку, устало смотрел, как Авров распоряжался, чтобы комбата осторожно подняли на высокий стол; видел маленькие, встревоженные глазки на широком, с выпирающими скулами, лице Ивана Степановича: подняв кверху шприц с тонкой иглой, он терпеливо ждал, когда освободят комбата от лишней одежды и бинтов.
Комбат ожил, возбудился, как это обычно бывает в определенный час с тяжелоранеными, неверными, спешащими движениями помогал стянуть с себя ремни, полушубок. Освободившись от одежды, приняв укол, он приподнялся на локтях, оглядел всех медленным, узнающим взглядом. В свете двух керосиновых ламп, прикрепленных к стоякам палатки, Алеша видел, как возвращалась к недавно отрешенному лицу комбата осмысленность, как проступала в свете ламп в заострившихся чертах удлиненного, нездорового лица и былая властность. Приподняв кисть руки с разведенными в нетерпеливом ожидании пальцами, он приказал:
— Курить!..
Авров заученным движением выхватил из своего кармана портсигар, обломал у папиросы конец, всунул в мундштук, с пониманием вложил конец мундштука в приоткрытые губы комбата, чиркнул зажигалкой. Комбат, откинувшись на изголовье, молча всасывал дым, неподвижно глядя в зауженный верх палатки; не докурив, бросил мундштук под ноги Аврову.
— Пить. Чаю! Горячего! — так же властно приказал он; Авров исчез. И тут, словно заполняя освободившееся место, влетела в палатку, с раскрытым в безмолвном крике ртом, простоволосая, в одной лишь гимнастерке, похожая на мальчишку Полинка. Будто не видя людей, упала она головой на грудь комбата, худенькие ее плечи дергались, — рыдала она в голос, как плачут деревенские женщины при невозвратной разлуке. И комбат — Алеша хорошо это видел — в досаде покривил губы крупного рта, с неожиданной силой отстранил, почти оттолкнул ее от себя. Девушка замерла в изумлении, вцепившись согнутыми пальцами в свои мокрые щеки; потом, все поняв, с ужасом в глазах отступила, как будто повалилась за потрескивающую огнем печку, и там, забившись в тень угла, плакала, стискивая в горле стоны.
Комбат, не обращая внимания на прорывающийся из угла стон, приподнялся на локтях:
— Пить! Где Авров?!
Он сказал это нетерпеливо, и кто-то из девчат подстегнуто выбежал искать старшину. Алеша видел: комбат сознает свою власть над стоящими вокруг людьми; он снова обводил всех медленным взглядом, как будто спрашивал каждого: «Ну, чего стоишь?!» И каждый, на ком останавливался его взгляд, опускал глаза, неловко отступал в полусумрак палатки. Комбат знал, что спасен, он слышал, как уже пофыркивала у входа лошадь, готовая домчать его до ближайшего госпиталя, и, сознавая еще действующую свою власть, как бы освобождал себя от людей, от которых теперь не зависел.
Алеша с нарастающим душевным напряжением ждал, когда взгляд комбата остановится на нем, он еще не верил, что в спасенном им человеке вместе с жизнью оживет тот, прежний, комбат-два, для которого власть не была и не могла быть добром.
Комбат-два остановил на нем взгляд на такой же короткий, точно отмеренный, как для всех других, стоящих вокруг, миг и с той же мерой властной досады на то, что человек, на которого он смотрит, еще находится здесь. Словно оттолкнув взглядом Алешу, крикнул раздраженно:
— Где Авров?! Ехать надо!..
«Вот оно!» — потрясенно думал Алеша, выходя из душного воздуха палатки на мороз, в звездную ночь, плохо еще сознавая, каким тяжелым смыслом наполняются эти, еще утром звеневшие радостью, слова.
Новый, еще неясный ему, тяжелый смысл привычных слов состоял в том, что духовная его победа над былой несправедливостью жестокого в своей власти комбата, в которую так безоглядно он поверил, не оказалась победой. В его памяти жила его духовная победа над красавцем Конюховым в училище, вдруг прорвавшиеся в последние минуты прощания его раскаяние и признательность ему, Алеше, и мокрое от слез его лицо, и тем горше было чувствовать напрасность всех своих усилий, которые он употребил на то, чтобы хотя бы в расставании увидеть комбата человеком.
«Вот оно… Вот оно…» — с болью пульсировало в самых чутких местах его души, когда он лежал в пустой холодной палатке санвзвода, казалось, забытый всеми.
«Но если так, то зачем добро? — думал Алеша. — Если добро не подвигает человека к совестливости, зачем стараться о добре? Почему-то в солдате Колпине, даже измятом болью, жила необходимость объясниться в несуществующей вине! Почему-то его заботило, какая память останется в другом человеке, которому ничем он не был обязан?! Почему же в комбате не нашлось доброго слова для Полинки, которая отдала ему себя со всеми своими девичьими чувствами? Доброго взгляда тому, кто спас ему жизнь?..
Но ведь было же, было! — думал, волнуясь, Алеша. — Не кто-то — он, комбат, благодарно искал спасающую его руку, немо молил, заискивал взглядом! — все было там, среди снегов! Там человек был! Куда же делся тот человек?! Или все было ложь? И тот человек имел только одну, спасительную, цель? Но как же тогда быть? Как быть, если такой человек воюет рядом с тобой? Если он над тобой? И над многими другими?!»
Давно Алеша слышал какой-то посторонний, нарастающий шум. Он сделал усилие, сосредоточился на том, что было где-то за пределами палатки, различил стук множества копыт, фырканье лошадей, сдержанные окрики, говор и понял, что в ночи шел к реке, втягивался в узкую горловину прорыва, с трудом проделанную их бригадой, конный корпус Доватора. Конникам предстояло вслед за танками уйти в немецкие тылы, на окружение ржевской группировки войск противника, и Алеша, зная это и не зная людей, идущих в ночь, с щемящим чувством соучастия в смертельно-опасном их деле подумал, как горько, может быть, придется кому-то из тысяч этих людей, уходящих сейчас в неравные бои, если окажутся среди них и над ними такие вот, как комбат-два. Почему-то он подумал об этом, смутно ощущая взаимосвязь боевой силы огромного войска, стоящего по всему тысячекилометровому фронту, с теми законами человеческих взаимоотношений, с действительными человеческими качествами каждого, кто был сейчас солдатом или командиром, ту взаимосвязь, от которой в не меньшей степени, чем от огневой мощи, зависел и общий исход войны. Он долго слушал шум идущих в прорыв войск и, когда шум затих и в ночи опять установилась тишина, вернулся в мыслях к безответным своим вопросам. Он страдал от того, что не может разрешить эти вопросы для себя, и не понимал, где чувствуемая им боль мучительнее: в душе или все-таки в ноге от раны; он уже догадался, ощупав на боку, ниже пояса, ватную штанину, порванную и влажную, что ногу он не ушиб, — немецкий пулеметчик достал-таки его пулей, когда протаскивал он комбата по узкому ходу сквозь смертную горушку. Две эти боли теперь как будто нашли друг друга, соединились в одну, и выдерживать общую эту боль было трудно. Перевязать рану, почти на боку, он вряд ли бы сумел, да и бинтов у него не было; идти же в перевязочную, где, возможно, еще был комбат, он не мог. И лежал, смирясь с болью и начинающейся от раны лихорадкой. Голова кружилась. На какое-то время он, наверное, забылся, потому что вернулся в действительность холодной палатки от ощущения тепла, какой-то успокаивающей робкой тяжести на голове. Лоб его прикрывала чья-то ладонь, и, когда в темноте близко он услышал слабый, как выдох, шепот: «Алеша…», — догадался, что рядом с ним Яничка. Он протянул в темноту руки, неловким движением свалил с головы Янички шапку, не дал даже поднять, охватил Яничку за тонкую шею, прижал к себе, поймал сухими губами холод ее волос и держал какое-то время, не отпуская, чувствуя, как от близости другой, доверчивой души в комок собралась вся его еще не пережитая боль.
— Яничка, — сказал он, чуть отстраняя от себя послушную его руке голову. — Ну, почему, скажи, почему человек не удерживается в человеке?!
Яничка замерла над ним, не понимая. Но когда он договорил то, что было его болью: «Ведь должна же быть среди людей справедливость? Хотя бы простая человеческая благодарность?!» — она поняла, поняла по-своему и в радости с шепота сорвалась на голос:
— Она есть, Алеша! Я сейчас тебя поцелую, и пусть это будет благодарностью за все, что ты сделал сегодня…
Яничка распахнула на себе полушубок, тая дыхание, склонила свое лицо над его лицом, стараясь губами удобнее достать его губы, коленкой придавила ему бок, и боль, та, которая была от раны, заставила его крикнуть.
За какие-то минуты из ищущей ласки женщины Яничка преобразилась в деятельную, ловкую фронтовую сестричку: запалила в палатке коптилку с широким фитилем, раздела Алешу, нимало не обращая внимания на его смущение и протесты, сердясь, выговаривая ему, сострадая его боли, залила йодом навылет пробитую рану, туго забинтовала поперек живота и наискось, через пах. Натянув на него, ознобленного холодом, запачканную кровью одежду, застегнув, как на маленьком, до ворота полушубок, она помогла снова залезть в ватный конверт, села у изголовья, обхватила его подбородок и щеки узкими теплыми ладошками.
— Довоевался! Завтра вот в госпиталь отправлю. И молчи! И ничего не говори!..
Алеша, согретый ее участием, ее ворчливым, милым ему сейчас разговором, молчал. В его душе истекал день первого, давно затихшего боя, медленно, трудно истекал, озаряя и сотрясая память орудийными залпами, тугими ударами взрывов, взвизгами просверкивающих над снегами пуль; он видел тела неподвижно лежащих среди реки людей, снова смотрел в черное лицо солдата Колпина, отплевывающего измятое нутро; из глаз не уходили обхваты бинтов, тяжелеющие на ранах от проступающей, дымящейся на морозе человеческой крови. Прожитое течет через душу, пока из прожитого не извлечется усилиями ума какой-то важный для жизни смысл. В душе все переживается мучительнее, чем в яви; порой труднее думать, чем поступать. Отгороженный брезентом палатки и оберегающими ладонями Янички от морозной, казалось, омертвевшей после грохота дня ночи, Алеша не успокаивался, он весь был в прожитом дне. Упрямо высвобождая подбородок из-под овчинного ворота полушубка, возбуждаясь и торопясь, он выкрикивал в уже начавшемся бреду:
— Завтра же… Надо, Яничка… Солдаты же, солдаты!
Яничка, все больше встревоживаясь состоянием Алеши, сжимала его щеки, тихим голосом уговаривала, успокаивала, думала, что надо бежать за лошадью, надо Алешу отправлять, и никак не могла его оставить.
Она гладила жаркое, влажное его лицо и шептала хорошие, ласковые слова, которые в беспамятстве он не мог слышать.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ ППГ-4
1
На двенадцатый день батальон выводили из боя. Припадая на раненую ногу, Алеша шел позади, и, когда люди из оврага спустились на лед реки, он увидел в сумеречно-зеленом свете стоявшей над берегом неполной луны то, что было теперь батальоном. И не поверил — стоял и ждал, когда выйдут из оврага другие роты. Никто не вышел. И хотя он помнил о сотнях раненых, которые прошли за эти дни через его руки, через передовой медпункт, который все-таки, одолевая боль и неподвижность раненой ноги, он сам развернул почти в порядках наступающих рот, в отбитом штабном немецком блиндаже, — видеть как будто отсеченное по грудь живое тело батальона было жутко.
Оставшиеся от батальона люди и службы без труда разместились в блиндажах артиллеристов, покинувших свои огневые позиции.
В землянке, где расположились он, Иван Степанович, старшина Авров, штабные связные, бойкие, умелые молодые ребята, даже один из пожилых снабженцев, шла с поздних рассветов до полуночи непринужденно-веселая, в общем-то странная для фронта жизнь. Как будто, побыв рядом со смертью, оставшиеся в живых получили право и время на какую-то другую, особенную жизнь. Никто не определял им порядок дня; каждый волен был поступать по своему разумению и хотению: бродить в одиночестве по опустевшим дорогам среди слепящих белизной полей или в глухо придавленных снегом лесах, отсыпаться, молчать или говорить вместе со всеми о девчонках, наградах, начальстве, втором фронте, о доме в прошлой своей жизни; каждый волен был в эти дни как будто совершенно забыть о войне и жить, просто жить в согласии или несогласии с теми, кто был рядом.
В шумной землянке, где был и Алеша, неумеренно ели, пили еще идущие в батальон наркомовские граммы, шумно спорили, плохо слушая друг друга, травили анекдоты, обнявшись, пели под гитару, особенно стараясь, когда приходили в землянку скучающие без дела девчата. И Алеше не казалось странным, что заводилой, тамадой в шумной, премилой их компании был не кто иной, как старшина Авров.
Авров не потерялся, когда должностная сила его — безликий командир их санитарного взвода — была отправлена в тыл по причине слишком заметной беременности; не затерялся он в остатках батальона и тогда, когда отбыл в госпиталь, похоже без возврата, и раненый комбат-два — твердая опора его армейского благополучия. Авров сменил не свою должность, он сменил как будто самого себя, — улыбчивый, предупредительный, в меру веселый, с легкостью достающий все, что требовалось оставшимся в живых фронтовикам, он сумел всей компании и каждому в отдельности стать необходимым именно теперь, в общем вынужденном безделье.
Алеша в эти дарованные после боя бездумные дни как будто бы породнился со всеми, кто оказался рядом, какое-то чувство радостного всепрощения владело им. И жил он в счастливом ощущении случившейся удачи, настоящей, большой удачи; никогда прежде он не испытывал подобного, приподнимающего его чувства от исполненного им действительно важного, не только ему нужного дела. И рана его, не сказать чтобы тяжелая, но такая, с которой он сам безоговорочно отправлял солдат в госпиталь и боль и лихорадку от которой он превозмог своей волей, добавляла общему ощущению удачи какой-то еще и героический, не одному ему видимый отсвет.
Комиссар прямо сказал ему, одобряя всю двенадцатидневную его работу в условиях тяжелого для батальона боя:
— Толково проявил себя, военфельдшер. Хвалю…
А когда ПНШ[4] батальона, близкий приятель Аврова, до боя подчеркнуто обходивший его своим вниманием, молодой, сутулый, с желчной улыбкой, старший лейтенант Ларин, сам пожаловал к нему и заговорил с ним как с равным: «Причитается с тебя, Полянин! Представление на орден послали…» — Алеша в совершенном ощущении удачи готов был назвать своим кровным другом и ПНШ Ларина, и даже старшину Аврова. Он взахлеб смеялся анекдотам, которые с умелой безулыбчивостью артиста рассказывал Авров, подпевал его ровному тенорку, даже спал на земляных нарах с ним рядом, бок к боку, и по утрам, когда холод наполнял землянку, спросонья заботливо укрывал его полой своего полушубка.
Иван Степанович, один из всех обитателей землянки, держался в молчаливой отстраненности, никому не мешая, но и не давая вовлечь себя в шумную бестолочь веселья. В махорочном дыму Алеша иногда замечал на себе испытующий, нацеленный его взгляд, порой слышал в общем шуме усмешливый, как будто удивленный его возглас:
— Друзья, понимаешь!..
Чужая трезвость не останавливала Алешу. В иные ночи смутно вспоминалось — вольница, Юрочка Кобликов, близко к глазам придвигалось лицо Красношеина, слышался его удовлетворенный голос: «Вот так, Лексей, одна бутылка и — нет человека. Даже двоих…» Но все это лишь мгновениями озаряло сознание, как мерцание неслышных зарниц где-то далеко проходящей грозы.
— Ты, должно быть, знаешь, — сказал ему в один из дней Авров. — Наградное твое вернулось…
Он сказал с сочувствием, в другое время Алеша увидел бы в сощуренных глазах Аврова проблескивающие огоньки удовлетворения, возможно, заметил бы в истонченных постоянным напряжением губах умело спрятанную усмешку. Но новость была слишком тяжела, было не до того, чтобы вникать в выражение лица старшины. Он ответил, едва удерживая дрожь обиды в голосе:
— Начальству виднее…
Ответил не так, как думал, а как должен был сказать, и этим, может быть, спас себя, не дал Аврову расположиться в своей душе.
Авров дружески похлопал его по плечу, как бы смиряя с горечью неудачи, сказал:
— Ничего, бывает хуже. Хочешь? — Он показал фляжку, и Алеша, теперь уже привычно уступая, принял от него кружку с той самой водкой, от одного запаха которой задыхался.
Потом он узнал, что наградные дела вернулись поголовно на всех командиров — в штабе фронта утвердили только десятка два медалей рядовому составу. Было это проявлением раздраженного настроения, которое шло сверху, от фронтового командования, из-за общей неудачи широко задуманной операции, — от той неудачи, в которой их батальон и бригада в целом повинны не были.
Быть среди других было легче, Аврову не совсем точное известие он простил. Столкнулись они в другом: во время общего, довольно бестолкового, разговора о жизни Алеша заявил:
— Два качества определяют настоящего человека — добро и справедливость. Горе ушло бы с земли, если бы каждый, прежде чем сказать и поступить, думал о другом человеке, о том, к кому относится его слово и поступок. Человек становится человеком, когда забота о других делается потребностью души. Именно с этого начинается человек…
Авров, сидевший о ним рядом, слегка отстранился; покуривая из особого, цветного наборного мундштука, смотрел с интересом. Дождался тишины, сказал:
— Человек начинается с заботы о себе, военфельдшер. И кончается — заботой о себе. На том стоит мир. Сказанное вслух, это звучит неприятно, как неприятно всем вместе сидеть в нужнике. Но ничего не поделаешь — такова вонь естества. Кстати, тот разум, о котором ты, Полянин, так печешься, всегда находит оправдание эгоизму. Понаблюдай — только без разных интеллигентских вывертов, — как работает твой ум. Увидишь, как изворачивается он, этот твой совестливый ум, когда тебе надо оправдаться в собственной подлости. Наивность хороша для тех, кто хочет выглядеть приличным. В жизни, к сожалению, от нее тошнит…
Алеша вспыхнул — он не терпел холодной иронии в спорах. Всегда казалось ему, что человек, прибегающий к иронии, сознательно уходит от самой возможности истины. Потому он загорячился и, горячась, недостойно для себя оборвал старшину:
— Если вам, старшина, не знакомо чувство добра и справедливости, то лучше помолчать!
И тогда все весело закричали:
— Дуэль! Дуэль!..
Кто придумал эту шутливую, но азартную дуэль, не было известно: называли ее американской. Когда спор затягивался, все быстро вылезали из землянки на волю, спорщики втыкали в снег свои мундштуки или зажигалки и с десяти шагов, поочередно, каждый стрелял из пистолета в чужую ценность. Выигрывал тот, кто разбивал первым.
Алеша улыбался, предчувствуя победу: кожаную его портупею теперь солидно оттягивала кобура с немецким парабеллумом; он быстро освоил этот массивный, удобный в руке, точный по бою пистолет и почти не проигрывал в стихийных поединках. Первым был его выстрел: красный мундштук Аврова взлетел над снегом, но остался целым. Алеша, все так же улыбаясь, протянул парабеллум старшине. Авров, будто не замечая протянутой руки с пистолетом, приподнял полу гимнастерки, заученным движением расстегнул маленькую кобуру, закрепленную на поясе у правого бока, ловкими пальцами извлек плоский светлый пистолетик, почти весь уместившийся в его ладони. Снизу вверх медленно повел вытянутую руку в направлении воткнутого в снег мундштука. Щелкнул слабо слышимый среди снегов выстрел, осколки брызнули, мундштук исчез.
— Моя победа, Полянин. Выходит, и правда моя, — сказал он, аккуратно убирая под гимнастерку пистолетик.
Алеша, переживая артистичность старшины и точность его руки, какое-то время в растерянности стоял, потом запоздало вскипел от неудачи, двумя выстрелами в пыль разнес красный авровский мундштук, все еще валявшийся на снегу. Хотя он и был расстроен, заметил, как вздулась в мгновенной холодной ярости плотная авровская шея, но тут же почти спокойно старшина сказал:
— Вне игры. Вне игры, Полянин!
Алеша сам понимал: спор по законам дуэли выиграл Авров. Но в жизни спор продолжался, и потому он выкрикнул в совершенном, исступлении:
— Добро, Авров, не распуляешь никакими пистолетиками!..
Всем, кто вышел из землянки смотреть их поединок, стало неловко; поеживаясь то ли от холода, то ли от стыда за мальчишескую горячность Алеши, один за другим все пошли в землянку.
Авров приобнял Алешу, сказал с успокаивающим дружелюбием:
— Пошли пить мировую, Полянин! Пусть каждый думает, как хочет. И делает, как хочет. Ну?!
«А ты не прост, старшина. Совсем не прост!» — думал Алеша, послушно спускаясь в душную теплоту землянки. Авров как будто раскаивался в показанном своем превосходстве, был предельно предупредителен. Но в настроении Алеши что-то сломалось. В землянке он побыл недолго, оделся, побрел по дороге к лесу. Светлый маленький пистолетик Аврова не выходил из головы. За, казалось бы, пустячным случаем снова почувствовалась чужая расчетливая сила, и, снова настораживаясь, он думал: «А не прост! Нет, не прост. Совсем не прост ты, старшина!..»
Так же медленно (он все еще прихрамывал), почти успокоенный, Алеша возвращался хорошо накатанной дорогой. В стороне, среди снегов, приметил черный дубок и стоявшего у дубка в неподвижности одинокого человека. Побужденный неясным сочувствием, он по свежим следам, промятым в снегу, подошел, узнал комиссара, смутился, хотел уйти. Но комиссар позвал:
— Подходи, Полянин. Постой… Подумай…
Под дубком, укрытая напавшим свежим снегом, угадывалась могила. Но не сам уже привычный холмик земли приковал его внимание, а дощечка, притиснутая обрывком колючей проволоки к стволу. И необычные слова на дощечке, писанные неловкой рукой, сажей, разведенной в бензине:
«Полинка из санвзвода. Приняла смерть 2.XII.42 г.».
Алеша, не стесняясь присутствием комиссара, прислонился к обдутому ветром холодному стволу, в растерянности думал: «Так вот где ты теперь, страдалица…»
Еще с той, первой работы на поле, под облачками шрапнельных разрывов, шла с ним рядом, испуганно чуждаясь его, эта худенькая, по-мальчишески ловкая и молчаливая девчушка. Он сам себе не смог бы ответить, что за чувства были у него к Полинке: наверное, просто она нравилась ему, как может нравиться созвучный по азарту жизни человек. Может быть, они стали бы хорошими товарищами, может быть, друзьями. Какие-то другие чувства могли бы связать их. Все могло бы быть, думал теперь Алеша, если бы не злая воля старшины. Он помнил, как на том же поле, где косили они рожь, испугало ее близкое присутствие Аврова. Помнил и тот страшный разговор Аврова, который случайно услышал, и слова Полинки, брошенные с не девичьей злостью: «Себя продал, теперь меня продаешь?!»
И тот черный для себя день в блиндаже комбата-два, когда Полинка, таясь в углу, с покорностью и старанием подшивала подворотничок к комбатовской гимнастерке.
И другой день, уже в перевязочной, где лежал спасенный им комбат-два, ее слезы, растерянность, страх, отчаяние и нетерпеливый, отстраняющий ее жест комбатовской руки.
Последний раз он видел ее в штабном немецком блиндаже, в ста шагах от ротных позиций, где он и Яничка перевязывали и укрывали раненых до ночи. Вошла она тихо, стояла у стены и наблюдала за ним, пока он бинтовал солдату бедро. Когда он закончил, сел на нары, вытянул, морщась от боли, ногу, она долго, пристально на него смотрела. Так, не сказав ни слова, и ушла.
Такой он видел ее в последний раз. Нет, в последний раз он увидел ее наутро: принесли ее в блиндаж солдаты. Лежала она на плащ-палатке, уже освобожденная от полушубка; на гимнастерке, там, где обычно бывают ордена, темнели два, от проступившей крови, пятна. Один из принесших ее солдат, толстенький, коротконогий, мял шапку в руках, говорил, как будто оправдываясь перед теми, кто был в блиндаже:
— Уси у роти позалэглы, у поли, у снигу! А оця дивчинка, дивимся, поднимается и, як ничого нэ баче, пишла на кулэмэт…
Он слышал голос коротконогого солдата, удивлялся: «Зачем он говорит?..»
Напряженно смотрел на голубоватое, с полуоткрытыми глазами лицо, в застывшем выражении которого не видел ничего, кроме успокоения, и думал, слыша и не понимая солдата:. «Зачем он говорит? Молчать надо. Всем молчать…»
Алеша вглядывался в буквы на неструганой дощечке с таким напряжением, как вглядывался в то утро в неподвижное голубоватое, какое-то уже не девичье лицо, но различал только два скорбных слова: «Приняла смерть…» Как точно кто-то написал. Не было только имен тех, по чьей вине приняла она смерть.
Алеша расслышал голос комиссара:
— Невозможное это дело — девчонок губить!.. Убрать с передовой! Всех убрать! Есть у них свое дело — раны и души врачевать!..
Алеша слышал как будто злостью надорванный голос, думал, что комиссару, наверное, известно все о смерти девушки Полинки. Не знает он только то, что ему, Полянину, тоже известно все. И что гибель Полинки для него много больше, чем просто смерть одной из девушек санвзвода…
В шумную землянку Алеша не вернулся — ночевал он у минометчиков. Утром, ничего не объясняя, перенес в блиндаж к ним и свои вещи.
2
На этот раз Иван Степанович был неумолим.
— Показывай свои раны, победитель! — приказал он жестко. И Алеша уступил; хромал он все замет нее, морщился, неловко ступив, рана болела, мешала ходить. Иван Степанович давно наблюдал за ним и вот:
— Раздевайся давай! Герой, понимаешь… Молись богу, что доглядел вовремя. Ты же совсем больной! Собирайся, в госпиталь пойдешь.
Иван Степанович был убежден, что все его беды от раны. Спорить Алеша не стал, он сам чувствовал, что изменить свою жизнь, хотя бы на малое время, надо: он уже отупел от безделья, бесполезных дум, раздражался даже по малому поводу.
Провожать его в ППГ-4, в госпиталь, расположенный километрах в пяти, напросилась Яничка. Вышли они морозным утром. Шли не спеша, согласно вбирали в себя холодную ясность неба над головой, разглядывали тяжелую лиловатость инея на березах, солнечные узкие, как рельсы, отблески на уходящей вдаль дороге.
Яничка с заботливой привязанностью шла рядом, на скользких дорожных раскатах в готовности подставляла под его руку плечо. В новом дубленом, подпоясанном ремнем полушубке, который уже после боя вручил ей батальонный интендант, вдруг проникшийся уважением к ее всем уже известной боевой лихости, в валенках, в просторной солдатской шапке, скрывающей не только голову, но и уши, она была трогательно-забавной и очень милой своим скуластым, ярким на морозе лицом. Отчаянно веселые ее глаза, будто все время рвущиеся ему навстречу из раскосых щелочек век, стесняли; Алеша чувствовал в ее взгляде вопрос, наверное очень для нее важный, и не знал, как ответить на этот ее вопрос, старательно избегал ее взглядов.
У знакомого дубка Алеша молча свернул к могиле, еще раз, будто запоминая, вчитался в неровные черные буквы, так же молча вышел обратно на дорогу. Яничка догнала его, спросила простодушно:
— Тебе она нравилась?
В досаде Алеша чуть не побежал.
— Не то, не то, Яничка! Убили ее немцы. А погибла она из-за другого… Есть люди, понимаешь… — Он почувствовал, что заговорил словами Ивана Степановича, поправил себя:
— Есть люди, Яничка, вроде бы как люди. А рядом с такими людьми бывает хуже, чем перед врагом!..
Яничка, не очень-то поняв сложную его мысль, согласно кивнула; приноровившись к Алешиному шагу, она шла рядом в беспокойной готовности помочь и все поглядывала искоса, ожидая его призывного взгляда. Она многое помнила в их дружеских отношениях, но особенно тот жуткий случай с молодым солдатиком, после которого Алеша враз подобрел, даже крепко ее поцеловал, и, Яничка верила, — не просто от взволнованных и благодарных чувств. А случай был действительно жуткий. В отбитый у немцев штабной блиндаж, где был у них перевязочный пункт, ворвался испуганный солдат, крикнул доктора, и Алеша в гимнастерке, без шапки, припрыгивая и приволакивая раненую ногу, побежал сквозь хлещущую сухим снегом метель вслед за солдатом, в дальний, тоже отбитый у немцев блиндаж. Сама Яничка едва успела за ним, уже на ходу прихватив санитарную сумку. В большом блиндаже, набитом десятками солдат, на освобожденном у входа месте, на плащ-палатке, неудобно лежал, подпирая острыми плечами уши, молоденький солдатик, с белым лицом и широко раскрытыми глазами. Взгляда хватило, чтобы понять, какое испытание ждало Алешу: вся в крови разбитая лодыжка, и стопа в солдатском ботинке, развернутая пяткой наперед. Принести — принесли бедного солдатика, положили, и теперь не то что перевязать — притронуться было страшно! Тут бы растерялся и врач! Алеша будто сразу забыл обо всем, присел, подсунул под коленку солдатику скомканный край палатки, быстро и ловко размотал слепленную кровью обмотку. Рана обнажилась: сосуды и нервы были порваны, кости раздроблены, сама стопа держалась только на трех полосках багровых мышц и вздувшейся посинелой коже. Яничка знала: перевязывать, даже трогать, тем более отправлять в таком виде солдатика было невозможно: крошево костей при движении вызвало бы такую боль, что солдатик умер бы от шока. Замерев, она смотрела на Алешу. Охотник-якут проверяет себя, когда опасность придвигается на бросок руки. Здесь тоже была опасность. И тоже — рядом.
Размышлял Алеша какую-то секунду, потом протянул руку, коротко приказал: «Жгут!» Туго перетянул солдатику ногу выше колена, поднял голову.
Она видела, как затвердело у глаз и в скулах его нежное лицо.
Не глядя на плотно и близко к нему сидящих на корточках солдат, властно сказал: «Нож!» Откуда-то передали, неуверенно протянули толстый, с многими лезвиями, складной нож. Алеша открыл одно лезвие, другое, попробовал остроту пальцем. Она видела, как напряглись солдатские лица, взгляды всех скрестились на его руках, — взгляды как будто жгли его руки! Он же, не видя взглядов завороженных его руками солдат, нацелился на разбитую ногу; не поднимая головы, сказал: «Йод. Вату». Быстро протер блеснувшее и тут же потускневшее от йодной черноты лезвие, все так же ни на кого не глядя приказал: «Огонь!» Удивительно, но его поняли: кто-то запалил зажигалку, дрожащей рукой протянул. На огне Алеша прокалил лезвие, тут же, ни секунды не мешкая, сдавил пальцами посинелую полоску кожи над раной, осторожным твердым движением ножа рассек.
Тишина стояла такая, что слышен был скрип лезвия по коже!
Страшась за Алешу, она навалилась на грудь раненого, собой отгораживая от солдатика его ногу. Стойло бы Алеше заколебаться, дрогнула, остановилась бы над раной его рука, да просто закричи солдатик от боли, — и тишина рухнула бы на ничего не замечающего Алешу обвалом солдатского гнева. Тишина держалась только им самим, его уверенностью, твердостью его сосредоточенного лица; движения его рук убеждали, убеждали в том, что делает он то, что невозможно не делать. Больше всего она боялась, что солдатик закричит, и придавливала своей тяжестью худенькое тело, похлопывала, поглаживала торопливой рукой по холодному потному лицу, не давала солдатику слушать боль. И все-таки она пришла, эта страшная минута: она почувствовала, что Алеша сорвался. Быстро повернула голову, увидела: напрягая руки, он резал последний пучок разбитых мышц, на котором еще висела стопа, — и догадалась — попал на уцелевшее сухожилие. Тупое лезвие не могло перехватить встреченную плотность, и Алеша, побелев от усилий, двигал ножом, как пилой. Невозможно было смотреть, как пилят живую плоть, но солдаты смотрели, округлив неподвижные глаза, и что-то жуткое было в том, как они смотрели на окровавленные руки Алеши. Случившаяся заминка плохо подействовала на солдат: они как будто усомнились в том, что молодой доктор делает то, что надо, и озлобились в ужасе перед тем, что он делает. Солдаты, ближе других бывшие к Алеше, не выдержали, сдвинулись, приподнялись. Она заметила это опасное их движение и, торопясь оградить Алешу от дурной солдатской ярости, закричала, как только однажды в детстве кричала на готовых вцепиться в отбившегося олененка задичавших собак: «Не сметь! По местам!..»
Она помнила, как удивленно переметнулись на нее недобрые взгляды. Может, этой самой минуты и хватило Алеше: отсеченная стопа отпала, глухо пристукнув ботинком.
Она помнила, как пылало ее лицо от пережитого страха, пока Алеша, по-прежнему ни на кого не глядя, сосредоточенно бинтовал ногу так ни разу и не крикнувшего солдатика; бледное лицо Алеши было совершенно спокойным. Так же спокойно, закончив бинтовать, он поднялся, сказал солдатам: «Перенесите его в наш блиндаж» — и не торопясь вышел, на ходу отирая руки остатком бинта. На бугре, задымленном снеговой вихрящейся поземкой, она, в обретенной смелости, обхватила его руку, прижалась и почувствовала, как бьет Алешу дрожь, и заторопила его. Но он остановился, приподнял ее сильными руками, благодарно прошептал: «Молодец! Все хорошо, Яничка. Они же знали, что мы спасали солдату жизнь!..» — и поцеловал крепко, в самую середину губ.
А ночью они лежали на широких нарах рядышком, в темноте, в тяжелом от усталости забытьи. Алеша постанывал: нога его болела. Он жался к ней, ища тепла и успокоения. И все могло быть — не хватило им какой-то крохотной, с птичий носок, минутки, какого-то малого движения, чтобы соединились они в близости. Что помешало им — смешная его робость, которая была в нем даже в полусне, или те случайные солдаты, что вломились к ним в блиндаж со своим раненым командиром, — так она и не поняла. Но Алеша тут же вскочил, захлопотал. Как ругала она тех ночных солдат! Она верила, что Алеше нужна была здесь, на фронте, пусть грешная, но заботливая ее любовь!..
…Стылость голубого неба как будто рассек догоняющий их гул. Два «мессера», сверкая отраженным солнцем, шли, снижаясь к дороге, как будто уже видели свою цель; парой, словно держась друг за друга, прошли над деревушкой из трех оставшихся домов, над уютными сугробистыми крышами которых с мирной домашностью стояли белые дымы; разошлись, каждый вписывая широкий круг в просторное небо. Оттуда, с высоты, они как будто взяли в перекрестия своих прицелов дымы топящихся печей; и с широкого круга ринулся вниз сначала один, отделив от себя тяжелые капли бомб; потом, как бы подхватывая напряженный рев выходящего из пике самолета, ринулся вниз второй.
Алеша видел, как взметнулось вверх облако снежной пыли, из облака тут же выкинуло черные клубы взрывов; содрогнулся воздух; съехала до земли островерхая крыша, дом скособочился, как смятая сапогом картонка.
Когда «мессеры», завершив каждый свой круг, снова сошлись в пару и, снижаясь, понеслись над дорогой им навстречу, Алеша с силой потянул Яничку, от неожиданности весело взвизгнувшую, через глубокий снег к двум стоящим у дороги сосенкам: слишком заманчивой мишенью для фрицевских налетчиков были они на совершенно пустынной, просвеченной солнцем широкой дороге. Хотя за жидкими молодыми сосенками их так же легко было поймать в прицел пулеметов, все-таки — дань живучему инстинкту! — за укрытием казалось спокойнее.
Самолеты прошли над дорогой, не стреляя, взмыли, ушли вдаль.
Яничка, наклонив к плечу голову, проводила их взглядом, посмотрела на черный дым, медленно оседающий у домов потревоженной деревеньки, по-детски открыто и как-то лукаво вздохнула; она как будто радовалась тому, что опасность соединила их на крохотном пятачке, почти утопив в снегах у пахнущих морозом мохнатых ветвей. Алеша как ввалился в сосенки, как встал, загородив собой Яничку, так и стоял, придерживая ее, за толстый, холодящий запястья рук полушубок. Яничка не отстранилась, подняла к нему лицо, озаренное все той же по-детски радостной улыбкой, но, пока смотрела, смешливо наморщив маленький нос, затерянный в широких, как будто до жара натертых морозом щеках, выражение ее глаз сменилось: из глубины их поднялось какое-то взрослое тревожное ожидание, и эта зовущая тревожность смутила Алешу. Он расслабил обнимающие Яничку руки, но Яничка требовательным движением плеч заставила его задержать руки, потянулась к нему влажными губами, обдавая теплым парком дыхания, Попросила:
— Поцелуй меня. Крепко!..
Алеша послушно склонился, Яничка губами нашла его губы, долго не отпускала. Наконец отстранилась, придерживая на запрокинутой голове шапку; с веселой досадой насунула шапку до бровей, глядя искоса, снизу вверх, спросила:
— Ты не любишь меня?
И тут же, заметив, как страдальчески нахмурилось лицо Алеши, крикнула:
— Не надо, не говори!.. Только ты, Алеша, все-таки смешной. Ты боишься того, что хочешь… — Озабоченным материнским движением она пошаркала рукой, обтянутой серой варежкой, по отвороту его полушубка, стряхивая с овчины иней, сказала:
— Пошли, что ли?.. — и первой стала выбираться по глубокому снегу на дорогу.
У развороченного дома, в расползающемся едком дыму пожарища, суетились люди. Двое командиров, поверх полушубков перехваченные ремнями, старательно укрывали тулупом кого-то уже лежащего в сене на розвальнях; от соседнего дома, с напрочь вышибленными рамами, два солдата вели к саням генерала в папахе, широкого от накинутой на плечи шинели; видна была забинтованная, подвязанная к шее рука. Алеше почудилось что-то знакомое в тяжелой походке раненого генерала, но он даже не дал себе труда оживить память, — знакомых генералов у него не было ни дома, ни на фронте. Генерала тоже усадили в сани, спиной к передку, укрыли тулупом. Один из молодых командиров вскочил сзади на розвальни, хлопнул по крупу натянутыми вожжами. Вороной сильный жеребец вскинул голову, рывком вынес сани на дорогу, пошел крупной напористой рысью, далеко вперед выкидывая ноги. Из-за крайнего дома тотчас вылетели вторые сани с двумя автоматчиками в них, пристроились вслед. Солдаты и командиры, оставшиеся у дома, сошлись. Алеша услышал злой голос:
— Весь штаб чуть не угробили. Какая-то сволочь навела!
С оскорбляющей подозрительностью они оглядели Алешу, стоявшую рядом с ним Яничку, молча пошли к крайнему, с выбитыми рамами, дому.
Разбитый дом, земля, вывороченная на снег, пустота окон, ползущий от дома на дорогу разъедающий горло запах пожарища, раненые генералы, подозрительные, брошенные в их сторону взгляды — все это угнетающе подействовало на Алешу.
Как всегда бывало с ним перед подступившей силой зла, он замкнулся. Яничка тоже притихла, лишь помогала ему с прежней старательностью на скользких раскатах и крутых овражных спусках.
Алеша шел и негодовал сразу на всё: и на войну, и на себя, и на Яничку, которая что-то ждала от него. «Да, черт возьми, — думал он, почему-то обращая свое негодование прежде всего на Яничку. — Я тоже живое существо! И не собираюсь бежать от того, что рано или поздно будет. Но кроме всего прочего я еще и человек! Ну, не могу, не могу я идти к женщине, как ходят в столовую! — поел, попил, даже совестью не заплатил, — прощай, любезная, до следующего раза!.. Это же то самое, что у комбата-два! Призвал к себе в блиндаж Полинку; потом, за ненадобностью, отшвырнул. Прямиком под пули…»
Алеша даже содрогнулся, как только вспомнил о комбате-два. Комбат и тенью маячивший за ним Авров были теперь как тяжкий крест, который он нес на себе. Что-то общее было в следах, которые оставляли они, и в том, что только что случилось на глазах: два маленьких самолета в ясном небе — и грохот на земле, в уютно дымящей трубами деревеньке. Два маленьких самолета — и опоганены дома, люди, белизна снега, вся радующая чистота морозного солнечного дня!..
«Неужели Яничка не понимает! — думал он, негодуя от неуходящего чувства вины перед все-таки милой ему девушкой. — Неужели она не понимает, что не может быть радости, если все идет от случая. Из-за минутной блажи! Ведь для близости нужна любовь. Должно же быть что-то прочное, на потом?!»
Яничка покорно шла рядом, дорожный умятый снег жалостливо поскрипывал под большими ее валенками, и Алеша, вопреки тому, о чем только что думал, жалел ее и, казалось ему, понимал ее состояние.
Дорога полезла вверх, на лесной увал; как ни старался Алеша обойтись без помощи, ему все-таки пришлось опереться на Яничку. Рука его была в рукавице, но даже сквозь твердь кожи полушубка он почувствовал, с какой готовностью Яничка подставила плечо под его руку. Когда медленными согласными шагами они взошли на увал и сосны притеснили их друг к другу, Алеша, виноватясь той виной, которую, как казалось ему, знал за собой, и стараясь выйти из душевной неопределенности, которую всегда, не терпел, сказал:
— Разве мало нам нашей дружбы, Яничка?
Яничка отстранилась, вскинула испуганные глаза:
— Не мало, не мало! Ох, как много! До самого неба!.. — выкрикнула она, в глазах ее были слезы. Рука Алеши соскользнула с ее плеча; долго он не мог найти ей места в пустоте, потом, не снимая варежки, засунул в карман полушубка.
В госпитале Яничка, сделав что надо по его устройству, в озабоченности вышла с ним вместе из палатки на волю. Алеша ждал, что Яничка, прощаясь, потянется к нему, и приготовился сделать неизбежный поцелуй дружеским и шутливым. Но Яничка, глядя ему в глаза, протянула руку.
— Ну, лечись. И возвращайся молодцом, — с необычной бодрой серьезностью сказала она, и у Алеши защемило сердце. Он почувствовал, что Яничка прощалась не с ним. Она прощалась с надеждой, которой все это время отчаянно и упрямо жила.
3
Лунный свет сочился сквозь молчаливую заснеженность леса. Тени деревьев, сломанные боковыми сугробами, рябили дорогу. Алеша шел навстречу стылому желтому свечению, умеряя скрип снега под ногами, — тишину не хотелось тревожить даже слабым звуком шагов.
У края поляны остановился, осторожно, стараясь не сронить снежную навись с еловых лап, прислонился к стволу.
Луна переместилась в прогал вершин, очистилась; свет лился теперь в упор, ему под ноги, и настолько был густ и ощутим этот ниспадающий на снега лунный свет, что казалось, тяжестью своей придавливал сугробы.
Алеша, замерев, стоял в окованной морозом ночи. Он готов был поверить, что великие тайны человеческого бытия открываются вот в такие олуненные ночи.
В глубине леса обозначился неторопливый постук копыт, звук сдробился, зачастил, молодой голос ласково прикрикнул: «Тихо, Орлик! Тихо!» Снова мерной неторопью застучали подковы. Постук еще более замедлился, смягчился, в тишину вошел удивительно чистый голос:
Ночь светла. Над рекой тихо светит луна, И блестит серебром голубая волна…Пел кавалерист знакомый Алеше вальс, пел бережно, с какой-то открытой доверчивостью к тем, кто мог сейчас слышать его в ночи, наверное так же радуясь тишине, так же тоскуя о днях где-то оставленной юности.
В тихих грезах лечу, твое имя шепчу. Милый друг, добрый друг, о тебе я грущу….Кавалерист замолк. И хотя Алеша слышал удаляющийся в глубину леса конский постук, мелодия осталась, она как будто продолжала звучать.
Громыхнули орудия в стороне фронта, отдаленный гул донесся, как глухой раскат грома. Алеша, не отнимая плеча от ствола, переступил с ноги на ногу и тотчас почувствовал боль, привычно перетерпел, нашел удобное для ноги положение. Но очарование ночи ушло.
Он не слышал шагов, потому вздрогнул от близкого голоса:
— Давно не видел, не слышал подобного. Прекрасный голос, волшебная ночь!
В досаде на чужое присутствие Алеша не сразу оборотился. Разглядел крупного человека в полушубке, бурках, генеральской папахе, стоявшего почти рядом, в падающих на дорогу тенях; окончательно возвращаясь в действительность, по-солдатски вытянулся, приглушая в голосе досаду, негромко доложил:
— Товарищ генерал…
Генерал слабо отмахнулся:
— Оставьте, пожалуйста. Мы в госпитале…
Медленный, с приятной хрипотцой голос показался знакомым; еще не веря, но уже зная, что это так, Алеша с изумлением, радостью выговорил:
— Арсений Георгиевич?!
Теперь застыл в удивлении генерал.
— Алексей?! — спросил он, не сразу его узнавая, подшагнул, обнял одной рукой. — Думать не думал!..
Под стиснувшей его рукой по-доброму памятного ему Арсения Георгиевича Степанова Алеша расчувствовался, сопнул носом; Арсений Георгиевич успокаивающе похлопал ладонью по его спине, сказал, как обычно говаривал отец:
— Ну-ну!.. — повернул к себе лицом. — Рад, Алексей!
Долго они ходили по ночному лесу, неторопливо разговаривали; как-то вдруг, а может быть, по сохранившимся в памяти беседам у охотничьего костра установился между ними свободный, доверительный тон разговора. К тому же они были товарищами по несчастью: Алеша все еще прихрамывал, Арсений Георгиевич оберегал от резких движений руку; Алеша узнал, что Арсений Георгиевич был одним из тех двух генералов, которых усаживали в сани у разбитых «мессершмиттами» домов.
Прощаясь у генеральской отдельной госпитальной землянки, Арсений Георгиевич, как будто отвечая на немую Алешину просьбу, сказал:
— Встретимся, встретимся, Алексей! Обязательно. Пока есть время, походим, поговорим….
4
В ожидании генерала Степанова Алеша стоял, привалившись плечом к ели, в той же тишине, что была накануне. Но, укутанная в снега, освещенная луной, лесная поляна с отчетливыми тенями берез сегодня казалась другой. Он как будто снова видел пространство реки, людей, которые, выставив перед собой винтовки, неуклюже бежали по открытому неуютному пространству, и падали, и затемняли снег неподвижными бугорками. Никогда прежде так остро не ощущал он этот страшный, бессмысленный переход от только что проявлявшей себя жизни к небытию.
Час назад в палатке умер лейтенант. Умер на глазах. Такой же молодой, как Алеша, с такими же, как у него, чувствами и мыслями. Лейтенант Юра говорил и думал о жизни. И ни разу не сказал, что ощущает рядом смерть. Он любил слушать с закрытыми глазами, и Алеше казалось, что он слушает его. Но лейтенант Юра, родом из Москвы, чистый, светлый, еще не узнавший ни любви, ни подвигов, глаз больше не открыл. Алешу потрясло, что лейтенант умер в тишине, где как будто ничто ему не угрожало. Бой, в котором оба они были и который давно отгремел за рекой, достал его здесь, где была жизнь. Надежды. Мечты. И было невозможно смотреть, как лейтенанта, уже безгласного, завернутого в простыню, уносили на брезентовых носилках два санитара. Спокойно. Деловито. Как выносят отслужившую мебель.
Странно, там, на реке, среди боя, он не ощущал ни своей, ни чужой боли — кровь и смерть в бою как будто сами собой разумелись. Были необходимостью, которой окупались пройденные за рекой метры. Здесь же, в отдаленности, в тишине, в сознании общей неудачи наступления, кровь и смерть казались напрасными. И от бессмысленности того, что все двенадцать дней было там, за рекой, Алеша чувствовал, как, воспаляя душу, снова входит в него боль чужой гибели.
Он ждал генерала Степанова в настороженности, в нетерпении, как изнемогающий в болезни человек ждет исцеляющего прихода врача; Арсений Георгиевич был оттуда, сверху, он был там, при высоком командовании, от которого, как казалось Алеше, шло все, в том числе и общая неудача наступления, и напрасная смерть людей…
— Что ж, Алексей, рассказывай, чем живет душа. Помню наши с тобой разговоры. Знать хочу, каков ты теперь! — Арсений Георгиевич держался бодро, гораздо бодрее, чем при первой встрече. В заметной его бодрости Алеша уловил удовлетворенность прожитым днем, как раз то, чего не было у него. И резкая противоположность настроений, столь прямой спрос Арсения Георгиевича его смутили. Приноравливаясь в ходьбе к мерному, грузному шагу генерала, он затруднялся начать разговор. Чувствовал, что говорить с генералом о горестях своей жизни опасно: несоразмерность своих и генеральских забот он ощущал и не хотел предстать перед генералом суетным, того хуже — слабым человеком. Напротив, боль, которая сейчас была в нем, общая боль всех, кто прошел через неудачу наступления за рекой, была слишком остра, слишком близка, чтобы о ней умолчать. И Алеша заговорил о том, что было общей и его болью. Свое право говорить он чувствовал; то, о чем он говорил, было правдой, он все видел своими глазами, все пережил.
Арсений Георгиевич слушал молча; шаг его как будто отяжелел, скрип затвердевших на морозе каблуков генеральских бурок порой был непереносим. Но Алеша говорил, сначала сдержанно, потом разгоряченно. Он как будто забыл, кто был перед ним!
Арсений Георгиевич дышал шумно, с присвистом, как будто не хватало ему воздуха в свежести морозной ночи. Он дослушал Алешу, заговорил, и обычно приятная хрипотца в его голосе на этот раз не была приятной:
— Ты хочешь войны без крови, победы без жертв. К сожалению, так не бывает, товарищ Алексей! Мы учимся воевать. Если хочешь, заново учимся. И такая наука на войне оплачивается кровью. Страшную силу немецкого удара мы сдержали. Теперь начинаем наступать. Под Сталинградом удалось. Как знаешь, хорошо удалось. У нас, под Ржевом, не получилось. Не сумели. На то есть свои причины. О них думают те, кому положено думать за армии и фронты. Не один ты переживаешь неудачу. Ее переживают равно солдат и генерал.
— А вы знаете, сколько там, за рекой, погибло людей? Погибло зря, без смысла, без победы!.. Если бы я был генералом, я бы не простил себе такого боя. Не простил, понимаете?!
— Что, пулю в лоб пустил?
— А вот пустил бы!
— Хорошо, что ты не генерал. И не над генералами стоишь. Хорошего генерала вырастить — полжизни надо. Больше чем полжизни. Пропуляешься!.. Не дело, Алексей, рассуждать о том, чего не знаешь. Неудача по замыслу на одном фронте не означает бесполезность в общих масштабах войны. Победы мы не одерживали. Но мы помогли сталинградцам выйти на Дон. Когда оцениваешь чьи-то дела, понимать надо не только тактику. Понимать надо и стратегию. Не о том разговор завел, Алексей. Давай ближе к тому, чем живешь ты…
Алеша слышал осуждение себе в том, что говорил ему генерал Степанов. Но по не всегда полезному свойству своего характера доводить любой разговор до конца, до полной ясности, не мог остановить себя. Замирая от предчувствия близкой беды, весь дрожа от горячности, он говорил:
— Понимаю. Вы — генерал, у вас армия. У меня — крохотный санвзвод. Даже не у меня — у врача. Не в том дело. Суть-то забот у нас — одна? Воюем мы за жизнь, за Родину, — это ясно. Но должна быть справедливость?! Даже на войне?.. А разве справедливо, когда люди погибают только из-за того, что генералы еще не научились воевать?! Почему раньше, когда еще не было войны, мы не могли научиться тому, чему учимся теперь? Ведь знали, что будет война? Были и тогда у нас и танки, и самолеты, и командиры. Так почему вдруг враги оказались сильнее? Почему нам приходится учиться воевать, когда война уже идет?.. Вы сами говорите, что за такое учение мы платим кровью. Мы же знали, что фашисты набирают силу, что они — против нас? Так почему, почему, Арсений Георгиевич, все получилось не так, как мы знали?! Почему только теперь мы учимся быть сильнее наших врагов? И люди, хорошие люди, погибают не только по необходимости войны. Они погибают еще и потому, что кто-то вовремя их не научил, не дал им того, что нужно для скорой и, может быть, не такой дорогой победы?!
Алеша знал, что за его вопросами правда той жизни, из которой он пришел, и знал, что защищает эту правду неумно. Он говорил и думал: «Что я говорю? Зачем? Разве можно самыми горькими словами поправить то, что не было сделано раньше?..» Но ни отрезвляющее сознание, ни ощущение близкой беды, к которой он шел, не останавливали его. Остановил его вопрос Арсения Георгиевича:
— У тебя есть другое решение, Алексей?
— Какое другое? — растерялся Алеша.
— Кроме того, что надо научиться воевать, исходя из данной нам реальности? — голос Арсения Георгиевича был отчетлив и холоден.
— Я говорю… Я только спрашиваю, почему мы раньше не могли…
— Довольно, Алексей! Бессмысленно разговаривать, когда слова становятся важнее дела!.. — Арсений Георгиевич круто повернулся. — Нехорошо поговорили, Алексей. Нехорошо!..
Генерал Степанов ушел, не попрощавшись.
5
В палатку Алеша вернулся в полном расстройстве. Разделся, не замечая, куда кладет полушубок, шапку, стянул валенки, лег поверх одеяла, лицом вниз, сжал голову руками.
— Зачем говорил? Чего хотел? — шептал он в отчаянье. — Неужели слова могут изменить то, что уже совершилось в жизни!..
Сосед по койке, усатый артиллерийский капитан, дотянулся, пошевелил его за плечо.
— Ну как, говорил? — спросил шепотом, таясь от других. Алеша поднял голову, уставился непонимающе в красное, освещенное огнем печурки, пятно лица.
— Спрашивал генерала о наградах? Почему наградные вернулись?.. — тем же таящимся, нетерпеливым шепотом спрашивал капитан.
Алеша уронил голову в подушку, даже застонал от отчаянья: он еще о наградах!..
Первая встреча Алеши с генералом не прошла незамеченной: каким-то образом была учтена мера благосклонности генерала Степанова к молоденькому военфельдшеру. Утром, после завтрака, неожиданно перевели его с раскладушки в дальнем, холодном, углу палатки на койку у железной печки; даже отгородили койку с одной стороны простыней, тем самым как бы уравняли с истинным героем последнего боя — немолодым уже старшим лейтенантом, молчаливо лежащим на такой же отгороженной простынями кровати. Старший лейтенант сделал то, что не мог сделать за первые дни наступления целый батальон: ночью он провел восемь автоматчиков в занятое немцами село и овладел той уцелевшей церковью у излучины реки на крутояре, которая давала врагу видеть все поле боя. Герой был крепко побит осколками гранат, ему по праву оказывали внимание все — от врачей до сестричек и корреспондентов газет.
И вот, чьим-то старанием, не принимая неловких его возражений, устроили его рядом с героем. Мало того, на обед, кроме котелка с обычным борщом, принесли ему еще колбасу и банку консервированного компота, коротко объяснив: «От генерала». И Алеша в смущении, но принял подарок, хотя и сомневался в достоверности объяснения: на Арсения Георгиевича это не было похоже. Дополнительный паек он тут же разделил между всеми, кто был в палатке, но это только усилило заискивающее к нему внимание. От него уже чего-то ждали, как тот капитан-сосед, с неостывающими переживаниями по поводу своего наградного дела. В него уже верили, как будто он что-то мог! Жизнь сделала новый виток спирали, повторила на другом уровне, в другом месте, но то же самое, что случилось в юности между ним и конюхом Василием: тогда он сумел заставить себя с совестливым упорством отработать то, что дано было ему не по праву. Теперь снова он оказался чем-то вроде барчука, только не за отцом — за генералом. И все сложилось сейчас много хуже, чем в юности: отец тогда был рядом и прочен в своем отцовском отношении к нему; генерал Степанов оказался случаем, выказал к нему внимание и тут же зачужал в своей генеральской высоте. Узел, пусть недолгих, но все-таки не безразличных ему отношений с людьми, его окружающими в госпитальной палатке, затянутый неожиданным генеральским к нему вниманием, растаскивать в прямую, честную нить предстояло ему.
Ночью Алеша больше мучился раздумьями о своем положении, чем спал. Наутро первым душевным его порывом было бежать из госпиталя к себе в батальон, бежать тотчас, пока люди не узнали, что генерал Степанов уже не покровительствует ему. Однако врач, у которого он попросил скорейшей выписки, внимательно осмотрев его рану, категорически заявил:
— Никоим образом! Минимум еще неделю!.. — и, не скрывая встревоженности, спросил: — Разве вам у нас плохо?
Алеша ушел от врача, не попрощавшись, в еще более напряженных чувствах, чем был. Казалось бы, что трудного в том, чтобы открыться людям: я не тот, за кого вы меня принимаете, ваше внимание, ваше уважение — это внимание и уважение к генералу, не ко мне, простому военфельдшеру одного из батальонов, только-только прошедшему через первый бой! Чего, казалось бы, проще сказать, объявить себя таким, каков ты есть на деле. И пусть изменится все, пускай все будет по-другому, но будет твердо, прочно, как должно быть, и главное — достойно. Как, казалось бы, просто! — сказать. И как трудно, до невозможности трудно отказаться даже от незаслуженного почитания, — поступки, идущие от совести, требуют порой мужества, равного мужеству солдата.
Как ни странно, но мужества Алеша набирался в упорном и беспощадном по отношению к себе раздумье. Он нашел ту раздражительную точку, с которой началось их расхождение с генералом Степановым. Точкой этой была высказанная им боль за тех, кто погиб на реке и за рекой, и погиб напрасно. Он посмел сказать об этом, и неосторожные его слова отдалили от него генерала. Он сам для себя определил: «неосторожные»; он сказал неосторожные слова. И тут же подумал: «Но почему — неосторожные?.. Я сказал то, что думал… Плохо, может быть, что я сказал о чужой смерти, как о своей боли? Может быть, Арсений Георгиевич понял это так, что я хотел просто хорошо выглядеть перед ним? Но ведь я не гляделся перед генералом! Боль чужой гибели действительно была во мне. Боль напрасной гибели. Смерть — чужая, но боль — моя. Моя! Значит, сказал я правду. А правда должна быть одна для солдата и для генерала. Правду сказать трудно. Наверное, труднее, чем отказаться от незаслуженного внимания людей! Я сказал. Я сделал то, что труднее…»
Его не понял бы человек, приноравливающий свою жизнь к суетным выгодам дня. Но еще в юности он искал прочности в отношениях с людьми. А прочно только, то, что вытруживается собственной жизнью.
Первое, что он сделал, — перебрался с теплой, удобной койки на прежнее свое место, на пустовавшую раскладушку у дальней стены. С явившимся встревоженным военврачом он объяснился с виноватой улыбкой, но и с возможной твердостью:
— Простите мое самовольство. Но я привык к холоду…
В обед он отказался от дополнительного пайка. Увидел расстроенное лицо милой сестрички, смутился, сказал явную для зимнего времени несуразность:
— Понимаете, что-то с желудком нехорошо!..
Ему тотчас было доставлено лекарство. Порошок пришлось выпить при сестричке; остальное он тщательно упрятал на дно своей полевой сумки с утешительной мыслью, что редкое лекарство наверняка пригодится кому-то в батальоне.
Недоуменные взгляды командиров, обитавших с ним вместе в палатке, он старался не замечать; объяснять свое поведение не стал. Он просто исполнял то, что считал необходимым исполнить. Поступки по мягкости его характера не выглядели мужественными. Но поступок, идущий от убеждения, всегда добавляет человеку достоинства, если, разумеется, совершен не себе в корысть.
Есть какой-то закон, еще не открытый философами, но последовательно действующий в жизни: когда человек находит силы и сам справляется с ниспосланным ему нравственным испытанием, жизнь поворачивается к нему снова доброй своей стороной; жизнь как будто сама укрепляет того, Кто сумел выстоять перед испытанием.
Так случилось с Алешей. За два дня до обещанной ему выписки, когда в вечерней темноте при свете фронтовой коптилки, прикрученной к столбику, он сидел на своей раскладушке, тихо переговариваясь с соседом, явилась в палатку, мягко подошла к нему с лукавой улыбочкой самая симпатичная из всех носящих белые халаты сестричка, голосом значительным, каким передают только самые важные приказы, она произнесла:
— Военфельдшер Полянин! Вас приглашает помыться в бане генерал Степанов…
6
Держал себя Арсений Георгиевич так, как будто не было неприятного разговора в ночи. Мылся спокойно в специально для него не жарко топленной бане, сделанной солдатами-умельцами по вековому крестьянскому опыту, но применительно к обстановке фронта; сам хлестал себя веничком, попросил Алешу ополоснуть, стоял по-солдатски покорно под струей холодной воды, оберегая закутанную в клеенку раненую руку. И все время, пока они мылись, с дотошностью расспрашивал о его жизни в батальоне. По необычному вниманию к подробностям его жизни, по тому, с какой старательностью Арсений Георгиевич обходил разъединивший их разговор, наконец, по самому тону обращения, в котором подчеркнуто звучала прежняя доверительность, Алеша в той сдержанной настороженности, в которой теперь был, чувствовал, что Арсений Георгиевич помнит про общую боль напрасной людской гибели. И от того, что он верно это чувствовал, возвращалось уважение к Арсению Георгиевичу не только как к генералу — он ответно проникался прежним доверием к человеческой его мудрости, о которой помнил еще с довоенных времен, и как-то само собой, как наносная грязь с тела, окончательно смывалось с его души то маленькое страдание уязвленного самолюбия, которое мучительными усилиями ума он почти в себе победил.
Одевались они в узеньком предбанничке при свете керосинового фонаря, висевшего в углу под потолком. Арсений Георгиевич не спешил, сидел, остывая. Не торопился, приноравливаясь к его неспешности, и Алеша. Арсений Георгиевич снял с кувшина, стоявшего на лавке, чистую тряпицу, налил в кружку квасу, с наслаждением отглотнул, кивнул на вторую кружку:
— Пей, Алексей! Холодный!..
— Спасибо, Арсений Георгиевич. Не хочу, — вежливо, однако с излишней поспешностью отказался Алеша; пить он хотел, даже ощущал в теплом влажном воздухе предбанника дразнящий хлебный запашок. Но квас был «генеральский», для него этот кувшин с квасом никто бы не поставил. Арсений Георгиевич внимательно на него посмотрел, молча допил, отставил кружку; Алеша не понял, одобрил он его или осудил.
Было что-то щемяще-знакомое, давнее в этом неторопливом одевании в теплом, чистом предбаннике. Вот так же, без жары, мылись и не спеша одевались они с отцом в поселковой бане, и всегда совместное их мытье завершалось обязательным философским разговором, и жизнь каждый раз в раздумчивых словах отца приоткрывалась ему какой-нибудь новой, все более сложной, беспокоящей его стороной. Острое ощущение близости прошлого, вновь почувствованное доверие к мудрости большого человека подталкивали к разговору, который давно Алешу томил. Авров и комбат-два не уходили из его души, он догадывался, что тот и другой составляют как бы одно целое: Авров долго не просуществовал бы без власти комбата, комбату-два удобен был Авров. Оба, тот и другой, казались Алеше проявлением какой-то нравственной болезни, которой на фронте не должно было быть; но они были, он сам прошел сквозь жесткий охват их беспощадных рук. Он хотел знать, почему они есть и почему они здесь, где люди воюют, где от несправедливости или нечестности в отношениях каждого к другим и других к каждому не просто страдает чье-то настроение, но зависит и сама жизнь.
Все это Алеша высказал, правда, не во всех подробностях, какие знал. Но то, что его мучило, сказал, не страшась на этот раз того, что разговор может показаться Арсению Георгиевичу ничтожным. О комбате-два он умолчал; комбат был хотя и бывшим, но высшим его командиром; Арсений Георгиевич мог бы подумать, что он жалуется на своего командира. Генеральского вмешательства в свою судьбу он не хотел.
Арсений Георгиевич слушал внимательно, нетерпения не выказывал и, когда Алеша расстроенно спросил: «Как же так, Арсений Георгиевич? Такие подлые люди и — на фронте?!» — он ответил с серьезностью, которой Алеша хотел:
— Что поделаешь, Алексей. Даже в войне кто-то устраивает свою жизнь. Против нас не только национальный эгоизм, с которым — в уродливой форме фашизма — мы столкнулись сейчас в войне. Против нас… — Арсений Георгиевич тут помолчал в каком-то внутреннем затруднении; Алеша не мог знать, что вспомнил он свой не совсем приятный ему спор с Кимом о биологических основах человеческого поведения, памятный ему спор в последнюю мирную ночь, когда немецкие бомбовозы уже были подняты в воздух, и, как будто уступая Киму, договорил: — Против нас, в какой-то мере, и сама природа, заложившая собственнические инстинкты в человека. Трудно рождается новая нравственная суть. Легче утверждается в законах, чем в человеческой душе. Здесь, на фронте, особенно ощутима разность нравственной высоты людей. Ты это чувствуешь. И то, что чья-то нравственная низость вызывает твое сопротивление, — это хорошо, Алексей! Но мне кажется, ты преувеличиваешь возможности авровых. Так сказать, не по чину тратишь на них свою душевную энергию. Не забывай, что и в наше государственное устройство заложен принцип диктатуры. И если принуждающей силы государства не чувствует человек, который живет по законам, нами принятым, то преступающий законы чувствует ее тотчас.
Сила государства заставляет действовать в интересах общей нашей победы даже тех, кто хотел бы уйти, от исполнения долга. Может, это выглядит и несправедливо с точки зрения отдельного человека. Но, к сожалению, далеко не каждый достиг той сознательной нравственной высоты, которая исключает всякое принуждение со стороны.
Алеша напряженно слушал. Он понимал, что ему говорили, и, наверное, Арсений Георгиевич был прав, конечно, прав, измеряя явления жизни крупным масштабом государственности. Но для него Авров и комбат-два были реальностью, которую невозможно обойти. И дело было, как казалось ему, не в том, чтобы заставить их исполнять долг. Дело было в том, что́ было внутри у них. А было там — недоброе, жестокое и опасное для других. Уточнять свои сомнения он, однако, не решился — Арсений Георгиевич, похоже, считал вопрос исчерпанным. Подвязывая его забинтованную руку, Алеша все-таки не удержался, спросил:
— Значит, не надо думать о том, что будет? Идет война, и думать надо только о войне?.. Смешно, на верное, думать сейчас о справедливости, добре, о том, чтобы быть лучше?..
— Разве о том разговор, Алексей!.. — Арсений Георгиевич даже слегка отстранился, как будто давая простор своим словам. — Война разве отменяет жизнь?.. Порой думаю: жизнь — та же война. Война с невежеством, с леностью умов, с жадностью плоти. Постоянная война за справедливость, за честность в отношениях между людьми. Только что кровь не льется по телу — вся там, внутри, не видимая даже дружескому глазу. А раны и рубцы — те же, Алексей! В так называемой мирной жизни поражения и унижения, связанные с этими поражениями, переживаются не легче, чем поражения на войне. Победы в жизни даются даже сложнее. И длятся много короче военных побед. Военная победа видна всем. Ясна как день. В обычной жизни ты выиграл сто сражений с несправедливостью и — не видны они, хотя вся твоя душа в ранах. А не видны потому — что впереди еще сто сражений и, может быть, пятьдесят из них поражений… Нет, Алексей, жизнь сложнее войны и больше войны. В жизни народа война все-таки эпизод. Кровавый, страшный, опустошительный, проверяющий все и каждого, но эпизод. За победой снова дальше пойдет жизнь. И по своим извечным законам созидания, а не теперешней стихии уничтожения и смерти. Смерть на войне, как ни крути, случайность. Нет закона смерти даже на войне. А законы жизни есть. Сам знаешь, и здесь, на войне, действуют, проявляют себя законы жизни. Вот мы с тобой встретились, и наши с тобой отношения — это тоже проявление жизни. Той, прежней. И этой, нынешней. И твои отношения с солдатами, с командирами, с девчатами-сестричками — тоже жизнь. Только условия этой жизни другие. Нет, война не отменяет законы человеческой жизни! Исключая, разумеется, отношения к врагу. Тут уж сила на силу, смерть за смерть. А может, в этом тоже свой закон? Ведь добро может и погибнуть, если не хватит ему силы отстоять себя?!
Арсений Георгиевич почти оделся. Сам, не без труда, натянул на себя генеральский китель. Алеша, слушая, подзадержался с одеванием и теперь торопился.
Наблюдая за ним, Арсений Георгиевич сказал:
— Не торопись, Алексей. Время пока с нами. Будешь раздумывать о жизни, тоже не торопись. В твоем возрасте выводы делаются допрежь того, как становятся верными.
Арсений Георгиевич дал понять, что помнит разговор в ночи.
Алеша был удовлетворен; торопливо одеваясь, думал: «Значит, правда заставляет думать и генералов. Значит, и генералы чувствуют боль, когда обрываются чужие жизни! Если они — настоящие генералы…»
Когда, уже остывшие от банной теплоты, они подошли к землянке, Арсений Георгиевич сказал с сожалением:
— В Москву отправляют меня. — Приостановился, глядя искоса, спросил: — А что, Алексей, может, хватит тебе лазать по передовой? Скажу — переведут тебя в этот госпиталь. Можно — к Киму, он в соседней армии? Как?..
Алеша даже задохнулся от обиды.
— Арсений Георгиевич! — почти выкрикнул он. — На фронте я не затем, чтобы прятаться по госпиталям!
— Зачем же прятаться! И здесь люди делают свое дело.
— Нет, Арсений Георгиевич, начал с горячего места, по горячему и пойду!
— Ну-ну! — Генерал Степанов был удовлетворен. Алеша это чувствовал и в смущении первым протянул руку. Арсений Георгиевич руку отстранил, приобнял, похлопал по спине с тем же добрым расположением, как при встрече.
— Хотел бы увидеть тебя после войны, Алексей! Ну, будь жив!..
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ Письмо
— Пиши, Нюрка!.. — Маруся шатко сидела на табурете у плохо нагретой печи, укрывая спину и плечи просторной ей, заношенной телогрейкой, смотрела нехорошим взглядом на старшую дочь, пристроившуюся за пустым столом, в кофте, сшитой из мешковины. Нюра коротеньким остатком карандаша припала к листу бумаги из давней своей школьной тетрадки; старательно огибая строчками столбики цифр, когда-то решенных примеров, прикусывая губы от внутреннего несогласия с матерью, послушно писала то, что Маруся ей говорила:
«Плачемся вам, Василий Иванович, нашему любезному дорогому отцу и хозяину, неутешными слезьми и с покаянием сообщаем, что пала Краснуха, кормилица, вся надёжа нашей жизни. Долго мы таили беду нашу, перебивались, как могли, весну и лето, а теперечи, как полетели снеговые мухи, такая навзрыд-тоска заколодила сердце, что духу и вовсе не стало. А случилось на Евдокею. Краснуха дыхала, ровно где ее запалило, глазами смотрела — печалилась. Вокруг все мы собрались. Сказать бы кому, крикнуть — языки у всех поотнялись. Кто-то брякнул Васенке Гужавиной — теперечи она в председателях, — подхватилась, к утру фельдшера доставила. Да что. Погинула Краснуха. Не минула беда нас, свет наш Василий Иванович! Мне бы на себя ту смерть принять, ей бы деток спасать-кормить, вас дожидаючись. Да беда кого выбрала — не годит. Как быть? Держаться чем?.. Хлебушка на нынешнюю зиму мы ничего не имеем. Все, что собрали, отдали на войну. От колхоза заработали на всех шесть мешков картошки. Так едовы этой не хватит до рождества. Насшибали клеверных головок, едим заместо хлеба. Да все одно, родимый наш спаситель, страх берет, как думаешь о пустопузом нашем таборе да лютых холодах, что ползут-подбираются к порогу…»
Маруся метнула взгляд на печь, где в угловатой тени бледнели лица трех притихших пустопузых, сдавила маленькое губастенькое лицо ладонями, качнулась к полу, тонким дрожащим голосом пристрожила:
— Все, Нюрка, как говорю, пиши! С голоду дохнуть почнете, как мне перед им, светом моей жизни, отмолиться?.. Чтоб все знал! Выкажет горькую беду нашу генералу, может, и отпустит! Хоть на часок, на один погляд предстанет перед нашими очами!.. Что глаза блюдцами пораскрыла? Льни к бумаге-то! Пиши!..
«Вёсну мы от мышей хлебом держались, ходили в поля, норы шарили в остожьях. Из иной их кладовки по полбадьи колосков гребли. А ныне — осень мокрая. Теперечи в страхе мы — долежит в норах-то до весны зерно?»
Нюра, прищуривая глаза, замедленным движением протянула руку, в лампе с косо отбитым стеклом поубавила коптящий красноватый огонь, прихватила ровными, белыми даже в полусвете зубами карандашный кончик, задумалась.
— Что притихла? — насторожилась Маруся.
— Где писать-то? Лист кончился. Больно много наговорила.
— Другой возьми!
— Где взять-то? Валька все старые тетради учительнице перетаскала!
Валька, учуяв неприятный для себя оборот, тут же подала с печи голос:
— В школе ни бумажки! А заниматься надо!
Маруся привстала с табурета, потянулась к Вальке.
— А ну, сыскивай! Чтоб мигом!
Валька сползла, схватила с лавки холщовую суму, приспособленную для школьных книжек, ящеркой скользнула обратно на печь, забилась в темноту: она готова была защищать свое богатство ногтями и зубами.
Маруся, озлобясь в горе, которое никто, как ей казалось, не хотел понять, угрожающе сготовилась полезть на печь. Нюра остановила ее тихой своей рассудительностью:
— Мама! В письме про всё уже. А поклоны тут вот, по боковинке, пропишу. Сядь, а то читать не буду.
— Я тебе не буду! — Маруся погрозила ей тощим кулачком, села, в беспокойстве ожидала, как заговорят с листа жалобные ее слова.
Нюра медленным голосом, слово в слово, зачитала все, и напряженный ее голос под конец дрогнул, и тотчас на печи всхлипнула Валька, и, вторя ей, плачем залилась на всю избу младшенькая, Верка.
Горе, считанное с бумаги, гляделось страшнее, чем молвленное. Не выдержала и Маруся: закрыла лицо руками, ткнулась себе в колени, сидела, раскачивалась и никого вокруг голосящих не успокаивала.
В таком разброде и застала всех Петраковых Васенка. Села на лавку, молча мяла кончики озябших пальцев. Наслушавшись и будто вобрав в себя чужое горе, с ним и обретенное право говорить, спросила осторожно:
— Что же, горевать будем или жить?
Маруся, приподняв от колен худое, мокрое от слез, пугающее чернотой глазниц лицо, будто отрыдала в притихшей избе:
— Помирать будем… С меня почнем, по одному и приберемся…
Случись Васенке оказаться перед подобным, казалось, неизбывным горем чужой семьи в поры давнего своего девичества, ни на что другое не решилась бы, — приклонилась бы к Марусе, как береговая лозиночка к воде, в молчаливости сострадала бы, переживала, плакала душой. Приказали что — тотчас бы сделала; спросили бы — слово, молвила. А сама ни-ни! — не решилась бы ни на слово, ни на дело; таково уж было матушкино наставление ей на жизнь. Но за два года войны, по предсмертному наставлению Ивана Митрофановича оказавшись среди других людских судеб и в ответе за каждую, столько чужого горя заплеснула к себе в душу Васенка — вовсе и не чужого, по адресу — чужого, а по боли — своего, — что добавлять к плачу сочувствующий голос уже не могла. И не то чтобы сочувствие избыло в доброй ее душе; переплавилось оно в другую жизненную важность — в потребность избыть чужое-нечужое горе большой, малой ли, но тут же изысканной помогой. Васенка знала, как бьет и лечит слово; но познала она и другое: как отрождает поникшего в горе человека сотворенное ко времени участливое дело. И Васенка будто пропустила мимо своего внимания гореванные слова Маруси, скинула с головы на плечи платок, подаренный ей бабой Дуней, расстегнула такую же, как у Маруси, телогрейку, только поладнее, по ней ушитую, и собралась было заговорить про то самое дело, с которым пришла к петраковскому табору, но приметила письмо, лежащее под рукой у Нюры, и тотчас догадалась, кому и о чем оно писано. И в тревожности за солдата Василия Ивановича, воюющего на другом конце земли, потянулась к не своему письму, сурово прихмурив брови. И Нюра даже под угрожающим взглядом матери не огородила письма, с неожиданной готовностью сама подала листок Васенке.
Васенка быстрым движением придвинулась к лампе, читала писанные старательно, убористыми буквочками слова и слышала в замеревшей избе многоносое настороженное сопение с печи, вызывающий своенравный постук карандаша о Нюркины зубы, не то жалобный писк, не то придавленный в горле Маруси плач, готовый вот-вот прорваться криком, и, чем дальше читала, тем неуступчивее делалось ее сильно похудевшее в постоянных заботах и несытости и все-таки не утратившее привлекательности лицо. Письмо она не вернула: сложила вполовину, потом в четверть, подложила под локоть под оторопелым взглядом качнувшейся Маруси, твердо сказала:
— Не солдату, не на фронт письмо писано… Солдату такое письмо не надобно!
Она ожидала и крика, и ругани, потому не пошевелилась, только чуть сузила глаза, когда Маруся, одним махом скинувшая себя с табурета, оказалась перед ней, простоволосая, растрепанная, с поднятыми к лицу руками. Будто сглатывая силу своего обычно пронзительного голоса, она прошептала:
— Как это не надобно?.. Как это не надобно? — спросила она уже в голос со зловещим движением сжатых в кулачки рук. — А как я отмолюсь перед им, когда он, свет моей жизни, Василий Иванович, в дом войдет и ни детишечка не узрит?! А ну, дай сюда листок, не греши, председательница! Каждый со своим горем обнимается. Иди горюхайся со своей Ларкой. Сберегай, чтоб потом мужик батогом на твоей спине не отыгрался!..
Маруся норовила вырвать листок. Васенка руки не отняла, крепче придавила к столу. Тогда Маруся пронзительно взвизгнула:
— Подай письмо, окаянная! — и ногтями, с кошачьей яростью, вцепилась в Васенкину руку.
Васенка, не уступая письма, поднялась, скрывая боль, прошлась по избе, остановилась напротив Нюры.
— Ты хочешь, чтоб Василий Иванович получил такое письмо? — спросила, едва удерживая дрожь напряженного голоса.
Нюра вскинула испуганные глаза на Васенку, на мать, потупилась; бледные, почти белые щеки и прямой, высокий, всегда чистый лоб, так нравившийся Васенке, окинуло пятнами волнения. Нюра понимала мать, жалела и все же собралась с силой, сказала, не поднимая глаз:
— Не будем, мама, сердце у нашего бати травить. Без того беспокойно там. Как-нибудь… — Голос ее пресекся, она сглотнула, в твердости договорила. — Как-нибудь проживем, мама.
Васенка оборотилась к печи, без прежнего напора, дрогнув голосом, все же спросила:
— А ты, Миша?
Миша заворочался, с ним вместе и быстрее его заметалась по слабо освещенному потолку большая его тень, он выпростал из-под себя руки, обхватил одной другую, будто для твердости, угрюмо сказал:
— Кабы его домой по письму пустили! А с войны не пустят. Что уж, только переживать будет…
Васенка поняла, что даже в согласии с ней старшие Петраковы в своем горе, в последней своей надежде равно уповали только на добрую силу своего названого отца. Вместе с письмом она отбирала последнюю их надежду и, поняв это, положила письмо на стол.
Маруся, видя, что Васенка отступилась, отошла от стола неверными шагами, опустилась на свой табурет, откинула растрепанную голову к печи, сказала:
— Вчерась в городе была. Хлеба притащила. Кусок. На всех пустопузых поделила. Сглотнули. Не осилила им сказать. А теперь при них сказываю — у собаки, у пса бродячего, тот кусок вырвала… Где он, пес тощий, лопоухий, тот кусок выкрал, догадать не могу. Видела, в городе не слаще нашего. Вот, добыла… Скормила…
— Мама! — Нюра от стыда и унижения закрыла лицо руками, уткнулась в стол. На печи притихли, будто вымерли.
Знала Васенка, как живут бабы, детишки и старики во всех семидесяти шести домах Семигорья, знала и то, что семейство Петраковых держалось только на коровенке, купил которую перед войной сам Василий Иванович. Но такое не могла даже в мысли пустить. Стояла потрясенно посреди избы, пальцами сдавливая виски, как будто задерживая чудовищно разрастающуюся в ней самой чужую боль, потом прошла своей неслышной походкой к лавке, села у стола, где прежде сидела, сказала решительно:
— Вот что, Маруся, по делу пришла ведь. Договорились с руководством: Валюшку и Верочку в Дом возьмут. Будут вместе с эвакуированными детишками жить, питаться. Валюшку к классу прикрепят, там и учиться будет. А Нюра с Мишей уж как все — в колхоз. Для войны потрудятся. Для себя что-ничто заработают…
— Это что же, при живой матери — в сироты?.. — заносчиво спросила Маруся.
— Мама! — в отчаянье крикнула Нюра, даже прихлопнула рукой по столу. — Не там гордость проявляешь!
Васенка знала, что Марусю напугали неминучие деревенские оговоры, и без досады подумала, что бабы не перестают ее удивлять. И эта вот: немужняя — детей рожала, от деревенских сплетен подолом отмахивалась. А теперь, когда ее же ребятишек спасать пришли, славой озаботилась! Но тут же, второй мыслью, сумела догадаться, что не деревенский оговор беспокоит Марусю; после того, как, на удивление всем, вошел в ее дом Василий Иванович, преданней, заботливей бабы, чем Маруся, нарочно ищи — не сыщешь. Не гордость окинула ее — боялась, как посмотрит на сирот при живой матери свет ее очей Василий Иванович. Потому Васенка пристрожила себя, сказала, убеждая:
— Разве в Доме все сироты? Еще неведомо, сколько отцов к ним повозвращается!.. В войну, Маруся, все для нас равны: и сироты, и те, которые под материнской рукой. Живы бы только были!..
Маруся нахмурилась, шевелила губами, но Васенка видела, что слова ее нашли нужное место в недоверчивом уме, думала: «Одно ого́рили. Теперь бы с письмом этим нехорошим довершить…»
Белевшее на пустом столе письмо и теперь беспокоило: уж больно страдало ее сердце за тех, кто в неведомых краях дрался с ворогом; не могла она отступиться в таком деле, как спокойствие солдата за свой оставленный дом.
Думая о письме, вроде бы без умысла попросила:
— Нюр, что-то запамятовала, о чем наказывал Василий Иванович в прошлом письме? Не прочтешь?
По сверкнувшим живостью глазам, по готовности, с которой Нюра поднялась и потянулась к еще довоенной большой фотографии, вставленной в светлую, из дощечек, рамку, где озабоченного Василия Ивановича сняли рядом с мордой коня, по тому, как, ревностно следя за Нюрой, зашевелилась на табурете Маруся и на печи враз поднялись головы пустопузых, Васенка поняла, что спросила правильно.
Нюра вытянула из-за рамки сверточек в холстинке, положила на стол, любовно раскинула концы, взяла верхний треугольничек с карандашной крупной адресной надписью, бережно, будто расколупывала яичко, вытянула запрятанный вовнутрь край, развернула, длинными, чуткими пальцами разгладила на столешнице. Поглядела в радостном ожидании на мать, села, огородила руками листок, сдерживая рвущийся в звень голос, стала читать, сызнова сама вникая:
— «Из дальней стороны шлю тебе, Маруся, и всем детям: Нюре, Мише, Валюте, меньшой Верочке — свое слово и отцовское благословение. Ивана нашего, как ни выглядываю по дорогам и становищам, среди встречных мною солдат покуда не углядел. Да и то сказать: среди многих тыщ, что вокруг копают, ходят, справляют свое ратное дело, отыскать Ваню возможности мало. Надежды, однако, не теряю, потому как земляки в нежданности всё же объявляются. Беспокойства ныне меня одолевают. Одно беспокойство унес от порога и не изживу, видать, покуда к порогу не вернусь, — это вы все, от меня нераздельные, и жизнь ваша, отсюда мне не очень видная. Обнадеживаюсь думой, что лад в семье вы сберегаете, как самое первое благо, от коего зависит все прочее. А как сажусь за котелок солдатского варева, так рука с ложкой опадает. Думается: не в свой бы рот ложку нести. Опишите в точности, что за еда готовится у вас в печи и что каждому перепадает со стола…»
Нюра в этом месте отвлеклась от письма, со взрослой обеспокоенностью глянула на печь, где в полутьме обозначились недвижные лица меньших, словно навешанные в черноту портреты, — видно, показалось ей, что в письме надобно что-то опустить. Но тут же, сдвинув строгие брови, снова склонилась над столом.
«Душа держится на месте только думой о Краснухе, — Васенке чудилось, что теперь с трудом, в упрек ей, считывает слова Нюра. — Она не даст вам погинуть ни при какой другой нужде. Накосили ли сколько надо? Ежели по той погоде, что здесь в лето была, то травы ныне, должно быть, и у вас были укосны. Про сено мне опишите. И кто что делал на косьбе, кто лучше других оказался.
Опишу и другое мое беспокойство. Хотя от Волги — нашей матушки — фашиста хорошо и далеко отогнали и мы тут уже глядим на сплошь порушенные белорусские деревни, однако же в думках своих так и сяк прикидываю и вижу, что победное замирение случится еще не вдруг. Тыщи верст до этого самого Берлина, от коего зародились все наши нынешние беды, и, хоть огня стало у нас теперь больше, чем у немца, и силы много, несравнимо с прошлыми годами, все же пройти тыщи верст по страдалице-земле да супротив черной силы — срок долгий. Упреждаю о том Вас, чтоб себя по-нужному настроили, чтоб хозяйство вели с бережливостью. И Васене Гавриловне о том передайте. Когда наперед все обдумаешь, сготовишь себя к долгой дороге, оно и идется легче. И главное — без рыва. В какой обувке кто ходит? Сделан у меня тут припас, вроде бы для Миши, а может, и для тебя, Маруся. Лейтенанта молоденького с боя вынес, с ногами сильно побитыми. Сапоги пришлось спороть. Он мне их вроде бы в память и оставил. Сшил их обратно. Мне не носить, не по ноге. Берегу с думой о доме. Политрук наш, добрый человек, хотел помочь переслать, да не успел, не оберегся, сердечный. Может, кто еще догадается из командиров помочь. Тогда сами решите, без обиды, кому носить. Еще раз наказываю, чтоб друг друга берегли, и особо вы, дети, заботьтесь о матери — Марусе. Без ее и вам ходу не будет. А доля выпала ей нелегкая. Всем по череду головки глажу, обнимаю. Маму Марусю целую. Поклоны мои, всем добрым людям семигорским и техникумским — тоже. Отец ваш и солдат Василий».
Васенка недвижно сидела за столом, плотно прикрыв лицо руками. Письмо она уже читывала, знала все слова, которыми говорил с петраковским семейством Василий, и все-таки, сызнова услышанные, они отозвались никому не ведомой тоскливой болью за себя, за свою одинокость, ни единожды не скрашенную таким вот заботным словом, — будто в нети канул Леонид Иванович, будто не помнилось ему там, за дальней далью, ни о доме, ни о Лариске, ни о ней, Васенке. «Без коровы-кормилицы остаться — беда, — думала она, не открывая лица. — А человека потерять?!» — Васенка отняла от лица руки, неслышно положила на стол, сказала тихо, будто самой себе:
— О беде крикнешь — горе позовешь…
Маруся, расстроенная письмом, сквозь слезы обидчиво спросила:
— К чему это ты?
— Все к тому же, Маруся. Мы, бабы, все переживем, все одолеем. А солдат под пулями ходит…
Нюра, накрыв ладонью прочитанное письмо, через угол стола потянулась к листку, что лежал рядом с Васенкой. Виновато поглядывая на мать, взяла, сложила треугольничком, какое-то время держала в руке, не решаясь поступить по своему разумению. Потом, неуступчиво сжав губы, оба письма положила в холстинку, с привычной ловкостью связала концы. Придавив руками пакет, в котором теперь было все — и добро, и беда, и надежда, сказала, заливаясь краской смущения от той самостоятельности, которой еще час назад в ней не было:
— Отца пусть ждет. Вернется, тогда и узнает про беду. Лучше так будет, мама!..
Маруся, часто моргая, удивленно смотрела на дочь такими же большими, как у Нюры, глазами. И молчала. Кажется, впервые за прожитую жизнь.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ Уполномоченный
А время шло — среди общей скорби и нужды, среди горя и забот, порой в робких радостях, порой в грустном и смешном, и все, что ни случалось среди своих или чужих людей, было жизнью…
В колхоз прибыл еще один уполномоченный, сутулый, тихий, годочков с виду неопределенных и чем-то — робостью своей, что ли, — не похожий на уже побывавших в Семигорье районных и областных людей.
Васенка поглядывала на его усталое широколобое лицо, узенькие, какие-то подслеповатые очки, обмотанные по переносью черной ниткой, на маленький самолюбивый подбородочек, на реденькие, вроде бы и незачесанные, просто закинутые на затылок волосы, и на всего на него, щупленького, какого-то неухоженного, похожего на заклеванного цыпленка, и всегдашняя усмешливая обида, с которой она встречала уполномоченных, обида за недоверие, за лишний бесполезный глаз, без которого не обходилось теперь ни районное, ни областное начальство, сменилась у нее почти материнским состраданием. Спросила, глядя жалеющими глазами:
— Что теперь-то глядеть в колхозе? Ведь ноябрь на дворе! Всё, что могли и даже не могли, — всё сдали…
Уполномоченный виновато помаргивал, косился на дверь, осторожно трогал натрепанные морозом уши, как-то неопределенно пожал покатыми плечами, признался:
— Вы знаете, даже не представляю. Сказали: директива товарища Стулова. Вот я и… Словом, пришел…
Чистосердечность уполномоченного, беспомощность его Васенку даже развеселили. Улыбаясь, она убрала в стол бумаги, сказала:
— Ну что ж, раз приехали, определю вас на постой. А дела на завтра, — так, что ли?..
Уполномоченный обрадованно закивал лобастой головой, оживился той определенности, которая появилась в его жизни, по крайней мере до утра, и неожиданно бодро встал. В самую эту минуту и вошла в контору Капитолина. Увидела диво в бабьем царстве — мужичка, хоть и щупленького, но живого, и выразила на лице такое умиление и готовность услужить, что Васенка тут же решила к ней и отправить уполномоченного на постой. «Хоть накормит бедолагу, — подумала. — В другом дому и куска не найдут…»
Она представила уполномоченного. Капитолина осторожно пожала протянутую ей руку, почтительно взглянула на хотя и унылого вида, но довольно массивный нос и тут же, забыв про дело, с которым явилась, повела гостя к себе в дом.
Дома, повязав под могучую грудь передничек о розовыми оборочками, приобретенный недавно в обмен на кусок яблочного мармелада, она усадила гостя в красный угол, принялась хозяйничать. В тепле гостя начало размаривать, и Капитолина, как могла, занимала его разговорами, понимая, что гость не прост, не из деревенских, похоже, еще и ученый.
Ставя на стол миску с закусочкой, блюдца, она вежливо интересовалась:
— Как же вас звать-величать, если позволите? Геннадий Витальевич? Очень приятно… Сами-то из каких будете: из учителей, докторов?.. Ах, из плановых работников!.. Понимаю, понимаю, от строчек да цифири голова в круговерти!..
Гость хоть и разомлел в жарко натопленной избе, но отвечал на вопросы охотно и особенно оживился, когда стол был наконец заставлен с вызывающей щедростью.
— О, да у вас скатерть-самобранка!.. Откуда?! — сказал он потрясение — Богатство, достойное Лукулла…
Капитолина сочла нужным уточнить про Лукулла и, когда гость пояснил, с простодушной гордостью отрезала:
— Было у императоров, будет и у нас. Не хуже прочих!..
Опустив на стол тяжелый, шумящий и посвистывающий струей пара самовар, она как бы в робости выдержала молчаливую минуту, поджала губы маленького рта, спросила:
— Небось у этих самых Лукуллов и вином угощали?
— Вне всякого сомнения! — с убежденностью воскликнул уполномоченный. — На всех столах огромные амфоры и с разными винами!
— Тогда и нам не грех по маленькой… — осмелев, сказала Капитолина.
Гость в замешательстве потрогал свой выразительный нос, стараясь как-то поубедительней выразить свое отношение к вину, проговорил не очень твердо:
— Вообще-то…
— И я так считаю… — закончила его не совсем ясную мысль Капитолина. Открыла крышку стоявшего в углу сундука, с проворностью достала и поставила на стол нераспечатанную бутылку.
Гость пил осторожно, больше мочил губы, чем пил; после каждого глотка зажмуривал глаза и непонятно качал головой. Зато ел неостановимо, — Капитолине пришлось подложить ему в тарелку еще и ячневой каши, которая припасена была для разных прочих, по зову ее заходящих время от времени для домашних услуг. Правда, кашу она сдобрила постным маслом, но и кашу уполномоченный съел до удивления легко, как будто до каши не переложил в себя со сковороды глазунью с салом да не опростал чугунок картошки, тушенной с мясом, к коему подана была еще и миска соленых огурцов. Ложку после каши он по-деревенски облизал и поглядел на пустую тарелку с сожалением.
Капитолина хотя и захмелела, но не до такой смелости, чтобы пуститься в откровенность. Поколебать ее убеждение в том, что мужик в корне своем — всегда мужик, будь он хоть из области, хоть из самой столицы, не мог бы никакой уполномоченный, даже если бы заместо очков он нацепил бинокль. Но что-то было в этом щупленьком госте, сильном на еду, такое, не поддающееся быстрому пониманию, перед чем даже Капитолина робела. Какая-то умственность, что ли, неподвластная ей способность на высокий, отвлеченный от действительной жизни разговор, какое-то витание в мыслях и необычных словах, — всё это смущало, как-то стесняло Капитолину. И потому, робея перед умственностью, она с терпеливостью ждала того часа, когда вино и сытость разрушат высокое парение мыслей, и гость сам потянется к греху, и останется ей лишь подбодрить его, готовенького. Капитолина терпеливо чокала в стопочку гостя, заставляла его хоть и по глоточку, но пить. И с удовлетворенностью наконец увидела, что Геннадий Витальевич сомлел. Подпер голову рукой, стащил с запотевшего носа очки; с четвертой или шестой попытки засунул их в нагрудный карман сильно поношенной в вороте, пообтертой на локтях фланелевой рубашки.
— Нет, уважаемая Капитолина Христофоровна, — говорил он, блуждая глазами по сумеречному пространству дома. — Нет, я не из таких, кто завидует: по службе — начальнику, по дому — соседу. Да, я составляю графики, составляю сводки. Я не герой фронта. Но в душе я — художник. Мне дано видеть землю, небо, человека. Я чувствую жар красоты! И зрю насквозь пеструю человеческую натуру! Вы по своему не молодому, так сказать, опыту должны знать, что по натуре человек изрядно пестренький. Как, к примеру, лоскутное крестьянское одеяло. Лоскуты сшивают; старые, новые, цвета разного, а вместе — одеяло, то есть человек. Мне дано это видеть. И запечатлевать! Не в звуках — я не композитор. В красках!.. У меня есть портреты, выхваченные из гущи быта… Скажу вам, не оцененные еще портреты! Я покажу. Отступлю от принципов и покажу. Вам! Вы бываете в городе? Да? Я так и думал. Вы зайдете к нам. Я покажу. И жену покажу…
Капитолина внимала разговорившемуся уполномоченному с незнакомым чувством робости. Тень его, вздымающаяся на стене от светившей на краю стола керосиновой лампы, как бы уширяла, могутила самого гостя; разгоряченный угощением и разговором, гость казался Капитолине, завороженной ожиданием неодинокой ночи, чуть ли не чудом, ниспосланным в теперешнее безмужичье. Ее приятно щекотнуло вырвавшееся из многих непонятных слов приглашение городского человека, но в мрачность вогнало упоминание про жену. Ее бледно-зеленые, с холодным, темным ободком глаза как бы уменьшились, недобро заблестели; кто Капитолину знал, мог ожидать немедленных и самых крутых ее действий. Но на этот раз Капитолина успела сообразить, что по нынешним временам крутые действия к добру не приведут. В то же время по скопленному опыту она в точности знала, что всякое поминание жены или оставленных дома детишек расстраивало даже самых бесшабашных мужиков, потому она сделала умственный ход, достойный не только женщины, но и полководца. Концом розового передника она вытерла губы, будто готовясь целоваться, наклонилась над столом и, не давая гостю углубиться в дела семейные, с участливостью в лице и голосе спросила:
— А матушка ваша в далеких ли краях обитает?..
Геннадий Витальевич на минуту застыл в удивлении, даже в изумлении, потом махнул рукой, будто послал приветствие.
— В далеких! В краях, невидимых для живущих… — Он проговорил это с такой печалью, что у Капитолины сжалось сердце от жалости к самой себе. А Геннадий Витальевич вдруг разволновался, заговорил, как будто только и ждал ее вопроса:
— Не знали, не знали вы моей матушки! Умнейшая женщина, скажу вам. Ведь мог бы я и не быть, вот как есть сейчас перед вами!.. Девочки, все девочки-сестрички рождались… А папаше нужен был я, — хоть один, но молодец! Матушка это знала. И — это надо, представить! — решила поправить несправедливость, ниспосланную самой природой! Матушка вызнала где-то важный женский секрет. Оказывается, и такие секреты есть, в которых скрыта тайна рождения особи, — кто, как говорится, выглянет на белый свет: он или она? И, как в откровенности поведала мне матушка, секрет заключается в том, кто в минуту самого таинства зачатия сильнее пожелает близости — муж или жена. От страсти жены рождается мальчик. Вы понимаете?!
Капитолина даже привстала, по тугим ее щекам пятнами пошел гулять румянец. Отмоли она перед богом все свои забытые и незабытые грехи, и то не сумел бы он дать такого нужного ей оборота в разговоре! Вся будто приподнявшись над столом, Капитолина выдохнула с превеликим сочувствием:
— Понимаю! Оченно даже понимаю… — Она хотела добавить «миленький мой», но сумела и на этот раз с твердостью сдержать порыв прихлынувших чувств; только осторожно добавила: — Женщины в таких делах мудрющие люди!..
— Не все! — выкрикнул Геннадий Витальевич. Он вскинул руку и потряс пальцем перед лицом Капитолины, и Капитолина поспешила согласиться:
— Не все, не все, правый ты мой. Сроду такого понимания не схватишь!..
— Да, в том суть! — сказал Геннадий Витальевич, опуская низко к столу лобастую голову. — Но я — о матушке… Так вот, собрала матушка отца в командировку и с первого часа стала ждать. Ждет и в себе ожидание подогревает. На огне, так сказать, ожидания кипит. И ко дню приезда в таком превеликом нетерпении оказалась, что когда отец вошел, она не дала ему даже раздеться… Мда… Я, кажется, не в те ворота. Семейная тайна, так сказать. Оглашению не поддается… Что-то голова в кружении… Мне бы прилечь, милая хозяюшка…
Капитолина выводила гостя из-за стола с таким вниманием, с такой осторожной бережливостью, что глядеть со стороны — в руках ее был не муж во плоти, а по меньшей мере блюдо с дорогими пасхальными яичками! Проведет шажок — словом приласкает, проведет другой — рукав погладит, на третьем шагу и вовсе к плечу припала, залепетала что-то, переводу не поддающееся. И, усадив на мягкую постель, тяжело преклонилась, сама расшнуровала, стащила с ног до жалкости оббитые ботинки со стоптанными набок каблуками и носки, сказать прямо, несвежие, которые гость в еще теплившейся стеснительности пытался вызволить у нее из рук и засунуть в ботинки, чему Капитолина со снизошедшей на нее игривостью воспротивилась. Гостя в конце концов она уложила, до подбородка укрыла пестрым тяжелым одеялом и, укрывая, слегка придавила боком. Геннадий Витальевич в охватившей его трогательной вере в бескорыстие добра, надо полагать, забыл в эти минуты о жене и высоких своих полномочиях от области. Накормленный, напоенный, разморенный почти банным теплом избы, душевно размягченный услужливостью хозяйки, еще не ощущая нависшей над ним опасности, он в ответном благодарном чувстве нашел укрывающую его руку, прижался щекой.
— Как матушка!.. Спасибо доброй вашей душе… Вы ко мне, как матушка!.. Незабытая, добрая моя… — Он бормотал, выражая словами и движениями головы объявшие его чувства, терся небритой щекой о неспокойную руку Капитолины.
— Погоди-ка, касатик. Сейчас я…
Капитолина потревоженно сползла с кровати, пошла по тяжко постанывающим половицам. Пока, скинув катанки, ходила по дому, запирала дверь, сдирала с себя розовый с оборочками передник, гасила лампу, Геннадий Витальевич забылся в блаженстве мягкой постели. И не очнулся, если бы не почувствовал удушья: чьи-то цепкие руки стискивали его грудь, жаркий шепоток опаливал ухо:
— Нут-ко, мужичок, шевелись…
Он попытался высвободиться из-под живой, шевелящейся тяжести, суетился руками, полузадушенно выкрикивал:
— Позвольте… Позвольте…
— Позволю. Позволю… — шептала Капитолина, все крепче сжимая его вместе с подушками. И тогда уполномоченный, всхлипнув, вдруг завыл, тонко, жалобно, как одинокая, потонувшая в снегах собака. От неожиданности Капитолина отринулась, дрожащей рукой перекрестила воющего в темноте гостя.
— Что это ты, касатик? — спросила, приходя в себя. — Чай, не пес, выть-то!..
Геннадий Витальевич наконец замолк, выбрался из подушек, отодвинулся в угол постели; Капитолина слышала, как, тяжко посипывая и посвистывая, он вбирал в себя воздух, будто горло у него было в дырьях.
— Что притих-то? — осторожно осведомилась она.
— Астма у меня, — пожаловался уполномоченный.
— Не мужик, что ли? — уже смелее спросила Капитолина, придвигаясь.
— Ради бога!.. — взмолился уполномоченный. — Я… я не способен, — добавил он упавшим голосом.
— А жена пошто? — Подозрительно спросила Капитолина; еще с девичества, когда только-только она начинала кое в чем разбираться, жизнь научила ее не доверять таким вот тихоням: наговорят, с ничего натворят да и улизнут…
— Ну, поверьте же! — дрожащим голосом сказал Геннадий Витальевич. — А жена… Вы же понимаете, я давно женат. И время сейчас не то. Всё на нервах. И пища, сами знаете, картошечка…
«Картошечка! — в мыслях передразнила Капитолина. — А за столом жрал, как боров…»
Она окончательно утвердилась в том, что перед ней тихоня из тех, кто за разговорами умеют увернуться, решительно придвинулась, обхватила тощие бока уполномоченного, проговорила зловеще:
— Ты, касатик, не крути. Коклетами тебя зря кормила, что ли?.. Брюхо-то набил, а благодарить дядю пришлешь?!
Чувствуя под руками живое мужиковское тело и оттого помутившись умом, Капитолина рывком повалила уполномоченного в подушки.
На этот раз Геннадий Витальевич неожиданно проявил твердость и силу — вдруг окрепшими руками он свалил с себя бабью тяжесть, соскочил на пол.
— Зажгите немедля свет! — приказал он голосом такой неподдельной властности, что Капитолина притихла. Где-то в глубине постели она соображала, насколько серьезна и опасна перемена, случившаяся с уполномоченным.
— Зажгите свет!.. — повторил Геннадий Витальевич, и Капитолина, вся превратившаяся в слух, не уловила прежней властности в его голосе. Успокаиваясь, она деланно вздохнула, ответила из темноты:
— Время не такое, касатик, чтоб среди ночи керосин жечь! Да и спичка каждая на учете…
— Но мне надо одеться! Я к председателю пойду!..
— Одевайся, иди… — зевнув так, чтобы он слышал ее зевок, сказала Капитолина. — Может, отыщешь дом да среди ночи добудишься…
Она шумно вытянулась на постели; еще не перекипев страстью, слушала, как уполномоченный в нерешительности переступает босыми ногами по остывающему полу.
— Ладно, тихоня! Честность мою и себя на все село не позорь. Лезь на печь!.. — Она сползла с кровати, в темках пошатнула плечом уполномоченного, закинула на печь подушку.
— Одеялко на печи… Лезь!.. И чтоб до утра голосу твоего не слыхать было!..
С кровати она слушала, как уполномоченный, срываясь ногами с узких ступенек, ощупью взбирается на печь. Когда, недолго повозившись, он затих, Капитолина почувствовала себя обманутой. Обманутой и брошенной. И забытой людьми в этом казенном, обжитом его пристрое к магазину, в котором было всяких товаров, но не было живого голоса, кроме мышиной возни и писка. И волчья, студеная тоска захолодила ей грудь. И вспомнила она своего Гаврилу Федотовича, дуб-мужика. Вспомнила, как в угрюмой неуступчивости он проводил ее из дома, без доброго слова и взгляда, позабыв про всю ее горячность, про ласки, какими одаривала она его в беспамятных утехах!.. И Машку свою неблагодарную помянула. В девицу вымахала, а все туда же, от дома норовит!.. Вспомнила про все Капитолина. И в тоскливых думах и в жалости к себе лежала в немой темноте дома, концом одеяла отирая мокрые щеки.
На печи осторожно кашлянул уполномоченный. Капитолина приподнялась, робко позвала:
— Не спится, касатик?..
Уполномоченный притих, даже дыхания не стало слышно. Капитолина слезно вздохнула, в безнадежности отвалилась на подушки. Волнения вконец притомили ее: она еще раз вздохнула, и угрожающий храп потек через щелочки ее ноздрей.
Пробудилась она от незнакомого ей осторожного шебуршания, не сразу сообразила, что это одевается уполномоченный: в желтом утреннем свете, пробивающемся через оконца, он, пригнувшись, зашнуровывал ботинки.
Капитолина стеснительно попросила отвернуться, проворно оделась, взялась было за самовар, но уполномоченный вежливо остановил ее:
— Если для меня, то не беспокойтесь.
— Что так-то?!
— Спасибо. Я сыт вчерашним.
Он с достоинством надел свое не по росту длинное, не застегивающееся в вороте пальто, натянул на лобастую голову кепку.
Попрощался он издали, как-то странно: то ли улыбнулся, то ли просто увел в сторону широкий рот. И Капитолина, глядя, как перешагнул он порог, как с улыбочкой прикрыл за собой дверь, с запоздалой отчаянностью подумала: «Обвел. Вокруг пальца обвел! Тихоня!…» — и громыхнула железной трубой по самовару.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ Ольга
— Что, военфельдшер, молвы лишился?! Проходи, садись. — Комиссар вглядывался в него из-под рожек-бровей любопытствующим взглядом. Но не взгляд комиссара сковал движения Алеши и речь — в блиндаже сидела Ольга, та самая до невозможности красивая девушка, которая так неожиданно явилась ему на первом шагу его фронтовой жизни, очаровала, на миг приоткрыла и унесла с собой от него, потрясенного, тайну своего страшного в улыбке лица; он помнил, как почти клятвенно обещал Ольге отыскать ее на дорогах войны.
Ольга сидела на нарах, напротив комиссара, подняв и в ожидании повернув вполуоборот к нему голову. Алеша видел излишне спрямленную спину, напряженный взгляд красивых выпуклых глаз, как будто мерцающий беспокойством. Он не знал, зачем вызвал его комиссар, и стоял, привычно вытянувшись, держа руки по швам.
— Ну, здравствуй, Алеша! — первой сказала Ольга.
Привечающий ее голос вернул ему речь. С неловкостью он поздоровался, повинуясь приказывающему жесту комиссара, сел на край нар, накрытых серым суконным одеялом, рядом с Ольгой.
Алеша не знал, как говорить ему с девушкой, которую до нежданной сегодняшней встречи видел всего несколько часов. Пока, как всегда мучительно, он искал нужные и возможные в новой их встрече слова, комиссар взял разговор на себя:
— Извини, военфельдшер. Но Ольга хотела тебя видеть. Помнит тебя романтиком. И не верит, что на войне человек может остаться, так сказать, в довоенном душевном состоянии. Сам-то как на это смотришь?
От неожиданного вопроса Алеша покраснел и только неловко улыбался и молчал.
— Видишь, Оленька! Таким же, думаю, был наш военфельдшер и в первом разговоре с тобой. Понимаю его. И могу сказать — лично мне это дорого. По-солдатски прошел он через первый, очень трудный для него и для всех нас бой. И се́рдца не ожесточил. Не сбили его и прочие сложности военной жизни. Насколько могу судить, даже на врага он порой переносит чувства, рожденные в нашем добром миру. Война такого отношения, знаю, не терпит. Но… но, Оленька, я все-таки за то, чтобы после боя и солдат оставался человеком.
Ольга сделала плечами едва заметное протестующее движение, и комиссар с несвойственной ему поспешностью, даже суетностью, договорил:
— Не каждому, Оленька, довелось пройти по кругам адовым. И не приведись, чтоб каждому… Прости меня, но я начинаю рассуждать так: если кто-то принял на себя пулю, эта пуля уже не достанется другому…
— Слабое утешение, — сказала Ольга, и Алеша почувствовал, как голос ее, без того глуховатый, по-недоброму загустел. — Когда жизнь одних утверждается на смерти и страданиях других — это плохое утешение. Для страдающих и погибающих…
— У войны свой выбор, Оля! Мы не знаем, кого она выберет завтра.
— Так пусть страдают и погибают те, кто силой ставит себя над другими!.. — голос Ольги накалился. Присутствие комиссара не сдерживало ее, и комиссар, к удивлению Алеши, уступил.
— Ладно, дядя Коля, — примирительно сказала Ольга. — Не будем об этом. Тем более что наши с тобой споры едва ли по душе гостю.
Неприкрытое изумление Алеши словами Ольги комиссар заметил, пояснил, усмехнувшись:
— Не удивляйся, военфельдшер. С Оленькой мы не только с одной земли — одной семьей жили. Ольга не помнит, а я с ложечки ее кормил!.. Теперь вместо отца ей. Хотя и не признаёт! Свои соображения имеет! Не хочу, говорит, дядя Коля, чтобы плакал ты по мне, как по дочери. Тут с ней мы не ладим. Последнее это дело живому о смерти думать. Слышишь, Ольга?!
Алеша смутно чувствовал, что неожиданная встреча, не совсем понятный разговор комиссара с Ольгой имели какое-то отношение и к нему, — комиссар как будто хотел, чтобы он знал, что Ольга близка ему, как дочь. И Ольга как будто не была настроена против забот комиссара, хотя держалась, как всегда, сдержанно-спокойно. Она смотрела на комиссара с какой-то тяжелой ласкающей печалью, и неподвижное лицо ее жило только глазами да едва различимой скорбной улыбкой у края полных губ.
Просительно она сказала:
— Об этом тоже не надо, дядя Коля. Лучше объясни Алеше, зачем ты пригласил его.
Комиссар, утишая горячность, потрогал столик, прилаженный между нар, наподобие вагонного, взглянул с еще не остывшим чувством недовольства.
— Разговор-то знаешь о чем, военфельдшер?! Оленька, да будет тебе известно, — снайпер, прикомандированный к нашей армии. Какое-то время будет работать на участке батальона. Могу сказать, чтоб знал: у нее на счету — семьдесят два фашиста.
— Семьдесят четыре, — поправила Ольга, и Алеша почувствовал, как притихло его сердце, не столько даже от невероятного количества убитых этой невозмутимо-красивой девушкой врагов, сколько от бесстрастности самого ее голоса, которым она поправила комиссара.
— Это когда же?… — настороженно спросил комиссар.
— Позавчера, — с той же бесстрастностью, уточнила Ольга.
Комиссар помолчал; сказал, почему-то стараясь уйти от подробностей:
— Ладно. Важно не это. Важна суть…
Ольга неуступчиво поправила:
— Важно именно это. Ты забываешь о том, о чем я забыть не могу…
Комиссар в неловкости оттянул ворот гимнастерки, расстегнул две верхних пуговицы.
— Прости, Оленька, — сказал он. — Я о другой сути. О той, что относится к нашему гостю, военфельдшеру… Послушай, Полянин, если я правильно понял, ты попросил у нас с комбатом винтовку снайпера не для забавы? Не хотел я разрешать, да что поделаешь — войны впереди еще много! Что тренируешься — слыхал. Как успехи?..
Алеша уже догадался, о чем скажут ему сейчас, и постарался быть скромным в оценке своих успехов: неопределенно пожал плечами, надеясь, что комиссар правильно поймет и удовлетворится молчаливым его ответом.
Но комиссар расценил его жест по-своему: как-то сразу весь подобрался, настороженно, с недоброй пытливостью, спросил:
— Что, нет успехов?!
Алеша понял, в чем заподозрили его, с дрожью в голосе сказал:
— Плохо вы обо мне думаете, товарищ комиссар!..
Комиссар вглядывался в него, как будто проверял, насколько искренен он в своей обиде, сказал примирительно:
— Обиды тут ни к чему. Мне надо знать о твоих возможностях. Определимся так: на сто метров в пятачок попадешь?
Алеша, уже не уступая желанию выглядеть лучше, ответил:
— Около пятачка, товарищ комиссар.
— Около. Но — пятачка!.. — Комиссар выразительно посмотрел на Ольгу. — Как, Оленька? Для дела это годится?..
Ольга наблюдала Алешу с неостывающим интересом и теперь удовлетворенно, как показалось ему, ответила:
— Думаю, что годится. Только… Дело ведь не в винтовке…
— Ты хочешь сказать — в человеке?..
Комиссар и Ольга — оба смотрели на Алешу; и Алеша, от смущения и отчаяния набираясь дерзости, спросил:
— Как человек я разве подводил вас когда-нибудь, товарищ комиссар?
— Если бы подводил, позвал бы я тебя, военфельдшер?!
Чуть позже, когда комиссар вышел следом за ним из блиндажа как бы проводить, он объяснил ему уже наедине:
— Как понимаешь, Полянин, это — не приказ. Просьба. Боюсь за Ольгу. В ненависти удержу не знает. Ты только подстрахуй ее. На рожон не лезь!.. Ну, ни пуха ни пера вам обоим! — Он дружески сдавил ему плечи, тряхнул.
…Тоскливую тяжесть падающих на него бревен он знал, — в детстве, когда он заболевал, метался в жару и бредил, сверху, из темноты, начинали валиться бревна; бревна отделялись от потолка, с непонятной замедленностью падали, перекатывались по груди, исчезали в черной пустоте у кровати, оставляя чувство тяжести и страха. Он боялся падающих на него бревен и кричал. Успокаивать его умела только мама: встревоженная, она появлялась у кровати, укладывала на его горячий лоб исцеляющую руку…
Алеша не был болен; но, едва закрывал глаза, начинался тот далекий, из детства, бред: из перекрытия землянки вываливались бревна, падали, перекатывались по груди; и качались перед глазами, как в яви, загорелые спины парней, взбирающихся в торопливой ярости на бугор, где таилась Ольга; снова он слышал свои оглушающие выстрелы, ощущал жесткие толчки винтовочного приклада, видел, как одна, другая, третья спины словно прогибаются от ударяющих в них пуль… Опять начинался бред, озноб пробегал по спине, уходил куда-то в ноги, в земляные нары, на которых, укрывшись до глаз шинелью, он лежал. Он не видел, как вошла Ольга; он открыл глаза, когда почувствовал чье-то присутствие. В сумраке землянки Ольга поймала его отчужденный взгляд, скорбно улыбнулась одними глазами, нашла его напряженные пальцы, крепко сжала:
— Спасибо, Алеша. На этот раз ты спас мне жизнь… — Ольга была какой-то осторожно-праздничной, и Алеша отвернулся: видеть Ольгу он не мог.
Все началось с Ольги. И то, что случилось потом, тоже случилось из-за Ольги. Это она, милая девушка, прошедшая специальную снайперскую школу, тщательно готовила и наставляла его. Это от нее он услышал: «Подумай еще раз, Алеша! Это серьезно. И опасно…» И слова эти только подстегнули его нетерпение. Все предусмотрела заботливо-сдержанная девушка, все, вплоть до маскировочного халата для него и бронебоино-зажигательных пуль, которые сама с тщательностью заложила ему в подсумок. Не смогла предусмотреть она одного, только одного, — каким он вернется оттуда…
Вслед за Ольгой, почти невидимой в немецком маскхалате, испятнанном желтыми, зелеными, коричневыми треугольниками, он полз, осторожно протягивал свое тело по ничейной земле.
Таинственную для него линию фронта никогда прежде он не переползал и только по ощущению тяжести, сдавившей виски, понял, что они пересекли черту, разделяющую армии.
За фронтом он ждал увидеть нацеленные в их сторону орудийные стволы, зарытые по башни танки, угрюмые шапки дотов, пулеметные гнезда, ямы-площадки, с настороженно присевшими минометами, — всю ту механику войны, которая стреляла отсюда, с этой стороны, и там, у них, рвала землю и солдат, вспарывала животы, выбивала глаза и челюсти, — ту страшную механику войны, к кровавым следам которой в каждом бою он притрагивался своими руками; ждал и хотел открыть для себя такое же страшное лицо врага, в которое так тщательно и долго готовился выстрелить. Но то, что он увидел, не было войной.
От берез на высоком краю склона, под которыми распластанно они лежали, он увидел охваченный холмами приречный луг со знакомой просинью цветущих колокольчиков. За холмом, куда уходила речка, был, похоже, омуток, и там купались люди; видимая сверху светлая гладкая речная хребтинка беспорядочно колыхалась, ломая темную полосу отраженного в ней берега; довольные голоса доносились оттуда. Внизу, на зелени луга, играли в мяч голые по пояс парни; двигались, краснели на солнце их загорелые руки и спины. Пополуденная жара спадала в тишине: ни выстрела, ни даже случайного взрыва; только в стороне над лесом спокойно рокотал немецкий самолет-разведчик да трещали кузнечики в разнотравье на склоне.
Было так по-деревенски, тихо, что слышались внизу сильные удары ладоней по тугому мячу и возбужденные, обычные в игре, возгласы парней.
Ольга тронула его плечо, шепнула, почти не двигая губами:
— Оставайся здесь… Окопайся. И ни единого стука! — Он увидел ее глаза, устремленные вниз, на играющих в мяч парней, и успел испугаться их выражению. Тело Ольги, будто гибкое тело большой змеи, переползло через корни, лишь по колыханию травы, испятнанной тенью листьев росших по склону берез, он догадался, что Ольга ползет на бугор, нависающий над лугом.
Он нервничал, готовя себе узкое укрытие в земле под березой, его беспокоила не столько близкая опасность, которую в одиночестве он острее чувствовал, сколько сама Ольга. Сейчас Ольга начнет стрелять, и вся эта летняя тишина, веселая игра парней на лугу, мир, который хоть как-то, хоть на час, но установился на этом кусочке земли, разрушится, — снова загрохочет война, снова замрет все живое.
Ольга не стреляла, тишина продолжала быть. Алеша подтянул к себе винтовку, в сильный оптический прицел следил за играющими в мяч парнями. В кругу их было девять, азартных, увлеченных общей игрой, крепкие их плечи и спины лоснились от пота, как крупы сильных, разгоряченных коней. Он видел, как взлетал от ударов мяч, как быстрые движения рук перехватывали его в падении, не давая коснуться земли; мяч снова уходил в высоту, перекидывался от одного к другому, третьему — знакомая, веселящая, влекущая к себе игра. На просторном летнем лугу незнакомые парни повторяли то, что проходит через юность каждого. Жаркая устоявшаяся тишина умиротворяла душу; сама игра, за которой он следил, странным образом сместила ощущение времени. Хотя он смотрел на парней через перекрестие прицела, он вдруг почувствовал, что близок к тому, чтобы подняться из укрытия, широкими легкими прыжками сбежать по склону на луг и, как бывало в доверчивые школьные времена, напроситься в оживленный летающим мячом круг. Желание было настолько отчетливым, что он зажмурил глаза, с силой придавил нагретый солнцем приклад к щеке.
Среди девяти выделялся плотный, спортивного вида парень, с коротко подстриженными, почти белыми волосами; он высоко прыгал, сильно и точно бил по мячу и, насколько был стремителен и оживлен в ударе, настолько выжидающе сдержан, когда мяч летел на соседа. Он чем-то напоминал семигорского Васю Обухова, сына Ивана Митрофановича, и больше, чем за другими, Алеша следил за ним. Именно этот ловкий, удачливый в игре парень упал первым: вскинул руки принять мяч и в первый раз за всю игру не дотянулся — мяч ударил в него, и парень, словно не выдержав удара, запрокинулся, подгибая ноги, повалился на траву. Алеша не сразу связал в сознании сухой щелк одиночного винтовочного выстрела и падающего на траву парня. Наверное, не сразу поняли в азарте игры то, что случилось, и другие: они застыли в самых разных позах на какие-то секунды, и этих секунд хватило, чтобы вслед за щелчком выстрела упал лицом вниз другой игрок. Луг как будто вскипел людьми. Алеша даже представить не мог, как много таилось здесь солдат! Оголенные до пояса парни бросились к оружию; прежде чем они подняли автоматы, еще двое, один за другим, упали на свои одежды.
Война ожила: подвывая, падали, рвались на земле мины, расшвыривали траву, листья; дымом затемнило воздух: легкий по́треск разрывающихся пуль доносился из леса. Прилетевшие на шум войны уже из полкового тыла снаряды покрыли черными, мгновенно вспухающими огнищами солнечный, заполненный разбегающимися солдатами луг.
Но самое страшное еще не свершилось. Полуголые парни, не надев даже кителей, с автоматами в руках бросились вверх по склону. Похоже, они засекли место, откуда стреляла Ольга, и, осатанев от мстительной злобы, спотыкаясь, падая, снова поднимаясь, в исступлении карабкались к соснячку, торопясь охватить бугор.
Алеша видел, что Ольге с бугра уже не уйти: смерть несли ей не солдаты, разбегающиеся по лугу в разрывах падающих на них снарядов, а вот эти пятеро полуголых парней с раскрытыми злыми ртами. Ближе всех других к Ольге был парень с гладкими длинными волосами; припадая на колени, он карабкался по крутому склону мимо Алеши, помогая себе рукой, и жутко хекал, как запаленная лошадь. Еще минута — и хекающий парень скрылся бы в сосняке, за спиной Ольги.
Алеша поднял винтовку, он не хотел убивать, он хотел только остановить парня, отпугнуть, не дать ему добежать до Ольги. Но пуля нашла свою цель: над виском парня вскинуло волосы, будто брызнула вода под косо брошенным камнем. Алеша оцепенело смотрел, как парень, переворачиваясь с боку на бок, скатывался по склону, взмахивая вялыми руками, и автомат, петлей ремня охватывающий его шею, при каждом перевороте упирался коротким стволом в землю, тяжелой рукоятью ударяя парня по лицу.
Алеша пришел в себя, когда чужие пули стали крошить ствол березы, под которой он лежал. Уйти без Ольги он не мог. И он начал стрелять в парней, распластанных на склоне, хорошо видных ему голыми загорелыми плечами. Наверное, он стрелял лучше, потому что все парни, лежащие на склоне, скоро затихли.
…Ольга не уходила, хотя все в нем протестовало против ее присутствия; не открывая глаз, он отодвинулся. Ольга уловила его отстраняющее движение, сказала мягко, как говорят больному:
— Я думала, ты солдат, Алеша. А ты до сих пор не веришь, что бомбы, разрывающие на земле людей, падают с «юнкерсов». Я же вижу того, кто сидит там в самолете. Пушки тоже не стреляют сами. Где-то на удобной высотке сидит вышколенный улыбчивый унтер. И каждая его улыбка обрывает жизнь русскому солдату. Я не хочу, чтобы умирали наши люди. Не могу видеть улыбку врага. Ты — на фронте. Но ты все время среди своих. Ты еще не знаешь, что фашист — это зверь. Я видела их там, в силе и власти. Все они звери! Все!.. Ты хоть немного понимаешь меня? — Холодная рука легла ему на лоб. Ольга искала примирения. Алеша, не открывая глаз, качнул головой, сбросил ее руку. Ольга сделала движение встать и уйти, но почему-то осталась. Молчала она так долго, что он перестал ощущать ее присутствие. И вздрогнул, когда услышал ее вздох и голос:
— Нет, Алеша, твое сердце не для войны!..
Он рывком приподнялся на локтях, обернул к ней дурное от страданий лицо, крикнул:
— А твое? Твое сердце?! — Он смотрел с такой враждебностью, что Ольга отстранилась; глаза ее, полные застывшей печали, распахнулись, как от удара.
Ольга опустила голову. На застывшем ее лице, в ямке у края губ, появилась неприятная горькая усмешка, странно-пугающе блестели ее глаза; почти не раскрывая рта, она сказала:
— Ты спрашиваешь о моем сердце? О моем сердце?! Я жила для добра и любви. А выжила для ненависти… Холодное, страшное, у меня сердце, Алеша!.. — Она медленно подняла глаза. Под прямым отчужденным взглядом холодно-влажных глаз Алеша замер, он не смел даже моргнуть. Ольга видела его испуг, на ее напряженно-бесчувственное лицо прорвалась какая-то вымученная улыбка. И снова, как при первой встрече, будто злой рукой, стянуло в узел половину ее лица. Перекошенное ее лицо сделалось страшным. Алеша откинулся на нары, закрыл руками глаза, Ольга жестким от прорвавшейся обиды голосом крикнула:
— Глаза прячешь?! Нет, смотри!.. Это сделал такой же фашист, как те, в которых стрелял ты!..
Алеша был раздавлен открытой жестокостью ее слов; он уже знал, что виноват перед Ольгой, и взглядом испрашивал прощения. Ольга не замечала, не хотела замечать его взгляда, она как будто застыла в желании встать и уйти.
Рассеянный свет, проникающий в землянку, добавлял ее высокому лбу, мраморно-спокойным щекам, бледным, подрагивающим от обиды губам какой-то темной, нездоровой желтизны. Но и в желтом подземном свете зачужавшее ее лицо было прекрасно; как будто просили защиты ее узкие опущенные — плечи, обессиленные вспышкой гнева.
Алеша, терзаемый раскаянием, нашел холодную ее руку, прижал к своей горячей щеке. Ольга не шевелилась. Стыдясь, он осторожно передвинул руку к губам, раскаянно поцеловал чистые холодные пальцы.
Ольга вздрогнула, почти вырвала руку; прежде чем она плотно заслонилась ладонями, он увидел, как правая сторона ее лица опять судорожно перекосилась, между пальцами, прижатыми к глазам, проступили слезы. В растерянности Алеша поднялся, сел рядом. Он понимал, что надо что сделать, как-то помочь, и не знал, как утешают страдающую женщину. Он заметил, что Ольга успела смыть с себя пот и грязь вчерашнего боя, видел белую, трогательную в своей аккуратности полоску подворотничка над застегнутым на все пуговки воротом новой гимнастерки, чувствовал, как от промытых, еще влажных волос, умело, по-женски оттененных светлой в сумраке землянки пилоткой, как будто в укор ему пахло свежестью реки. Чистоту и свежесть, с которой Ольга явилась к нему, непривычную в жизни переднего края фронта, он увидел вдруг, и к общей растерянности добавилась неловкость от своих исчерненных землей рук, неумытого лица, пропотевшей, порванной в дикой сумятице вчерашнего боя одежды. Руки его еще помнили, с какой резкостью она убрала от его губ свои вздрогнувшие пальцы, и, страшась своим прикосновением еще больше досадить Ольге, сидел в неловкости и молчании.
Ольга наклонилась так, чтобы он не видел ее лица и рук, прижатых к глазам, глухо, в ладони, сказала:
— Ты счастливый человек! К тебе не прикасался ни один фашист!..
Ольга как будто отрешилась и от сумрачной землянки, и от Алеши, от всего, что было вокруг. В дали прожитых в неволе дней, которые были так черны и отвратны, что прикоснуться к ним даже мыслью было как провести ладонью по лезвию ножа, она напряженно всматривалась в узкие пятна лиц. Лица приближались, увеличивались, обозначались с такой нестерпимой отчетливостью, что Ольга зубами до острой боли придавила губу, с трудом оборвала видение…
Она отняла от глаз мокрые ладони; на ее застывшей, как маска, стороне лица, под выпуклостью глаза, набухало, влажно сочилось слезой и кровью отпавшее нижнее веко. Лица она теперь не прятала, Алеша видел взгляд, тоскливый и тяжелый. Слипшиеся ее губы, затененные желтизной сумеречного света, разомкнулись, пропустили едва слышимый шепот: «Боже! И зачем я все это помню!..»
В отчаянье она бросила кулаки на обтянутые армейской юбкой колени, уронила голову: густая россыпь волос закрыла ее щеки и руки.
Алеша видел согнутую спину, перехваченную в талии широким ремнем, низко опущенную шею с клинышком прикорневых волос в ложбинке, видел погоны старшины с темно-кровавой окантовкой; погоны топорщились над плечами беспомощными обрубленными крылышками. Жалость рвала его душу; он понимал, что Ольга ждет утешительного движения его рук, и не мог заставить себя прикоснуться к напряженной, униженно согнутой спине, — Ольга была для него теперь как сплошная обнаженная рана, тронуть которую было выше его сил.
Ольга не дождалась жалеющей руки; с трудом, будто одолевая боль в спине, поднялась. Влажные ее глаза остановились на нем:
— Надо же!.. Хотела у твоей чистоты погреться!.. — Машинальным движением рук, будто припоминая что-то, она медленно расправила под ремнем гимнастерку; живая половина ее бесстрастного лица напряглась, уголок губ подтянулся к щеке не то в сожалеющей улыбке, не то в укоряющей усмешке.
Алеша, охватив себя руками, спиной жался к холодной земляной стене, почти в страхе ожидал, что скажет сейчас Ольга. Ольга видела его ожидание и нашла слова, которых ждал и боялся он, — глухо и внятно она сказала:
— Только знай, милый мальчик! Чистеньким ты можешь остаться, пока между тобой и фашистами — солдаты. Солдаты и такие, как я…
Плавным, чисто женским движением головы и рук она отвела волосы на плечи, переколола на волосах пилотку, ударами пальцев отряхнула юбку, — всё она делала так, как будто в землянке была одна. Когда она выходила, из-за откинутой плащ-палатки сверкнул солнечный луч. И снова установился в землянке желтый сумрак и звенящая пустота…
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ Юрочка
1
— Ты скажешь в конце концов, кто мой отец?! — Юрочка стоял, прилепив ладони к краю стола; тонкая шея, плечи, руки его были так напряжены, что дрожь их передавалась столу; Дора Павловна локтями ощущала эту передаваемую досками стола нервическую дрожь напряженных рук сына. Она слышала сразу и резкий голос Юрочки, и приглушенное двойными рамами окна осторожное поскуливание Урала во дворе у дровяной сарайки, где пес одиноко сидел на цепи. Урал скулил от голода. Юрочка выходил из себя от того, что его желания, которые в своем воображении он связывал с возможностями все еще безвестного ему отца, не осуществлялись. Дора Павловна сочувствовала поскуливающей одинокой собаке, которую Юрочка выпросил у Поляниных, родителей Алеши, для охоты, и без сочувствия воспринимала обращенный на нее бурный напор сына. Разговор об отце был не первый. «И не последний», — думала Дора Павловна, отводя глаза к ярко-синему от мартовского неба окну. Она умела уходить от неприятностей личного плана и не позволяла Юрочке проявлять ненужный интерес к далекому и — теперь это было для нее ясно — безвозвратному прошлому. Сама она постаралась забыть это прошлое. Юрочка стал реальностью ее жизни, реальностью стало, как говорила об этом деревня, и ее соломенное вдовство. И она приняла эту реальность. Активная ее натура не терпела бесполезных воспоминаний, не давала она воли и мечтам. «В наше время никому не позволено растрачивать себя в пустоте нереального», — думала Дора Павловна; сама она всегда действовала в данной ей объективной необходимости и хотела, чтобы сын ее тоже был человеком сегодняшнего дня.
В последние годы Юрочка особенно досаждал ей вопросами об отце, и Дора Павловна порой сожалела, что не пошла на спасительную ложь в то время, когда Юрочка был еще мальчиком. Она сумела бы придумать какую-нибудь достоверную историю о гибели отца в жестоких классовых боях. Тем более что отец Юрочки явился в Семигорье вестником грандиозных преобразований, выступал перед народом, говорил убежденно о зарождающихся в вековом единоличном крестьянстве коммунах, уезжал, снова появлялся, будоражил сердца сельских девчонок кожаной курткой, фуражкой и наганом. Он, Юрочкин отец, много ездил по глухим дорогам, от села к селу, и мало ли что могло случиться с ним!..
Но Дора Павловна знала от верных людей, что ее Михаил остался жив. Связал себя с миром искусства. Выбрал для жительства не село, а город, равный столице, — Ленинград. И не был там одинок. Похоронить в своем сознании и в сознании Юрочки живого отца она не посмела: это противоречило ее пониманию реальности. Она думала, что со временем, когда Юрочка повзрослеет и углубится в свои житейские проблемы, вопрос об отце сам собой разрешится — просто останется в прошлом. Но чем ближе Юрочка подходил к порогу самостоятельной жизни, тем все настойчивей и требовательней спрашивал об отце. Дора Павловна начала догадываться, что интерес сына — уже не просто любопытство к человеку, имя которому «отец»; она поняла, что Юрочка, думая о будущей своей жизни, уже рассчитывает, хочет в этой будущей жизни опереться не на мать, а на всесильного, как казалось его распаленному воображению, отца.
Дора Павловна это поняла, и несколько дней и ночей ей было душно, хотя у себя в кабинете и дома она настежь раскрывала окна и ночи в ту осеннюю пору, когда она это поняла, были уже прохладными. Потом она успокоилась. Ее аналитический ум оправдал Юрочку: сын исходил из того, что дано ему было реальностью, в которой он жил. А всякая реальность в глазах Доры Павловны была объектом человеческих действий в человеческих же интересах. «Отец существует, он реальность, — думала Дора Павловна, успокаивая себя привычным холодком рассуждений. — А если он реальность, Юрочка вправе рассчитывать на его поддержку и на его помощь…» И все-таки Дора Павловна медлила открыть Юрочке отца. Останавливали ее не сложности морального плана, которые могли возникнуть у человека, связанного с другой средой, с другой семьей, при встрече с явившимся из небытия собственным сыном, — для Доры Павловны эта сложность не имела значения. В четком ее сознании не было и тени сомнений в том, что за всякую измену, будь то измена родине, женщине или сыну, должно следовать наказание — причем наказание и юридическое, и моральное. Медлила она обратить Юрочку к отцу не по доводам рассудка, а по чувству, по неясно тревожащему ее ощущению: в настойчивом, до бешенства, стремлении Юрочки она ощущала нечто предающее ее самое. Дора Павловна верила: пока Юрочка при ней, пугающая ее измена не совершится. Потому она стойко выдерживала приступы сыновьего бешенства и, вопреки желанию Юрочки, используя авторитет своей высокой должности, сумела устроить его в эвакуированный из Брянска институт, который теперь располагался и действовал на территории, живущей под ее началом.
Дора Павловна зачла эту победу себе; она еще не знала, что ни власть, ни ее родительская сила не заставили бы Юрочку исполнить ее желание. Он пошел в институт вслед за Ниночкой — оборвавшейся Алешиной любовью, а выбор Ниночки определили обстоятельства военной поры. Как бы там ни было, но Юрочка еще на какое-то время остался при ней. Дора Павловна надеялась: невеселый быт, институтские заботы, общая тревожность военной поры отвлекут Юрочку от болезненных дум об отце. И вдруг — эта вот вспышка бешенства, этот прищур захолодавших глаз, этот захлебывающийся голос и дрожь напряженных рук, от которых содрогается стол… Дору Павловну ждут в райкоме, у нее нет времени успокаивать сына. Ей хочется отправить Юрочку в угол, чтобы там в слезах он простоял час, два, остыл, испросил у нее прошения за свои дикие вспышки, за бестактность, назойливость. Но Юрочка — не десятилетний мальчик. Подобная ее материнская власть тоже в прошлом. Теперь его не заставишь замолчать властным окриком. Он знает, что он — уже человек, индивидуальность. По пунктам он знает свои права. Он знает, что есть у него право на уважение и есть право на отца.
Дора Павловна сжимает ладонями виски, некоторое время сидит неподвижно, как будто вглядываясь в потертость старой клеенки, которой вот уже лет десять накрыт их обеденный стол. Не отнимая рук от головы, с измученностью в голосе, она наконец говорит:
— Хорошо. Я сведу тебя с отцом. Но сейчас война. Ты как будто, не понимаешь, что сейчас — война! Он на фронте. Если не на фронте, то в блокаде. Ты же знаешь, что Ленинград — в блокаде!.. Или тебе нет дела до того, что переживают сейчас люди? — Дора Павловна опускает на стол руки, внимательно смотрит на сына.
Юрочка еще в напряжении. Некоторое время он выдерживает ее не очень-то добрый, совсем не материнский взгляд, как будто в неуютности поводит плечами; взгляд его скользит по ее рукам, по столу, уходит в угол. Но самолюбие не дает ему отступить. Стараясь придать голосу угрожающую категоричность, он говорит:
— Ну, хорошо. Война кончится, и ты пошлешь меня к отцу! — Он обхватил себя руками, нервно прошелся по кухне, как бы подчеркивая свою неуступчивость. Этого показалось ему мало: он остановился, сощуря глаза, сказал, как будто утверждая нечто в пространстве между ними:
— Помни, договорились! Железно!..
Дора Павловна без улыбки ответила:
— Договорились. Разумеется, если его не убьют…
Юрочка в каком-то оторопелом, зверином движении вскинул голову, смотрел на мать жалкими, испуганными глазами.
— Не убьют. У него нет сердца, — сказал он угрюмо, и Дора Павловна подумала, что сын иногда бывает прав.
Удовлетворенная не столько разговором, сколько возможностью неопределенно долго не возвращаться к трудному для нее вопросу, Дора Павловна позволила себе задержаться еще минут на десять. Согласие, которого она ждала и хотела и которое так неожиданно возникло между ними, казалось ей сейчас важнее других дел и ожидающих ее в райкоме людей. Желая закрепить важное для нее согласие, она поднялась, накрыла на стол и, зная, с какой насупленностью и обидой Юрочка ест столовские супы и каши, которые она приносит с работы, достала из тайника в кладовочке кусок масла и полголовки домашнего сыра — подарок знакомой крестьянки из дальней деревни. Она радовалась оживлению, с которым Юрочка ел, пачкая губы крошками сыра, — он как-то подобрел в эти минуты за столом и посматривал удовлетворенно лучистыми, как в детстве, глазами.
«Как кошечка: приласкали — замурлыкал! А цели, разумной воли — нет. Все — порыв, всплески чувств, не больше! Хоть бы на год вперед себя заглянул. Хоть бы на год!..» — думала Дора Павловна, любуясь сыном и сожалея о том, что Юрочка больше похож не на нее, что не сумел он вобрать в свой характер самые сильные качества ее натуры — убежденность и волю.
Пока Юрочка ел, во дворе снова заскулил Урал. Дора Павловна нахмурилась: голос голодной собаки ее беспокоил. Юрочка не мог не слышать осторожный, зовущий собачий голос, но никакого нового чувства не появилось на его сосредоточенно-удовлетворенном лице: он отрезал от плотного сыра крупный ломоть, вытянул губы трубочкой, поймал уголок белой мякоти, втянул в себя, как обычно втягивал молоко, обласкивая языком, почмокал. Урал снова сдержанно подвыл.
Дора Павловна подумала, что покормить собаку она может только вареной картошкой. Опять картошкой!.. В начале зимы Юрочка приносил зайцев, кое-что доставалось Уралу. Но после января снегу намело, Урал тонул в сугробах. Юрочка возвращался из лесу пустой, раздраженный, в конце концов перестал брать с собой собаку. Ночи и дни покинутый Урал сидел на цепи. Дора Павловна, чем могла, кормила его утром и по-вечерам. Она добросовестно исполняла свой долг перед живым существом, доверенным ее сыну. В глубине души она понимала, что исполняет не свой долг, а долг Юрочки перед его другом Алешей. «Но такова, кажется, участь всех матерей, — думала Дора Павловна. — Отвечать перед обществом не только за себя, но и за растущих не по нашему разумению детей!..» Долг, который она исполняла, неожиданно обернулся привязанностью к Уралу, этому лопоухому деликатному псу. Алеша Полянин, видимо, много вложил труда и проявил похвальную настойчивость, чтобы воспитать собаку по своему характеру. Да, этот неглупый, настойчивый мальчик имел то, чего недостает ее Юрочке…
— За сегодняшний завтрак спасибо, — сказал Юрочка, но лучики в серых его глазах попритухли. — Вот если бы еще сладенького!.. — Он по-детски сморщил нос и ладонью пошлепал себя по затылку.
— Сладенькое будет после войны!.. — Дора Павловна почувствовала, что слишком жестко ответила на безвинный Юрочкин каприз, но поправлять себя не стала. Легкое раздражение, которое возникло в ней от беспокойства за собаку, одиноко и голодно сидящую на снегу, усилилось: Урал снова подал голос. Дора Павловна посмотрела на довольного выпавшей ему сытой минутой Юрочку, не смягчая жесткости своего голоса, спросила:
— Ты все-таки думаешь как-то устроить Урала?
— Думаю. Ползимы думаю! — Юрочка нервным движением рук взял нож, пальцем попробовал лезвие, отшвырнул к пустой хлебнице; не в первый раз он уходил от этого разговора, как сама Дора Павловна уходила от разговора о Юрочкином отце. Но если дело с Юрочкиным отцом пока можно было отложить, то голодный Урал во дворе был реальностью. Реальностью было и то, что Юрочка теперь не нуждался в собаке, — охота кончилась, летом ждала его практика, связанная с отъездом, самой же Доре Павловне по горло хватало забот по району, не каждую ночь удавалось ночевать дома. Юрочка явно не хотел заниматься собакой. Он как будто уже забыл, с какой неотступной страстностью выпрашивал Урала у Елены Васильевны осенью, когда была охотничья пора. Дора Павловна знала, что Елена Васильевна долго колебалась, прежде чем решилась передать собаку Юрочке; она не сразу отдала Урала даже после того, когда Алеша в письме разрешил ей это сделать. Юрочка вообще, как-то легко уходил от того, что переставало быть ему нужным. Дору Павловну настораживала эта черта в сыне. Тем более она считала необходимым настоять на том, чтобы Юрочка сам решил возникшую проблему.
— Я думаю, Урала надо отвести в Семигорье к Федору Насонову. — Дора Павловна все-таки не выдержала и подсказала решение, которое казалось ей разумным. — Он охотник. Он, насколько я помню, и подарил Урала Поляниным.
Юрочка, не дослушав мать, поморщился.
— Ты же сама учила меня думать, а потом поступать! Вот я и думаю: собака-то рабочая!.. Осенью он пойдет с Уралом на охоту, что останется мне? Ты, мать, занимайся своими делами. О собаке я подумаю!..
Почему-то он не смотрел на Дору Павловну, он сосредоточенно смотрел в угол; губы его сомкнулись, потвердели; он выглядел в эту минуту вполне решительным. И Доре Павловне показалось, что Юрочка наконец-то понял свою ответственность за близкое ему живое существо.
2
В лес Юрочка шел с готовым решением. Никогда прежде Урал не был так послушен, как в этот, последний для него день. Он шел без поводка у ноги, по взмаху руки Стремительно бросался вперед, привычно выискивал запахи следов среди оплывшего весеннего, уже не чистого снега. Он был так послушен сегодня, что даже по тихому призывному свисту бросал свой азартный поиск, подбегал, вскидывал черную, в рыжих подпалинах, голову с длинными висячими ушами; вывалив из клыкастой пасти язык, часто, шумно дыша, преданно смотрел выпуклыми желтыми глазами, готовый к любому послушанию. Юрочка ощущал неприятный холодок зарождающегося сомнения, поджимал губы, недобром поминал Алешу: «Вышколил собаку! Из дикого гончака слепил легавую… Чуха интеллигентская!..»
Юрочка искал зацепки, хоть какой-нибудь задоринки, чтобы раздражиться, рассвирепеть на собаку, как это бывало на зимних, не всегда удачных охотах. Но Урал будто чувствовал нависшую над ним злую волю и был сама святость, сама послушность, верный, преданный слуга!..
«След бы взял, что ли! — думал Юрочка. — Разумеется, конец марта, охота закрыта. Но ведь война?! Какие могут быть запреты? Когда самих людей щелкают, как птиц!..»
Юрочка обманывал себя, он хотел выйти из-под тяжести неприятного дела, которое готовился совершить; то, что он задумал холодным, ясным рассудком, теперь страшило. Рассудить и сделать — не одно и то же. Это далеко друг от друга. Между ними горы и пропасти, которые надо одолеть!..
Ощущение вины, какого-то недобра мешало ему быть холодным и спокойным. Дурные ощущения рождали ненужные сейчас мысли об Алешке, совести, долге. Ведь Урал был Алешкиной собакой, Он почти на коленях вымолил Урала у Елены Васильевны! Обычно послушная ему память сегодня не слушалась. Он не хотел, но видел лицо Елены Васильевны, похудевшее, затененное какой-то не отпускающей ее внутренней заботой. В ее взгляде не было и следа былой приветливости. С недоверием, его возмутившим, она смотрела ему в глаза, говорила, стараясь быть твердой.
— Но Алешенька написал, чтобы Урала мы отдали Федору Игнатьевичу Насонову! Он уже с ним списался…
Юрочка и сейчас помнил, как запалилось его сердце от ревности: Урал не мог, не должен был попасть к Феде-Носу! На все окрестности только двое они и остались в охотниках!..
— Но Алексей ведь не знает, что я дома и до сих пор охочусь! — сказал он, и в ревности он сумел остаться рассудительным. Кажется, его рассудительность и подействовала на Алешину мать.
— Может быть. Даже наверное вы правы, Юра, — уже в нерешительности сказала она. — Ведь вы так много охотились вместе! Я напишу Алеше, он быстро ответит…
Елена Васильевна, как всегда, не собиралась решать сама. Он знал эту черту Алешкиной матери и, охваченный нетерпением и страхом не получить отличную собаку, улыбнулся своей лучистой, неотразимой улыбкой:
— Мне кажется, Алексей никогда не изменял своим друзьям. Напишите, пожалуйста, напишите, Елена Васильевна! А пока я возьму Урала — он засиделся на цепи. Да и подкормить перед охотой надо… Ну, а если вдруг почему-то Алексей изменит свое отношение ко мне, я вам собаку приведу. Так и договоримся, Елена Васильевна!..
Он подошел к Уралу, отстегнул поводок от проволоки, тонко чувствуя, что Елена Васильевна не наберется мужества прервать его действия. И увел Урала, раскланявшись и еще раз одарив Елену Васильевну улыбкой.
Память в подробностях развернула перед ним тот день, хотя он старался отмахнуться от памяти, даже сердился на то, что память все-таки жила в нем. «То, что уже было, значения не имеет, — убеждал себя Юрочка. — Важно то, что сейчас. В этот вот последний день марта, в какой-то там трехсотый или четырехсотый день войны и девятнадцатый год моей жизни! Важно то, что в этот день и час я должен освободиться от неприятности, от неприятности в образе этой вот ненормально послушной собаки!.. Собака отслужила и Алешке, и мне. А люди даже нужные тяжести сбрасывают с воза, отправляясь в путь. Сбрасывают и — всё тут! Ни бог, ни мамочка не знают, куда меня закинет до будущей зимы! Готовым надо быть ко всему. В войну не до сентиментальностей!..»
Юрочка отвел сомнения, решительно остановился посреди зимника, идущего с дальней лесосеки, стянул с плеча ружье, резко и громко свистнул невидимого среди темного елового подроста, где-то рыскающего по сугробам Урала. Как верный конь из слышанной в детстве сказки, выскочил Урал из островерхих зеленых шапок можжухи, встал перед ним, затонув задними лапами, передними опираясь на слежалый, льдисто-отсвечивающий снеговой намет. Он стоял к нему грудью, подрагивая черными широкими ноздрями, смотрел в готовности, ожидая команды. Юрочка щелкнул одним взведенным курком, другим — медленно приподнял, потом быстро приложил к плечу ружье. Мушка, всегда такая маленькая, теперь почему-то огромная, отсвечивающая медью, закачалась между висячими желто-черными ушами Урала, закрывая то один его глаз, то другой. Юрочка никак не мог закрыть мушкой сразу оба, преданно смотрящих на него глаза, не мог осилить тугую пружину курка. Чувствуя, как занемели от напряжения руки, заслезились глаза, опустил ружье.
«Черт, не так просто… — думал он, протирая согнутым пальцем глаз. — В уме все легче — казни и милуй. А тут не мысль, тут — совершить!..»
Умостив ружье под мышкой, придерживая локтем, он пошел по дороге дальше в лес. Урал, не услышав команды, подбежал, ткнулся носом в колено, — отметился по своей привычке у хозяина, — круто развернулся, вскачь, мотая тяжелыми ушами, понесся впереди, открыто радуясь воле и работе.
Юрочка глядел на собаку нехорошими глазами. Он старался захолодить в себе чувства, но даже сквозь холод рассудка ощущал недобро, к которому сейчас шел. В своей жизни он совершал недобрые поступки. Но они с лихвой окупались удовольствиями, которые он получал. Здесь удовольствий не было, он только освобождал себя от лишних забот. И это могло бы быть прибылью, если бы не цена, которую он должен был заплатить. Он не ожидал, что цена окажется столь высокой. На Урале как будто сошлось все: и память об Алешке, и доверие Елены Васильевны, и озабоченность матери, и верная служба самого Урала.
Здесь не просто он избавлялся от собаки — кого-то и что-то он предавал.
Юрочка углублялся в лес. Он еще таился от себя, но уже с родившейся надеждой поглядывал на сумрачные, оплывшие снега, почти сплошь засыпанные хвоей и ветками, нападавшими за долгую зиму, теперь вытопленными устойчивым теплом. Узреть след в этом мусоре, конечно, было трудно. «Но Урал-то с чутьем! — думал Юрочка. — Возьмет, и в этой путанице возьмет след! Только дать ему время, возьмет. А в кутерьме охоты чего не бывает. Случается, и людей убивают! И это будет случайностью! Я буду знать, что это — случайность. По крайней мере, избавлюсь от пакостного чувства!..»
Он только подумал о том, как в глубине леса взвизгнул Урал. И вдруг взвыл и залился ровным бухающим лаем.
«Взял!» — прошептал Юрочка, чувствуя облегчающую радость. Он определил направление гона, перелез через плотное придорожное сугробье, проседая в талом снегу, пошел к мелколесью на бугре.
Все было как на настоящей охоте. Урал не скалывался, гнал ровно, иногда в азарте подвывал. Юрочка, как всегда ощущая в руке радующую тяжесть ружья, поспешал перехватить гон. Но с каждым шагом, сближающим его с гоном, к нарастающему привычному волнению все определеннее примешивалось уже знакомое, пугающее его чувство вины перед кем-то, кого не было с ним рядом. И настолько сильным было это пакостное чувство, что дрожали и холодели руки, сбивалось дыхание, как будто он запалил себя, и половины не дотянув до финиша.
Гон приближался. Юрочка остановился за молодыми елками. Вглядываясь поверх снега в просветы между стволами, сжал губы, шумно продул ноздри, стараясь выровнять сбитое дыхание. Он рассчитал, что гон пройдет перед ним, по склону бугра, поросшего сосняком и редкими кустами можжухи, и не ошибся: замельтешил между пепельными стволами сосен белый подпрыгивающий зверек, и тут же как будто открылся, накатил ухающий собачий лай. Крупный заяц бежал медленнее, чем мог бы; часто останавливался, вскидывал уши; снова тяжело прыгал с уже почувствованной обреченностью. Урал нагонял тяжелого зверя, и, когда заяц медленно покатился по склону между мохнатых копешек можжух, тут же следом показался и захлебывающийся лаем Урал. Оба зверя шли в одну линию: близко, на верный выстрел. И Юрочка, преодолевая тяжесть дрожащих рук, поднял ружье, заученно повел стволами впереди белой головы, с испуганно прядущими высокими серыми ушами. В это уже неостановимое мгновение он внушил себе, что стреляет в зайца. Краем глаза он видел, что Урал в сильных прыжках настигает добычу, и, как будто забыв о необходимом опережении, сместил мушку на заячий зад, остановил стволы перед кустом можжевельника, стиснул зубы и рванул пальцем спуск. Привычный толчок в плечо, грохот выстрела; лай оборвался. Как будто ничего и не было. Тишина. Только вверху, по тяжелым макушкам сосен, протяжно продышал ветер.
«Вот и все», — облегченно подумал Юрочка. Открыл ружье, вынул окинутую копотью, теплую латунную гильзу, хотел, как обычно, положить в карман и, словно обжегся, отбросил в снег. С минуту колебался: подойти? Или оставить, как есть?.. Все-таки сдвинул себя с места, не спеша, тяжело вытягивая из снега ноги, подошел. Скосил глаза за можжевеловый куст и оторопел: Урал, припав, давил зажатую в пасти спину своей добычи. Задние вытянутые заячьи лапы, с широко растопыренными пальцами, судорожно подергивались: между ними на грязном, красном от крови снегу лежали в мокрой шерсти два неподвижных комочка с плотно прижатыми к спине ушами, — картечь, которую он послал, обошла Урала. Урал видел хозяина; выпустил задавленную зайчиху, вскочил, склонил голову набок, отвесил длинное ухо, победно повиливал хвостом, смотрел спрашивающими глазами. Юрочка в отчаянии топотнул ногами: в этот недобрый час все было против него! Он рассчитывал на случайность — случайность обошла его. Он чувствовал себя обманутым и теперь зол был на то, что не решился быть самим собой. «Слабак, такая же чуха! Размазня на солидоле! — ругал он себя. — Решил? Решил. Так что же изворачиваюсь? Перед кем паиньку играю?!»
Юрочка двигал руками, как будто отпихивал кого-то; торопясь, выбирался по снегу на дорогу; думая, что там, на твердости наезженной колеи, обретет нужную решимость. Он уже порядочно прошел. Успокоиться не старался; его бесила собственная мягкотелость, своя же, доведенная до тонкого мастерства, изворотливость перед самим собой, которая когда-то вошла в его жизнь и теперь заставляла мудрить даже перед бессловесной, ненужной ему, ничего не понимающей собакой!..
Юрочка был настолько раздражен, что почти забыл про Урала. Урал, чувствуя настроение хозяина, понуро трусил за ним по дороге, иногда останавливался, смотрел назад, не понимая, почему осталась лежать в лесу затравленная им добыча. Юрочка шел быстро, пиная сапогами вытаявшие среди лошадиного навоза шишки. Он устал от всей этой возни, ему хотелось домой. Сработай случайность, на которую он рассчитывал, — он уже сидел бы дома и пил молоко. И душа была бы спокойна — случай есть случай, случай властвует и над жизнью великих!.. А теперь носи в себе эту пакость. Думай, как выбраться из нее… «Нет, надо кончать, — думал Юрочка. — Домой притащишь — опять все сначала: корми, прогуливай, делай вид!..» Он представил все неприятности, связанные с Уралом, и неприятности эти предстали перед ним такими тяжкими, ненужными в его нынешней жизни, что снова он почувствовал, на этот раз уже неостановимую, решимость освободиться от них. «Не ждать, а жить», — вспомнил он свой девиз и подумал, что с этой войной, поднавалившей разных забот, стал забывать главное правило своей жизни. «Если что-то мне надо для жизни, значит, надо…» — холодно и ясно подумал Юрочка. Он остановился, глазами поискал Урала. Не давая влиться в охлажденную умом душу никаким другим чувствам, кроме тех, которые в ней сейчас были, голосом и резким движением руки возбудил, послал собаку от дороги в лес. И когда Урал отбежал, в привычной страсти начал свой извечный поиск, Юрочка свистнул, призывая. Урал повернулся, замер на придорожном сугробе, вывалив подрагивающий розовый язык, глядя и ожидая команды. И Юрочка, видя, как почему-то чернеют сугробы и небо, выстрелил Уралу в грудь.
3
Дора Павловна прошла по комнате, дважды переложила на столе бумаги, — то ли от усталости, то ли от тяготивших ее дел она не могла сосредоточиться. В доме чего-то не хватало, но чего? Юрочка за столом, занят конспектами. Печь топится. В чугуне варится только что принесенная из райкомовской столовой картошка. Она попросила немного картошки, чтобы вечером покормить Юрочку и остатками — Урала.
«Ах, да, вот оно что: совсем не слышно Урала! Почему-то он не встретил меня, когда я проходила в дом». Еще не чувствуя даже малой тревоги от того, что наконец она определила ту пустоту, которая сегодня ощущалась в доме, Дора Павловна ровным своим голосом спросила:
— Юрочка, а где Урал?..
Юрочка, не поднимая лохматой головы от тетради, ответил с раздражением, явно большим, чем обычно:
— Можно мне не мешать, когда я занимаюсь?!
— Можно. Но все-таки где Урал?
Юрочка пошарил по столу ладонями, как будто искал карандаш, не ответил, снова углубился в конспект.
Дора Павловна хорошо знала людей и очень хорошо, как казалось ей, знала своего сына. Сын уходил от разговоров, одно это уже не было добрым знаком. К тому же не в характере Доры Павловны было ждать, когда с ней захотят говорить; напротив, в жизни всегда было так, что люди ждали ее слова. Потому она не приняла во внимание ни Юрочкино молчание, ни показанное им раздражение и тем же ровным голосом, в котором, однако, слышался уже металлический отзвук, проговорила:
— Я хочу знать, где Урал?..
Юрочка сделал страдальческое лицо, в досаде взъерошил кудрявинки своих волос, ответил так, как будто его мучили:
— Ну, увел я Урала… Ты же сама говорила, что надо увести!..
— И куда ты его увел?
— Куда, куда… Ну, в лес…
— И там оставил? — Взгляд Доры Павловны еще ничего не выражал, кроме вопроса. Но Юрочка сжался, как зверек, готовый прыгнуть; он не спускал с матери глаз. У Доры Павловны кольнуло в груди. Она все-таки нашла в себе силы повторить свой вопрос:
— И ты оставил его там?..
Юрочка смотрел уже спокойно, глаза его были ясны и холодны.
— Да, я оставил его там. Я застрелил Урала…
Дора Павловна долго смотрела в ясные глаза Юрочки. Потом медленно повернулась, пошла к двери, на ходу сняла с гвоздя, вбитого в стену, пальто. И пока открывала дверь, ощупью выходила на крыльцо, торопясь вдохнуть свежий, с запахом талого снега воздух, успела подумать с давящим чувством боли и удивления: «Ну, дорогой мой сын! Далеко же ты пойдешь…» Она прислонилась к мокрому столбику крыльца, почувствовала, как что-то упало, потекло по щеке. Подумала: «Капель! Ну, конечно же, капель!..» Дора Павловна не позволила себе поверить, что по щеке текла первая в ее жизни слеза.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ Лена
1
В землянку врывался из-под свисающей над входом плащ-палатки холодный, пахнущий зимой ветер, и Алеша убеждал себя, что неуютно ему именно от этого задувающего к нему ветра. Пригнувшись к печурке, в маленьком квадратном зеве которой догорали последние щепки от разбитого снарядного ящика, он плоским штыком ковырял железную обшивку противотанковой гранаты, добираясь до желтого спрессованного тола. Тол хоть и дымил черным смоляным дымом, но горел жарко и мог надолго согреть малое пространство жилья, которое он сам отрыл в канун затянувшегося боя.
Накрошив тола, побросал куски в печурку, принялся за вторую гранату, но добытый из нее тол ссыпал в пустую цинковку из-под патронов, пристроил ее так, чтобы она не мешала ногам, но и легко было достать и кинуть тол в печурку прямо с низких нар, составленных из жердей.
В том, что Алеша делал, был скрытый и важный смысл; и то, что он сейчас сделал, подействовало на него странным образом: лицо вспыхнуло, руки засуетились. Он почувствовал, что до невозможности краснеет, хотя в землянке он был один и стыдиться было некого. Мучительно было даже думать о том часе, когда сюда, в эту узкую неуютную щель, прорытую в склоне оврага, прибежит она и между ними что-то случится. Неминуемо случится, потому что этого хочет она, Лена, Ленка Шабанова, их умница-разумница, несменный староста их десятого-выпускного!
«Захочешь, не придумаешь!» — все еще оглушенно думал Алеша. Оглушила его, собственно, не сама встреча, а тот взрыв чувств, который кинул ее, рассиявшую глазами, через дорогу к нему, когда она узнала его в сосредоточенно идущем, хмурящемся от холодного ветра лейтенанте. Он и теперь ощущал приятную боль ее стиснутых на шее рук, прохладу ее лица и губ, прижатых к его щеке, свою растерянность и смущение от обрушившейся на него Ленкиной радости.
У дороги, где они повстречались, была врыта в землю артиллерийская позиция, поверх Ленкиной ушанки он видел горящие любопытством глаза молодых ребят, выглядывающих из-под маскировочных сетей, готовых вот-вот свистнуть им в озорной солдатской ревности. Стыдясь чужих взглядов, он хотел куда-нибудь отойти, но Ленка, обретя его, будто топнула ногой на весь свет: обхватив его, она, как девчонка, крутилась с ним вместе по гулкой мерзлой дороге и звеняще смеялась, впутывая в смех радостные слова. Ему все-таки удалось увести Ленку от смущающего его любопытства молодых артиллеристов. Только там, уже в безлюдье поля, он овладел собой настолько, чтобы заметить на шинели, ладно пригнанной к широкой и плотной Ленкиной фигуре, погоны с маленькой звездочкой и голубой окантовкой.
— Да, летаю! — сказала Лена с какой-то веселой небрежностью. — По ночам бомбочки швыряем фрицам!.. — Но больше говорить о том не стала, сорвала с головы шапку, тряхнула короткими, по-мальчишески подстриженными волосами, с неостывшим возбуждением спросила:
— Как теперь я? Хуже-лучше без грандиозной своей косы?! — Она смотрела, смущая его дерзкой смелостью зеленых глаз, и Алеша, вспоминая, думал теперь, что такая вот, мальчишеская, Ленка лучше, много лучше и желаннее; его и раньше влекли похожие на мальчишек девчонки именно своей вызывающей смелостью, которой так не хватало ему при его совсем не мужской стеснительности. А Лена шла рядом, не отпускала его руки и допрашивала с влекущей его дерзостью, которой прежде он в ней не знал:
— Лешенька! А почему ты на меня не смотришь? Ниночку свою вспоминаешь?! А знаешь, что я тебе скажу? Совсем она не для тебя! Ну, совсем! Нинка осторожненькая. Все время боится прогадать. Тебе не такую надо. Да ты сам не знаешь, какую тебе надо! Я — для тебя, Лешка, я!.. — Она сказала это неожиданно и вроде бы шутя, но по тому, как прижала она к себе его руку, он понял: Ленка не шутит.
Лена дошла с ним до землянки, по-хозяйски все осмотрела, прощаясь, положила руки ему на плечи, будоража блеском зеленых веселых глаз, сказала:
— Так вот, милый мой Лешенька. Сейчас я ненадолго исчезну. Но скоро приду! — Не отводя глаз, напряженным шепотом досказала: — К тебе приду. Слышишь?.. — И от этого ее будто стиснутого зубами шепота он так заволновался, растерялся, что даже не проводил Лену.
В печурке, в коротком быстром пламени потрескивающего тола, сгорало время, которое даже в страхе перед встречей он не мог остановить. Ему казалось, Лена уже близко, уже спешит к нему, оступаясь на стылых комьях разбитой полевой дороги; с минуты на минуту он мог услышать быстрые ее шаги.
Алеша все косился на цинковку с припасенным толом; и нехорошая от душевной слабости мысль вдруг пришла ему: спалить сейчас весь этот с умыслом припасенный тол, сорвать с нар стеганый ватный мешок, оттащить его вместе с трофейным одеялом в землянку старшины, уничтожить весь этот уют, жалкий, но располагающий к близости. И встретить Лену в холодном блиндаже, с голыми жердями вместо постели. Она сама все поймет, снова разойдутся их дороги и судьбы, снова он останется самим собой, в ожидании неясной любви, незнакомой, обитающей где-то, наверное не рядом с ним.
И странно, тут же, в каком-то противоречивом упрямстве к тому, о чем только что думал, он поднялся, придерживая накинутую на плечи шинель, вышел в овраг, стал выискивать по нарытым в склонах ямам и щелям гранаты, остатки разбитых снарядных ящиков, чтобы сохранить огонь и тепло и возможный в его жилище уют к тому часу, когда запыхавшаяся в торопливой радости Лена ворвется к нему.
Вернулся он, захолодав от ветра, с охапкой щепок, двумя гранатами. Около землянки увидел поджидающих его раненых солдат и даже обрадовался подоспевшей привычной работе. Пожилого солдата с осколком в предплечье перевязал быстро; другого, по виду совсем парнишечку, бинтовал долго, осторожно подлаживая под перебитую кость твердую шинку. Парнишечка морщился, приседал, виновато охал; Алеша знал, что каждое его прикосновение — боль, но даже сквозь страдание парнишечки видел в его глазах и в глазах пожилого солдата уже устоявшуюся, понятную ему радость: раны — ранами, раны заживут, а вот от мерзлых окопных стен, открытого зябкого неба, от неуемного на пули и мины немца они теперь законно и надолго уходят. Еще чуток — и вылезут они из затяжелевших потом и грязью шинелей; отмоют их под госпитальной крышей, в тепле, женские руки, с тарелочки накормят, уложат на койку, на подушки, на чистые простыни. Алеша сам проходил весь этот путь страданий и успокоения, знал и не осуждал солдат за эти греющие их мысли.
Напротив, в том состоянии ожидания, в котором он сейчас был, он желал им добра и торопился сделать все, чтобы скорее они прошли остаток пути до госпитального покоя. Пока он в поспешности заполнял сопроводительные карточки, втолковывал, где идет самая короткая дорога к медсанбату, в горловине оврага, выходящего к передовой, снова привычно и плотно начали рваться снаряды. Пожилой солдат прислушался, сказал: «По нашей роте ложит!» — сказал рассудительно, уже как о чужой беде, как говорят под надежной защитой дома о хлещущем за окнами дожде. Алеша опять уловил в его голосе придержанную в себе радость укрытости от недавних бед и опять не осудил старого солдата.
— Идите, пока светло! — поторопил Алеша; он успокоился привычной работой и теперь снова думал, что вот-вот появится Лена.
Готовые в путь солдаты как будто не мешали, но встретиться с Леной ему хотелось наедине. Он нетерпеливо повторил свое напутствие солдатам. Парнишечка подобрался, в готовности переступил твердыми пехотинскими ботинками, но пожилой солдат глянул с укоризной:
— Не торопи, товарищ лейтенант. Оттуда вышли, туда дойдем! — Он сказал это в достоинстве, не спеша перебрался на ровную площадку, отрытую на всякий случай для палатки, уже сам распоряжаясь собой и парнишечкой, сказал:
— Передохнем чуток на этой вот ладони и отбудем.
С хозяйской обстоятельностью он пристроился на корточках, спиной к стене, здоровой рукой долго подсовывал под себя полы шинели, видом своим показывая, что теперь ему нет дела до начальников.
Алеша не чувствовал неприязни к солдату; напротив, в его хозяйской ухватке, в крестьянском обиходном словечке «ладонь» было что-то от семигорского мужика. Спросил:
— С Волги, что ли?..
— Вологодский!..
— Ну! Почти земляки, — улыбнулся Алеша; в ответ на его улыбку подобрело и неопрятное от небритости лицо солдата. Уже не скрывая того, что его томило, он жалобно попросил:
— Слушай, сынок, махорочки на закрутку не сыщешь? Со вчерашнего не куривши!..
С наивностью некурящего Алеша предложил:
— Может, лучше перекусить?
— Нет, лучше махорочки, — сказал солдат и поднес к губам дрожащие в нетерпении пальцы.
Алеша пошел в землянку достать из аптечного ящичка бумажку с махоркой, завернутую им, как лекарственный порошок. Махорку, небольшой запас сухарей, сала, особенно водку, которую каждому выдавали в боях, он всегда хранил в этом своем ящичке и берег. Не для себя. Все это для него не имело ценности, разве что сухари и сало на трудный случай. Но когда к нему в землянку вваливались знакомые офицеры или симпатичные ему солдаты в грязных шинелях, возбужденные близостью важного дела, он с удовольствием устраивал праздник для этих шумных людей. Тая в себе радость, он молча следил, как они в жадности курили его махорку, как, заглушая тревогу, нарочито резко стукались жестяными кружками, перед тем как, запрокинув головы, выпить сбереженные для них обжигающие граммы. Такое же чувство было у него сейчас и к пожилому солдату. Спеша, он выдвинул из-под нар зеленый свой ящик, но едва откинул крышку, как с тупым звуком лопнул воздух, противная всему живому сила содрогнула землю. Оглушенный, с неостановимым звоном в ушах, задыхаясь от толовой копоти, выбитой из печурки, Алеша с трудом поднялся, соображая: взорвался тол или гранаты у входа? Пошатываясь, вылез на волю и все понял: посланный с немецкой стороны снаряд разорвался на «ладони», у ног пожилого солдата. Он и молодой — оба лежали тут же, отпав друг от друга, один на правом боку, другой на левом. Парнишечка прижимал к груди перебинтованную кисть, словно она все еще болела, пожилой лежал с откинутой рукой, пальцы были раздвинуты, и Алеша не мог отрешиться от ощущения, что пожилой солдат все еще просит покурить. В ожидании нового снаряда Алеша отступил в узкий проход землянки, в еще плавающий там толовый дым. Зная, что от опасности он все равно не ушел, пристроился на нарах, сидел какое-то время неподвижно в неприятном ожидании удара, думал: не на дымок ли печурки послал немец этот дурной снаряд? И хотя это могло быть правдой, он все-таки, одолевая скованность, запалил забитый взрывом огонь; упрямо, с усмешливым вызовом кому-то, подложил в печурку тол, раздул огонь до жара.
Глядя на повеселевшее пламя, прислушался — показалось, он слышит сквозь звон в ушах приближающийся постук быстрых шагов. С заколотившимся сердцем поднялся, вышел. По оврагу к передовой шли солдаты, каждый держал на плече по ящику с минами, стук ботинок по стылой земле был сух и тяжел.
Лены не было ни в овраге, ни на дороге, уходящей в поле; но по растущему волнению он чувствовал, что Лена к нему идет, она где-то уже близко. Он спрыгнул на площадку, натянул на лежащих там солдат край посеченного осколками палаточного брезента, чтобы Лена не увидела случившуюся смерть, прислонился к мерзлой земле у входа в землянку и стал ждать. Он ждал и молил судьбу, чтобы Лена дошла, добежала до его землянки, чтобы ни люди, ни война не развели их дороги.
2
Алеша брал из цинковки желтые маслянистые куски тола, подкидывал в печурку, старался не смотреть на Лену. Огонь потрескивал, освещал его лицо, он был на виду, и Лена с любопытством разглядывала его; он чувствовал неотрывный ее взгляд, смущался, раздражался, напрягал лицо, стискивал желваки скул, — между ними стояло стесняющее их молчание.
— А ты погрубел, Алеша! — Тихий голос Лены донесся как будто издалека, сожалеющую нотку в ее голосе он уловил, поспешил разуверить:
— Да нет, все такой же! И в любви — мальчишка! — зачем-то добавил он и застыдился своего откровения; он сказал об этом тоже от неловкости, чтобы хоть как-то оправдать свою робость.
Лена пристально смотрела из сумеречного угла, в ее неподвижных глазах прожигающими точками светилось отраженное пламя.
— Среди девчонок-сестричек и — мальчишка? — Она недоверчиво усмехнулась.
— Представь себе! Тебя это удивляет?
— Пугает! Твоей робостью заробела… У тебя нет хоть немного спирта? Ты ведь медик…
Алеша, напрягаясь уже другим, лихорадящим напряжением, достал из ящика флягу.
— Только не спирт — водка.
Не показывая удивления, скрывая в небрежности движений оторопь, он налил в кружку, и, кажется, много, подал в протянутую руку Лены.
— Сам глотни! — сказала Лена.
Алеша поморщился.
— Не пью я, Лен…
— Ну, знаешь ли!.. Глотни. Не могу я одна!..
Он слышал, как выпила она двумя большими глотками. Стыдясь своей интеллигентности, ненужной, глупой сейчас, он тоже глотнул, обжигая горло, прямо из фляжки, протянул Лене на кончике ножа кусочек сала. Лена отвела его руку, потянулась сладко, как будто раскрывая себя.
— А теперь, Лешенька, целуй! Хочу! Слышишь?!
…«Бог мой! — ошеломленно думал Алеша, ощущая странную пустоту в себе. — Неужели это и есть тайна? То, что смущало, звало, не давало покоя, было мечтой?! Что казалось дороже жизни?!»
Алеша был подавлен. Радости не было. Было чувство потери. И почти физического стыда. Он вспомнил Рыжую Феньку, вспомнил, как шел к ней ради этого, стыдного и бессмысленного, и на душе стало еще хуже. Фенька остановила его у своих добрых рук, каким-то бабьим чутьем поняла, как покаянно будет ему от безлюбовной близости. Лена не думала о том. Просто сделала и его заставила сделать то, чего хотелось ей.
Алеша умер бы, если бы Лена вдруг узнала о том, о чем сейчас он думал. То, что случилось, было при нем, все он должен был пережить в себе без звука, без слова.
Воздух в землянке остыл. От захолодевшей печурки наносит запахом золы и копоти. До невозможности узки и неудобны накрытые ватным стеганым мешком нары из кривых жердей, к которым они с Леной придавлены двумя шинелями и неловким, затаенным молчанием. Он не может даже вытащить руку, затекшую под тяжестью чужого тела. Так нехорошо на душе и вокруг, что, прислушиваясь к бьющим землю разрывам на передовой, Алеша с недобрым к себе и Лене чувством думает: «У входа бы рвануло, что ли!..»
Лена как будто затаилась, он не слышал даже ее дыхания, он был уверен, что Лене так же стыдно, как ему. Но Лена в полутьме нашла его свободную, лежащую поверх шинели руку, потянула к себе, почувствовала безответность, вздохнула.
— Не обижайся, Алеша. Я ведь тебя, дурня, еще в школе любила. А тут на фронте встретила!
Сказала она все это чистым, ничуть не виноватым голосом, погладила его ладонь теплой мягкой ладонью. Алеша смутился другим смущением; тронутый ее вздохом, ее ласковым старанием, боясь обидеть ее своей безответностью, погладил пальцами ее пальцы, слабо сжал.
Лена, как будто успокоенная ответной его лаской, затихла. Она, наверно, знала что-то, чего Алеша еще не знал. Когда он успокоился и затомился собственным молчанием, она осторожными движениями рук повернула его к себе, губами нашла его губы. Он понимал: после того, что случилось, Лена обрела какие-то свои права на него, и сдерживал дыхание, не отводил губ.
— Поцелуй! Ну, поцелуй же! — шептала Лена. И Алеша, вопреки всему, о чем только что думал, покорился ее настойчивому шепоту.
…Снова лежали они рядом, на тех же узких нарах, под теми же тяжелыми шинелями, так же пуста и холодна была железная печурка, но мир под неудобными тяжелыми шинелями как будто стал другим. Какое-то незнаемое прежде согласие зародилось в этом крохотном — на двоих — мирке, какая-то ласковая предупредительность, какое-то бережное внимание даже к дыханию друг друга. Через ошеломивший его физический стыд Лена приблизилась к нему, обволокла ласковым теплом любящей женщины, и не было для него сейчас необходимее того, что было Леной.
— Лен, закутайся. Я разожгу печку.
— Не надо, милый!
— Хочу добавить чуточку тепла.
— Добавишь — и что-то отнимешь от того, что есть!
— Разве может так быть? Ведь тепло к теплу, хорошее к хорошему?
— Я верю, Лешенька, в то, что есть. Я боюсь верить в то, что будет.
— Но почему?
— Этому научила меня война, Лешенька…
Он все-таки растопил холодную печурку: заботливо укутал Лену и запалил огонь. На неровных жердях низкого потолочного перекрытия теперь как будто раскачивались темно-красные огненные отблески. Лена высвободила из-под шинели руку, положила под голову, с напряженным любопытством наблюдала мерцающие на жердях черно-красные блики.
Алеше не понравилась пристальная сосредоточенность ее взгляда, он прикрыл ее глаза ладонью, сказал тревожно:
— Как-то нехорошо ты смотришь!
— Да нет. Это я так. Я о другом, Лешенька.
— Не надо о другом… Лен! Мне хочется что-то для тебя сделать! Хочешь, пойду на батарею к Романову, устрою пальбу по немцам?!
Лена радостно ужаснулась:
— Зачем, Лешенька! Я хочу тишины!..
— Ну, хочешь, пойду с разведчиками и приведу тебе фрица? Молодого. Белобрысого?!
— Зачем мне, Лешенька, фриц? Да еще молодой!.. Ты ведь не собираешься отдавать меня ему?..
— Пусть попробует! — Только на мгновение Алеша вообразил потерю, в глазах потемнело от незнаемого прежде страха; он склонился, обнял Лену за плечи, как будто собой отгородил от враждебной им обоим войны, которая и теперь была тут, рядом, за холодными стенами землянки. Лена благодарно поцеловала его, уложила рядом.
— Послушай, Лешка! Поверишь ли, но я знала, что мы встретимся! И на фронте думала о тебе… Помнишь, ты вальс танцевал? В нашем ДК? С девочкой семигорской? Потрясающе! Мне так хотелось быть на месте той удивительной девчонки! Все-таки тогда я справедливая была, недаром в классе меня умницей-разумницей звали. Завидую, а думаю: вот пара! Друг для друга созданы. Где сейчас та девочка?
— Не знаю. И знать не хочу!
— Не надо, Лешенька. Даже ради меня не говори плохо о тех, кто тебя любит! Я могу говорить о твоей Ниночке, я — женщина. К тому же ты в ней ошибаешься. Нинка тщеславна и любит не тебя. Она себя любит. С такой ты не будешь спокоен. А та девочка… Как ее зовут? Зойка?.. У той девочки вся жизнь в тебе! Это же видно! Раз взглянула — и видно!.. Я вот о чем думаю. Случись что с тобой — война же! На войне мы! — она раздумывать не будет. За тыщи верст прибежит! И не отступит. Глазами твоими станет. Руками. А Ниночка… Что Нинка — в слезах растворится, по слезам в свою жизнь уплывет. Да и не любишь ты ее! Какую-то свою мечту в ней любил!
— Но Зойку-то я тоже не люблю!
— Знаешь, что я тебе скажу?! Любить, конечно, радость. Но быть любимым — это, Лешенька, счастье…
— Знаешь, Лен. Я ведь на самом деле… никого не знал. У меня это первая близость…
— О! — Лена будто задохнулась, мягким, совсем материнским движением прижала к груди его голову. — У кого-то я тебя украла! Но это ненадолго, Лешенька. Перед мечтой, перед желанием не устояла. Нежности захотелось! Мужики тут кругом! Отчаянные. Дерзкие. А про нежность будто забыли!..
По сумеречному померкшему свету у выхода из землянки Алеша понял, что время оставляет их. Со страхом он ждал минуту, когда Лена почувствует свой срок, скажет: «Пора мне, Лешенька…» — и, как бы он ни хотел, что бы ни говорил, он не сможет остановить ее. Потому что есть на войне своя жестокая необходимость.
Лена беспокойно вздохнула. Он понял, что страшная минута подошла. Стараясь укрыться от несправедливой к ним необходимости, он прижался к породненной с ним женщине, лицом раздвинул расстегнутый ворот ее гимнастерки, приник к теплу, ощущая губами солоноватость влажной кожи.
— Пора мне, Алеша, — сказала Лена.
— Подожди, Лен. Подожди! — Он был не в силах оторвать себя от ее тепла. Лена гладила его волосы, с ласковой грустью говорила:
— Мне же, дурачок, на вылет надо!
— Ну, подожди, подожди! Ну, можешь ты подождать?
Лена приподняла его голову, поцеловала, сказала тоскливо:
— Я-то, Лешенька, могу. Война — не может!..
Из землянки Лена вышла вслед за смущенно-неловким Алешей, ничуть не утомленная, с откровенно-радостным блеском в глазах. Голубоватая шинель, стянутая по-уставному туго отличным кожаным ремнем, сидела на ней ладно, без единой складочки, как может сидеть только на красивой женщине, постоянно живущей под взглядами мужчин. У Алеши ревниво кольнуло сердце. Но Лена ухватила его руку, не отпуская, вскочила на глыбу мерзлой земли; поигрывая в воздухе ногой, обутой в мягкий хромовый сапог, засмеялась совсем как школьница:
— А ведь я, Алешка, переросла тебя!..
Он хотел ответить с такой же шутливостью, но взгляд Лены вдруг остановился, зрачки только что веселых глаз расширились. Неприятно холодея, Алеша увидел, как плохо он укрыл убитых солдат. Лена высвободила из его пальцев руку, не отводя глаз от ног в солдатских ботинках, видных из-под брезента, спустилась на площадку, обошла черный след недавнего разрыва, осторожно подняла угол палатки. Опять он увидел странно-напряженный ее взгляд под светлыми, выпавшими из-под ушанки волосами, опять почувствовал, как тревожно заныло сердце.
— Бедненькие! — сказала Лена, вздохнула как-то по-девчоночьи, повлажнелой рукой схватила его руку, выбралась наверх. Постояла, прислушиваясь к небу, зябко передернула плечами:
— Вот так всегда: летишь к радости, а она — тут…
Алеша чувствовал состояние Лены и клял себя за плохо укрытых несчастных солдат. Лена вдруг засмеялась, как будто разгоняя все дурное, что могло стоять между ними, попросила:
— Проводи чуточку!.. — и молча пошла рядом, покусывая губы, с какой-то старательностью ступая полными, красивыми даже в сапогах, ногами.
Прощаясь, приникла к нему; постояла, закрыв глаза, не шевелясь под его обнявшими руками. Потом высвободилась, откинула голову, глядя в проясненное холодное небо, не сказала, будто выдохнула:
— Сегодня лечу первой…
И вдруг начала целовать, опаляя его губы жаром своих губ:
— Прощай, Лешенька! Мутно что-то на душе… Нет-нет, не хмурься: не ты тому виной! Я рада нашей близости. Даже сказать не могу, как рада! Все, Лешенька, пора. Как стемнеет — над тобой пролечу! Жди!
С внезапно пробужденной силой Алеша притянул Лену к себе, Лена не сказала о главном. Тревожась этим главным, считая постыдным от самого главного уйти, стараясь внушить ей, что для него все это не может быть случайным, с неловкой серьезностью спросил:
— Лен, а если ребенок будет?
— Ой, Лешенька! — Лена откинула к плечу голову, смотрела растроганно добрыми печальными глазами. — Ой, Лешенька, — повторила она. — Если будет, век буду благодарить бога и войну!.. Пора мне, милый!..
3
Старшину, вернувшегося из санроты, смущенно-счастливый Алеша оставил в землянке. Радуясь возможности ничего не объяснять, поднялся на косогор: здесь было открыто и ближе к небу. Ветер стих еще с вечера, снежная поземка улеглась, белела в колеях, в солдатских следах, в ямах. Стыли в ночной тишине олуненные дали. Молодой морозец охолаживал разгоряченное волнением лицо, прихватывал уши. Алеша не развязывал тесемок, даже сдвинул шапку повыше, слушал, ходил взад-вперед по самому верху косогора, оттаптывал в припорошенной снегом траве себе тропу.
В ожидании, думается обычно плохо, но не думать он просто не мог. Лена вошла в его жизнь. И все, что было в его душе до часа, сблизившего их, все думал он, должно навсегда уйти.
Он даже как-то растерялся, когда в его как будто наглухо закрытой сейчас памяти с непонятным старанием прозвучал вдруг чуточку раздраженный, чуточку насмешливый голос Ниночки: «Что же, прощай, мой милый рыцарь!..» В неловкости и совершенно не ко времени вспомнил он ночь прощания, милую тогда для него тяжесть Ниночкиного тела на своих бережных руках, случайное касание оголенной ее ноги, и свое мальчишеское смущение, и свое покаянное бормотание: «Это я комаров…» И снова услышал чуточку насмешливый, чуточку раздраженный ее голос. Тогда и думать он не мог, что Ниночка хотела, могла оставить другую о себе память. Он догадался об этом сейчас и почувствовал, как жаром окинуло лицо, заломило виски: не от сожаления о том, что могло бы тогда случиться, — от гулкого страха за то, что тогда бы он не посмел ответить на сбереженное до сегодняшнего дня желание Лены!
Пробужденные Леной чувства не оставляли места Ниночке в той жизни, которую теперь он обдумывал. И в неловкости, в стыде за наивность своего прошлого, стараясь быть честным перед прошлым, он говорил себе: «Ниночке я напишу. Правду она узнает от меня. Напишу, что Лена со мной. Что с Леной мы будем вместе всю жизнь…»
Он ходил взад-вперед по короткой тропе, задевая мерзлую траву; трава шуршала, царапала затвердевшие на морозе сапоги. Алеша прислушивался, в протяжном шорохе травы ему чудился звук летящего самолета. Коченели пальцы, сдавливало холодом уши. Быстрые движения не помогали. Тогда он вспоминал обжигающие губы Лены, и память живого чувства согревала его в морозной ночи.
В безмолвие, не нарушая общей тишины, вошел размеренный, спокойный стрекот. Неуловимый глазом самолет пролетел где-то в вышине, отдалился, затих. Послышался звук другого, идущего следом, и этот был высоко, не подал знака. «А говорила: лечу первой! Где же Лена?» — думал в смятении Алеша. Только четвертый самолет, летевший ниже, потому слышнее других, вдруг оборвал стрекот; Алеша, до ломоты сощуривая глаза, разглядел над собой скользящую в звездном пространстве тень крыльев и слабый отблеск лунного света на фюзеляже. Самолет застрекотал, снова затих. Алеше показалось, он услышал там, в вышине, голос, протяжный и слабый, как затихающее эхо. Веря, что над ним в звездном небе Лена, он разволновался до невозможности, забыл все законы войны, торопясь, извлек из сумки плоский трофейный фонарик, суетно замигал зеленым глазом: «Я здесь… Слышу… Жду…»
Уйти к себе в землянку он не мог, он должен был дождаться Лену. Плотнее застегнув шинель, приспустив на шапке уши, в одиночестве ходил по холодному полю и снова думал о том, что жизнь его с сегодняшнего дня переменилась. Определенно переменилась. И вовсе не по разуму — по чувству. «Ты уж, мамочка, меня прости, — думал Алеша, согреваясь теперь памятью о доме. — Ты всегда хотела, чтобы при моем горячем сердце я имел холодную голову. Я, мамочка, держался. Я честно держался. Но увы! — на радость ли, на горе, но холодная моя голова ничего не могла поделать. Я побежден, мамочка! И победил меня не фашист. И вовсе не Ниночка, так и не приглянувшаяся твоему осторожному сердцу. Победила меня женщина, неповторимая в своей открытости, нежности, смелости. Ты полюбишь ее, мамочка, мою женщину, мою Ленку, Леночку, нашу умницу-разумницу, старосту десятого, которая почему-то — ну, почему?! — не потрясла меня в то глупое время своей потрясающей косой! Наверняка была тут какая-то каверза природы — разъединить двух, предназначенных друг для друга, чтобы где-то на фронте, в страшной неразберихе человеческих судеб, кинуть в мои объятия, и буквально с неба! Нет, мамочка, здесь что-то есть! Когда чувства овладевают судьбой, разум должен молчать!.. Ты нас жди. И подготовь, пожалуйста, папку. Лена, может, приедет раньше. И может быть, нас будет трое…»
В будоражных мыслях, в торопливости от крепчавшего мороза Алеша прошагивал свою короткую тропу на косогоре, согревал себя уверенными мыслями о доме, о Лене, теперь неотделимой от него самого, и все время напряженно следил за темной далью земли и неба в стороне немецких расположений. Он много раз видел, как по ночам небо вдруг расцвечивалось плывущими вверх огнями, и с первых дней пребывания на фронте знал, что эти красивые издали огненные дуги и посверкивающие россыпи таят погибель летающим там, над вражескими тылами, нашим самолетам, потому что каждый из этих красивых, всплывающих над землей огней не что иное, как снаряд скорострельного немецкого эрликона. В той стороне, куда улетела Лена, небо было темным и недвижным. Только вблизи, над противоположным склоном, время от времени зависали, обозначая линию немецких траншей, обычные ночные ракеты, Алеша всматривался и сдержанно радовался темному неподвижному небу за линией ракет.
Вдали, под черной полосой угадываемого лесистого увала, в какой-то одной, видимой ему, точке как будто плеснуло по земле огнем; бело-голубая вспышка была столь яркой, что на мгновение увиделись острые вершины далеких елей. Огонь померк не сразу, как это обычно бывает при взрыве; на земле продолжало что-то гореть и светиться неровным пламенем, и Алеша, помня о том, что успела рассказать Лена, подумал, что это она, Ленка, долетела наконец-то до цели, сбросила свою особенную, все сжигающую бомбу…
Луна поднялась. Небо высветлилось. Поскрипывал под сапогами притоптанный снег. Алеша быстро, безостановочно ходил по косогору вместе с неотступной своей тенью. В какую-то почувствованную им минуту он остановился. Где-то высоко, своей дорогой, неторопливо возвращался первый самолет. Так же неторопливо прошел в вышине второй, третий. Время было возвращаться Лене. Алеша приоткрыл рот, втянул слегка воздух, чтобы вернее ловить даже слабые звуки, и услышал: рядом с тонкой, постоянно преследующей его звенью в ушах от многих, уже пережитых, оглушающе-близких разрывов появился едва уловимый, но не пропадающий звук. Алеша, напрягая слух, следил за появившимся посторонним звуком. Звук определился, уже можно было различить ровное стрекотание мотора; самолет шел много ниже, чем первые самолеты. Тревожась последней, как казалось ему, тревогой, он вглядывался в пространство той стороны, откуда летел самолет, страшился увидеть всплывающие в небо шевелящиеся струи снарядов и всей силой разума заклинал враждебную самолету землю промолчать.
Стрекот приближался; самолет летел той же дорогой, которую избрала для себя Лена. Самолет прошел обозначенную поднявшимися ракетами линию фронта. Алеша, просветляясь радостью, уже готовился уловить в высоте добрый знак благополучного возвращения.
Но с треском разверзлось, вспыхнуло, казалось, само небо; спасаясь от огня, Алеша упал на свою черную тень, тут же, рукой отгораживаясь от горящего неба, вскинул голову и увидел раскинутый над собой невозможно огромный огненный крест. Раздираемый пламенем самолет медленно вращался, как будто зацепившись крылом; он не падал, а словно тонул, раскидывая в стороны и вниз трескучие искры.
В пылающем небе Алеша услышал плотный незнакомый гуд, блуждающим взглядом поймал короткую горбатую тень ночного истребителя, уходящего в сторону луны, и понял, что произошло в небе.
Горел на косогоре самолет, опаляя холодную землю. Алеша обессилел метаться вокруг страшного огнища, опустился на землю, вцепился обожженными руками в мерзлую твердь и так в неподвижности сидел, пока последние мерцающие угли не замерли под холодом настывшего пепла.
…На полевом аэродроме, который с упорством обреченного Алеша отыскал на другой день, с ним говорил высокий молодой майор с подрагивающими злыми губами. На Алешу он не смотрел, слушал, заминал пальцами ремень портупеи и торопился уйти.
— Самолет Шабановой с задания не вернулся, — сухо сказал майор. И вдруг закричал, страшно, как кричат только в бою:
— Что глядишь, лейтенант?.! Нет больше Лены! Слышишь?! Нет!..
Он сдавил зубами злую дрожащую губу, зачем-то кинул руку к кобуре, неловко, плечом вперед, пошел к землянке. Алеша шагнул было за ним, как будто майор мог ему помочь, опустил голову.
Майор почему-то вернулся, долго разглядывал Алешу настороженными глазами, вдруг сощурился в недоброй догадке.
— Постой! Постой, лейтенант!.. Не ты ли виноват в том?! — Рывком он повернул к себе Алешу, губы его прыгали. Он хотел что-то сказать, махнул рукой, пошел, не оглядываясь. Алеша смотрел в прямую его спину, мучительно старался понять свою вину и с запоздалой, ненужной теперь ревностью думал, что этот красивый майор был, наверное, близок Лене не меньше, чем он.
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ Снова Авров
1
Батальон стоял, огораживая четырьмя, ровными шеренгами холодный заснеженный взгорок. Внутри квадрата, образованного батальоном, не в центре, а в углу, ближе к Алеше, три офицера, аккуратно перетянутые ремнями, сдержанно перетаптывались в снегу, не позволяя себе лишних движений.
Отдельно от них был поставлен солдат, в распоясанной шинели, с забинтованной от стопы до колена ногой; он неловко опирался на костыль, подсунутый под мышку, и жалко улыбался в спину аккуратным офицерам. Позади солдата будто вросли в снег два паренька-охранника в зеленых стеганках и таких же штанах, в серых валенках, они держали на изготовку карабины, хотя всем было ясно, что солдат с жалкой улыбкой и костылем под мышкой убежать не может.
Алеша зрением и слухом, обострившимся в предчувствии ужасного, видел и слышал, как сдержанно и, казалось ему, неуверенно переговариваются аккуратные офицеры, не похожие на тех, кого он знал по боям и окопам, как передают они из рук в руки шелестящие в тишине листы бумаги, как будто не решаясь начать то, ради чего был выстроен под утренним мартовским небом батальон.
Но вот, сжимая в руке перчатку и бумагу, отделился от других высокий и широкий в плечах майор, сделал знак. Кто-то торопливо подал команду: «Батальон, смирн-а-а!..» — и высокий майор, зачем-то сделав вперед еще два шага, взял освобожденной от перчатки рукой бумагу, отстранил от себя на всю длину вытянутой руки, возвысив и без того высокий голос, стал читать:
— «Военно-полевой суд… армии в составе… рассмотрел дело рядового… нанесшего с умыслом себе ранение… По заключению врачебно-экспертной комиссии вывел себя из строя на срок не менее пяти месяцев… Учитывая тяжесть совершенного преступления… вред, нанесенный боеспособности части… приговаривает рядового к высшей мере наказания — расстрелу… Приговор утвержден Военным советом армии… Пересмотру не подлежит…»
Высокий майор, проговаривая знакомые ему слова, уже совершенно овладел собой; глаз от бумаги не отрывал, но голос его в замкнутом шеренгами солдат пространстве был пугающе слышен. Никто не шевелился, никто не смотрел друг на друга, глаза всех, стоящих в строю, устремлены были в невидимую точку прямо перед собой, как будто вина солдата в распоясанной шинели и костылем под мышкой могла даже по взгляду перекинуться на того, кто дерзнул бы увидеть больше, чем было перед ним.
Аккуратный майор кончил читать, с заметным облегчением от благополучно завершенного своего дела сложил бумагу вдоль, потом поперек, вложил в висевший на его боку отблескивающий желтым целлулоидом планшет, натянул коричневую шерстяную перчатку на руку, отошел к ожидающим его офицерам.
Алеша услышал тихую, кем-то из них поданную команду. Парни-охранники с бесчувственно застылыми лицами стеснили с обеих сторон солдата с забинтованной ногой, повели его, жалко озирающегося, к середине замкнутого батальоном пространства, где среди голых с серым налетом ветвей бузины — Алеша увидел это только сейчас — уже была вырыта могила.
Солдату помогли спуститься в яму, поставили лицом к земляной стене. Один из охранников вынул из-под его руки костыль. И солдат в распоясанной шинели, до этой минуты все время озирающийся с жалкой улыбкой, как будто не верящий в серьезность того, что происходило вокруг, что казалось ему, наверное, не больше чем каким-то поучительным для него и для других действом, после которого все обратным ходом вернется на свои места, потеряв из-под руки костыль, вдруг понял, что суд не разыгрывается, что приговор, и парни-охранники за спиной, и стоящий в неподвижности батальон — все это всерьез, без возврата; понял, растянул в плаче губы и, откинув забинтованную ногу, повалился на колено, судорожно вздрагивая плечами.
Из группы аккуратных офицеров тотчас подскочил к яме капитан, властно, с режущей слух пронзительностью, закричал:
— Вста-а-ать!..
Парни-охранники спрыгнули в яму; торопясь, подняли за руки плачущего солдата, снова установили лицом к стене.
Алеша отвел глаза. Из множества неподвижных лиц взгляд его выхватил лицо Аврова. Старшина пристально смотрел на солдата в яме, и в напряженном прищуре его глаз было что-то от сочувствия и презрения; с таким сочувствующим презрением люди, знающие свою силу, обычно смотрят на попавших в беду неудачников. Алеша смотрел на старшину мгновение, но взгляд его, направленный на жалкого солдата, запомнил.
Парни-охранники с застылыми лицами встали на краю, позади стоящего в яме всхлипывающего солдата; оба враз вскинули к плечам карабины, в одну точку нацелив их короткие стволы. Стволы не дрожали, карабины были зажаты в руках, как в струбцинах учебных станков; и капитан, стоящий у ямы, подал короткую команду…
Хлопок сдвоенного выстрела, не затихая, звучал в памяти Алеши и в ночи, когда батальон уже шел под черным небом на зарева пожаров. Движение тысяч людей, артиллерийских упряжек, повозок, сплошь заполнивших, казалось, единственную дорогу, конец которой мысленно виделся в лощине, или у опушки леса, или перед высотой, где в приготовленных траншеях и дзотах ожидал их враг, — ночное, уже привычное движение людей к заданной генеральским расчетом точке, ощущение ждущей впереди опасности, обостряющееся с каждым следующим переходом, не мешали Алеше размышлять под шум, поскрипыванье, глухой кашель, нестройный топ, разговаривать с меняющимися попутчиками, додумывать то, что лежало на душе и не было додумано прежде.
Памяти удерживала звук сдвоенного выстрела; не уходя, маячило перед глазами и сдвоенное видение: жалкий в своей улыбке солдат в распоясанной шинели и лицо Аврова с жестким стиснутым ртом и пристальным, словно прицеливающимся, взглядом из-под прищуренных век. О солдате Алеша думал как-то отстраненно. Он не представлял солдата в живых связях с другими людьми. Для него он был как будто без лица, без имени. Он совершил подлость по отношению к другим, таким же солдатам, с которыми рядом спал, у одной теплины грелся, делил сухари и кусочки сала; бежал от боя, когда все другие собирались в бой. Одно это уже вычленяло его из установленного порядка жизни, из привычных человеческих отношений. И думая о солдате, он не понимал одного: как могло прийти солдату в голову обмануть то, что обмануть невозможно?! Солдат старался подлостью спастись от смерти и не спас себя, и не мог спасти. Знал он об этом? Или не знал?..
Алеша шагал среди людей, растянуто движущихся в прихваченной ночным морозом, похрустывающей, повизгивающей под множеством ног, саней, колес дороге, и не вдруг заметил, как пристроился к нему, будто замытый ночной теменью, но чем-то знакомый ему человек. Вгляделся, насколько позволяло отдаленное, не осветляющее снега блистанье звезд, узнал в молча идущем человеке Аврова.
С любопытством, пробужденным бродившими в нем мыслями, спросил, будто продолжая давний между ними разговор:
— Как думаешь: трус или подлец был тот солдат?
Старшина молчал много дольше, чем надо было, чтобы ответить.
— Дурной ты, Полянин! — сказал он наконец; в голосе его была насмешка. — Что за печаль мертвому в башку лезть? Кончился, значит, ума не хватило жить… Может, лучше расскажешь, как это ты сумел к начальству подкатиться? Лопух лопушком, а ушами не прохлопал. На коне теперь!..
— Уже и коня увидел! Оба по земле ходим, Авров!
— По земле-то, по земле. Да по-разному!.. — Голос Аврова прозвучал хотя и желчно, но тоску в нем Алеша услышал. И как ни бедовал в свое время от злой воли старшины, в душе ему посочувствовал: с приходом другого комбата, недавнего, сельского учителя капитана Серегина, и нового начальника санслужбы полка, молодого врача Потапова, еще не растерявшего, к радости Алеши, романтики и желания порядка, Авров, как человек, не имеющий отношения к медицине, оказался в стрелковой роте; бывший их старшина, распорядитель и вершитель девчоночьих судеб, теперь ожидал от предстоящего боя лиха под самую завязку. Сочувствуя старшине, жалея его в эту минуту, Алеша, по извечной своей потребности в добром поступке, предложил:
— Может, в санитары пойдешь? Как-никак при санвзводе будешь!
Авров рассмеялся тихим обидным смехом.
— Ну, Полянин! Не велику же ты мне цену даешь! Уж не всерьез ли думаешь, что в окоп меня вогнали — на том век мой и кончился?! Не приглянулся новой власти? Да бог с ней! Земля крутится. На месте новой еще новее будет. Здесь ли, там — но будет! Пойми ты головой своей замудренной — нужен я! Я не власть. Но — при власти. Человек, Полянин, всегда чего-нибудь хочет. Сверх того, что имеет. Или из того, что по чину ему не приличествует. Нет человека без желаний! А желания кто-то должен исполнять. Вот и являюсь я, — тут как тут. И для меня чужое желание — закон. Кто откажется от умной услуги?! Нет таких! Разве ты один, от рождения чокнутый. Да и то еще поглядеть надо!.. Вечен я, Полянин. Тут как тут!..
Оглушенный философским напором старшины, пытаясь что-то понять, Алеша спросил, недоумевая:
— Тут-то при чем?
— Тут как тут, говорю! Читай, хоть с начала, хоть с конца. Хоть слева направо, хоть справа налево. Язык измозолишь, а из трех этих слов не выберешься. Вот так, Кострома! Это же у вас в Костроме, на той стороне, дрова градом повыбило?! С тех пор все думаете, что́ за град такой был!
Авров исчез так же незаметно, как появился, он как будто растворился в ночной сумерети, в бесконечном движении людей, медленно идущих под тревожно-пульсирующее, отраженное в низком ночном небе зарево где-то уже близко горящей деревни.
2
Роты поднялись без выстрела, в надежде с ходу одолеть открытый склон, всего-то метров в двести шириной.
И взвыл на земле и в небе летящий металл. Воздух, казалось, стал крепким полотном, — его раздирали, били, рвали, хлестали, как будто именно он, утренний весенний морозный воздух мешал людям во вражде добраться друг до друга.
В самый разгар боя Алеша оказался в редкой березовой рощице, непонятно как уцелевшей на склоне. Опасливо пригибаясь то от резких, то от гулких звуков, казалось, над самым ухом бьющих очередей, от рвущихся с легким потрескиванием среди стволов, в ветвях, на снегу пуль, он пробирался к ротам, когда увидел бегущего от края рощицы Аврова. В спешащем его беге на полусогнутых, будто подламывающихся ногах было столько отчаянного слепого усилия как можно скорее выбраться из опасного места, что в первую минуту Алеша подумал, что старшина в самом деле ослеп и вот-вот ударится головой в одну из берез. Но тут же он понял, что старшина видит его и почему-то старался его обежать. Трассирующие пули навесили перед ним белую сверкающую сеть; старшина изменил направление бега; он согнулся еще ниже и теперь бежал прямо на него, — он был ранен, рукой зажимал у запястья свою левую руку.
С ходу он бросился в снег, Алеше под ноги, хватал ртом воздух, сжимал и зачем-то тряс раненую руку, выкрикивал, торопя:
— Скорей!.. Скорей!..
Заражаясь его нетерпением, Алеша присел рядом, выхватил из сумки, разорвал пакет.
Авров торопливо подсовывал ему под бинт раненую руку, другой рукой зажимал запястье, мешал наложить подушечки на рану, и от суетной бестолковщины старшины Алеша вдруг рассвирепел:
— Убери к черту свою руку! — заорал он. И Авров, как будто испугавшись крика, открыл запястье. Алеша быстрым движением приложил с обеих сторон на сквозную пулевую рану подушечки пакета, сделал уже первый охват бинта и вдруг увидел в полуприкрытых глазах Аврова почти дикий восторг удачи. Руки сами собой потянули бинт, подушечки отпали; он еще не вгляделся, только взглянул на запястье, но уже понял, что́ за рана была на руке Аврова. Это был аккуратный прострел между двумя костями, по мягкой ткани, не задевающий ни крупных сосудов, ни нервных волокон, прострел расчетливый, почти бескровный. И само отверстие было пробито не винтовочной и не автоматной пулей — маленькое отверстие было сделано пулей из того плоского пистолетика, который носил Авров в специальной кобуре на поясе под гимнастеркой. Вокруг ранки, со стороны ладони, выдавая выстрел в упор, темнел венчик ожога, хотя, по всей вероятности, стрелял старшина себе в руку через обильно намоченный платок…
Алеша на минуту оглох; ему даже показалось, что бой затих. Не сразу он поднял глаза. А когда поднял, лицо старшины было белее, чем ствол березы, у которой он сидел. Немигающие глаза, жалкая улыбка, весь испуганный его вид сделали Аврова похожим на солдата в распоясанной шинели в те предсмертные минуты, когда поставили его в яму и убрали из-под руки костыль. Взгляды их сошлись, и все, что могли бы они сказать друг другу, оба поняли без слов.
Подгоняемый торопящими накатными звуками идущего боя, Алеша бинтовал руку старшины. Он еще не знал, как поступит. Он видел, как вели и тащили через рощу раненых. Как перебегали, припадали, словно ящерки, к пням и стволам юркие связные. Видел, как два солдата в длинных шинелях и серых шапках согласно волокли мимо берез по проталинам и через размятые сугробы стянутую узлом плащ-палатку с патронами, как обычно волокут на стирку ротное белье; медно-красные патроны выпадали из прорех узла, окропляли снег ржавыми точками. Все, кто появлялся в роще, были озабочены своими заботами: на них, двоих, приткнувшихся к комлю березы, никто не обращал внимания; никому дела не было до того, что совершалось в душах двух людей, как будто притиснутых друг к другу молчаливой враждой.
Куском марли Алеша машинально подвязал к шее старшины его забинтованную руку, поднялся, понимая, что выйти из боя, чтобы отвести Аврова в бригаду, он не сможет; надо было перепоручить его кому-то, хотя бы тем же связным. Настороженный взгляд старшины Алеша чувствовал. Но для него уже не имело значения, что думает, что скажет Авров; он отделил себя от жизни батальона, бригады, вообще от жизни; Авров-человек перестал для него существовать.
Алеше надо было в этой роще, рядом с наступающими ротами, найти хоть какое-то укрытие, чтобы раненых не тащили во время боя далеко и небезопасно за ручей; для этого он и пробрался сюда, в закрытое от вражеских глаз место. Ему надо было действовать. Но вблизи он не видел никого, кому можно было бы перепоручить старшину, Авров со своей простреленной рукой как будто повис на нем. «Такой бой! И ни одна пуля не достала подлеца, — думал Алеша, нервничая и проглядывая рощу. — Лучше лежал бы здесь, как павший на поле боя! И подлость ушла бы вместе с ним…»
Он не заметил движения Аврова, но близкую опасность почувствовал по мгновенно сжавшемуся сердцу. Авров, привалившись на левый бок, шарил правой рукой под шинелью; видно было, как приподнимает полу шинели твердый ствол уже вытащенного из кобуры авровского пистолета. Ударом ноги Алеша мог бы выбить пистолет, но на марлевой перевязи он видел другую, раненую руку, ударить которую был не в силах. В спокойствии почти ледяном, как бывало с ним в самые опасные минуты жизни, он проговорил, едва разжимая губы:
— Ну!.. Теперь в меня стрелять будешь?!
Он не отводил взгляда от напряженных глаз Аврова, как будто чувствовал, что Авров способен выстрелить в спину, но выстрелить в грудь не решится.
Вдавливая пистолет в ладонь, старшина, горбатясь, морщась, показывая боль, поднялся, встал перед ним; забивая в себе страх, проговорил:
— На… ты мне нужен, Полянин!.. Ползай тут, паши землю очками. Может, выпашешь звезду себе на могилу!.. Мне делать тут нечего…
Слова, которые как будто выплюнул в него Авров, были страшнее, чем выстрел. В мгновение все переменилось местами: исчезли, казалось бы, накрепко установленные самой жизнью отношения между справедливостью и подлостью, между предательством и возмездием; с совершенной ясностью Алеша видел, что старшина, стоящий перед ним, его уже не боится.
— Вот так, военфельдшер!.. Гуд бай!..
Быстрыми шагами старшина пошел вниз к ручью, время от времени вбирая голову в плечи от просвистывающих, прощелкивающих рощу пуль. Алеша, приходя в себя, запоздало закипел гневом.
— Стой, Авров! — закричал он. Он уже понял: Авров расчетливым своим умом взвесил все; он знал, что военфельдшера бой не отпустит; что забинтованная, подвешенная к шее рука — уже выданный ему безотказный пропуск из боя в тыл; что раскрывший его Полянин помешать ему уже ничем не может.
Авров дошел до ручья; не останавливаясь, швырнул свой пистолет в мутную от взрывов воду; пригнулся, перебежал открытый прогал в березах — он спешил к лаве, по которой солдаты перебирались через ручей.
Алеша знал, что этот горбатящийся, опасливо вжимающий голову в плечи человек уносит с собой в жизнь подлость и предательство.
И, стараясь перекрыть шум боя, страшным голосом закричал:
— Авров, стой!
Авров не оглядывался. С исступленно забившимся сердцем Алеша вытащил из холодной кобуры будто налитый свинцом парабеллум поднял до уровня глаз. Он ловил мушкой всегда аккуратно зашитую складку авровской шинели, и, когда поймал, шинель вдруг расплылась. Он закрыл глаза, снова открыл — сгорбившаяся спина Аврова обозначилась среди коричнево-красного прибрежного тальника.
Алеша прицелился. И снова исчезла, как будто расплылась серая авровская шинель. В третий раз он увидел Аврова у лавы. Уже холодея от ощущения последнего движения придавливающего спуск пальца, ясно сознавая, что справедливо последует за его выстрелом, он увидел перед собой полное ужаса и отчаяния лицо Янички.
— Скорей!.. Скорей, Алеша! Там плохо! Совсем плохо!.. — Она кричала, захлебываясь словами, хватала его за руку, и Алеша, оторопело оглянувшись на опустевшую лаву, заражаясь отчаянием и ужасом Янички, обгоняя ее, побежал через рощу на склон, где пытались пробиться к близкому лесу роты.
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ Лицом к лицу
1
Багровой казалась эта случайная на их пути деревня. Закатное солнце светило на сосны за домами. Прямые их стволы, и мокрая хвоя вершин, и сами дома, поставленные в ряд вдоль широкой, в свежих лужах улицы, как будто напитаны были багровостью. Огнисто плавились неподвижные стекла окон. Навись калины, с тяжелыми гроздьями кровавых ягод, малиново отсвечивающие плетни, ломаные тени, зачернившие половину улицы, усиливали ощущение тревожности. Сам воздух, с влажным туманцем и почему-то душный, казался тоже багровым, и Алеша с уже выработанным постоянным ожиданием опасности снова и снова разглядывал в бинокль молчаливые дома и пустую улицу, почти сплошь заросшую меленькой поблескивающей, почти не тронутой ногами травой.
Выйти к людям, опуститься в доме на лавку, глотнуть хотя бы кипятка хотелось до головокружения, но он лежал, только знобко поводил плечами под липнувшей к телу гимнастеркой.
Из труб над двумя крышами поднимались тихие неурочные дымы, и надо было догадаться, почему в этой оставленной в целости лесной деревеньке притихли дома и безлюдна улица.
Позади него лежали два бойца-десантника — всё, что осталось от расстрелянного в воздухе батальона. Он слышал их осторожные движения, шепот, понимал, что ребята, его сверстники, пережившие все, что пережил он, одинаково измученные скитаниями и голодом, тоже жаждут крова и хлеба, ждут его спасительного решения, и все-таки медлил, вглядывался в притихшую деревню, не чувствуя доверия даже к дыму, тихо плывущему из трубы ближнего дома.
Дом этот, второй от края по левому порядку, привлекал его внимание: у него, единственного, настежь была распахнута калитка, на высоком, с перилами крыльце висела на шесте женская кофта. В окне, обращенном к крыльцу, просвечивающий из противоположных окон свет время от времени затенялся — кто-то в доме ходил; Алеша напрягал зрение, вглядывался и не мог определиться в решении.
Лежать было мучительно: комарье лепилось к лицу; терпеливо, не опуская бинокля, он давил кровососов на лбу, на щеках, у глаз под очками. Он уже думал о том, чтобы тихую эту деревеньку обойти, поискать другую, живую, понятную, но дверь сеней вдруг отворилась, на крыльцо вышла женщина с ведрами. Не торопясь, с каким-то странным выражением лица, она спустилась по ступеням, пошла через улицу, к недалекому колодцу. Черные распущенные ее волосы с небрежностью лежали на плечах, белая, без рукавов, кофта до плеч открывала полные руки.
Алеша с пристальностью вглядывался в ее невеселое лицо.
Женщина щурила глаза, недобро усмехалась; пустые ведра, надетые на руку, звякали при каждом ее шаге. Женщина, казалось, не обращала внимания на этот чуждый притихшей деревне звук, она шла к колодцу с каким-то вызовом, босая, напрямик, разбрызгивая в лужах воду, как будто было ей сейчас все равно, где идти: по траве, по лужам, по битому стеклу. Когда с опущенной головой и тяжелыми ведрами в руках она медленно поднялась на крыльцо и, повернувшись боком, уже хотела пройти в сени, из двери навстречу ей шагнул крепкий мужик в исподней белой рубахе, распахнутой на груди. Он взял из рук женщины ведра, отставил в сторону и — у Алеши перехватило дыхание — охватил женщину; он бесстыдно тискал ее, мял ей грудь, и женщина, закинув голову, стояла будто неживая.
В доме неожиданно рванула песня, приглушенная стенами и закрытыми окнами:
Горел, пылал пожар московский, Дым расстилался по Москве-е…Мужик в рубашке оттолкнул женщину, кулаком стукнул в стену, с беспокойством огляделся.
Женщина одернула кофту, подхватив ведра, прошла в сени. Мужик стоял на крыльце, наклонив голову, слушал; теперь видны были его синие офицерские галифе, заправленные в хорошие сапоги.
«Кто этот хваткий мужик? И те, что запели в доме?.. — соображал Алеша. — Окруженцы, осевшие в лесной деревне? Или партизаны, загулявшие в родном углу?..» С пробудившейся надеждой и сдерживая себя ощущением опасности, он прикидывал, как надежней им поступить, и не мог ни на что решиться. Почувствовал прикосновение к своей руке, услышал нетерпеливый шепоток симпатичного ему своей верностью и силой десантника со смешной фамилией Малолетков:
— Товарищ лейтенант, наши тут! Песню нашу поют!..
Алеша сам не понимал, что удерживало его от простого шага: встать и пойти в дом, где оказавшиеся в немецком тылу русские парни выбрали час для гульбища. Что за парни — не так уж важно, делить с ними нечего, кроме крыши и хлеба. Война всех людей разделила на «наших» и «не наших»; и так ли важно было сейчас, что этот вот мужик, стоящий на крыльце, груб и охоч до баб, что те, которые вдруг запели, наверное, пьют в доме самогон? Важно, что они русские.
Мужик, бывший на крыльце, успокоился; поигрывая носами сапог, спустился на ступеньку, подкинул что-то на ладони. Солнце светило, теперь прямо на его кирпичного оттенка, угловатое лицо; Алеша всмотрелся, и руки его задрожали на бинокле — он узнал в хватком мужике семигорского лесника Леонида Ивановича Красношеина.
Закинув автоматы на плечи, все трое размашисто, открыто шли к дому.
— Сейчас кусанем что-ничто! — говорил оживленно и по привычке шепотом Малолетков, поворачиваясь то к Алеше, то к высокому медлительному Белашу, который от голода мучился животом, был бледен и неразговорчив, — Что молчишь, Белаш! У него горло языком заткнуло, товарищ лейтенант! Этак бывает, когда брусёны нажрешься заместо хлеба!..
— Брусёны?.. — так же тихо переспросил Алеша; он тоже возбудился ожиданием еды и крова и готов был говорить. — Сам-то откуда?..
— Ярославский. Из-под Любима, товарищ лейтенант!..
— Я ведь тоже с Волги! — радостно сказал Алеша; он радовался не столько самому землячеству, сколько тому, что наконец-то, хотя бы на несколько часов, они окажутся под крышей и свои хоть чем-то накормят их.
Красношеин увидел их, когда из-за плетня они вышли почти на середину улицы, — Алеша с расчетом появился на открытом месте, чтобы не напугать Леонида Ивановича неожиданным появлением. Но Красношеин испугался. Увидев их троих, он на какую-то долю секунды остолбенел, глупо округлив рот, и тут же с проворностью метнулся в крыльцо.
Алеша рассмеялся, как смеются удачной шутке, крикнул:
— Свои, Леонид Иванович! Свои!..
Красношеин остановился в сенях, медленно разгибаясь, повернулся, опасливо вгляделся. Алеше показалось, что он узнал его, но вместо радости испуг и растерянность в лице Красношеина стали отчетливее, и тогда Алеша, желая успокоить напуганного земляка, первым вошел в калитку, говоря:
— Я это, Леонид Иванович. Полянин.
Знакомое, но какое-то жесткое, настороженное лицо бывшего лесника просветлело натужной улыбкой.
— Эт-то встреча! — сказал он, стараясь голосом показать радость. Он овладел собой и, метнув быстрый взгляд на автоматчиков, входящих в калитку, ударил в раму окна.
— Эй, ребята, встречайте гостей! — крикнул он в полную силу своего голоса и, в приветствии расставив руки, пошел навстречу.
Приобняв Алешу, дружески прихлопнув по спине, он снял с его плеча автомат, позвал: «Заходите, гости!» — первым пошел в дом. В сенях он попридержал Алешу, распахнул дверь перед автоматчиками, пригласил:
— Шагайте смелей!..
И когда Малолетков, а за ним, пригнувшись, Белаш шагнули за порог, навстречу им рванулся запоздалый женский крик:
— Тикайте, хлопцы!
Помочь им уже ничто не могло: Алеша увидел в проеме двери, как ткнулись в спины Малолеткова и Белаша карабины, и тут же почувствовал под ребром жесткий ствол собственного автомата.
— Проходи, Лексей! Дорогим гостем будешь! — тихо сказал Красношеин и подтолкнул автоматом в дверь.
Связанных Малолеткова и Белаша усадили на лавку. Алеша стоял у стены, руками намертво вцепившись в бинокль; он не смотрел на то, что было в избе, исподлобья он смотрел на Красношеина и, до ломоты в скулах стискивая зубы, исступленно, в отчаянии твердил:
— Гад! Гадина!.. Глупо… Как глупо! Предатель! Сволочь!..
Ни о чем другом он не мог думать. Боль обмана натуго захлестнула его разум; он, наверное, заплакал бы от обиды, если бы не душила его ненависть.
Красношеин не мог не чувствовать его взгляд, при всем спокойствии и даже медлительности, которые снова вернулись к нему, он внимательно следил за ним и автомат из рук не выпускал.
Не мог успокоиться один из трех красношеинских дружков. Припадая на правую ногу, он ходил мимо стола, на котором внавал лежала еда и стояла бутыль самогона, сплевывал на чистые половики. Он был мал ростом; в опухлом, не то в жировых складках, не то в шишках лице терялись его глаза. И только по придавленному, наморщенному маленькому лбу да еще по прижатым, плоским ушам можно было догадаться о звериной злобе, заключенной в этом маленьком неуклюжем человечке без шеи.
Человечек зацепил ногой половик, покачнулся, зло поглядел на женщину, вжавшуюся в угол, и закричал неожиданно тонким, заячьим голосом:
— Ты что это? Это что ты тут вопила? Ты это что — против?..
Он подошел к женщине, рукой-коротышкой хлестнул по лицу.
— Рейтуз, ты не ее, ты меня бьешь… — лениво проговорил Красношеин.
— Тогда вот еще! — размашисто, с наслаждением он ударил женщину по глазам, и Алеша вздрогнул от звука упавшего тела. Опираясь на руки, женщина приподнялась. Он видел, как изменилось ее лицо: словно взбухшие от удара, глаза смотрели сквозь закрывшие лицо волосы не на Рейтуза, а на Красношеина, и такое отвращение было и ее взгляде, что невозможно, казалось, выдержать такой взгляд.
Красношеин все видел, но сидел спокойно, поглаживая рукой круглый диск автомата.
Рейтуз снова поднял руку, выбирая, куда лучше ударить. И Алеша, забыв, кто он и что он сейчас, угрожающе, сквозь зубы процедил:
— Не смей трогать женщину, гадина…
Все лица повернулись к нему. Он заметил острое, открытое любопытство Красношеина, интерес, который проскользнул в быстром взгляде другого полицая, все время невозмутимо сидевшего за столом, — этот чем-то отличался от Красношеина, и от Рейтуза, и от третьего, борцовского вида, детины с младенчески-бессмысленным лицом, — сидел он в маскировочной плащ-палатке, застегнутой до горла, его маслянисто отсвечивающие на свету волосы были аккуратно зачесаны назад; и, хотя полицай этот до сих пор не проронил ни слова, не сделал ни движения, Красношеин все время с предупредительным вниманием поглядывал на него. Невозмутимый полицай пристально, с интересом смотрел на Алешу. Даже Малолетков и Белаш, подавленные всем, что с ними случилось, настороженно подняли головы.
Но сильнее, чем на других, угрожающий голос Алеши подействовал на Рейтуза. Он пошатнулся, будто от толчка, повернулся всем своим маленьким квадратным телом, выставив едва обозначенный под неопрятной губой подбородок, прихрамывая, подошел, встал перед ним, упер руку в бок; как будто в задумчивости, разглядывал его снизу.
— Гражданин начальник, мне что-то не нравятся твои круглые стекла. Тебя не научили через них вежливо видеть!.. — Он говорил с натугой, и в тонком его голосе отчетливо нарастала угроза. Он сдернул с Алешиной шеи бинокль, расставил короткие пальцы, потянул их к очкам. Алеша близко видел выглядывающие из пухлых складок, нацеленные в него маленькие кабаньи глазки, клинышек потных волос выше переносья и, не думая, что будет с ним через минуту, ударил в этот потный волосяной клинышек. Как-то успел левой рукой еще ударить и под грудь и, наверное, достал хорошо, потому что Рейтуз без звука опрокинулся навзничь; ему хватило сил только перевернуть себя на живот; пальцами он царапал пол, судорожно поднимал голову, пытаясь вздохнуть.
Малолетков и Белаш враз вскочили, Красношеин поднял автомат, властно приказал:
— Сидеть!
Встал, передал автомат детине, суетившемуся в ожидании скорых действий, снял со стены ремень и, прежде чем Алеша сообразил, что будет делать Красношеин — бить или топтать ногами, натуго перехватил ремнем его руки.
— Говорил: бойся справедливых! — сказал он, посмотрев сверху на Рейтуза, и знакомо хохотнул. Рейтуз всхлипнул, выгнул спину, привстал на четвереньки; с минуту стоял в такой нечеловеческой позе, нависнув головой над полом; вдруг на коленях засеменил в угол, схватил стоявший там короткий «шмайсер», вскочил, юрко повернулся, изготовясь к стрельбе.
Алеша откинул голову, закаменел, как всегда, когда готовил себя к неизбежной боли: он ждал всплеска пламени в черном отверстии под высокой мушкой и знал, что это будет последнее, что он увидит. Странно, в этом ожидании последней своей минуты он пожалел только своих ребят-десантников, так доверчиво шагнувших за ним в калитку, и женщину, похожую на Рыжую Феньку, живущую в этой избе под тяжким вниманием полицайства с каким-то своим горем и покорностью, так и не понятой им. И еще успел увидеть маму, всю в слезах, и рядом с ней увидел и пожалел Васенку.
Ствол автомата пристукнул о стекло очков; Алеша чувствовал, как с расчетливой медлительностью Рейтуз вдавливает очки в переносье, стараясь продлить наслаждение мести. И, чувствуя, что стекло сейчас лопнет и ствол с разрывающей болью провалится в глубину глаза, старался уйти от подступающей боли, до невозможности вминал в стену затылок, смотрел остановившимся взглядом мимо Рейтуза на Красношеина, как будто знал, как знала и женщина, похожая на Рыжую Феньку, что бьет и казнит не подонок Рейтуз, а вот он, стоящий за ним бывший лесник Красношеин. Красношеин краем глаза следил за Рейтузом, но смотрел прямо в глаза Алеше, и в остром его взгляде, как раскаленная нить в лампочке, проглядывало любопытство и какое-то звериное напряженное ожидание; он как будто дожидался, когда появится в глазах прижатого к стене Алеши страх и мольба о пощаде.
Алеша, сознанием уже принявший смерть, поднимал насколько можно выше голову, пытаясь хотя бы на сантиметр уйти от давящей тяжести автоматного ствола, и, отвечая уже мутнеющим от боли взглядом на ожидающий напряженный взгляд Красношеина, старался не показать ни страдания, ни страха.
Красношеин перевел взгляд на Рейтуза, уловил какой-то нужный ему момент, тихо окликнул:
— Глянь, Рейтуз!..
Рейтуз оглянулся, оглянувшись, ослабил руки на автомате. В то же мгновение Красношеин расчетливо и точно ударил по стволу. Огонь, которого ждал Алеша, полыхнул у самого его лица, тупо отозвался в затылке удар пуль, пробивших стену. Но Красношеин уже держал автомат в руках.
— Личные обиды не должны наносить ущерб Великому Рейху, — сказал он спокойно. — Лейтенант этот мой, понял?..
— Баба — твоя, этот — твой! — закричал Рейтуз; в бешенстве он топотнул ногами.
Красношеин навесил «шмайсер» себе на плечо, сказал примирительно:
— Подрастешь — твои будут… — Он явно был доволен собой и всем, что случилось.
Алеша стоял у стены, чувствуя, как на висках проступает испарина; с трудом он поднял связанные, затекшие, с синевой под ногтями руки, провел по твердым, как лед, губам, — страшна для человека смерть — еще страшнее, когда она проходит, рядом.
Красношеин заметил движение его рук, усмехнулся знакомой своей усмешкой:
— Вот так-то, Алексей! Побудешь покуда в лагере. А там, на досуге, поговорим. Не терпится мне поговорить с тобой по всему, так сказать, разрезу жизни!.. Могу ли я рассчитывать на такое удовольствие? — Он склонился к молчаливому полицаю, прямо и неподвижно сидевшему за столом; полицай наблюдал за Красношеиным с живым и пристальным интересом.
— Гут! — неожиданно сказал молчаливый полицай. Он встал, расстегнул, сбросил на спинку стула плащ-палатку, и все увидели черный китель и на плечах узкие витые погоны немецкого офицера.
2
— Вот, значит, и свиделись, Алексей! Который день говорим, а не рад, вижу. Зря. Попади ты не ко мне, душа бы твоя уже — фьюить! — за облаками дорогу в рай искала! И Елена Васильевна, уважительная, скажу тебе, женщина, — безутешно горевала бы. И директор Иван, по отчеству Петрович, в суетной своей службе остатки дней своих доживал бы без тебя. Так, Алексей. Жизнь, какая ни есть, лучше вечного покоя. И когда петля кадык пережимает — тут уж всё: к черту на загривок готов забраться, лишь бы осталась она, жизнь. По себе знаю. Так думаешь и ты, только о том не скажешь, ни хрена не скажешь! Совесть не даст сказать. И не понять тебе, что этой самой совестью всю твою жизнь вязали к месту, как собаку к будке. Во, пса моего помнишь? Ни на час с цепи не спускал. Ждал, что будет. От ремня на шее заместо шерсти — мозоль вкруговую, ноги покривели, голос сорвал. А покорился! Так перед будкой и топтал землю пять, шесть ли годов. И как я понял, вроде бы стало ему казаться, что истоптанное им место и есть воля… Вот и нам кажется. А сами на ремне всю жизнь. На сколь длины каждому отпущено, на столь дорогу себе вкруговую топчем. И дальше — ни на палец! Чтоб там день или час побегал — ни-ни! Дай псу раз почуять свободу — цепь сорвет! Мой пес у конуры околел. А я вот к своему ремню версту прибавил. Может, и две…
Алеша сидел на лавке, втиснув плечи и голову в угол. В душной комнатке с закрытыми окнами, куда приводил его из лагеря Красношеин, пахло геранькой. Пахло хорошо, знакомо; оттого особенно грустно. Сами цветы на низких окнах он едва различал, плохо видел и самого Красношеина. При первом же допросе очки с него сбили. И с того часа прежде зримый мир, в котором каждый предмет и человек имели определенный вид и привычное место, с того часа отчетливый прежде мир превратился в бессмысленное нагромождение враждебных ему теней. Лиц он не различал, люди бродили перед ним по лагерному двору беззвучными серыми пятнами, и, когда Красношеин вел его пыльными улицами городка на окраину в приглянувшийся ему домик, дома по обеим сторонам их медленного пути, безлюдные и немые, казались развалинами. Неволя держала его крепче, чем других; даже если бы привалила ему удача вырваться за лагерную проволоку, он не нашел бы своей родной стороны в этом другом, ускользающем от его взгляда, расплывшемся мире, где равно непроглядны были дороги, лес и поле, где единственно видимым пятном света было пока еще не закрытое от него небо.
Конца жизни он ждал не то чтобы равнодушно и покорно, — конца жизни он ждал с каким-то даже мстительным чувством к себе; этим чувством он как будто сам наказывал себя за горькую свою доверчивость, непростительную на войне.
— Лексей! Спишь, что ли?.. — Красношеин кулаком постучал по столу. — Слушай, что говорю…
Алеша открыл глаза, поглядел невидящим взглядом, равнодушно закрыл. Он не внимал тому, что говорил Красношеин; слышал знакомый, нечистый, будто навсегда простуженный голос, а видел сыпучие желтые берега Нёмды, сосны Разбойного бора. Лесник сидел перед ним, каблуками сапог вдавив в землю палую хвою. И говорил-рассказывал, прислонясь сильной спиной к стволу у корней. Солнце светило сквозь вершины, до багровости калило лицо и шею Леонида Ивановича, но почему-то не могло согреть его, Алешу; бока зябли, он съеживал плечи, прикрывал себя ладонями, — все равно было студено, и очень хотелось есть. Он слышал голос Леонида Ивановича, но думал, что сейчас встанет, пойдет домой, скажет: «Мамочка, я голоден. Очень голоден. И слаб. Дай поесть что-нибудь, пожалуйста… Мне почему-то больно. Очень больно. Все болит. Они хотели, мамочка, выбить из меня мою душу…»
Нет, это не красношеинский голос. Это чужой голос резко и четко ударяет в уши:
— Was ist das? Was bedeutet diese Patrone?[5]
Человек в черном мундире поднимает над столом руку; между большим и указательным его пальцами винтовочный патрон. Тот, который лежал в нагрудном кармане его гимнастерки, завернутый в промасленную тряпочку и бумагу. Самый обычный винтовочный патрон, который вез он с Урала на фронт и который был его надеждой, мальчишеской надеждой на спасение в ту последнюю минуту его жизни, когда спасение, казалось бы, уже невозможно. Патрон его наивности, в котором что-то опасное для себя и Германии заподозрил немецкий офицер…
— Ich frage, was diese Patrone bedeutet? Parole? Ein Zeichen?.. Für wen?..[6]
Алеша молчит. Если бы даже он захотел ответить, что мог бы он сказать этому чужому офицеру, не знающему, что такое мальчишеские мечты?..
Офицер, не мигая, смотрит в глаза. Он еще сдерживает себя. Достает из ящика стола никелированные плоскогубцы, осторожно разъединяет пулю и патрон, высыпает на чистую бумагу щепотку зеленоватого пороха. Он еще хочет что-то открыть для себя!..
— Ich frage noch einmal: was bedeutet diese Patrone?![7] — Глаза офицера превращаются в лед. Это было последнее, что отчетливо он видел, — застывшие глаза офицера, переводчик в длинном пиджаке, с выжидательно наклоненной головой, и в дальнем углу несуразная фигура Рейтуза, в нетерпеливом ожидании мнущего свои руки-коротышки. Потом удар по лицу, кровь во рту, вспышки боли в боках, в ногах, под грудью.
Когда его подняли, вместо офицера он уже видел только черное пятно мундира…
— Мда, — Красношеин снова постукал кулаком по столу. — Сучок, к тому же свилеватый… — Он встал, громыхнул табуретом.
Алеша открыл глаза, смотрел, что будет дальше.
Тяжело ступая, Красношеин прошелся вдоль окон, вернулся к столу:
— На-ко вот, держи…
Алеша прищурился, разглядел: это были его очки, круглые, в простенькой железной оправе. Он протянул руку, дрожащими пальцами откинул дужки, не сразу пристроил очки на распухшем переносье.
Он увидел комнату, оклеенную чистыми, в розочках, обоями. С лихорадочным любопытством прозревшего вгляделся в фотографии на стене, понял по форменному пиджаку мужчины с напряженным добрым лицом, что в домике прежде жила семья железнодорожника. Сейчас, по всему видать, обитал здесь только Красношеин, обитал не по-хозяйски, с небрежением временного постояльца: в углу, у окна, стояла неубранная кровать с примятой подушкой, на печной вьюшке висела шинель, под лавкой валялись нечищеные, с короткими широкими голенищами, сапоги. У двери, на тикающих ходиках, он заметил подвязанную вместо гири ручную гранату с длинной деревянной ручкой, и рука как будто сама собой в нетерпении сжалась.
Красношеин молча наблюдал за ним, и когда напряженный взгляд Алеши натолкнулся на подвешенную к часам гранату и глаза распахнулись, выдавая радость находки, тяжелый его рот сочувственно шевельнулся:
— Без запала она, Лексей. Разве что по затылку ударить… — Взгляды их встретились, впервые за все дни. Алеша языком потрогал острые края выбитых зубов, через пустоту в деснах тронул нечувствующую губу; ее, безобразно разбухшую, он видел, когда опускал глаза.
— На себя-то хоть глянь! — Красношеин, не вставая, шумно сдвинул табурет, взял с окна зеркало.
— Тебя я без зеркала вижу, Леонид Иванович… — с трудом выговорил он, и Красношеин как будто обрадовался самому звуку его голоса, спросил с интересом:
— Ну, и что видишь?
— Была маленькая сволочь. Стала большой.
Красношеин сокрушенно покачал головой:
— Все такой же!.. Видать, зря спасал твои очки. А пора бы, пора, Лексей, поглядеть на все, как оно есть…
За окнами Алеша теперь видел землю, недалекий лес, близко видел Красношеина, и безразличие, с которым тянул он через плен последние дни своей жизни, стало высветливаться неясной еще надеждой. Он догадывался, что вокруг него шла какая-то игра, задуманная, наверное, не одним Красношеиным. Одно то, что его перестали водить на допросы, что немцы как будто забыли, что в лагерь брошен свежий десантник-лейтенант, уже заставляло думать о начатой игре. Немцы в то же время хорошо помнили о бойцах-десантниках Малолеткове и Белаше. Били их каждый день, избитых вволакивали в ворота, оставляли на виду среди двора, настораживая пленных против лейтенанта, как будто заслужившего их благосклонность. Самого Алешу отдали на откуп Красношеину. И Краеношеин с удивительной для него аккуратностью исполнял свою роль: в один и тот же час пополудни уводил его из лагеря в этот вот домик на окраине, близ железнодорожных путей; словно не замечая его безучастности, терпеливо разговаривал с ним; через какое-то, одно и то же, видимо отмеренное ему, время выводил на улицу. Немец-охранник, дежуривший у ворот лагеря, смотрел на часы, говорил: «Gut» — и пропускал Алешу за ряды колючей проволоки. От ворот Алеша шел по открытому, вытоптанному, как выгон, пространству на виду обессиленных, заросших, оборванных людей, у которых, как и у него, не было ничего, кроме медленно истаивающей жизни, и был в том тонкий и страшный для него расчет. Очень скоро он понял, что у немцев ничего не делается зря. Люди, недавно бывшие, как он, солдатами и, казалось, безразличные к его судьбе, с какого-то не уловленного им времени начали сторониться его; хуже — они молча и неуступчиво отторгали его от себя. К исходу дня пленных, до последнего человека, выстрелами загоняли внутрь кирпичных стен недостроенного завода, без потолка и почти без крыши; и Алеше теперь не находилось места среди людей, — в дождь и в холодные августовские ночи он просиживал у провала в стене, заменявшего вход, на битых острых кирпичах. Однажды десантник Малолетков, вопреки всему сохранивший уважение к своему лейтенанту, уступил ему свое место под лестницей; на другую ночь не стало места и Малолеткову. Немцы знали, что делали: они казнили Алешу ненавистью своих же русских людей. И Красношеин всякий раз, прежде чем отправить за перетянутые проволокой ворота, на виду всего лагеря размашисто обнимал его за плечи, дружески всовывал за ухо сигарету; и, хотя эту всунутую, ненужную ему сигарету выхватывал у него первый же встречный, он, слепо озираясь, плохо видя людей, все равно ощущал на себе тяжесть их взглядов. Он замечал, что все пленные сходятся в группы, ночуют рядом, делят добытую скудную еду; его, Алешу, никто не приглашал в долю, никто ни разу не дал ему хотя бы малого куска. Даже лагерная дуранда не доходила до него: люди, которых умертвлял плен, считали, как догадывался он, что ему хватает подачек дружка-полицая. А Красношеин разговаривал с ним за издевательски пустым столом и спокойно следил, как обессилевал он от голода и одиночества. Алеша сегодня едва дошел до красношеинской обители; и, пока волочил в пыли безлюдной окраинной улочки чугунной тяжести заскорузлые ботинки, которые подбросил ему Красношеин взамен его армейских сапог — сапоги в первый же день плена стянул с него Рейтуз, — думал, что завтра он уже никуда не пойдет. Ему уже было всё равно, где оборвется его жизнь — в песчаном карьере, где расстреливали, людей, или в самом лагере, на кирпичах у пролома в стене, на том единственном пространстве, которое еще у него оставалось.
Из своего угла он разглядывал Красношеина, стараясь разгадать игру, которая шла вокруг него, Красношеин видел ожившее в его глазах внимание и, в ожидании удачи, терпеливо внушал:
— Ты, Лексей, помнится мне, всегда до корня лез. Давай глядеть исходя, как говорится, из существующего. Положение у тебя, скажем прямо, не то что другу, врагу не пожелаешь. Родину ты потерял. Да-да… не вздрагивай, Лексей, не всверливайся в меня отчаянным своим взглядом. Там, откуда ты прилетел, крест в списках уже поставлен. Такой же, как против меня, против каждого, кто по доброй или недоброй воле перешагнул за край бывшей над нами власти. Каждый, кто к немцу за проволоку попал, знает, может, и не говорит, а знает, что на земле, где он жил, его место уже заровнено и памяти о нем не осталось. Был случай, прямо скажу, для твоего ума трудно постижимый. О лагерной шестерке не слыхал? Нет? Оно, и понятно. С тобой в лагере, знаю, не очень-то якшаются. А дело было. Да такое, Лексей, что поначалу сам не поверил. Лагерники на дороге мост поправляли. И какой-то из заблудших самолетиков, пролетая, швырнул к ним бомбу. Двоих охранников прямым ходом на тот свет. А эти шестеро выползли из-под моста, глазам не верят — сами целехоньки и сторожей нет. Свобода! Беги хошь в лес, хошь в поле. В родные места дорога открыта… Вот перекресточек судьба им подкинула! И что думаешь? Вся шестерка в лагерь притопала. Строем. С лопатами на плечах. Сами в ворота вошли. Слышишь — сами!.. Отчего бы это, а?! Гауптман тут же приказал каждому по буханке хлеба подать. Настоящего. Солдатского… Вот, Лексей, сказка какая. Им — свобода, а они обратно в лагерь. Сами! Есть над чем поразмыслить… Ты сейчас у последней черты. Не сегодня-завтра всех угонят в Тростинец. А оттуда одна дорога — дымом под облака!..
Пока я тут, якорь, как говорится, спасения в твоих руках. Тебе ж одно только слово сказать! Что слово? Тьфу! Сказал и — нет его, ушло. А ты — жив! Жив! И всё при тебе!..
«…Когда же, когда мы разошлись с тобой, Леонид Иванович?.. — думал Алеша, напрягая слабыми своими силами память; он слушал, но как будто не понимал, что говорил ему Красношеин. — Ведь сходились в чем-то? В желаниях, что ли? Лес. Воля. Рыжая Фенька… В чем-то я и Юрочка сродни были тебе, Леонид Иванович! А разошлись. Не здесь. Не теперь. В те еще годы, когда не думалось о войне.
Я ведь помню день дикой вольницы, когда, хмельной и довольный, шел ты от Феньки и ухватил нас с Юрочкой на озерах. Ухватил и понятливо обласкал нас, нашкодивших школьников. Заставил дружно распить бутылку самогона. А утром, после мучительной для меня покаянной ночи, в совершеннейшем удовлетворении врезал навек в мой исстрадавшийся ум свои убежденные слова: «Вот, Лексей, одна бутылка и — нет человека. Даже двух…» Не в ту ли ночь что-то разладилось у нас с тобой?.. А может, еще в ту, начальную пору нашей, дружбы, когда ты, Леонид Иванович, разорвал протокол на знакомых порубщиков? Разорвал, хотел проверить, какая сила возьмет во мне верх: совесть и долг или взбурлившее молодое чувство доброй Феньке?..
Нет. Тогда мы с тобой еще не разошлись. Ты только заставил в жарком стыде пережить подброшенную утеху. Тогда я еще не нашел сил отступиться от вольницы, что виделась за твоими плечами.
Что же все-таки развело нас, Красношеин? И вот теперь обоих поставило у последней черты?..»
Алеша пробуждал память, искал тот день, который развел их уже без возврата. И нашел! Случилось это, когда милая каждому, кто ее знал, Васенка уже была женой удачливого лесника.
В тот вечер мела метель. Он сидел у лесника в доме, как всегда, стеснительно и молчаливо и не торопился уходить. Держала его в чужом доме не только — метель с каких-то пор трепетно-милым стал для него чужой уют, который теперь ощущал он в присутствии Васенки. Красношеин в темно-синей, распахнутой на груди форменке сидел, облокотясь на стол, лениво водил пустой стопкой по чистой клеенке, с усмешкой, будто не замечая молчаливого и светлого присутствия своей жены, вслух рассуждал о жизни семигорцев. Васенка в тихой озабоченности готовила печь к утру, время от времени бесшумно подходила к сундуку, на котором под лоскутным цветным одеяльцем спала Лариска, раскинув пухлые ручонки с подогнутыми к ладошкам пальцами. Васенка склонялась, плавным, движением руки убирала с раскрасневшегося от жаркости сонного личика темные, напавшие на такой же выпуклый, как у нее самой, лобик прядки волос. Замерев над дочкой, улыбаясь неспокойной мягкой улыбкой, поправляла одеяльце на ножках, снова неслышно шла к печи. Алеша с открытой доверчивостью любовался Васенкой. Последнее время он чувствовал какую-то, незнаемую прежде, потребность видеть Васенку; хотелось на нее смотреть, следить за певучестью ее движений, чувствовать на себе ее теплый, обласкивающий взгляд. Васенка была для него как сама Красота, сама Доброта. Он с завистливым волнением наблюдал Васенку в ее озабоченности и затаенно, смущаясь, своими мыслями, думал о той поре, когда чьи-то руки с такой же певучестью и ласковостью движений будут хлопотать для него. Он ведать не ведал, что Леонид Иванович Красношеин все зрит из своего застольного угла.
— Что, Алексей, обжигает?! — спросил он, когда Васенка закончила хлопоты у печи, оделась, взяла ведра; вышла за водой; взгляд его посвечивал нехорошим дымным огнем.
Он пригнулся над столом, сбоку заглянул ему в глаза и — не шепотом — в голос сказал:
— Хочешь, с Васенкой спать положу?! Вот придет сейчас — и ляжешь! А то глядеть на тебя тошно: как кобель-коротыш, прыгаешь вокруг, достать не можешь… Ложись давай. Я тем часом к Феньке смотаюсь… — Сказано это было всерьез, Алеша чувствовал, что сказано всерьез, и как будто вмерз в лавку.
Вошла Васенка, с мороза зарумянившись, поставила ведра, как-то по-домашнему звякнувшие железными дужками. Почти в ужасе он смотрел, как снимала она с головы платок, ладонями оглаживала волосы, опушенные у висков инеем; боль за милую Васенку, боль, какой прежде никогда он не знал, рвала его сердце. Рывком он поднялся, кинул на голову шапку, сдернул с гвоздя пальто.
— Что так скоро собрался? — Васенка обернулась, спрашивающе глядела из-под согнутой в локте руки, которой поправляла волосы. Он не ответил, споткнулся, перешагивая порог, захлопнул дверь. С гудящей головой он шел по твердой, взвизгивающей под ногами дороге, не чувствуя ни мороза, ни ветра, шептал: «И это — человек… Ничего святого!.. Ни души, ни совести. Дико. Страшно!..»
С того дня он перестал ходить в дом Красношеина. Они разошлись, и как будто навсегда, предоставив друг другу возможность жить по своему разумению. Он думал, что пути их, как рельсы по шпалам, могут рядом идти тысячи верст и нигде, ни в днях, ни в ночах, не сойдутся. «А вот сошлись, — думал Алеша, — Война, оказывается, не только обрывает дороги. Она еще и сводит разведенные пути…»
«Сошлись мы с тобой, Леонид Иванович. Снова сошлись, — думал он. — И жизнь одного теперь зависит от смерти другого…»
Алеша оглядел свои истонченные, покрытые грязью руки, незаметно приподнял над острыми коленями — костлявые, удлинившиеся пальцы, пугающе раздутые в суставах, задрожали мелкой, незатихающей дрожью. Он покосился на руки Красношеина — огромные его кулаки, похожие на лабазные гири, в ленивой неподвижности покоились на столе. Горько он усмехнулся, с трудом поднял голову; голова качнулась на ослабевшей шее, как неживая, стукнулась об стену.
Красношеин поднялся, на лице его обозначилось беспокойство, жалостливо глядя, он постукал себя кулаком по виску:
— Не докумекал, Лексей. Ты ж без сил теперь! Я с тобой о том-сем, забыть забыл, что на пустое брюхо голова не в уме! Погоди, я сейчас, по-холостяцки…
Он вышел будто в суетности, у стены под часами остался карабин.
Алеша затаил дыхание, он смотрел, уже ощущал в ладони залосненную красношеинской рукой ловкую шейку приклада, всю возбуждающую тяжесть металла, готового плеснуть огнем. Кровь била в виски. Он рассчитал: проскочить два шага, которые отделяют его от карабина, ему не хватит сил; ему придется сделать три шага, и сделать их надо тихо. Он уже нагнулся, он уже вытягивал себя из-за стола, дрожа от самой возможности дотронуться до оружия, меняющего их силы, когда из невидимого пространства другой комнаты бесшумно объявился Красношеин, загородил телом весь дверной проем. Он глядел как будто с сожалением, и Алеша понял: промашки не было — Красношеин просто проверял его.
— Ну вот, глаза заблестели! А то, гляжу, хиляк хиляком… — сказал он так, как будто доволен был тем, что Алеша не обманул его ожидания. Он поставил на стол помятую алюминиевую тарелку с вареной нечищеной картошкой, достал из тумбочки буханку ржаного настоящего хлеба с черной верхней коркой. Алеша не хотел смотреть и не отводил глаз; видел хлебные, до румяности запеченные боковины и чувствовал, как желудок словно затягивается в узел, как мутит разум голодная боль.
Не спеша, Красношеин изрезал половину буханки. Алеша из-под полуоткрытых, подрагивающих век следил, как отделяются, отваливаются на столешницу ломти, пахнущие жизнью, сдавливал губами липнувшую к деснам слюну, униженно думал, что когда-то такой вот хлеб за медяки он покупал по заданию мамы на улице Горького, в булочной, где за широкими; светлыми витринами лежали караваи, батоны, сухарики, крендели, — в булочной, которую почему-то все москвичи называли прежним, привычным им словом «филипповская»…
Он плотнее задвинул себя в угол, незаметно сглотнул слюну.
— Ешь, Алексей. Другого случая не будет, — серьезно сказал Красношеин. — В лагере не накормят, а сил у тебя на два дня осталось…
Алеша не знал, что сломало его упорство: посерьезневший тон Красношеина или прихлынувшая вдруг обида на тех в лагере, кто был недобр к нему и так жестоко обносил куском; может, просто одолел его, ослабшего, запах хлеба, но он склонился над столом, взял ломоть, разломал, впился обломками зубов сразу в обе половины. Он жевал, клоня голову, закрыв глаза, знал, что Красношеин смотрит на него, и все-таки кусал и жевал кровавившими хлеб деснами, и плечи и руки его дрожали, и слезы текли по немеющим от позабытых усилий щекам. Он сжевал два ломтя, пару холодных картофелин, не сумев в голодном нетерпении очистить их, и, как будто ломая рвущиеся к хлебу руки, остановил себя.
— Всё, — сказал он и откинулся в угол. Теперь ему было стыдно за свою слабость, он опустил голову, стиснул рот, зажмурил глаза, чувствуя, как накатывает боль от раздраженного пищей желудка.
— Ладно, Лексей, — Красношеин пристукнул рукой по столу, будто захлопнул книгу. — Голос твой услыхал и тому рад. Давай говорить напрямки. Из души, как говорится, в душу. Откроем карты, раскинем, где — козыри, чьи биты?! Ну?.. Кончай молчать, Алексей! Ты же об уме какие речи выдавал! Вот умом и раскидывай. Гляди мои козыри. Сила — раз. Воля — два. Хоть баб, хоть девок — навалом, от бело-черных до рыжих. Небось бабьего естества так и не спробовал?! Как помирать-то будешь?.. Заметь и то, что в жизни, куда зову, никто за вольности с тебя не взыщет. У Гитлера все построено на потребностях естества. Это они хорошо понимают!.. Что у тебя на руках? Шестерки, да и те без козырной. Ни воли. Ни хлеба. Ни прочих людских необходимостей. Нет, Лексей. Чем курой в щах сдохнуть, лучше соколом над теми же курами кружить…
Напрягаясь больным, замутненным взглядом, Алеша смотрел сквозь стекла очков, как будто хотел что-то, понять в том, что говорил ему Красношеин. Последние слева он расслышал, и запавшие его щеки шевельнулись, внятным тихим голосом он сказал:
— Какой ты сокол! Коршун ты, Красношеин…
Красношеин согласился:
— Тебе видней. Но коршун тоже птица — летает!.. Ну, Лексей, пойдешь к нам?.. Мужики мы, чую, одной закваски. Пулю от тебя я отвел. С допроса, как видишь, снял. Но тому сегодня последний день. К жизни осталась у тебя одна: дорога, одна-разъединственная… Другого хода нет, Лексей…
Краеношеин глядел с каким-то родственным участием, как будто жалел и нынешнего, и того, ухоженного, семигорского Алешку, которого пестовал в былые времена. И все-таки Алеша улавливал нетерпение, с каким ждал Красношеин его сло́ва; почему-то слово его было нужно ему, и, стараясь понять, он спросил осторожно:
— Если пойду, так что?
— Жить будешь!
— Жить!.. А как?..
— Как прикажут, так и будешь.
— Без совести, значит…
— Далась тебе эта совесть, Лексей! Пустяк она! Рыбий пузырь!
— Пустяк! — Алеша усмехнулся, как только мог усмехнуться разбитым, опухшим ртом, подумал: «Без пузыря рыба, а в воде не живет».
С тем же усмешливым сочувствием спросил:
— Пустяк, а, наверное, мешает?
— Теперь уже не мешает, — отрезал Красношеин, и по грубости, с какой он ответил, Алеша понял, что бывшему семигорскому леснику что-то не дает спокойно жить. И, желая надавить на больное, нащупанное им место в душе Красношеина, сказал:
— Нет, Леонид Иванович. На моей совести тебе не заработать. И душу не спасти.
— Ну и хрен с тобой! Только вот что скажу: совесть всё одно не сбережешь. Не будет у тебя ее, совести! Потому как может она быть только у живого. Слышишь? У мертвого ее не бывает!..
Алеша откинул голову, в угол; бледнея серым лицом, смотрел мимо Красношеина, мимо стен этой уже потерявшей чистоту комнатки с засыхающими гераньками на окнах; едва слышно будто самому себе, сказал:
— И как только Васенка жила с такой сволочью…
Он не вздрогнул, — он уже не вздрагивал от криков, даже от близких выстрелов, — он просто возвратился в действительность от тяжелого удара по столу.
Красношеин прижимал к столешнице оба кулака, и с искаженного бешенством багрового его лица дико глядели остановившиеся глаза.
— Еще слово про Васенку — задушу… — Шепот, его был страшен. Пригнув голову к груди, он глядел вбок, водил по столу тугими кулаками.
Алеше казалось: еще минута — и Красношеин рухнет, как бык, которому ножом перехватили горло.
— Всё, Алексей. Подымайсь… — Он встал, взял карабин.
Алеше дурно стало от подступившей слабости. «Всё… Значит, конец… Только бы не пошатнуться…» — думал он. Рукой, нащупал край стола, поднялся. Заложил руки за спину, наклонил голову, пошел к двери, стараясь ступать твердо. Спустился с крыльца, сам повернул направо, к песчаным карьерам. Неуклюже шаркая ботинками, чувствуя совершенную пустоту, он шел впереди Красношеина, твердил, как заклинание: «Это не страшно… Удар пули — и всё. Давно бы могла она достать меня. И под Ржевом. И под Каменкой. В воздухе у Сходни… Что из того, что достанет здесь? Только бы устоять. Только не подогнулись бы ноги…»
С дороги они сошли на широкую, протоптанную в сухой траве тропу, идущую вниз, к карьерам, из которых когда-то брали песок на полотно железной дороги. Как только открылась глубина песчаных ям, услышался там, в ее глубине, неясный шум. С трудом переставляя ноги, увязающие в сыпучем песке, прислушиваясь к странному шуму, Алеша покорно спустился вниз, увидел за грядой валунов людей. Люди — три женщины, старик с растрепанной бородой, мальчишка, совсем еще подросток, и мужчина в разорванной косоворотке — стояли у края котловины, с проглядывающей позади них тинистой водой. Напротив, шагах в двадцати, оживленно переговаривались два автоматчика в голубых куртках с засученными рукавами; чуть в стороне офицер в черной форменной одежде курил, медленно выпуская дым, рассматривал стоящих у котловины молчаливых людей. Между офицером и людьми бегал в озабоченности несуразно низкий, почти квадратный, человек в шапке с длинным козырьком и автоматом в руке; дрогнув сердцем, Алеша узнал Рейтуза. Пустота в груди зазвенела отчаянным звоном; глядя себе под ноги, он пошел туда, где стояли люди.
— Торопишься, Лексей!.. — Красношеин придержал его, встал рядом, искоса наблюдая за ним.
Рейтуз что-то выглядел, подскочил к одной из молодых женщин, своим сапогом придавил ее сапог, крикнул:
— Давай скидывай!
Женщина смотрела, как будто не понимая.
— Сам снимешь, когда убьешь! — вдруг сказала она.
Рейтуз засуетился, навесил автомат на шею, протянул короткие руки:
— Сымай, говорю!
Женщина приподняла ногу, как бы давая ухватить сапог, и, когда Рейтуз нагнулся, с силой ударила сапогом ему под шею.
Красношеин чуть слышно хохотнул:
— Во, достается лакейчику! — Он с каким-то даже удовольствием глядел на ворочающегося в песке Рейтуза; он как будто отделял себя от того, что было сейчас перед ними.
Испуганный и ненавидящий взгляд Алеши он заметил, сказал внушительно:
— Туда, туда гляди, Алексей!..
Женщина оборотила лицо к небу, руками крест-накрест охватила плечи, как будто укрывая себя от стужи; стояла так, казалось, никого и ничего уже не видя.
Рейтуз сидя стащил с шеи автомат, целился, как по мишени. Щелкнул выстрел; нога подломилась у женщины; она пошатнулась, опустилась на песок. Рейтуз прицелился, выстрелом разбил ей вторую ногу. Поднялся, подошел. Постоял, посмотрел, сапогом придавил горло. Перевел рычажок на автомате; развернувшись на каблуке, длинной убивающей очередью ударил по людям, оцепенело стоящим у края котловины.
— Что, помертвел, Лексей? Думал, здесь шутят?! — Красношеин мрачно смотрел на него, сцепив на карабине руки.
Офицер в черном, не торопясь, отбросил сигарету, платком обернул мундштук, положил в карман. Взял у солдата автомат, не спешно подошел к лежащим на краю котловины людям. Он медленно выцеливал, бил короткими очередями в каждого. Он делал свое дело привычно, аккуратно и с видимым удовольствием. Дважды обойдя убитых, офицер так же не спеша подошел к лежащей на спине женщине. Женщина была еще жива, руки ее двигались, пальцы сжимали песок. Офицер, как только что делал это Рейтуз, постоял над ней, разглядывая. Потом одной рукой поднял автомат, выстрелил ей в голову.
Жажда убивать не была в нем удовлетворена. Он махнул рукой Красношеину, крикнул:
— Hole noch jemanden zu mir![8]
И, видя, что Красношеин не двигается, сам пошел навстречу.
Алеша снял очки.
Офицер приближался медленно. С каждым шагом он как будто увеличивался, заслонял чернотой своего мундира небо. Лица у черного человека не было; на месте лица Алеше виделось неясное, желтое, как песок, пятно, и в середине этого пятна было почему-то огромное, круглое, тоже черное, дуло автомата; не мигая, он смотрел в этот вбирающий его черный круг и, как в полусне, слышал заискивающий, но настойчивый голос Красношеина:
— Господин обер-лейтенант! Установленный срок еще не кончился. Слово господина Гауптмана еще охраняет этого человека!
— Wozu hast du ihn zum Teufel hierher geschleppt?![9] — Черный человек кричал, он хотел крови.
— Будущему служителю райха, господин обер-лейтенант, надо знать работу, которая ему предстоит!..
Черный человек резко повернулся, разряжая свое возбуждение, выпустил остаток пуль по мертвым.
У ворот, уже сдав Алешу немцу-охраннику, Красношеин закинул карабин на плечо, сказал, подойдя вплотную:
— Всё, Лексей. Свиданки кончились. Завтра к Рейтузу попадешь. Меня в тот страшный час не поминай. Собаки-овчары, что рвут людей, щенки перед ним!.. Что мог — сделал. Власти моей над тобой больше нет. Ежели передумаешь, ночью к воротам подойдешь. Как подойти, знаешь — руки крестом держи. В ночь у ворот дежурю. Понял?..
Было что-то в этом «понял» и не только участие к незавидному его концу. Алеша хотел увидеть это «что-то» в его взгляде, но немец-охранник твердым дулом пулемета пропихнул его в приоткрытые ворота.
3
— Алеша, дорогой, приляг, вот тут приляг, я потеснюсь. О, господи, что творится в этом мире! Думал ли я, что в этом вонючем концуглу, у края могилы, встречу милого нашего Алешу!.. Я не узнал тебя, мой мальчик. Ты худ и мрачен. И это твое лицо. Разбитые черные губы. Что они хотят от тебя?! Прости, мой дорогой. Мне все кажется, что я на Басковом… Ты спрашиваешь, почему я не выхожу на свет божий?! Во-первых, никакого света, Алеша, уже нет. Жизнь стала кошмаром, в котором легче умереть, чем жить. Скоты стали господами, людей пытаются сделать скотами. Все, как, воздыхая, говорил Толстой, переворотилось. Неправедной силой они толкают мир к концу. Это все, во-вторых, милый Алеша, теперь, когда от моего тела осталась треть довоенного объема, мой нос стал привлекательной мишенью для этих всесильных эрзацманов с автоматами и в касках юбочкой. Даже deitche язык, который я слышу отсюда, вызывает во мне неприятную дрожь. Как ты понимаешь, сюда я попал не по желанию. Меня ударило, пропороло осколком… Вот, пощупай, мой мальчик, дай руку. Ты чувствуешь, как это было?! — Алеша ощутил под пальцами панцирную твердость засохших бинтов. — Я очнулся, когда меня уже вели под руки. Рядом шли и смеялись автоматчики. Их автоматчики. Не могу понять, как удается нашим парням, идущим так же как я, к широкому-рву с трупами, прятать меня от собачьих глаз этих далеко не милых господ! Эта одна из великих тайн русской души, Алеша! Быть под дулами без предупреждения стреляющих пулеметов и верить, что на земле еще есть будущее. И не только верить, а и ждать. Не только ждать, но и что-то делать! Русские парни просто потрясли меня! Не знаю, зачем я нужен их будущему, полковой интендант и уже не первой молодости еврей, который все последние мирные годы служил искусству, только искусству! В первый же час плена меня должны были поставить в сторонке, вместе с политруками и теми, кто чем-то похож на комиссаров, и аккуратно, исполнительно пробить пулями, изготовленными в Vaterland’е Гёте. Не знаю, не знаю. Эти парни спасли меня в первый день. Они прятали меня потом, в печально бредущей по пыльным дорогам процессии. Они укрывают меня здесь, в этом странном, непонятном и страшном месте! Хотя для меня это только лишние дни страданий по пути на Голгофу. Я не заблуждаюсь относительно своего будущего, милый Алеша. После сортировки, которая здесь пройдет, даже удивительные парни не помогут мне избежать моей печальной судьбы! Я готов принять неизбежное. Но не могу не думать, как странно устроен человек! Я знаю, никому не пригодится опыт, который отложился в моей беспокойной голове за очень короткие сорок четыре года моей жизни! Иду к концу, а думаю о начале. Это как понять, милый Алеша?! — дядя Миша держал его руку холодной слабой рукой, дрожащими пальцами шарил по ладони, будто старался что-то в ней найти. Но суетилась только одна его рука: вытянутые босые ноги, худое под просторной, порванной гимнастеркой тело, крупная голова с покатым, к затылку устремленным лбом, и другая рука, закинутая на живот, — все было в какой-то отрешенности, было неподвижно в сумраке, скопившемся под стеной. Казалось, вся сила этого когда-то полного, подвижного, жизнерадостного мужчины осталась только в руке, протянутой Алеше, и в губах, быстро шевелящихся в неопрятности бороды и усов. Алеша сам был в истерзанном виде, но смотреть на то, что осталось от когда-то веселого, симпатичного ему человека, с которым он встречался в доме на Басковом, было даже как-то жутко. А дядя Миша не мог себя остановить, глаза его, будто выдавленные из черных провалов глазниц, молили Алешу слушать.
— Если милосердие небес падет на тебя, судьбой ниспосланный мне мальчик, и ты выберешься из этих адовых кругов, и когда-нибудь попадешь на благословенные берега Невы, в дом на Басковом, опустись на колени перед Анной, скажи родной своей тетке: «Так бы стоял перед тобой твой муж Михаил, если бы судьба пощадила его…» Алеша! Ни перед кем я так не виноват, как перед этим молчаливым, всепрощающим ангелом! Она все знает! Я всегда уходил от объяснений. Я считал, дело — выше слов. Я не был чуток к ее невеселым мыслям. Право знать и терпеть я оставлял ей. И она терпела! Я понимал ее, Алеша! Но, увы, жажда жизни была для меня сильнее самой высокой философии. Я слишком, я безрассудно любил жизнь, Алеша! И все-таки я не могу не думать, милый мальчик, зачем цивилизованный век возродил варваров? Неужели для того, чтобы в этой невероятной войне погибло человечество?! Эгоизм — всегда плохо, милый Алеша. Теперь я все вижу из мрака этого здания. Но национальный эгоизм этих наци в крепко пошитых немецких мундирах — это ужасно! Это — конец! Это край пропасти, куда вместе с побежденными катятся они сами! Без будущего нет жизни, Алеша. У них нет будущего. Эти скоты в черных мундирах силятся замкнуть двадцатый виток истории на виток первобытного прошлого. Но разве возможно, дорогой Алеша, возродить рабство, когда люди уже почувствовали себя людьми?!
Бог с ними! О, я кощунствую — пусть дьявол заботится о них! Говорить о них так же мерзко, как быть с ними на одной земле… Человек слаб, Алеша! Я тоже был слаб. Но, боже, если есть на мне грех, то только от коварства самой природы! — она дарует удовольствия и заставляет платить за них. За все я готов был расплачиваться здоровьем. Но не мог думать, что за любовь к искусству и России мне придется расплачиваться жизнью. Печально думать, что моя всегда покорная совесть умеет еще и больно кусать! Я — материалист, Алеша. Я считал, мое дело — активно, дерзко жить, как положено каждому живому сильному созданию. Меня увлекало само действие. Я никогда не страдал по тому, что оставлял. Я был деловым человеком, Алеша. Я умел и любил делать дело. Для театра. Для искусства. Для людей. Само собой разумеется, и для себя. Ты знаешь, что такое «цимес плюс компот»? Я поклонялся красоте, Алеша. И никогда ни в чем не знал сложностей, все казалось естественным, как сама жизнь!.. Но вот в побежденных оказался я, хотя и несколько в другом смысле. Увы, теперь я знаю, что чувствуют побежденные!.. Теперь я не спешу. Зачем рваться вперед, милый мальчик! Когда тебе уже незачем смотреть вперед, смотришь назад. Куда-то надо смотреть, пока ты жив, к тому же еще и в памяти!.. Я стал смотреть назад и увидел длинный хвост своих суетных дел. Мне казалось, я увижу яркий хвост, подобный огненному хвосту несущейся над землей кометы. Увы, даже мои добрые и полезные дела присыпаны пеплом бесплодно растраченных сил! Скажи, дорогой моему сердцу мальчик, зачем природа дала человеку память? Жестоко возвращать человека к тому, что прошло… — Дядя Миша устал говорить, закрыл глаза, лежал, не отпуская Алешиной руки. Неожиданно он сел, прислонился спиной к бетонной стене. — Алеша, слушай сюда. Я не хотел оставлять после себя другую жизнь. Я хотел прожить свою. Но прошлое неведомыми путями настигло меня. Я узнал, что у меня есть сын. Это был давний след, я оставил его в моей романтической молодости, когда колесил по губерниям России. Мне не было приятно от того, что я узнал. Я был деловым человеком и предложил деньги… Милый Алеша, деньги есть деньги. Даже шедевры искусства имеют свою цену! На них можно не только учиться, на них можно просто жить! Я уже не говорю про город, речь шла о деревне…
Почти забытая мать моего сына мне ответила: сын хочет знать своего отца. Поразительно, в этом письме не было жалоб, не было просьб. Было достоинство и боль, даже стыд за сына!.. Я подумал: моим житейским принципам пришла пора потесниться. Я не боялся, что объявившийся потомок Михаила Шапиро потеснит мою жизнь. Моя жизнь была хорошо устроена. У меня были связи. Я мог без труда и под веселенький аккомпанемент запустить неустроенный кораблик из небытия явившегося сына в незнакомое ему море городской жизни. Я боялся другого: я не знал, как примут явление младшего Шапиро на Басковом? Тебе известно: живущее там большое семейство и так не очень жаловало мою, как им казалось, легкую жизнь! Бог видит, я уже готов был открыться Анне. Но тут началась война, и человеческая жизнь стала дешевле пары туфель самой невзрачной девицы кордебалета.
Милый Алеша, я знаю, в жизни есть идеалисты. Я не принадлежу к ним. Я знаю, через день-два мое когда-то веселое тело пойдет на удобрение скудной смоленской земли. С этим я уже смирился. Когда другого не дано, человек с покорностью принимает то, что дается ему судьбой. Ты не согласен? Это от того, что ты еще мало жил. Ты еще совсем не жил, милый Алеша! Я хочу сказать другое: в этом общем каменном гробу я стал думать о людях. О тех многих людях, кто не судил меня строго, прошли через мою жизнь, как легкие деньги проходят через молодые беспечные руки! Я стал кое-чего стыдиться в своей жизни! Это ли не парадокс, милый Алеша?!
Мне бы не хотелось уйти, не заплатив долга. Ты молод, таких здесь быстро не убивают. В глазах твоих упрямство и злость. Ты еще можешь вырваться из лап этих скотов. Обещай, Алеша, если небеса отметят тебя своей благодатью, ты встанешь перед страдалицей Анной на колени, испросишь прощение за меня и скажешь о моем сыне. Она простит, она примет, она позаботится о человеке, который имеет право войти в нашу семью.
Прошу, Алеша, нацарапай в своей памяти; на Волге, где-то под Костромой, есть городок, мною забытый. Имя у него теперь новое. Я узнал по письму. Имя его — Советск.
Есть там улица Верхняя, запомни — Верхняя, дом восемнадцать. Восемнадцать ты запомнишь — это твое совершеннолетие. Живет там одинокая женщина Дора Павловна Кобликова. В юности я ее знал просто как бесстрашную Дашку. Ее сын — это мой сын Юрий… Я тебя утомил? Тебе плохо? Что ты смотришь на меня такими ужасными глазами?! Все ясно, ты истощен. Этот голод невыносим даже в гробу. Мне нечего тебе дать, милый мальчик. Все, что подсовывают мне по ночам заботливые парни, я тут же проглатываю с нетерпением бездомной собаки. В этой жизни что-то оставлять на завтра может только сумасшедший. Что ждут от меня эти парни? Я не врач. Я человек театра. Но здесь не место для театра души и благородства. А театру убийц и людоедов я не служу… Тебе легче? Твой взгляд меня испугал… Ты запомнил, что я тебе говорил? Напротив городка есть село. Какое-то Горье. Там, я вспоминаю теперь, и жила эта самая Даша…
Алеша внимал сбивчивому говору дяди Миши. Он сидел на грязном полу, опираясь рукой на холодный бетон, приклонив к плечу голову, время от времени от слабости закрывал глаза, что-то пропускал из покаянных и, в общем-то, теперь ненужных слов Михаила Львовича. Но имя Юрочки Кобликова пробилось сквозь вялость его души, и с запоздалым отчетливым сочувствием он подумал: так вот к кому тянулись нетерпеливые думы его тоскующего друга! Вот она, удручающая тайна — его, Алешин дядя, Михаил Львович — отец Юрочки!..
Не открывая глаз, он тихо поправил:
— Не Горье, а Семигорье. Мы же там живем… И Юрочку я знаю…
Дядя Миша издал какой-то странный короткий звук, похожий не то на смех, не то на плач. Алеша открыл глаза и увидел Юрочку: та же сейчас тусклая и все же уловимая лучистость глаз, те же губы, собранные в трубочку, — все это пряталось в неопрятной бороде и усах, дополнялось широкой залысиной над энергичным лбом, но Юрочка перед ним был, на мгновение он явился…
Дядя Миша откинулся к стене, обе его руки уперлись в пол.
— Бог ты мой! А кто-то утверждает, что судьбы человеческие устраиваются не на небесах… Но почему, Алеша, Семигорье? Вы же все время были в Москве?! Впрочем, все может быть, я мало следил за жизнью родственников… Ты знаешь моего сына?.. Тебе надо мне рассказать…
За стеной сухо треснул воздух — прозвучали две предупредительные очереди. Немцы не утруждали себя: когда приходило время очистить примыкающий к недостроенной фабрике открытый, обнесенный проволокой загон, где пленным разрешалось проводить день, охранник с вышки давал две очереди. Через десять минут тысячная толпа должна была убраться за стены здания, кто не успевал — попадал под пули.
Алеша знал, что люди сейчас забьют все помещение, вплоть до потолочного перекрытия на втором этаже, забьют так плотно, что до утра многие будут стоять, а то и висеть, сдавленные другими телами. Он поднялся, чтобы успеть пробраться на свое место в полуосыпавшемся тамбуре, где хотя и на острых битых кирпичах, но можно было лежать. Дядя Миша цепко прихватил его за полу гимнастерки:
— Останься здесь, Алеша! Ты мне еще не рассказал…
Пристроиться вдвоем в узком закуточке, где Михаил Львович пребывал, было невозможно. Он хотел сказать об этом, но спасающие себя люди хлынули через проход, словно поток воды в раскрытые створы плотины, оторвали его от что-то кричащего дяди Миши, погнали через лежащие на бетонном полу тела живых и мертвых в дальний угол, где чернела дыра его тамбура.
Когда Алеша заполз на свои кирпичи, сдвинул из-под себя, насколько хватило сил, самые неудобные острые обломыши, лег лицом вниз и затих, опирая лоб на подсунутые руки, он какое-то время еще думал о дяде Мише и странностях человеческих судеб. Но в вялости души, идущей от обессиленного голодом тела, гасли, тушевались важные мысли. Забываясь в уже привычной болезненной полудреме, он уловил в себе только две определенные, показавшиеся ему важными мысли. Подумал: «Дядя Миша старается об исповеди… Но почему молчит моя совесть? Только ли потому, что я еще мало жил?!»
И еще подумал с удивлением, с каким-то даже недоверием к тому, что в этот час ему открылось: «Оказывается, мы с Юрочкой какие-то там родственники?! Вот она, невероятность жизни! Но важно ли это теперь? А может, все-таки, важно?!»
4
Алеша слышал в эту ночь какой-то странный звук: «Триньк-треньк… Треньк… Триньк…» Звук был хороший. Из прошлой жизни. Такие звуки окружали его ночами на весенних разливах Волги, где в затопленной пойме, у дубовых грив, еще удерживался лед. Хрупкие иглы источенных солнцем льдин, подмываемые водой, с шорохом опадали, звенели чистым, печальным звоном. «Триньк-треньк…» — слышал Алеша звон рассыпающихся льдин: прошлое входило в затухающую в нем жизнь. Лежал он ничком на своем привычном месте, на битых кирпичах. Запавший живот, колени, руки уже не чувствовали ни холода, ни острых, как гвозди, углов; ему уже все было равно — и боль, и голод, и сама жизнь. Только вот этот звук падающих ледяных игл: «Триньк-треньк…» Зачем доносился к нему из далекой теперь жизни этот памятный звук?.. Ах, вот — было. Было однажды что-то близкое тому отчаянию, в котором он сейчас. Было.
На разливах он стрелял селезней. Трое суток не выходил он из лодки: в лодке спал, ел, с лодки стрелял и не видел ничего другого, кроме неба и серых льдин, истаивающих среди деревьев в ослепительной, сверкающей на солнце водополи. Наверное, он устал быть среди воды. Устал от одиночества, которое считал за благо. Вода вдруг стала пугать его текучестью, зыбкостью, плеском волн, шорохом и звоном рассыпающихся льдин. Странное чувство оторванности, заброшенности, ненужности, невозможности дольше быть в этой безбрежности воды охватило его. Беспокойство нарастало.
Он греб, все убыстряя движение утомленных рук, глазами выискивал хоть какую-нибудь, хоть малую земную твердь. Плыл долго, торопливо, изматывая себя, и, куда ни плыл, всюду была вода.
К закату солнца, в полном отчаянье, в объявшем его непонятном страхе, с мокрыми от слез глазами, он наткнулся наконец на крохотный островок, едва заметный над водой. Уткнув лодку в береговую кромку, будто спасаясь от беды, он перевалился через борт, отполз на коленях, бросился к земле, сминая грудью сухую ломкую траву. Он вжимался коленями, ладонями, лицом в податливую земную влажность, стонал, смеялся, обнимал раскинутыми руками спасительную ее твердь и чувствовал, как ответная живая сила земли снимает смятенность с его встревоженной души, успокаивает измученное неподвижностью тело…
«Триньк-треньк…» — слышал Алеша звон распадающихся льдин. Ему казалось, что снова плывет он в одиночестве, среди безмятежности вод и нет на его пути даже малого клочка земной тверди, к которому он мог бы припасть. «Триньк-треньк…» — ломались льдины. Алеша вслушивался в опадающее их шуршание, в печальный их звон и старался понять, зачем идет к нему этот звук? Не затем же, чтобы он вспомнил о жизни в эту ночь, которая будет последней его ночью?
Он еще может вернуть себя для жизни. Не для той, настоящей, которой жил. Для другой, но тоже жизни. Надо только подняться, дотащиться до ворот лагеря, пока это еще дозволено ему, пролепетать слово, одно только слово, которого так ждет Леонид Иванович Красношеин. И ворота откроются. И там, за воротами, дадут ему еду. Не просто еду — сытость. И вернут жизнь. Волю. И наслаждения, чувствовать которые могут только живые. Всё дадут ему, что нужно молодому, сильному. И возьмут — не сапоги, не руку, не ноги — возьмут самую малость, самый пустяк по сравнению с самой жизнью — совесть. Его совесть. Одну только совесть. Только совесть.
У него хватило бы сил подняться, пройти лагерным двором. У него не было сил выговорить нужное им слово. Последние свои силы он оставил на то, чтобы исполнить долг перед своей совестью. Он это решил. Не сейчас, не на этих битых, острых, как гвозди, кирпичах, не в эту холодную ночь уже близкой осени. Он решил это еще в самолете, на высоте тысячи метров, когда все они, десантники, тесно прижавшись друг к другу, ничего не слыша из-за гула моторов, летели в черноте ночи, уповая только на судьбу и командиров. Тогда в напряженном ожидании, в общем молчании, чувствуя своих товарищей-солдат только локтями и плечами, отяжеленными парашютом, автоматом и гранатами, надеясь и все-таки не зная, что грозило им у незнакомой деревушки с неулыбчивым названием Погост, где с воздуха должны они были вступить на занятую врагом землю, еще там, в замкнутом, глухом пространстве самолета, он решил, как бы врезал в свое ясное сознание, что, если случится худшее и не будет для него другого исхода, кроме неволи, он сам оборвет свою жизнь. Так он решил, и решение свое исполнил бы, если бы по чистой случайности они, трое, не оказались за чертой того огненного круга, который с безжалостной расчетливостью подготовили десантному батальону враги. Он не знал, что на его пути встретится Красношеин. Он еще надеялся обрести честную свободу. В безысходности все надеются на чудо. Чуда не случилось. Сил у него осталось только на то, чтобы исполнить свой долг перед совестью. Исполнить то, о чем с твердостью он решил в самолете. Нет, не в самолете. Там, на высоте тысячи метров, ясным стало то, что было в нем прежде. Еще тогда, когда в жаркий августовский день обоз увозил его вместе с другими парнями на войну и телега, на которой сидели они, перекатила по шаткому мосточку через Туношну. Тогда. А может, еще раньше…
Сознание его пульсировало. В памяти то вспыхивали ясно и близко какие-то, может быть, не самые важные дни прожитых лет. То память затухала, и ночь, затиснувшая его и сотни таких, как он, в тесноту каменной коробки, шелестела дыханием, хрипами, стоном, вдруг взрывалась коротким тоскливым криком — каждую ночь кто-то срывался с бетонной без перил лестницы, крик обрывался мягким ударом о бетонный пол. И снова — шелест неспокойного дыхания многих людей, хрипы, стоны. Вдруг в памяти светлело, от видимых озарений прошлого, и проступал в сознании день.
В этом дне, в неподвижности, томилась Волга. С ним рядом — Витька Гужавин, оба — в июльской неге: ноги в воде, руки и головы на горячей кромке песка; под втянутый, еще напряженный дальним заплывом живот подкатывается от вольного дыхания Волги и отходит прохлада воды, и думается, и верится, что Волга будет рядом вечно, до еще невидимого конца их жизни. Плицами огромных боковых колес плюхает идущий по стрежню пароход с высокой дымящейся трубой, с веселыми людьми на палубе. «Пух-пух-пух» — бьют колеса по воде, гладь Волги поднимается, волнами расходится до берегов. Вслед за волной, окатывающей их, лежащих на песке, от парохода доносятся веселые голоса, поющие навсегда принятую страной «Катюшу». И когда пароход, натужно одолевая невидимое глазу могучее движение реки, уходит и затихает вдали песня, с берега где-то укрывшаяся от глаз Зойка для него же допевает тоненьким верным голоском:
И бойцу на Дальний пограничный От Катюши передай привет…Память мечется, открывает лицо мамы, взгляд ее, незабываемый ее взгляд, тревожный и печальный, как будто о чем-то молящий. Когда он видел этот мамин взгляд, становилось трудно дышать. Он знал, что за этим ее взглядом стоит их жизнь, которая устраивает отца и его, Алешу, и не устраивает маму. Он чувствует, чувствует даже сейчас горестную свою вину перед мамой. За прошлое. И за то, что случится, скоро случится, как только он все додумает до конца. Память его рядом с мамой. Она уводит в дальнюю даль, когда он был еще маленьким. Ожившая память дает увидеть другую маму, молодую, красивую, в той удивительной волевой собранности, которую она умела проявлять в несчастиях. Вот она, мама, в далеком Хабаровске, в каких-то просторных помещениях у себя на службе, с ним, до ужаса окровавленным. Он помнил: больше всего на свете мама боялась за его глаза. Не видеть мир! — большей трагедии она не представляла. И вот он с проткнутым, залитым кровью глазом перед ней, испуганный и молчаливый; скользя на санках с горы, он хотел затормозить, воткнул перед санками железный пруток, и другой его конец вошел в глазницу. Если бы тогда он увидел ужас на лице мамы, он бы, охваченный ее ужасом, надломился и забился бы в истерике. Но нервное потрясение двоих мама приняла на себя, взглянула, и взгляд ее отвердел непонятной тогдашнему маленькому Алеше силой. Спокойно, будто была у него царапина, требующая простого йода, она взяла его за руку, быстро повела куда-то вниз; там, внизу, перед раковиной, так же быстро и спокойно смыла с его лица и с глаза кровь, и только тогда, когда он сказал: «Я тебя вижу, мама, этим глазом», лицо ее задрожало, из глаз на побледневшие щеки покатились слезы. Он плохо понимал маму. Всю жизнь он плохо понимал маму. Он не понимал главного: все его боли были ее болями, каждый дурной его поступок оплачивался ее страданием… А в памяти уже бился шум ликующей Москвы. Дни народных встреч: сначала — челюскинцы, потом Чкалов, потом Громов. Улица Горького, стиснутая радостными людьми, открытые длинные машины, увитые цветами, и над ними — между высокими домами — рукотворная метель листовок. Он, Алеша, распаленный общим ликованием, вместе с мальчишками своего двора, кидал и кидал листовки с крыши их высокого дома и по-детски огорчался тем, что брошенные им белые листки, подхваченные сквозняками, слишком долго качались в шумном пространстве улицы и не попадали к героям в быстро идущие машины. Первые герои страны! Как нужны они были им, растущим мальчишкам. Как зовуще входили в душу, в память, навсегда связывали их жизнь с жизнью и славой Родины! Они и сейчас были в его памяти. И согревали идущей из души теплотой его готовое к смерти тело. Прижимаясь к холодным острым кирпичам, задыхаясь от наплывающих чувств, Алеша думал: «Господи, как дорого все, что было! И невозможно от того, что было, уйти. И не забыть, пока жив! Все прошлое — во мне. И сам я — его часть…»
Пора. Пора идти. Сейчас он встанет, выйдет на истоптанный ногами, исползанный телами двор. Его услышат, осветят. И если узнают и не станут стрелять, он подойдет к Красношеину или к немцу-охраннику. Подойдет и ударит. И все кончится. Все просто. Надо только подняться.
Он подвинул ногу под живот, коленом оперся о твердый выступ кирпича; опираясь руками и коленями, приподнял свое безразличное к боли тело. Сел, смутно различая пролом в стене. Попробовал встать, не осилил: ноги подогнулись, он повалился на опостылевшую россыпь кирпичей.
Постанывая, сел, почувствовал чью-то руку на своей руке, услышал быстрый шепот:
— Товарищ лейтенант, это я, Малолетков! Тут хотят поговорить с вами. Не серчайте, доверьтесь…
Алеша не удивился ни шепоту Малолеткова, ни тому, что кто-то захотел с ним говорить, — он уже ничему не удивлялся. И свою руку не отнял, не отодвинулся, когда чья-то чужая рука сжала его кисть и сдержанный, в прошлом явно командирский, голос спросил:
— Вы не могли бы объяснить, лейтенант, что за отношения у вас с полицаем?
Алеша чувствовал, что вокруг него стоят еще люди и человек, который с ним говорит, опирается на силу этих людей. Он это почувствовал, усмехнулся, подумав, что окружившие его люди хотят совершить над ним свой праведный суд. Он собирал силы, чтобы дойти до смерти, а смерть, оказывается, подошла сама. В обиде на людей, которые не могли, не хотели его понять, в равнодушии к тому, что сейчас с ним произойдет, голосом усмешливым, даже вызывающим, сказал:
— Вам-то что за забота! Пришли, так добивайте…
И тут же услышал нетерпеливый, явно взволнованный шепот Малолеткова:
— Да не серчайте, товарищ лейтенант! Доверьтесь. С вами Капитан говорит. С добром мы. Надёжа на вас большая!.. Держите-ка вот. Вашу долю отложили.
Алеша почувствовал в ладони царапающую жесткость сухаря, втиснутую ему в пальцы округлость картофелины; неожиданное участие надломило его.
— Плачет, — сказал Капитан; он не отпускал его руки и, наверное, почувствовал упавшую слезу. Он подвинулся вплотную, обдав запахом пота и нечистоты; провел пальцами но руке до безвольно опущенного плеча, словно щупал у него мускулы; сжал с силой, как будто старался взбодрить болью; сказал невесело:
— Не дури, лейтенант. Не по годам принимаешь беды. А вытерпеть надо. Надо, лейтенант. Из этакого рая вырываются только терпеливые. Дом-то твой далеко?
Алеша плохо слышал, что говорил Капитан, немо глотал слезы, чувствуя, как унизительно вздрагивает плечо под чужой рукой, и боялся, что проявивший участие человек снимет сейчас с его плеча руку и снова он останется один на постылых кирпичах, в трудном ожидании смерти. Капитан не снял руки: как будто стараясь вернуть сознание Алеши к началу, важному для него и людей, молчавших близко в темноте, с настойчивостью спросил:
— Так где твой дом, лейтенант?
— На Волге! — где ж еще… — со злым надрывом ответил Алеша; резкостью он старался вернуть себя в ту действительность, в которой сейчас был. Как будто это ему удалось, и Капитан, кажется, его понял. Он спрашивал теперь быстро и требовательно, узнавая то, что ему было нужно, и Алеша подчинялся его воле. Он чувствовал, что жалость и участие кончились, что людей, собравшихся вокруг, интересуют его отношения с Красношеиным, и понял, что его судьба и судьба этих людей завязываются сейчас в один узел.
Капитан спрашивал, Алеша отвечал:
— Куда водит тебя полицай?
— К себе в дом.
— Что хочет?
— Зовет немцам служить.
— Почему выбрал тебя?
— Жили бок о бок. Думает, одного поля ягода.
— Разговор в доме без свидетелей?
— Без…
Капитан помолчал, как бы давая невидимым Алеше людям вникнуть в его ответы, вдруг жестко, в упор, спросил:
— Убить сможешь?
Алеша понимал серьезность разговора и все-таки не удержался, усмехнулся в темноту:
— Давно бы убил. Сил нет.
— Ну, в этом поможем. Итак…
…Впервые Алеша коротал часы не на острых, как гвозди, кирпичах, а на охапке соломы, брошенной на каменные плиты. И хотя соломы было чуть и пахло от вороха гнилью, он рад был тому, что вытянулся, что мог наконец уронить вдоль боков руки; рядом с ним, оберегая его, лежал с одной стороны Малолетков, с другой — Капитан.
5
Красношеин перехватил руку, нажал на запястье — нож выпал из пальцев Алеши.
— Хреновину задумал, Лексей! — Голос его был глух и насмешлив. Половинка высокой луны, попавшая в разрыв туч, осветила его лицо; Алеша увидел, что смотрит он вприщур и совершенно трезвыми глазами. За плечами Красношеина паутинно отсвечивали сплетения колючей проволоки; готовыми виселицами в ряд стояли огораживающие лагерь столбы. А позади, в развалинах бывшей котельной, таились трое, среди них Капитан, который так и не открыл своего имени. Капитан руководил побегом; он приказал ему вызвать Красношеина, убить, дойти до ворот, снять охранника. План был плох, опасен, это понимали все; но другого не было дано: через день пленных должны были раскидать по лагерям, и надежды всех троих теперь сходились на Алеше.
Двадцать шагов до развалин. Но эти двадцать шагов ни Малолетков, ни Капитан не пройдут живыми: Красношеин крикнет — и немец-охранник очередью от ворот всех положит на землю.
Алеша был обречен. Наверное, обречены были и те — трое; они уже выползли из стен завода на лагерный двор, уже переступили дозволенную им в ночи черту. Алеша стоял перед Красношеиным, с отчаянием обреченного выбирал, куда вернее ударить, чтобы без звука, хотя бы на полминуты, Красношеин упал. Он старался сейчас об одном — чтобы трое следящих за ним из-за разбитых стен котельной поняли, что он не предал их.
— Долго думаешь, Лексей! Я б тебя три раза пришиб, ежели б нужда была. Хватит дурака валять, зови своих! Знаю, не один в бега собрался. — Собрав остаток сил, уже в бездумном отчаянье, Алеша ударил, стараясь попасть под грудь. Но то ли он был слаб, то ли Красношеин слишком крепок, удар даже не покачнул его. Каким-то ленивым, привычным ему движением он заломил Алеше руку за спину, с силой притянул к себе.
— Негоже так-то! Не по-дружески! — Он прижал его так плотно, что худой своей грудью Алеша чувствовал литую красношеинскую грудь, сказал внушительно:
— Не теряй время, Лексей. Кличь своих. Ну!..
Лица их почти касались.
Алеша пробовал плюнуть в отсвечивающие белки красношеинских глаз, но рот его был совершенно сух, не набрал даже привычного сгустка крови.
— За дешево покупаешь, Леонид Иванович! — Голос его сорвался от ненависти и бессилия.
— Дура! С вами ухожу… — Красношеин тоже терял спокойствие. — Без меня ни тебе, ни им, — он кивнул на развалины котельной, — не выйти.
Он отпустил Алешу, поднял прижатую сапогом к земле финку, лезвием сунул в рукав.
— Скажи своим, охранника притишу. Не того надо бы, да… — В хрипловатом его голосе прорвалось что-то вроде сожаления. — Хрен с ним, всё одно — немец… Следи за мной. Как в воротах встану, пластайтесь по одному на выход. И тихо чтоб! Ну?!
Он толкнул его в спину, вывел на середину двора. Алеша заученно поднял руки, медленно пошел по открытому пространству к пролому в заводской стене, показывая себя охраннику у ворот. Красношеин стоял открыто, расставив ноги, предупреждая охрану, что стрелять не надо. Войдя в черноту стены, Алеша пополз к развалинам котельной. Не отрывая щеки от холодного кирпича, глотая слова от волнения и одышки, рассказал, как случилось у него с Красношеиным.
— Продаст, сволочь, — выдохнул Малолетков, голос его сорвался в тоскливый всхлип.
Капитан поднял голову, молча слушал осторожную на звуки ночь. Алеша тоже приподнялся на локтях, вглядывался в перетянутые проволокой ворота. Он чувствовал свою вину перед лежащими рядом, измученными ожиданием людьми и, тревожась неожиданным поворотом событий, старался поверить в то, что Красношеин не готовит им смерть.
У ворот вспыхнуло полуприкрытое пламя зажигалки, озарив два склоненных лица, две сигаретные точки, то раскаляясь, то тускнея, краснели некоторое время в темноте, почти рядом.
Терлась сухая трава об ограду. Луна, как желтая рыбина, пробивалась сквозь сети раскинутых по ночному небу облаков; осветленные по краям, в середине — темные, как будто сачки, раздутые напором движения, они захватывали, глушили луну; но свет ее снова пробивался сквозь облачные разрывы, тускло и ненужно высвечивал истоптанное пространство лагерного двора. От станции докатился дробный стук буферов. Паровоз дохнул шумно, тронул состав, повел, пыхтя сначала редко, потом учащая свое сильное, отчетливое дыхание. Пыхтенье скоро слилось с перестуком колес, шум движения тяжелого состава постепенно заглох за темным пространством притихшего города. У Алеши сжалось сердце: знакомый с детства, всегда влекущий перестук колес, пыхтенье паровоза заглохли в той стороне, куда должно было уходить им.
В тишине, вновь устоявшейся, слабо скрипнула петля. Алеша не поверил, подумал, что ослышался, но Капитан, чутко слушающий ночь, прошептал:
— Ворота он не закрыл…
Тишину вдруг порвал крик, даже не крик — дикий предсмертный вой; мягкий удар донесся из-под стен заводского корпуса. Никто не пошевелился: каждый знал — с лестничного пролета сорвался и разбился о бетонный пол еще один обессиленный солдат.
— Слушай меня, — тихо и властно сказал Капитан, он принял решение, и все это почувствовали. — Лучше умереть у ворот, чем подохнуть там… На выход, лейтенант…
Алеша почувствовал: его настойчиво подтолкнули. И в эту минуту заметил, как за воротами, осыпая искры, пал на землю тусклый папиросный огонь.
В возбуждении он сжал руку Капитана: в проеме ворот встала темная фигура. Подбадривая, Капитан тихо сказал:
— Страшны у черта рога, да черта на свете нет… Давай, лейтенант!..
6
Никто из них не верил, что мир уже не захлестнут колючей проволокой, не придавлен настороженными глазами пулеметов, что они на воле и каждому дозволено выбирать себе путь.
Рядом с незнакомым Алеше молчаливым высоким бородачом, с желтым, нездоровым лицом и черными круглыми глазницами, из которых измученные глаза глядели порой сверкающе остро, лежал Малолетков лицом к небу. Он прежде других отдышался от бега, взгляд его блуждал по светлеющему над лесом небу, руки мяли траву, недоверчиво щупали землю; заросший по квадратным скулам каким-то птичьим, грязным пухом, он судорожно икал и смеялся, и слезы текли по его страшным лиловым щекам. Капитан тоже не мог выговорить ни слова: держась рукой за грудь, дышал, всхрапывая, как запаленная лошадь, исцарапанным лбом елозил по стволу березы, то ли не в силах захватить открытым ртом воздух, то ли скрывая неположенную радость. Красношеин один стоял в неподвижности, приобняв ребристый ствол пулемета, вырванного из рук убитого им немца-охранника.
Алеша из глубины сосновой поросли, куда он завалился, сладостно исколов лицо и руки мокрой от росы молодой хвоей, не сразу заметил, что Красношеин чужд общей их радости. Только надышавшись лесной пахучести, наяву заслышав ниспадающий с вершин вольный шум бора, он поднял из поросли просветленное лицо и сквозь капли росы, смочившей стекла очков, вгляделся в отчужденное его лицо. В счастливые минуты освобождения он не хотел ни расплаты, ни крови, ни своих, ни чужих страданий, и усмешливо-тяжелый, устремленный на него, будто знающий все наперед, взгляд Красношеина его смутил.
В том, что Леонид Иванович, распахнувший им ворота на волю, стоял в стороне, не делил с ними радость свободы, была явная несправедливость. Он поднялся подойти, разрушить ненужную теперь между ними отчужденность, но Красношеин как будто понял, зачем он идет, и поторопился, ни к кому определенно не обращаясь, сказать с грубоватой прямотой:
— Вот что, люди. Рассиживать недосуг, ежели не желаете обратным ходом за проволоку. Уши есть, так слушайте! Дорогами не шастайте, лесами идите. На Смоленск пути нет. Забирайте на Духовщину. Там партизан навалом. Ну, а дальше… Дальше вроде бы всё… — сипло проговорил он, и Алеша понял, что этим «всё» он сам отделил себя от них. Но твердости в будто запнувшемся его голосе не было, какая-то надежда еще теплилась в тяжелом его, взгляде, и Алеша уловил эту теплившуюся в бывшем, леснике надежду и, стараясь показать Красношеину, что надежда его не напрасна, сказал:
— А вы, Леонид Иванович? Разве не с нами?! — Он твердо знал: беда не делит, беда соединяет; вместе бежали, вместе вязать и судьбу. Он так понимал справедливость и не сомневался, что так же думают Капитан, и Малолетков, и, тот, болезненного вида, высокий человек в порванной солдатской гимнастерке, который не произнес еще ни слова. Волнуясь непонятным ему недобрым молчанием, пугаясь этого молчания, он торопливо говорил:
— Вместе вышли, вместе и пойдем! Правда, товарищ капитан?!
Капитан молчал. Он глядел на Красношеина исподлобья пристальным, немигающим взглядом, и Алеша, остывая от сполоха первых, захмеливших его чувств, понял, что Капитан думает не так, как думает он. Под взглядом Капитана холодели его чувства, и все отчетливее он сознавал, что Красношеину, даже после того, что сделал для них, пути с ними нет: они шли на Родину, у Красношеина Родины не было. Алеша понял это. Понял и Красношеин. Он усмехнулся; трудно давшаяся усмешка скосила вдруг побледневшее его лицо. Тут же кровь снова прихлынула к крепкой его шее, на тугих выбритых скулах проступили белые пятна. С отработанной ленивой небрежностью он кинул пулемет на плечо, сказал уже с обычной своей спокойной ленцой:
— Добрая у тебя душа, Алексей. И на кой хрен ты в войну ввязался? У него вон учись… — Он кивнул в сторону Капитана. Красношеин казался теперь невозмутимым, но Алеша видел, как по-недоброму щурятся его глаза, — он сосредоточивал себя на какой-то темной мысли.
— Вообще-то, — сказал он, растягивая слова. — Вообще-то, на такое можно бы и по-другому ответить… — Он спустил с плеча пулемет, перехватил рукой у ствола, подержал на весу, в угрожающей готовности. — Да не к чему. Всё. С обоих концов себе дорогу обрезал…
На Капитана он не смотрел; Капитан, сутулясь, стоял шагах в трех, настороженно приподняв подхваченный еще там, у лагерных ворот, карабин.
С подчеркнутым безразличием он даже, отворотился от Капитана; опираясь на ствол пулемета, пристально глядел на Алешу из-под козырька шюцкоровской кепчонки, давал понять всем бывшим тут, что только он, Алексей, еще имеет для него какое-то значение.
— Скажи ему… — голос Красношеина опять осел, он со злостью прокашлялся. — Скажи ему: с вами не пойду. Поберегу его биографию… Ладно. Всё. Не на посиделках, мать твою в душу! — вдруг крикнул он, грубостью окрика задавливая в себе последние проблески надежды. — Двигайте, как сказал! И благодарите штурмбанфюрера за то, что оставил в охране только пару овчарок. А то бы сбежали на тот свет! Хрен с вами, овчарок пристрелю. А без собак немцы в лес не ходят… Всё. Теперь всё! Двигайте!.. А ты, Алексей, погоди…
Алеша, уже было покорно шагнувший вслед за Капитаном, остановился. Красношеин, приклонив голову, с жадной настороженностью следил за ним, как будто ему важно было знать, с каким чувством, он сейчас подойдет. Алеша сознавал, что Красношеин имеет право остановить его, и, неуклюже, переставляя стертые в тесных, ссохшихся ботинках ноги, пошел к нему. Он заметил, что Капитан, Малолетков и высокий, болезненного вида человек остановились, чувствовал, что они не одобряют его, что тревога их нарастает, что всем им надо как можно скорее уходить, но не подойти к Красношеину он не мог. Он повернулся сказать, чтобы они шли, что он их догонит, и на мгновение оцепенел от того, что увидел: Капитан, застыв лицом, щуря холодные глаза, поднимал карабин, нацеливая его в грудь Красношеину. Стыд, боль обожгли Алешу, он метнулся к Капитану. Молча стоял перед карабином, сдавив свои черные, опухшие губы; он смотрел в упор, сбивая взгляд сощуренных холодных глаз Капитана. Капитан до дрожи раздул ноздри тонкого горбатого носа, отвел карабин. Опустил вскинутый пулемет и Красношеин, сказал невесело:
— Славь бога, Капитан, что мой землячок тут оказался! А то бы всем вам лежать в кирпичах на лагерном дворе. На свободе, смирненько, без забот! Карабином размахался! В себя стрелил бы, Капитан. Собак не задержу — всем вам конец. А потому слушайте; что говорю! Ступайте. В бору дожидайте. Свой у нас разговор с земляком. Свой! — Наклонив голову, Красношеин ждал, когда исполнят его волю; плечи его нетерпеливо подергивались, руки мяли ствол пулемета. Он зорко перехватил злой, тревожный взгляд Капитана, брошенный на Алешу, сказал, смиряя себя:
— Иди, Капитан, не печалься. Алексей мне сейчас всех вас дороже… Нужен он мне, можешь ты это понять? На два слова нужен!..
Трое молча проломили густую поросль сосен, ушли, сбивая с влажной мохнатости ветвей росу. Алеша проводил их обеспокоенным взглядом, вопросительно посмотрел на Красношеина.
— Приземляйся, — сказал Красношеин и первым сел, положив у ног пулемет. Он не привалился спиной к сосне, как делал с ленивым удовольствием когда-то; сидел прямо, в неловком напряжении, как будто даже под сосной не было для него теперь места; в молчании нашарил шишку, подкинул на ладони. Солнце из-за края леса светило на латунно-желтый шелушащийся ствол сосны, освещало знакомое, заостренное к подбородку лицо Красношеина, пустую встопорщенную шишку на его раскрытой ладони, и Алеша с пронзительной болью узнавания опять подумал: жизнь повторяется. Было это, уже было! Вот так же сидели он с Леонидом Ивановичем под сосной в Разбойном бору, так же лежала на его ладони шишка, и разделял их тогда только лист бумаги, исписанный старательной красношеинской рукой, — лист протокола на порубщиков, родственников Рыжей Феньки. Тем листком бумаги Красношеин испытывал его живую веру в справедливость! Жизнь повторялась: снова они в бору, друг против друга, под освещенной солнцем сосной. Только не листок протокола разделяет их — между ними отсвечивает чернотой металла немецкий пулемет; и не темно-синий френч лесника на Красношеине — его плечи и грудь облегает голубоватая поношенная немецкая куртка с отложным воротом и нашитым выше грудного кармана серебряным орлом. В неприязни к чужому мундиру Алеша сквозь очки, косо сидевшие на опухшем носу, через силу смотрел в лицо Красношеина и только теперь разглядел на привычно-красном, всегда как будто умасленном сытостью, его лице мешки провисшей под глазами кожи, сами глаза, набухшие сетью кровавых жил, воспаленные, замутненные скопившейся где-то за глазами тоской. И опять сквозь мученическую череду дней, по которой протащился он по вине этого отступившего от Родины человека, пробилась к его, казалось бы навсегда ожесточившемуся, сердцу все та же, знакомая, живучая, всегда предающая его жалость. Красношеин, в котором ничего уже не было от вольного, уверенного в себе, удачливого лесника, коротким широким дрожащим пальцем, на котором чернел свежий натек крови, с тупой настойчивостью отламывал чешую с влажной, тронутой тленом шишки, и Алеша с удивлением чувствовал, что неутоленная, казалось, навечная ненависть к сидящему перед ним в чужом потертом мундире Красношеину, которого он готов был и мог убить, отпустила его. Он сострадал сейчас Красношеину, которому некуда было идти. И, сострадая, думал, что Леониду Ивановичу уже не отойти от края, на который он сам себя поставил. Здесь закончится его жизнь; здесь смешается он с бурой, примятой дождями и временем хвоей, на которой в неловкой напряженности сейчас сидит; с ней уйдет беспамятно от живого света солнца в податливость всё и вся принимающей земли.
Красношеин отбросил ободранную шишку, пятерней сдавил свое широкое колено; натянулась, побелела на его руке кожа, казалось, еще усилие — и кожа лопнет, обнажая суставы и кости. Он хотел говорить, но слова, которые были ему нужны, будто вросли в неподвижную его душу. Когда он все-таки заговорил, он выворачивал из себя слова, будто пни:
— Ты, Лексей, меня по живому резал. Тебя, хиляка, ломаю, а хрустит во мне. Чего-то я не углядел. Считал, все мы одного дерева шишки! Пока нужда, жмемся. Оторвались — вроде бы и дерево ни к чему. А ты… Поначалу потешил ты меня. Думаю, во, и тут кобенится! Ни папы, ни мамы рядом, ни комсомола. Смерть у глаз! А он пуговицы на шкуре застегивает!.. Зарок дал — душу твою до дна вывернуть! Думал, нутро, что у тебя, что у меня, одно. Шелуха разная, а нутро — одно. До ночи до сегодняшней верил, что выверну, вытрясу тебя. Папенькиного сынка, столичную штучку, с собой рядом поставлю! Все легче помирать, когда такой, как ты, и — рядом… А как с ножом на меня вышел — подсек. Подсек, Лексей. Ведь на смерть шел!.. Сам!.. Меня ты не кляни. Службы этой самой я не искал. Попал, как другие в сорок первом попадали. Когда выбирать пришлось, куртку эту вот выбрал. Думал, у них жизнь! Нету у них жизни, Лексей. Порядок, ничего не скажешь, есть. Только от этого порядка — холод в загривке. Нагляделся. Такого нагляделся — не приведись тебе увидеть! Прошлой жизни жалко, Леха. И Семигорье наше никуда не делось — всё во мне. Как завяжется в памяти — выть готов, ровно волк недобитый!..
В шуме леса Алеша уловил западающий от далекости лай. Услышал собак и Краеношеин; на вдруг затвердевшем его лице испуганно заметались красные, воспаленные глаза. Какое-то время он слушал, напрягая широкую, сильную шею, медленно отер рукавом проступивший на лбу пот, присвистнул невесело:
— Ну, кажись, время кончилось! — Он встал, какая-то бесшабашность появилась в усмешливом его взгляде, он попытался даже улыбнуться. — Ты вот что, Алексей: скажи Васенке про все, как есть. Нет, погоди. Про это вот самое, — он подергал ворот куртки, — не говори. А про то, что сейчас на этом месте будет, про то скажи. Ну, топай! Обняться не хочешь? Хрен с тобой… Погоди, вот… — Из кармана куртки он вытянул компас, бросил Алеше. — Думал сам уйти, да меня теперь никакой компас не выведет!.. Ну, прощай… — Он оглядел себя, рванул полы, обрывая железные пуговицы, сбросил куртку с плеч.
— Помирать, так не в чужой шкуре… Торопись, Алексей! Без собак за тобой не пойдут! Но отсюда убирайся. В леса убирайся. — Он гнал его и как будто не верил, что сейчас он уйдет.
Алеша видел, как в белой исподней рубахе он распластался под сосной у раздавшегося ее комля, повернул пулемет в ту сторону, откуда только что, задыхаясь, они шли. Лай слышался уже отчетливо. Алеша пятился, быстро приближающийся лай как будто раздвигал его и Красношеина. Спиной он вмялся в холодные от росы молодые сосны, повернулся и, задыхаясь от слабости и торопливости, побежал, прикрывая рукой лицо от мокрых ударяющих веток.
Капитана, Малолеткова и молчаливого человека с нехорошим от худобы лицом он догнал на увале. Отсюда, с увала, они и услышали первую, гулко раскатившуюся по лесу пулеметную очередь. Услышали и собачий визг, тут же заглушенный второй, короткой очередью. Алеша, дрожа от сознания совершающейся несправедливости, не сводил глаз с Капитана. Капитан видел его взгляд, и сжатые сухие его губы нервно подрагивали в презрении к нему. Капитан повернулся и первым молча побежал с увала вниз, в затененную глубь пахнущего сыростью леса.
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ Иван Петрович
1
Снова, как три года назад, лошадка бежала по поляне, через овраги, от деревни к деревне, по слабо наезженной даже за долгую зиму дороге, в дальний от Волги край.
Только не красавица Майка, с гордо вскинутой головой, мерила расстояния тонкими быстрыми ногами, а маленький черногривый азиатский меринок (с начала войны этих выносливых лошадок порядочно завезли в леспромхозы от монголов): ровно трусил, пошумливая сбруей. И рядом с Иваном Петровичем в тесной кошевке сидел не рассудительный, доброй памяти, конюх Василий Иванович, а утонувшая с головой в большом дорожном, как и у него, тулупе Серафима Галкина, с чьей судьбой столкнулся он по общему несчастью; Серафима так и осталась в поселке, привязанная к нему благодарностью за оказанное ей человеческое соучастие.
И Василий Иванович, и Майка были на войне. На Майке, наверное, красовался какой-нибудь молодой кавалерист-генерал — отменно хороша была молодая кобылица! — и, подумав так, Иван Петрович подумал об Алеше, и тотчас прижала сердце непритихающая тревога за его жизнь. Он хотел заговорить о сыне, вызвать Серафиму на утешающий разговор, но промолчал — у женщины хватало своих забот: муж в отходе по трудповинности, пятилетний сын на всю долгую их поездку оставлен без материнского глаза, под присмотром живущей у нее эвакуированной немощной учительницы.
Война все время присутствовала в сознании Ивана Петровича, и все, что случалось на войне, что доходило до него через утренние и вечерние сводки, через рассказы людей, там побывших, отзывалось в нем то гордостью и надеждой, то угрюмой болью. Он мог молчать, мог говорить о будничных, житейских делах, но война, идущая в невидимом ему отдалении, пульсировала в нем, как ток собственной крови, то затихающие, то оглушающие ее удары он чувствовал каждую минуту.
После Сталинградской битвы, после победы под Курском и Белгородом, когда в московское небо взлетели первые победные салюты, Иван Петрович успокоился за общий исход войны, и только тревога за Алешу нет-нет да туманила его нетерпеливое ожидание победы.
Но жизнь, не там, где были фронты, а здесь, в глубоком зимнем затишье приволжских лесов, пока не менялась, шла в тех же, установленных, повторяющихся изо дня в день трудовых заботах. И, привыкнув к этим обязательным, нужным войне заботам, и к другим, мелким, но тоже необходимым заботам по дому, которые хотя и в спешке, но равно старался он делить с Еленой Васильевной, Иван Петрович уже не ждал перемен в своей жизни, по крайней мере до ожидаемого теперь конца войны. И вдруг этот вызов, да еще к самому Никтополеону Константиновичу Стулову!..
В белом пустынном далеке изредка проступало пятно встречного возка, постепенно сближалось, обозначивалось лошадью, санями, бородатым лицом мужика, выглядывающего из-за лошади, слышался беспокойный отклик: «Эге-гей!.. Разминемся ли?!» Мужичонка предупредительно соскакивал с саней, утопая в снегу, обводил под уздцы лошадь целиной, и — снова бежала под полозья безлюдная, с желтоватостью редкого лошадиного помета, неровная стежка одинокой среди снегов дороги, открытые матово-синие взгорки, темные клинья залесенных оврагов, деревеньки по косогорам с редкими дымами над ватно-пухлыми крышами, сплошь засугробленные леса вдоль невидимой Нёмды да широкий прогляд небесной синевы сквозь морозный, стоящий над полями туманец, — простор, тишь обезлюдевшей в войне России!
Что-то невыразимо грустное, светло-печальное рождалось от вида пустых полей, деревенского безлюдья, одинокости их возка в снеговых просторах, от общей нетронутости игристого холодного сверканья в снегах и в самом воздухе.
И долго еще, пока в неспешной торопливости они ехали, казалось, по нескончаемой дороге, держал Иван Петрович у сердца это щемящее и тревожное ощущение Родины.
2
Жизнь в своем извечном движении по огромным галактическим спиралям, по спиралям земным и но крохотным спиралям отдельной человеческой судьбы завершала очередной свой виток, — повторялось то, что уже было: снова, и по вызову товарища Стулова, Иван Петрович ехал теми же зимними дорогами, с такими же раздумьями о себе, о том, что могло его ждать в еще не скором конце пути.
Нельзя сказать, что неожиданный и категоричный (как всё у товарища Стулова), срочный вызов в обком партии совершенно не волновал Ивана Петровича: проехать на лошади почти две сотни верст пустынными зимними дорогами, при общей скудости жизни военной поры, уже было заботой. Но само душевное состояние, в котором он ехал теперь, заметно отличалось от прошлой, памятной ему, поездки. Какой-либо вины, за которую предстояло бы оправдываться, он не знал за собой; причину вызова предугадывал, хотя бы по тому, что, прежде чем явиться в обком, должен был заехать в леспромхоз «Северный», на месте, как указывалось в телеграмме, ознакомиться с положением дел. Означать это могло только одно: «Северный» выбился из плановых заданий, и товарищ Стулов вынужденно отступал от своих, жестких по отношению к нему, позиций. Всем опытом большой и малой своей работы Иван Петрович знал, что ощущение прочности своего бытия человек обретает не от состояния собственного здоровья и не от благополучия в домашнем своем устройстве — ощущение прочности жизни и душевного спокойствия всегда приходило к нему от дела, от успешности дела. Дело было главной опорой его жизни. И чем крепче, лучше, зримее образовывалось его усилиями большое, малое ли, в столице или в глухом, не очень-то приметном уголке России порученное ему дело, тем определеннее, прочнее становилось и душевное его состояние. Такое устоявшееся ощущение прочности было у Ивана Петровича теперь, когда, неумело успокоив Елену Васильевну, он отправился в дорогу. И, ощущая свое душевное спокойствие, он определенно знал, что шло оно от успешности того, пусть малого, но нужного дела, которое сейчас он исполнял. Когда по зимней Волге, санными дорогами, приходили в поселок обозы, загружались ружейными болванками, сухо постукивающими на морозе лыжами, гладкими шуршащими листами авиационной фанеры, производство которой с трудом, но удалось ему наладить в небольшом своем леспромхозике; когда по весне, по мутным неспокойным волжским водам, буксиры уводили длинные, медлительно изгибающиеся плоты, красновато отсвечивающие в жарком солнце ребристой плотностью сосновых стволов, а в подогнанные баржи грузили рудстойку для шахт освобожденного Донбасса, он, глядя на этот овеществленный труд, в котором была значительная доля его ума, нравственной и физической его энергии, испытывал не просто удовлетворение делового человека — он обретал спокойствие и так ценимое им ощущение прочности своей жизни, малой части обозреваемого им целого, которым всегда была для него жизнь его страны.
Прошагавший по служебной лестнице снизу вверх и сверху вниз, Иван Петрович знал, что только такое, идущее от прочно налаженного дела спокойствие дает силу выстаивать перед изменчивыми, а порой и небезопасными наплывами настроений выше стоящих на служебной лестнице руководящих товарищей, — не каждый из них бережно пользовался предоставленным по должности высоким правом руководить и взыскивать. Иван Петрович по своему опыту знал об этом, как знал и о том, что среди руководящих товарищей есть люди, которые, достигнув служебной высоты, перестают обращать внимание на мнения, которые складываются о них внизу, как раз на то, где, в конечном счете, определяется все, в том числе и судьба самого руководящего работника.
Никтополеон Константинович Стулов, о предстоящей встрече с которым Иван Петрович не без настороженности размышлял в дороге, по признанию многих людей, по собственным наблюдениям Ивана Петровича, не принадлежал к тем руководящим товарищам, которых заметно беспокоило бы мнение, складывающееся о нем где-то на нижних уровнях жизни. Однако утвердиться в этом своем огорчительном мнении о товарище Стулове Иван Петрович не спешил. Он знал, что даже у очень высоких и ответственных руководителей случаются минуты, когда вдруг задетое самолюбие разрешается вспышкой не удержанных разумом чувств. В такие минуты человек обычно и совершает ошибку — не в расчете каких-либо плановых наметок, не в решении какого-либо хозяйственного дела, — он совершает ошибку в своих отношениях с другим человеком. Главную ошибку, потому что каждый ответственно и перспективно думающий хозяйственный или партийный руководитель знает, по крайней мере должен знать, что нехватка металла, бетона или леса может быть со временем восполнена, как могут быть налажены и механизмы вдруг остановившегося завода; но когда сбой происходит в человеческих отношениях, когда уважение и доверие между людьми, пусть стоящими на разных ступенях служебной лестницы, но призванными заботиться об одном, общем для всех деле, подменяется обидой или, того хуже, неверием и равнодушием, никакие запасы металла и леса, никакие совершенные заводские механизмы уже не смогут дать полной, необходимой для успешного продвижения общего дела отдачи.
По своему опыту, по опыту людей, чья работа и жизнь шли на его глазах, Иван Петрович знал, как озабочиваются в таких случаях руководители умные и ответственные. Прежде всего они поправляют нарушенные доверительные отношения с человеком; потом уже заботятся о всем прочем, что обеспечивает материальные необходимости и ход производственной жизни.
Никтополеон Константинович подобной озабоченности в повседневной руководящей своей работе не проявлял. И хотя Иван Петрович не сомневался в ответственном и деловом уме товарища Стулова, сомнения в самом человеческом его характере, от которого не менее, чем от ума, зависели его отношения с людьми, в том числе лично их не совсем по-доброму и не совсем доверительно складывающиеся отношения, были.
Иван Петрович помнил один из дней трудной осени сорок первого года, когда в техникумском поселке, где к тому времени заканчивалось размещение эвакуированного из Брянска Лесного института, появился без предупреждения и в сопровождении Доры Павловны Кобликовой сам Никтополеон Константинович Стулов. Интересовало его, в основном, размещение института в поселке, явно не рассчитанном на столь великое множество прихлынувших людей. Иван Петрович, как еще действующий хозяин учебных корпусов и жилых помещений, в озабоченности водил гостей, знакомил руководство области и района с возможностями размещения студентов и профессуры, но все время и с нетерпением ждал, когда товарищ Стулов заговорит наконец о новом его рабочем месте. Однако Стулов не заговаривал ни о телеграмме, посланной ему в первые дни войны, ни о леспромхозе «Северном». Иван Петрович понял, что Никтополеон Константинович не готов или не хочет решать его судьбу в том варианте, на который он дал свое согласие. И тогда, как это нередко случалось с ним в его отношениях с начальством, почему-либо не расположенным к нему, Иван Петрович с дерзким, нарочитым самоуничижением сам предложил себя на вновь организуемый здесь же, при поселке, на базе учебного лесхоза, маленький, районного значения, леспромхозик. Объем работы этого мизерного леспромхозика был до смешного несоразмерен с возможностями и опытом прошлой крупномасштабной его работы. Он ждал, что Никтополеон Константинович поймет довольно отчетливую ею иронию и, учитывая трудное время и повсеместную нехватку опытных кадров, предложит дело более нужное и важное для области и войны. Но Стулов не счел нужным даже улыбнуться.
— А что, Дора Павловна, может быть, это и есть решение вопроса с товарищем Поляниным?! — сказал он медлительным сочным басом; и в неподвижных его глазах, устремленных на Дору Павловну Кобликову, проступило достаточно ясно видимое удовлетворение.
«Вот так тебе!.. — с таким же, несколько даже веселым удовлетворением думал теперь Иван Петрович, плотнее стягивая мохнатый ворот пахнущего влажной овчиной тулупа и отгораживаясь от колкого, холодящего встречного ветра. — Так тебе! За характер, за неумную твою гордыню!..»
Иван Петрович помнил, что ни Стулова, ни Дору Павловну он не пригласил к себе на чашку чая, хотя приезд начальства предполагал это никем не установленное, но бытующее гостеприимство. Подобное приглашение никого ни к чему как будто не обязывало и все-таки, как казалось Ивану Петровичу, ощутимо несло в себе дух подобострастия и расчета. В маленьком директорском кабинетике, где Стулов с ним разговаривал, и в общей инспекторской ходьбе по поселку он чувствовал, что Никтополеон Константинович ждал, именно от него, Ивана Петровича Полянина, приглашения к домашнему столу. Вероятно, он знал о расположении к нему Арсения Георгиевича Степанова, может быть, хотел, чтобы Иван Петрович сам перешагнул черту суховатой официальности, которая с прошлого, памятного им обоим, вызова установилась в их отношениях. Это ожидание, сдержанное, как все эмоции и жесты Стулова, он чувствовал и в каком-то внутреннем сопротивлении к тому, что чувствовал, не пригласил ни его, ни Дору Павловну к себе в дом. Правда, и угощать ему было нечем, разве что картошкой с солью. Но главное было не в том: со Стуловым они расходились по человеческим параметрам; он не чувствовал в себе потребности и возможности разговаривать с Никтополеоном Константиновичем на уровне простого, доверительного человеческого общения…
Иван Петрович поежился, не от холода — от мимолетного пустячного воспоминания, которое относилось хотя и к Доре Павловне Кобликовой, однако имело отношение и к ходу нынешних его размышлений. Он вспомнил про сапоги. Самые обычные сапоги, которые до войны он имел возможность без хлопот купить в магазине или на базаре. Война отняла эту возможность у него и у всех других — исчезли из торгового оборота самые необходимые вещи, каждый донашивал то, что оставалось в доме от прежних времен. В этих весьма неудобных, но, в общем-то, терпимых житейских обстоятельствах Дора Павловна решила порадовать людей из делового своего окружения дорогим для военного времени подарком: из каких-то обнаруженных запасов кожи распорядилась сшить по паре сапог для районного актива. Каким-то образом попал в этот тщательно обдуманный список и Иван Петрович. Пришел к нему человек, снял мерку с его ноги, загадочно улыбаясь, пообещал в скором времени появиться еще раз. Но не появился. Через какое-то время, будучи в райкоме, он увидел многих знакомых ему номенклатурных работников, щеголяющих в одинаково новеньких хромовых сапогах, и понял с кольнувшим сердце неприятным чувством, что в число этих номенклатурных он по каким-то причинам не попал. Дело как будто бы не стоило переживаний, но дело касалось отношений и первичная (как называл Иван Петрович возникающую на какой-либо раздражитель непосредственную реакцию чувств) горечь обиды все же обожгла ему душу. Не далее чем через день от случайного доброхота он узнал, что из списка избранных собственноручно вычеркнула его Дора Павловна, вычеркнула за недавнее критическое выступление на районном активе. Наступившая ясность успокоила Ивана Петровича совершенно: дело касалось его убеждений, а убеждения на сапоги он не менял.
«Сложный это мир — отношения людей, особенно руководителей разных степеней!.. — думал Иван Петрович, улавливая нечто общее в главном — в отношении к людям — у Доры Павловны Кобликовой и Никтополеона Константиновича Стулова. — Если законы производственных отношений определяются необходимостями самого производства, то какие законы определяют отношения между людьми с разными характерами, с разной долей самолюбия, с разным пониманием своих руководящих обязанностей? Что определяет мои отношения с Дорой Павловной, с самолюбивым и властным товарищем Стуловым? Только ли интересы самой производственной жизни? Или недобрая память Никтополеона Константиновича о прошлом нашем несогласии?!»
«В том-то вся штука, — думал Иван Петрович в способствующем размышлению крохотном уюте дальней дороги. — Вся штука в разности человеческих характеров! Не каждый подчиняет свой характер интересам общего дела. А закон тут один: уж если поставили тебя над людьми — до крови закусывай удила, а поднимайся выше своих сиюминутных симпатий и антипатий, болезненных ожогов самолюбия, добренькой покладистости от лично тебе сделанных приятных услуг! Необходимость жизни все равно заставит поступиться своим ради общего. С потерями времени, сил, нервной энергии, рано или поздно, но заставит. Как заставила Никтополеона Константиновича Стулова, вопреки огромной распорядительной его власти, поступиться своим характером, личной своей неприязнью и вызвать из небытия для дел несравненно больших, чем те, над которыми трудился я сейчас!..»
Иван Петрович размышлял о своей жизни, о жизни вообще, думал о возможных, все-таки приятных ему переменах и в то же время чувствовал какое-то смутное беспокойство, которое словно бы тянулось за ним от самого дома.
Причину смутного своего беспокойства он искал поначалу в том, что как-никак, а покидать Семигорье будет не в радость: до самого последнего времени он не представлял, как глубоко вросли душевные его корни в землю родной стороны. Но скоро он понял, что тревожит его не только предстоящая разлука с родными местами.
Елена Васильевна, как будто предчувствуя перемены, еще до его отъезда осторожно намекнула, что не хотела бы до конца войны что-либо менять в жизни. Уклончиво, сдержанно, в то же время не уступая возможному его несогласию, она объяснила, что дождаться Алешу они должны на том месте, откуда он ушел на войну. «Мне кажется, — сказала она, и глаза ее увлажнились, и голос задрожал от волнения, — он может не вернуться, если мы уедем из Семигорья…»
В другое время он взорвался бы, наверное, накричал о мистике и прочей чертовщине, которая неизвестно из каких углов лезет в голову современной интеллигентной женщины. Но почему-то промолчал. Больше того, забеспокоился неясной, но действительно возможной опасностью, которая могла обрушиться на их семью. В неловкости он постукал пальцами по столу, встал, молча прошелся по комнате; молчанием дал понять Елене Васильевне, что над ее словами подумает.
Идущая война вмешивалась в решение всех жизненных вопросов. И хотя теперь, на третьем году войны, никто не сомневался в победе, сражающимся армиям надо было пройти до победного края еще полторы тысячи самых трудных километров. И потому Иван Петрович, глядя обочь дороги на белую пустошь полей и редкие дымы угадываемых вдали деревень, думал с такой же, как Елена Васильевна, может быть только более скрытной, тревожностью о том, что нынешний их переезд хотя и не в такие далекие, но все-таки новые места, вряд ли будет ко времени. И если переезд все же случится, обживаться на первых порах ему придется одному, — он чувствовал, что Елена Васильевна хотя и в скорбной покорности, но всегда следующая за ним в необходимостях его работы, на этот раз не поступится своим материнским правом дождаться Алешу там, откуда забрала его война. Не поступится, даже если придется расстаться ей с домом, с привычностью всей их жизни, с самим Иваном Петровичем. Странно, он почувствовал на этот раз в ее характере и неуступчивость, и поистине железное упорство и теперь с удивлением, с некоторой даже растерянностью думал об этом.
3
— …Как прикажете понимать? Вы отказываетесь от «Северного»?.. — Стулов, опираясь локтями на стол, придавив массивным подбородком близко сведенные кулаки, смотрел на Ивана Петровича вежливым, как будто медленно сжимающим его взглядом. Вежливый взгляд был обретением Никтополеона Константиновича; Иван Петрович слышал, что в новой должности Стулов научил себя быть вежливым. Но, помнится, кто-то признавался, что от вежливости товарища Стулова у него холодеет сердце и спину пробирает дрожь.
Полуутопленный в низком мягком кресле перед высоким столом, Иван Петрович вынужден был смотреть на Стулова снизу вверх. Он чувствовал нависающую над ним чужую волю, но не изменил ни своего неудобного, как будто нарочито приниженного положения, ни общего своего устало-спокойного вида. Сцепив на коленях красные, только начавшие отходить с мороза руки, он без всякого на то желания выдерживал медлительно-сдавливающий его взгляд и, хотя знал, что должно последовать за вежливым этим вопросом, ответил сдержанно:
— Могу повторить. Рычагова Николая Васильевича освобождать от руководства «Северным» нецелесообразно. Убежден, человек способен работать. Мыслит верно, достаточно широко. И, безусловно, перспективен.
Стулов медленно повел рукой над зеленым сукном стола, артистическим движением удлиненных пальцев перебрал аккуратную пачку бумаг, безошибочно извлек нужную, положил перед собой.
— То, что утверждаете вы, не соответствует положению дел. Товарищ Рычагов неплохо работал в прошлом году. В этот год тянул только до октября. В ноябре дал шестьдесят процентов к заданию. В декабре — пятьдесят. По-вашему — это способность и перспектива. По-нашему — безобразие. Если не хуже… Думаю, не мне вам объяснять, что страна живет по законам военного времени. Бой выигрывают или проигрывают. Производственные задания выполняют или срывают. Товарищ Рычагов задание сорвал. Рассуждать сейчас о перспективах — это, извините, роскошь, позволить которую в настоящих обстоятельствах мы не можем…
Иван Петрович даже в идущем напряженном разговоре обладал способностью наблюдать и оценивать человека не только непосредственной реакцией чувств, но и вторичным, задним, как величают его в народе, умом. Задний его ум наблюдал собеседника, равно как и самого Ивана Петровича, как бы со стороны, всегда пристально и чуть иронично. В разговоре участие этого вторичного ума не ощущалось: все, что наблюдалось им, придерживалось до поры, и самые верные оценки чужого и своего поведения Иван Петрович получал уже после доброго или недоброго общения с человеком, получал именно от него, от наблюдательного, ироничного, притаенного заднего своего ума.
Сейчас, в обязательном, вежливом и напряженном разговоре с Никтополеоном Константиновичем, Иван Петрович как бы проверял прежние свои оценки и не мог уйти от впечатления, что товарищ Стулов и по прошествии времени, в новых обстоятельствах и в новой должности, не лучшим образом подтверждает себя прежнего. Он видел, как Стулов медленно наливался гневом; матовые его глаза не пропускали всей накаленности чувств, но красные пятна, проступавшие на плоском неподвижном его лице, Иван Петрович видел. Он снял очки, с подчеркнутой тщательностью протирал их платком, как бы давая Никтополеону Константиновичу время перегореть в неправедном гневе.
Спокойствие Ивана Петровича не было показным. Он знал: что бы ни случилось, жизненные его тылы обеспечены прочно, обеспечены именно той работой, которую все три до невозможности трудных года войны он с предельным чувством ответственности исполнял. Предоставить ему меньшую работу, чем имел он сейчас, было невозможно, как невозможно отстранить рабочего от станка, крестьянина от земли. Стулов вправе был упрекнуть его в нежелании принять на себя груз больший, чем лежал на его плечах сейчас; в его власти было сделать так, чтобы в партийном порядке строго взыскали с Ивана Петровича за это его нежелание. Но сам же Никтополеон Константинович не мог не помнить, что вина за судьбу «Северного» лежала на нем, на самом Никтополеоне Константиновиче Стулове, на особенностях его характера, переступить через который в свое время он не счел нужным или возможным.
Иван Петрович понимал, что область чисто человеческих его взаимоотношений с товарищем Стуловым осложняет, в какой-то мере влияет на результат разговора, а следовательно, и дела. Мысль Арсения Георгиевича Степанова, высказанная им при последней их встрече, мысль о том, что каждой высокой государственной и партийной должности необходимо должны соответствовать не только деловые, но и высокие нравственные, чисто человеческие качества лица, занимающего эту должность, была в полном созвучии с собственными его мыслями, с его пониманием государственной и партийной службы. Беда Никтополеона Константиновича Стулова была именно в человеческих его качествах. При общении с ним не возникало желания помогать ему, лично ему, в его стремлениях и усилиях, даже очевидно направленных на общую пользу. С товарищем Стуловым работали, выполняя свой долг, свои обязанности перед партией, перед государством. Но желания, идущего от уважения, может быть, даже больше — от любовного уважения к самому человеку, его уму, характеру, его душевности, того самого желания, которое порождает беспокойное и счастливое стремление делать на своем рабочем месте больше, лучше, умнее, чем предусмотрено, положено по долгу службы, — такого желания, такого истинно творческого побуждения дополнять обязанности возможностями своей души, при общении с Никтополеоном Константиновичем Стуловым не возникало.
Иван Петрович слышал набирающий силу голос Стулова, и как бы сами собой выплывали из его памяти оставленные в наследство им, большевикам, слова: «Партийный руководитель должен действовать не силой власти, а силой авторитета» — эти слова Ленина любил повторять его нарком. Теперь слова эти как бы плыли перед глазами и настолько четко обозначали себя в пространстве между ним и Никтополеоном Константиновичем, что удивительно было, как не видел, не прочитывал их Стулов.
Иван Петрович знал свой долг и перед страной и перед все еще идущей войной. И, конечно, он перешагнул бы через свое нежелание, через обидную, памятную ему забывчивость Никтополеона Константиновича, если бы «Северный» действительно страдал из-за плохого руководства. Но три дня, проведенные им в «Северном», убедили его в том, что в леспромхозе просто случилась беда, и беду эту не захотел разглядеть Никтополеон Константинович, раздраженный низкими цифрами сводок о вывезенном и отправленном лесе. В действительности же — на верхнем складе новой, врубившейся в спелый бор лесосеки лежало свыше тысячи кубов заготовленного леса, протянута была к нему и железнодорожная ветка. Но план вывозки и отправки повис, и только оттого, что между веткой и широкой колеей нижнего склада, откуда лес уже прямым ходом отправлялся в освобожденные наступающей армией районы, зияла сорокаметровая пустота снесенного неожиданно бурным осенним паводком моста. Вся вина нынешнего директора «Северного», Николая Васильевича Рычагова, в том и была, что этот погибший в паводке мост стал для леспромхоза камнем преткновения.
«Видать, сам господь бог ножку подставил! — сокрушался Рычагов, раскрываясь настежь перед Иваном Петровичем. — Паровой копер с превеликими муками достали, перевезли, установили, думали до морозов сваи вогнать — на седьмой свае все разлетелось к ядрене-бабушке! Знаете небось, что за техника в тылу, под нашими руками!.. Пока то да се, пока ручной копер сооружали, речка, считай, до дна промерзла. Теперь всё, капут — до лета без моста, до весны без плана…»
Рычагов без дела не сидел. Все силы бросил на вывоз леса по лежневке. Но ни лошади, ни газогенераторные машины, что были на ходу, при всем старании вытянуть план не могли. Рычагов чувствовал, что судьба его, как директора, решена, и, то зажимая в крепких желтых зубах, то гоняя во рту из угла в угол неприятно дымящую, скрученную из газеты цигару, говорил с отчаянной бесшабашностью русского мужика, стоящего у края лиха:
— Вот, Иван Петрович, ты — на судьбу, а она — из-под тебя да на тебя! Вроде все прикинуто-раскинуто, все пущено в ход, отдачи-удачи ждешь. А тут — хоп! — мосточек под хвосточек, и ты — как молодая лошадь с перехваченной жилой: и силен, и рвешься, а шагу нет!.. — Рычагов был симпатичен своей жадностью до большого дела, открытостью и тем, что, как будто уже передавая ему хозяйство, говорил, с видимо крепко сидевшей в нем честной озабоченностью о всем, что могло ему, Ивану Петровичу, пригодиться в новой его работе.
С мостком, проклятым Николаем Васильевичем, Иван Петрович все же помог. Нечто подобное бывало в прошлой его работе, и про палочку-выручалочку он знал. Попросил собрать стариков из окрестных деревень, из семей, живших в леспромхозовских поселках. Собралось их двенадцать, с седыми апостольскими бородами, в облезлых шапках, поддевках, потертых армяках, с виду немощных, вроде бы неловких в конторской, непривычной им обстановке; но даже в обесцвеченных временем глазах, в настороженном их пригляде угадывался опыт ума, который перетащили они на себе через век. У них, стариков, не лукавя и не заискивая, и спросил Иван Петрович совета.
Покряхтели, подымили щедро предложенной им махоркой, поворочались на неудобных им табуретах старики, выдали свое решение: «Ряжи, ряжи вязать! Во льду колодцы долбить, на дно ряжи опускать, бутить. На ряжи — переклады, настил, — сдюжат и танку, и железного коня!..» Так сказали мужики. И Рычагов размашисто прихлопнул себя по лбу, забыл, что вроде бы сготовился передавать дела, — помчался оприходовать стариковский подсказ…
«Мосток, мосток, — думал Иван Петрович. — Сооружение-то — всё ничего. А нет его — и набродишься, если не сломишься, на окольных путях… Сколько таких спрямляющих мостков не ставится вовремя между людьми!.. А от духовных этих мостков зависят не только кубометры — судьбы людей. Даже их жизни!..»
Иван Петрович протирал платком очки, слушал голос Никтополеона Константиновича, думал, стараясь не дать ответно подняться недоброму чувству: «Вот где, вот когда собрать бы тех умудренных стариков, дать бы сказать им слово в этом высоком кабинете, рассудить, что от дела, что от лукавого, перетащенным на себе через жизнь их опытом состроить через непонимание мосток, — на ряжах, на сваях, на мудром ли слове, но — мосток, необходимо нужный не только им двоим! Ох, как нужна этому кабинету обстоятельная, неторопливая мудрость таких стариков!..»
— Итак, насколько можно понять, готовности принять «Северный» вы не выражаете. Мало того, на себя вы берете ответственность утверждать, что товарищ Рычагов способен в текущий месяц дать не только план, но и достаточно быстро покрыть задолженность по вывозке и по отгрузке леса. Правильно ли я понял вас, товарищ Полянин? — Стулов каким-то образом еще сдерживал басовую силу своего голоса; но отзвень металла в самом звуке напряженно произносимых им слов достаточно определенно говорила, что Никтополеон Константинович шутить не собирается. Иван Петрович это чувствовал. Он надел свои невзрачные, в тонкой железной, потускневшей от ветров и дождей оправе очки, заправил дужки за обмякшие в тепле и теперь горевшие уши, посмотрел на Стулова снизу вверх внимательным, каким-то даже сочувствующим взглядом.
— Вы правильно поняли, — сказал он, стараясь смиренностью голоса удержать Никтополеона Константиновича от ненужного взрыва. — Хотел бы добавить, что убеждение мое относится не только к плану ближайшего месяца. Мое убеждение касается и перспектив работы товарища Рычагова. Он — человек дела и большой энергии. Будущее у него есть.
Стулов, сдерживая себя, пальцами тронул свой побелевший нос — разговоров о будущем он не любил; красные пятна на его плотных щеках потемнели.
— Еще раз напоминаю, товарищ Полянин, что нас интересует сегодняшний день!.. Допустим. Допустим и дадим товарищу Рычагову для реабилитации две недели. Ровно через четырнадцать дней мы вернемся к вопросу. Просил бы вас помнить, что вы состоите в партии… — Стулову хотелось добавить: «Пока состоите», но сказать это всегда больно ударяющее слово человеку, который большевиком прошел через первые дни революции, он не решился. Иван Петрович наблюдал, как поднял он со стола лист бумаги, медленным, точным движением вложил в папку.
— Хорошо. Идите, — сказал он, придерживая руку на папке.
Похоже было, товарищ Стулов удалял его из кабинета. Подобных отстраняющих концовок Иван Петрович не терпел ни в деловых, ни в личных разговорах. Потому словно бы в задумчивости потирал пальцами напряженный лоб, как бы не замечая взгляда матово-холодных глаз Никтополеона Константиновича. После достаточно ощутимой, трудно давшейся ему паузы он с той же медлительностью, с какой вел весь разговор Стулов, сказал:
— Неясным остается еще один вопрос — о главном инженере «Северного». В нашу область эвакуирован вместе с семьей из Крестецкого опытного леспромхоза Сергей Иванович Орешкин, специалист исключительно высокого уровня. Мы уже говорили об этом человеке. В Крестцах он разрабатывал поточный метод заготовки и вывозки древесины в системе ЦНИИМЭ. Сейчас обосновался в Буе, занимается непрямыми своими обязанностями, страдает, что война оторвала от дела всей его жизни. Человек этот смог бы, в помощь товарищу Рычагову, стать и организатором и катализатором производственной жизни «Северного». В перспективе и в сегодняшнем дне…
Иван Петрович с умыслом подчеркнул — «и в сегодняшнем дне», он знал, что Никтополеон Константинович при всем своем самолюбии человек дела и не сможет не согласиться с очевидной выгодой дня. И когда Стулов, помедлив в некотором раздумье, согласился, Иван Петрович удовлетворенно заключил:
— Теперь, кажется, всё. — И спокойно поднялся: разговор закончил он, и на той точке, которую наметил сам.
4
И снова лошадка, потряхивая заиндевелой гривой, одиноко бежала среди заснеженных полей, от деревни к деревне, вдоль лесов, через овраги, мимо застуженных березнячков, по российским притихшим просторам. Смягченный снегом постук подков, позвякиванье сбруи, ровный скрип оглобель в гужах, само движение к уже угадываемому где-то за снегами дому рождали приятное чувство освобождения от долгих и нелегких дорожных забот. Впечатления последней недели, прожитой вне дома, вне привычных хозяйственных забот, еще не улеглись, и, как всегда после усилий, связанных с новыми делами, Иван Петрович неторопливо осмысливал суетные дни, старался для себя понять, что сделал он хорошо, что не совсем хорошо, в чем был прав, в чем не прав, где уступил характеру, проявил несдержанность, и во всем ли остался верен своим убеждениям. Все, что успел он сделать за трехдневное пребывание в «Северном», в том числе по восстановлению разрушенного моста, вызывало теперь, уже в несколько отстраненной оценке, удовлетворение. Как вызывало удовлетворение и то, что сумел он выстоять перед властным нажимом товарища Стулова, выстоял сам и помог достойному человеку остаться при деле. И все-таки, как это бывает, когда человек уже настроится на большое дело и обстоятельства или сам человек отменяют уже поселившуюся в его мыслях и душе заботу, он чувствовал вместе с удовлетворением и какую-то неловкость, и беспокойство, и что-то похожее на ощущение вины — нет, ни перед Никтополеоном Константиновичем, — перед интересами самого дела, которое всегда было для него выше личных, семейных и прочих интересов. Нет-нет, в Николая Васильевича Рычагова он верил, как верил и в Сергея Ивановича Орешкина, — для «Северного» это, конечно же, будет надежная и широкая перспектива. И все-таки… Пока Сергей Иванович переедет, пока умом приладится к работе…
Уйти от неприятного ощущения своей вины, какой-то неточности в своем поступке он не мог, как не мог высвободиться в дороге из тесной поскрипывающей кошевки, увлекаемой бойкой лошадкой по промятой в глубоких снегах дороге.
Облегчить себя живым словом он мог только с Серафимой Галкиной, которая из уважения к молчаливости Ивана Петровича всю дорогу стойко обарывала свою женскую потребность в разговоре и отводила душу с хозяйками и старухами в деревенских избах, где приходилось им останавливаться на ночлег. Сноровистость Серафимы, умело управляющей лошадью в дороге и заботливо обихаживающей ее на постое, приятно удивляла Ивана Петровича. Случая высказать ей свое одобрение он не находил и теперь, сам томимый долгим молчанием, в неловкости поворочался в тесноте тулупа, спросил Серафиму о муже, — поездка дала ей возможность навестить своего многострадального хозяина, который по трудповинности работал на маленьком военном предприятии при здешней железнодорожной станции.
Серафима откликнулась тотчас:
— Ой, Иван Петрович, тяжко им там! В дощатых барачках мины начиняют! Считай, тут и живут, кто как… Сам-то мой плохонькой! Да не в том беда — душой он надорванный после тех-то, нехороших годов… Споведовался он мне, Иван Петрович. Ведь от Доры Кобликовой лихо под него подкатило!..
Иван Петрович будто споткнулся на разгоне, и желание говорить пропало. На доверительное признание Серафимы он не ответил. Но знакомая, вроде бы уже забытая в событиях войны, тоскливая нотка зазвучала в нем от неосторожных ее слов. Он подумал о Стулове, о себе, о том, что, если бы пришлось принять ему «Северный», он оказался бы под прямой опекой Никтополеона Константиновича и вряд ли достало бы ему силы выдержать постоянный его догляд. Когда там, на месте, он взвешивал и решал для себя вопрос о «Северном», он не думал об этой как бы несуществующей стороне предстоящей его работы; он думал о самом деле, исходил из действительных интересов и перспектив. Теперь ему казалось, что устоял он перед товарищем Стуловым не только по убеждению, но и потому, что во втором, настороженном его уме жило вот это опасение прямой беспощадной опеки Никтополеона Константиновича.
Тоскливый звук, который впервые он услышал в поезде, увозившем его, расстроенную Елену Васильевну и жаждущего перемен Алешу из Москвы в Семигорье, в обычном плацкартном вагоне, среди множества других людей, продолжал звучать. И под недоброй памяти этот звук он думал, что, будь на месте товарища Стулова Арсений Георгиевич Степанов, он, наверное, принял бы «Северный». Наверное, принял бы. Года на два. Оставил бы Рычагова в заместителях, помог бы ему поймать «второе дыхание» крупного руководителя и тогда, уже спокойно, с сознанием исполненного долга, отошел бы на запасные позиции, приличествующие его возрасту и уже не прежним силам.
«Если бы!..» — думал Иван Петрович. Этого «если бы» не было; и шаг, который он сделал, хотя и был в какой-то мере компромиссом, казался ему теперь единственно приемлемым как для Стулова, как для «Северного», так и для него самого.
«Самое трудное в жизни, — думал он, — отстаивать свое право на самостоятельность — в работе, в мыслях, в поступках. Быть просто исполнителем легче. Много легче, чем думать и по убеждению поступать. Но ведь и человеком быть много труднее, чем просто жить!!!»
Лошадка бежала ровно. Серафима молчала. Она вообще тонко чувствовала настроение своего директора и до удивления была деликатна в своем отношении к нему. Иван Петрович почти успокоился ясностью додуманных мыслей. Где-то за снегами уже виделась ему Волга, Семигорье, обжитый домик на берегу Нёмды, где терпеливо ждала его возвращения Елена Васильевна. Теперь он может сказать ей успокаивающие слова. И Алешу они встретят на родном ему пороге, через который с солдатским мешком на плече он перешагнул, уходя на войну. Мать права: дождаться сына они должны на месте. И вообще — не надо им трогаться со своей земли.
Институт уже готовится к возвращению в Брянск. Восстановится с его отъездом техникум. Спираль военных годин завершает свой звенящий от напряжения виток. С потерями, горем, лихом, со страждами изболевших душ, но жизнь возвращается на круги своя. Только бы вернулся Алеша. И возвратился бы к своим делам Арсений Георгиевич Степанов…
Иван Петрович покосился на матово-пунцовевшее в овчинных отворотах тулупа лицо Серафимы, хотел попросить поторопить ровно бегущую лошадку, но промолчал: слишком хорошо он понимал, что время и пространство неподвластны даже самому нетерпеливому человеческому желанию.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ Возмездие
1
Вторые сутки Макар вел машину по белорусской земле. Было душно, пыльно, устало и — радостно: корпус вырвался на простор, за все линии многолетних укреплений, и шел уже по тылам отступающих немецких армий.
Эту пылающую, окиданную смертями землю Макар прошел в горьком июле сорок первого, и память тех дней будто спеклась, тяжелила неотступно душу, как настывшая на металл окалина. Помнил он все: и гибель эшелона на безымянном разъезде среди полей; и бой на старом тракте у леса, где от выстрела по танку в упор погиб молоденький их командир, Соколов Володя; и свой последний в тот год бой, уже в одиночестве, у незнакомой деревни Речица, с немецкой пехотной колонной; и смерть свою там; и возвращенную ему Анной жизнь; и тяжелое расставание с ней, с бедовым Серегой, со старой женщиной Таисией Малышевой, по-матерински благословившей его в прощании. Говорят: кто переживает свою смерть, живет долго, — будто бы смерти не хватает сил на второй замах. Так ли оно или не так, но минула его вторая смерть, когда он пробирался из Речицы по вражеским тылам. Минули и все другие, что подступали в партизанской нелегкой жизни. Духовщинские партизаны и перебросили его, спустя год, на Большую землю — для новых формируемых танковых армий нужны были опытные механики-водители.
Может, верна оказалась народная мудрость. Может, идущее от твердого разумного сердца благословение старой женщины оберегло его от летающей, подстерегающей; стреляющей войны. Но обошло его то, что не обошло многих других, хотя себя он не берег, но, понятно, и в глупую смерть не лез. Как бы там ни било, на обратной дороге войны выпала ему на пути та самая, уцелевшая в войне Речица, где держал он свой бой с пехотной немецкой колонной, и командир их танкового полка гвардии капитан Кузьменко Степан Егорович, потерявший на белорусской земле в 41-м всех родных, человек добрый даже в своей скорби и, при всей командирской строгости, располагающий к себе безоглядно, отозвался на скупую его просьбу. С тракта, через памятную канаву, Макар провел свою рокочущую «семигорочку» — так звал он свой танк за номером семь, — бережно остановил у самого крыльца породненного с ним дома, привычно выбросил свое тело через люк. Волнуясь радостным, стеснительным волнением, встал мо́лодцем перед крыльцовыми ступенями, заслышав открывшуюся в сени дверь. Ожидал обрадовать и самому обрадоваться сразу всем — и Таисье Александровне, и Анне, и бедовому Сереге, и желающей всему миру добра Катеньке-Годиночке; да сердце оборвалось, усунулось в черные памятные ему бездны, когда будто вытаяла — вышла из тьмы сеней на крыльцо старая женщина вместе с Катенькой — внученькой, обхватив, казалось, намертво своими костлявыми пальцами безвольную, как пруток, руку девочки. Смотрела застылым, без скорби, взглядом, будто не признавая, и девочка прижималась к старой женщине, пугливо оглядывалась на заслонивший землю и половину неба танк.
Потерявшись от такого нежданного привета, Макар сдернул с головы шлем, думая, что признают его по цыганским волосам, густо поседевшим в ту давнюю пору, когда здесь, в потаенной, за этой вот стеной, кладовочке, его вытаскивали из уже охватившей тело и душу погибели. Но и тут не потеплел взгляд старой женщины. Сказал Макар, не скрывая горечи:
— Или не признали, Таисия Александровна?
И тогда только старая женщина молвила:
— Признала, солдат. Заходи в дом. Товарищей своих зови…
Перед холодной печью, положив на пустой стол черные, до костей исхудалые руки, поведала им старая женщина о жизни, напрочь разломанной оккупантом:
— Вот так, солдат. Анну повесили на виду деревни, у дороги. Семь ден висела, не дозволяли снять. Хоронили — дочь свою в ней не признала. А погибла, солдат, за таких, которых окруженцы ни вынести, ни вывести не осиливали. После тебя в дому цельный лазарет наладила. От глаз такое разве убережешь. Тимофей-услужник доглядел, пожаловал с гостями. Не уступила Анна порога. Прямо при солдатах рубанула унтера топором… Серегу и Натоху, дружка его деревенского, пристрелили на огородах: пулемет пристроили в плетне, посекли прислужника Тимку Кривого… Вот так, солдат. Корову забрали. Курей побили. Дом вычистили до овсины, до последней картофелины. Спалить хотели. Оставили до какой-то своей поры. А пора вышла такая, что спехом пришлось убраться им из Речицы — охватили их будто где-то позади… С Катенькой худую ту зиму держались соседями. Жив был мир деревенский. Не каждый от ворога заледенел. Людские души тоже были…
Таисия Александровна говорила, как всегда, голосом ровным, будто все уже было уложено и оплакано в ее душе. В слове ее не чувствовалось былой неуступной силы; надлом был и в голосе ее и взгляде. Казалось, если и ходила-действовала еще старая женщина, то не из своих сил, — опека-забота о Годиночке додерживала ее на земле.
Когда, дослушав ее слово, все они: капитан — их командир, наводчик молодой Сашко, заряжающий Матвей Матвеев, сам Макар — поднялись в неловкости перед пустым домом и опустошенной жизнью когда-то сильной крестьянской семьи, и капитан только взглянул, только едва кивнул Сашку, и понимающий Сашок в мешке приволок из танка весь наличный запас их армейских пайков, и всё с быстрой аккуратностью выставил и выложил на стол, и Катенька, округлив на бледном, с истонченной синеватой кожей лице свои когда-то доверчиво распахнутые в мир глаза, задрожала, и заплакала, и упрятала лицо под неподвижную руку старой женщины, — такой тоской и яростью скрутило Макару душу, что едва не вышел он из дома первым.
Старая женщина будто не видела лежащего на столе, спасающего богатства; не без труда Макар выдерживал направленный ему в глаза прежний, памятный ему, твердый, неуступающий взгляд.
— Сходи, солдат, Анне поклонись, — сказала старая женщина. — Что вернулись насовсем, вижу. По силе вижу. Что слово твое при тебе, тоже вижу. До победы дождусь. Придешь — Годиночку примешь. Кроме тебя — некому…
Ровное подвывание сильного мотора, привычное покачивание, потные руки на рычагах; в открытый люк будто сама собой движется завешенная пылью дорога; напахивает в люк гарью впереди идущих машин. А перед глазами старая женщина, истонченная голодом Годиночка, уткнувшая лицо под неподвижную ее руку. Боль за Анну. И неизбывная вина за Серегу, не убереженного его словом. Перед тем как уйти, он ночь караулил указанного Серегой предателя Тимку! До рассвета просидел перед его домом, надеясь перехватить возможную беду, — не дождался: подонка призвали хозяева, с другими вместе бросили куда-то кого-то карать. Ждать дольше не было возможности…
Вот она, теперь на всю жизнь, его вина перед Серегой, перед старой женщиной, — уже не солдатская, человеческая его вина. Попробуй-ка приглуши вину, ежели она перед теми, кто дал тебе вторую, вот эту, нынешнюю жизнь…
Макар слышал, как командир принимал передаваемый по колонне приказ: их полк менял направление, на предельной скорости должен был выйти к железнодорожной станции, где разгружались прибывшие немецкие танковые эшелоны.
Они мчались под белесым от зноя небом в реве мотора, в бьющем дрожании гусениц, прихватывающих в бешеной быстроте сухую землю проселков, навешивая над полями, над перелесками широкий клин неоседающего пыльного тумана; и с каждым оставленным позади километром еще не отвоеванной, но уже доступной для них земли Макар все с нарастающим чувством приближающегося возмездия выжимал из воющего мотора всю возможную двигающую его мощь.
И настолько велико было сейчас это желание возмездия, до невозможности растревоженное еще и скорбным словом старой женщины, что Макар даже одним своим танком — не полусотней мчащихся впереди и позади сильных, готовых к бою машин — не помешкал бы обрушиться на где-то впереди маячившую железнодорожную станцию.
Война в этот час повторила для Макара июльский вечер сорок первого. Развернувшись дугой, не замедляя хода, танки пошли по когда-то бывшему здесь полю, сминая лебеду и уже поднявшийся лесной подрост, на большую многопутную станцию, обозначенную дымами паровозов, вагонами и платформами с угловатыми выступами машин, слитыми в одну неясную пятнистую линию от нанесенных на них разводов.
Выстрелов идущих по бокам машин он не слышал, — приостанавливая по команде капитана машину, он ощущал только тупые удары своей танковой пушки, — но видел, как мгновенные вспышки, как будто догоняя друг друга, разбегались по путям, вдоль платформ и вагонов. Запылали, зачадили запаленные ими костры. Завилось над вагонами в огненную трубу солнечно-желтое пламя: от пронесшегося над всем составом сполоха отделилось смолянисто-черное, шевелящееся, разбухающее облако гаревого дыма. Горели и платформы и танки на них, разбегались, спасали себя люди. И Макар, все это вбирая нежалеющим взглядом, испытывал глухое, мрачное удовлетворение от вида гуляющего, рвущего железо, вагоны и людей, сжигающего огня.
Танки, теперь уже медленно, с двух сторон охватывали огненный круг пылающих эшелонов, когда из разбухающего, текущего по ветру на поле, им навстречу, черного дыма, выполз тяжелый танк, пошел, заметно набирая скорость, по верху насыпи. Макар помнил, как в горький день сорок первого их танк и танк Артюхова вырвались из огня для того, чтобы снова вернуться в огонь, и, приближаясь к пожарищу, цепко удерживал взглядом уходящий по насыпи танк, стараясь предугадать его боевой разворот. Но те, кто был в танке, как будто не думали входить в бой; даже башня с тяжелой пушкой не была развернута в их сторону, — похоже, немецкие танкисты уходили, спасая себя.
И когда бьющая выхлопами машина с быстрого хода занырнула за насыпь, он понял, что так оно и есть, и услышал голос командира:
— Третий!.. Третий… Примите руководство полком. Пошел на преследование… Разуваев! Не дай уйти подлецам!.. — Капитан тоже следил за выходящим из боя танком, и Макар, откликаясь движением рук на команду, привычно сосредоточиваясь, оторвал свою «семигорочку» от других машин, сжимающих дугу на дымном, горящем разъезде.
Людей, спасающих себя броней и мощью мотора, он не видел. Но все они, какие бы ни были — кадровые или молодые, с гитлеровскими усиками или с твердыми, чисто побритыми скулами, — все они были теперь для Макара на одно лицо, — это было лицо врага. И не видя, он уже ненавидел тех, кто прятал себя за броней чужой машины; презирал их, трусливо уклоняющихся от открытого боя, хотя тяжелый немецкий танк по силе огня превосходил «семигорочку».
Танк, на броне которого уже не раз мелькала оранжевая, с оскаленной пастью голова тигра, то притаивался в залесенных низинах, то, как гонный зверь, пытался уходить, петляя по полям и обозначая свой ход цепкой полосой вздыбленной пыли; тогда Макар гнал свой танк напрямик, вырывал из разделяющего их расстояния очередную сотню метров. Где-то в придорожных ольхах желто-пятнистый танк запал. И когда Макар, широким полукругом охватывая плохо примеченное место, вывел машину на склон пологой высотки, тупой оглушающей звенью отозвалась «семигорочка» на удар посланного из засады снаряда, — люди, таившиеся в танке, были не только трусливы, они были еще и коварны!
В излучине петляющей внизу речки снаряд Сашка́ достал наконец тяжелую машину. Из опахнувшего ее дыма суетно выбежали трое быстрых людей, бросились почему-то не в заросли у воды, не в речку, а побежали пологим берегом вдоль, отблескивая подошвами ботинок.
Макар добросил до них разгоряченную машину, стараясь подмять под гусеницы сразу всех троих, но услышал предостерегающий голос капитана:
— Не трогать!..
И, почти настигнув их черные, подпрыгивающие в отчаянном беге спины, он выжал в досаде сцепление, взвыл танковым мотором, в моторный вой вкладывая свое право на возмездие, молча и мрачно смотрел, как чужие солдаты, в ужасе перед настигшей их смертью охватив головы руками, распластались на земле.
Макар слышал, как откинул крышку люка капитан.
— Aufgestanden![10] — услышал он его властный голос.
Немецкие танкисты, в недоверии к приказывающему им голосу, оглядывались, робко поднимались, тянули перед собой вверх грязные ладони, жалкими, испуганными улыбками показывали полную свою покорность.
— Das Gewehr hinlegen![11] — снова прозвучал голос капитана. Двое, с испуганными мальчишескими лицами, отстегнули, с одинаково спешащим усердием, висящие впереди, у правого бедра, кобуры, вынули, бросили в траву пистолеты. Третий, заметно старше, в шлеме, с лицом, окинутым копотью («Из водителей, видать», — подумал Макар, не чувствуя обычного в таких случаях участия), боясь отвернуться от рокочущего недобрым голосом танка, в каком-то заискивающем полупоклоне тыкал рукой позади себя, показывая на лежащий там автомат. В квадрате раскрытого люка Макар близко видел всех троих, услужливо покорных в своем спасающем себя усердии перед чужой силой, жалких, совсем не похожих на тех, из июля сорок первого, которые даже под падающей на них танковой громадой стояли у своих орудий, и не было жалости в нем. И когда капитан приказал немецким танкистам забраться на броню, сам остался стоять в открытом люке и подал команду к движению, он не выдержал: по праву доверительных человеческих отношений, которые сам капитан установил в экипаже, проговорил, выводя на обратный к задымленному разъезду путь:
— Пооберегитесь, товарищ капитан! К худу бы не обернулась ваша доброта…
На что капитан с непонятным Макару удовлетворением ответил:
— Все нормально, Разуваев. Не отвлекайся… Это уже люди…
Макар знал, что командир их, капитан Кузьменко, предельно точный и умелый в действиях, решительный и бесстрашный в бою, был до удивления, терпим и любопытен к уже поверженному врагу. Историк из города Самары, он, зная немецкий, с какой-то непонятной Макару дотошностью расспрашивал пленных офицеров и солдат, пытался расшевелить в них что-то, чего, по убеждению Макара, не было и не могло быть в их, настроенных на войну и жестокость головах. Капитан же при каждом удобном случае внушал, что немцы — враги на поле боя; в жизни они такие же люди у них; своя история, своя культура, такие же, как у всех, житейские и человеческие заботы. «Немцев одурманил фашизм, — спокойно убеждал капитан. — Поражение в войне образумит немецкую нацию. Опыт истории просветляет разум…» Капитан верил в опыт истории. Макар знал опыт войны. Он точно знал, что было бы с ними, если бы снаряд, посланный помилованными танкистами из засады, не срикошетил на обводах башни, если бы «семигорочка» загорелась. Этим покорно заискивающим сейчас танкистам в голову не пришла бы мысль о милосердии. Весь экипаж «семигорочки», в том числе и капитан, лежал бы сейчас в этом поле, прошитый пулями, вмятый в землю гусеницами раскрашенного танка.
Все время, пока Макар вел «семигорочку» к обозначенной широким дымным облаком станции, его не покидало ощущение какой-то нечистоты от присутствия чужих солдат на броне его машины. Круче, чем надо, он делал повороты, рывком набирал ход, мертво тормозил, как будто ему не терпелось сбросить с танка и с себя это ощущаемое им недоброе присутствие врагов.
Когда пленных, наконец сдали, штабу случившейся на пути пехотной части, Макар подвел свою «семигорочку» к первому же ручью, молча зачерпнул ведром воды, с подчеркнутым усердием, как бы не, замечая иронической улыбки командира, оплеснул, тряпкой протер броню, где только что лепились, спасенные капитаном чужие танкисты.
2
Разбитые, охваченные на подходе к Минску, танковыми корпусами и мотопехотой, немецкие армии сдавались.
В один из дней, еще не остыв от горячности только что затихшего боя, Макар поставил машину лбом к дороге, вылез на броню, смотрел на врагов по войне, молча бредущих мимо настороженных танков. В куртках, в шинелях, в сапогах и ботинках, в пилотках и без пилоток, в пятнистых шароварах и таких же накидках, разные, по виду и возрасту, шли они — солдаты, унтеры, фельдфебели, молодые, старые и в самой сильной по возрасту поре, — одинаково растерянные, оглушенные, словно пригнутые к земле удивлением перед силой людей, которых призваны были они покорить и которые, остывая, после боя с ними, теперь, безоружными и, послушными, сидели и лежали на танках под припекающим солнцем, поглядывали на них с высоты машин. Шли среди пленных, укрываясь за спинами и других, и крепкого вида не рядовые, но, в солдатских куртках, видать по всему, с чужого плеча; выдавали их черные галифе, сапоги и притаенные взгляды из-за чужих голов, в которых не было безразличия и общей тупой покорности. Макар на таких и на всех прочих смотрел без сочувствия, в недоверчивости кривил тугие, неохочие даже на усмешку губы. Вспоминалось почему-то, как однажды, еще в ранней молодости, заполучил он в капкан матерого, на общий двор повадившегося волка. Волоча, за собой капкан с привязанной к нему колодой, волк ушел. Но по следу он дотропил его в густом засугробленном еловом подросте. Ружья не было; попробовал тут же выломанной дубиной расправиться с серым, угрюмо припавшим к снегу зверем и едва остался жив, — до сей поры не сошли с ноги лиловые, пугающие чужой глаз отметины.
В урок стал ему тот случай, как и многие другие, прибавленные уже войной. И в том, что сейчас он видел, было нечто от того притаенного волка. Потому даже на броне танка не отпускала Макара ставшая привычной настороженность, и, вроде бы не по обстановке и все же с беспокойством, следил он за идущими мимо молчаливыми людьми и за своим командиром, который вместе с другими командирами-танкистами стоял у самой дороги, с оживленностью, с любопытством вглядывался в лица чужих солдат, выбредающих, казалось, бесконечно, из окруженных танками лесов.
Капитан вдруг пошел к машине, как всегда легко и быстро поднялся к башне, сказал, словно оспаривая возможное молчаливое несогласие Макара:
— Была сила. А сломили силу силой и — вот: послушная Гитлеру, жестокая армия превращается в людей. Простых, усталых людей, которым осточертело оружие, война и сам фюрер… Давай-ка, Разуваев, «семигорочку» по-тихому вдоль колонны. Сказать хочу им пару человеческих слов…
Макар, в душе не одобряя желание командира, спустился, в люк. Повел машину мимо стоящих в перелеске других машин полка к дороге. Он вел танк метрах в двадцати от бредущих навстречу им чужих солдат, окутанных поднятой их же ногами пылью, и капитан четким, успокаивающим этих чужих солдат, радостным голосом выкрикивал:
— Soldaten! Der Krieg in Rußland ist für euch beendet. Ihr, werdet Zeit haben, über euer Schicksal, über das Schicksal eures Vaterlandes nachzudenken. Wir hoffen, das ihr euer Leben und die Zukunft Deutschlands nie mehr solchen wahnsinnigen Predigern der Gewalt anvertraut, wie es euer Führer erwiesen hat. Von eurer Vernunft hängt euer Zukünftiges Leben. Jeder von euch…[12]
Макар догадывался по голосу, что командир снова и снова пытается пробудить какие-то человеческие чувства в этих тупо бредущих, не внимающих его голосу солдатах, и видел по выражению их лиц, что капитан старается зря.
В танке было как в печи. Макар сдвинул на затылок шлем, время от времени отирал рукавом комбинезона потное лицо. Теперь яснее он слышал рокот работающего на малых оборотах мотора, слышал в окне переднего откинутого люка шум множества ног, вразнобой ступающих по твердой, каменистой здесь дороге.
Что-то неприятное было в близком шарканье чужих ног, но капитан как будто не видел ни безразличия солдат, ни нарочито ускользающих взглядов на потных грязных лицах, которые подмечал Макар. Капитан стоял в открытом люке башни, старательно подбирал слова, выкрикивал:
— Jeder von euch…[13]
Однообразный шум множества переступающих по дороге ног, похожий на топот идущего по прогону стада, вдруг перекрылся коротким трескучим звуком.
Макар не сразу сообразил, что услышанный им треск — звук автоматной очереди. Только когда непослушное тело неживой пугающей тяжестью навалилось ему на плечи и, взглянув в оторопи, он близко увидел испятнанное пулями незнакомое лицо капитана, он понял, что произошло.
Внутрь машины уже падали заряжающий Матвеев и с каким-то собачьим подвыванием Сашок. Ударила с глухим звоном крышка башенного люка, донесся будто спотыкающийся на всхлипах голос Сашка:
— От дороги… От дороги отдайся, Константиныч!
Макар ударом руки надвинул шлем, услышал в шлемофоне срывающуюся в крик команду замполита Мозгового:
— Полк! К бою!.. — и понял: весь полк видел, как был расстрелян их командир.
Тараня позади поросль леса, он отпятил танк от дороги. Рядом разворачивались, рвали гусеницами землю, составлялись в линию другие ожившие машины.
Макар слышал, как прихватисто щелкнул затвор пушки; конец ее длинного ствола опускался рывками, нацеливаясь на дорогу.
В открытый люк он видел, как на всем протяжении дороги, перед низкоопущенными и нацеленными в упор стволами пушек, метались, сталкивались, падали, ползли, старались укрыться друг за друга уже не могущие ни убежать, ни врыться в землю чужие солдаты. Он представлял, что будет сейчас на этой открытой огню дороге, и ждал и хотел огня.
Почти одновременно взбухло перед лбом танка и сверкнуло на дороге пламя, поднялись в воздух одежда и камни. Пороховой дымный запах знакомо потек по танку. Снова щелкнул, зажимая снаряд, затвор пушки.
Макар прикрыл глаза: он жаждал мести, но смотреть, как орудийные залпы разнесут сейчас распластанных на дороге людей, было даже ему не по силам.
Вместе с щелчком пушечного затвора Макар услышал хриплую, будто через силу, троекратно поданную на изготовившийся к бою полк команду:
— Отставить!.. Отставить огонь! Огонь отставить…
И, бережно придерживая плечом неживое тело капитана, слыша, как Сашок в неутоленной ярости бьет кулаком в глухую броню, притаенно перевел дух, медленно отер лицо от простудившего облегчающею пота.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ Память
Измученные солдаты, едва отрыв окопчики по краю поля, попадали тут же в перелеске, среди кустов. Пригреваемые ранним летним солнцем, люди засыпали, не донеся голов до земли; никто из них даже не вспомнил о дымящих под елями кухнях.
Алеша ходил по роще, смотрел на солдат с каким-то отеческим, незнаемым прежде чувством. Спали все: на пилотках, на кулаках, кто-то в обнимку с винтовкой, кто-то, утопив лицо в траве, разбросал по земле руки; одни лежали стрижеными затылками к небу, другие лицом к солнцу; и каждый солдат своим отрешенным, до невозможности усталым видом как будто молил: «Не трогайте… Ну, дайте поспать…»
Заботой перебарывая сон, Алеша с осторожностью пробрался среди как будто совершенно выпавших из войны людей, отыскал штаб и молодого комбата со смешной хохлацкой фамилией Лупинос.
Комбат не спал, но вид у него был оглушенный после почти непрерывного четырехсуточного перехода, — дивизия вошла в прорыв, и фронт всеми силами торопил движение, чтобы закрепить пехотными частями окружение центральной группировки немцев, уже охваченной танковыми корпусами.
Комбат не был настроен на разговор, его заместитель и начальник штаба уже укладывались на лапник, настеленный ординарцами в прохладе, под смолисто пахнущими елями. Он вяло махнул рукой, сказал:
— Делай как знаешь… Да поглядывай — немцы где-то позади! — и с наслаждением расстегнул на себе широкий ремень портупеи.
В жаре, в почти безостановочных переходах начались вспышки дизентерии, надо было раздобыть хотя бы несколько пузырьков бактериофага. И Алеша, в своем нынешнем состояний постоянной озабоченности делами и людьми, решил, пока батальон на дневке, отыскать в полковых тылах санроту, вытребовать необходимое количество лекарства.
Открытой полевой дорогой шел он к синеющему в обширной низине лесу, где, как сказали ему, должны были быть тылы полка, прислушивался к привычному гулу идущего в стороне наступления. Из-за лесного увала, где шел бой, доносились не то лопающиеся, не то хлопающие звуки артиллерийской канонады, как будто там, за лесом, ураганный ветер полоскал, звучно трепал крепко навешенное белье; время от времени косо прожигали пространство над лесом огненные снаряды «катюш». В той же стороне, но ближе, над открытым косогором, поднималась мутно-розовая в солнце пыльная навись — можно было различить, что там заходила в прорыв еще одна танковая колонна.
Звуки боя бодрили. И то, что успех большого наступления был очевиден, вызывало в Алеше чувство, бо́льшее, чем удовлетворение.
Что-то в нем все-таки изменилось. Он даже думал, что душа его, прежняя, доверчивая, ожидающая добра и справедливости, открытая его душа, не выживет там, где в удушающей цепкости лагерной проволоки, под нацеленными пулеметами, иссыхал он в униженности на крохотном пятачке земли, и должен был погибнуть, и не погиб.
Он вернулся в жизнь, в ту единственную, в которой только, и мог жить, и в удивлении обнаружил, что то, что было его душой, не умерло от близости смерти и под жестокостью чужой воли. Все добрые чувства, все высокие мысли его, все его прежние стремления остались при нем. Даже больше: при замкнутости, сдержанности, при кажущейся нынешней его молчаливости, он стал намного внимательнее и серьезнее ко всему доброму, что окружало его теперь. И батальон гвардейской стрелковой дивизии, куда он получил назначение после своего трудного возвращения на Большую землю, был для него уже не просто новым местом службы, где исполнял он свой воинский долг, — каждый солдат, каждый командир, находящийся под докторской его опекой, вызывал в нем уже не прежнее мальчишеское любопытство, а какое-то трепетное участие, чуть ли не любовь; он озабочивался каждой малостью, если она могла быть полезной для батальона, или для солдата, или для кого-то из людей, с кем сводила его судьба; и людская благодарность была для него теперь едва ли не самой важной из всех ценностей жизни.
Но лесная деревушка, залитая багровым вечерним светом, где чужая подлость вырвала его и друзей-десантников из жизни, которой они жили и за которую воевали, не забывалась им. И подлость, большая или малая, расчетливая или случайная, независимо от того, кем, и как, и по отношению к кому она была совершена, вызывала в нем еще большую, чем прежде, холодную, побуждающую к действию ярость.
Он уже спускался с косогора, когда впереди появилась шестерка штурмовиков. С режущим слух ревом они прошли над лесом, развернулись и, как будто с горки, ринулись на лес, над которым только что прошли. Эресы[14] и снаряды самолетных пушек прошили лесную глубь, клубы белого и черного дыма выплыли из зеленых вершин. «Илы» развернулись, еще раз зашли на какую-то видимую им цель, и Алеша, с сочувствием наблюдая их ожесточенную штурмовку, вдруг, настораживаясь, подумал: «Но почему штурмуют этот лес? Ведь где-то там должны быть тылы дивизии?!»
Пустынная в начале его пути, дорога у леса стала оживать: двигались навстречу машины, повозки, группами шли солдаты, — их повыгоревшие гимнастерки и пилотки белели даже в тени; прошли, сгибаясь под тяжестью плит и стволов, минометчики.
Алеша успокоился — он был не один на этой уходящей в леса дороге. И, успокоившись, невесело подумал, что после плена стал пугаться одиночества.
Навстречу ему из тени деревьев вышли солдаты в голубовато-серых куртках, в шюцкоровских кепках с длинными козырьками, и Алеша с памятным ему чувством обреченности замер на дороге: солдат было много — оружия у него не было.
Тут же он разглядел двух пареньков-автоматчиков, идущих один по левую, другой по правую сторону покорной им колонны, и, сдвигая назад плечи, движением лопаток отдирая прилипшую к спине рубашку, понял, что перед ним — пленные немцы.
Недобрым взглядом провожал он молчаливо бредущих, как будто бы уже отвоевавших свое чужих солдат. Потревоженная память настораживала. Хотя черных мундиров на солдатах не было, он знал теперь, что, если бы не было этих солдат в серо-голубых вермахтовских куртках, не было бы и тех, в черных мундирах, которым с покорностью они служили.
Паренек-автоматчик поравнялся, пошмыгал простуженным носом, спросил:
— Много ли времени, товарищ лейтенант? — Его томило желание переброситься хоть словом и, когда Алеша ответил, простодушно пожаловался:
— Куда вот их! Только от дела отрывают!..
Алеша потрогал языком пустые десны на месте передних зубов, все еще в недоброй настороженности спросил:
— Что же вы так: вас двое, их — с полсотни! Не сомнут?..
— Не!.. Эти смирные. Сами сдались! — Паренек оглядел их, молчаливо идущих, пожал детскими плечами. — А в общем, кто их знает! Все они смирные, когда прижмешь!..
«Вот именно, когда прижмешь… — думал Алеша. — Тогда что-то пробуждается в бездумных головах…»
Он смотрел на уходящих по дороге в гору чужих солдат, а память уже несла к нему мартовский день, казалось, далекого боя, когда под мушкой поднятого им пистолета как будто расплылась серая спина Аврова и Яничка, заражая его своим ужасом и отчаянием, повлекла его в другой конец рощи.
Комиссар был еще жив: лежал на смятой плащ-палатке, в мокрой проталине. Над ним на коленях стоял, силился расстегнуть ворот на его шинели новый комбат Серегин.
— Глупо, глупо, комиссар, — в возбуждении идущего боя кричал он, упрекая и раздирая на груди покорного сейчас комиссара шинель.
— Комиссары в атаку не ходят! Свое, другое дело у них, Николай Иванович… Глупо, глупо…
Комиссар в старании подняться двигал головой, ослабевшая шея не держала, он уронил голову на подложенную ему шапку. Шаря по земле рукой, как будто стараясь найти опору и повернуться на бок, он говорил ворчливо:
— Умной смерти нет, комбат… Нигде ее, умной, нет. А на фронте есть. Ежели для победы… Ты, комбат, иди. Иди к ротам! Бой-то, слышишь, в лесу уже идет! Иди, иди, комбат…
Комбат с мазком крови на лбу, ниже сдвинутой набок ушанки, дико, как-то даже ненавидяще взглянул на задыхающегося от бега Алешу, как будто именно он был виноват в том, что случилось с комиссаром, поднялся в рост, кивнул ординарцу, пошел, потом побежал, пригнувшись, к лесу. Когда Алеша дрожащими руками попытался высвободить из кровавого белья, как-то перевязать разбитый осколками живот, комиссар холодными пальцами ткнул ему в руку, едва слышно спросил: «Ты, военфельдшер?.. Ладно… Делай свое дело…» — Голос его, сходивший на шепот, западал, как шум затихающего леса. Какое-то время он был в сознании, смотрел на Алешу взглядом покорности и боли, с трудом поднимая грудь, вышептывал: «С Ольгой вот спорили… А сиротой доживать ей… Обидел ты ее… Не твоя вина. Знаю… А жалко… Ольгу жалко!..»
Перевязать комиссара он не успел, ни бинты, ни помощь ему уже не были нужны.
Расплывающаяся под нацеленным пистолетом спина Аврова, погибший комиссар, красивая Ольга, искалеченная и убивающая, черный мундир офицера, подступающего из песчаного карьера, серо-голубые куртки чужих солдат — все было как будто разбросано во времени и пространстве войны, и все было связано невидимой, но существующей связью причин и следствий. И Алеша, ощущая эту невидимую связь, недобрым, настороженным взглядом провожал серо-голубые запятнанные потом спины уходящих по дороге чужих солдат.
Он вошел в лес и теперь запоздало соображал, почему пленных вели не в тыл, а к фронту, куда шли наступающие части. В пустом сумраке леса было неуютно, и только еще попадающиеся-встречные редкие группы бойцов да верховые, с топотом проскакивающие мимо, как-то еще приглушали тревожность, которая словно сочилась из молчаливых лесных глубин.
Достаточно проплутав по боковым дорогам и тропам, он не нашел полковых тылов, обнаружил только батарею гаубиц, спешно снимающуюся со своих позиций. Тревога его росла. Торопясь на знакомую дорогу, он просекой вышел на обширный луг, от желтого болотца поднимающийся на сухой склон. Луг казался ему безлюдным; он вышел к перелеску, где угадывалась идущая из леса на луговое взгорье дорога. Но едва поднялся на приподнятую здесь дорожную насыпь, как услышал нетерпеливо-требовательный, спасающий его окрик:
— С дороги, лейтенант!.. — И, не раздумывая, бросился под укрывающую высоту откоса, успев мгновенным взглядом запечатлеть окопчик в обочине, вжавшегося в него бойца и раструб пулемета перед ним. Тут же он приподнял голову, увидел, как от леса будто отделился лес — так густа была людская лавина, которая, ломая кусты, сбивая ветви, сминая траву, высверкивая себя огнем, покатилась на луговину и на дорогу.
Навстречу набегающему войску ударил шквал огня: с приподнятого края луговины, показывая себя пухлым дрожащим пламенем, било не меньше десятка пулеметов, не замеченных им прежде; гулко, над самым ухом, вколачивал пули в пространство над дорогой ручник окликнувшего его бойца.
Захлестнутая металлом, вздыбилась и опала людская лавина. Но через упавших катились новые и новые волны солдат, — лес, казалось, гнал их из себя. На потерявшей свой цвет луговине, как на огромной раскаленной сковороде, все кипело, бурлило, опадало, оглушало треском, гулом, диким ором.
Из леса начала бить пушка. Снаряды рвали землю у пулеметных гнезд. Два, уже три пулемета молчали; прорвавшиеся солдаты, не оглядываясь, бежали на склон, надеясь найти спасение в распадке за горой. Не стрелял и ручник.
Алеша в оторопи боя, в котором он уже оказался, спеша, продавливая локтями и пальцами хрустящую осыпающуюся гальку откоса, перебрался к окопчику, потряс пулеметчика за ботинок. Солдат не отозвался, лежал, уткнувшись головой в приклад.
Алеша, чувствуя, как опаляет горло жаркая сухость от готовности к действию, плечом отвалил тяжелое тело пулеметчика под откос, неловко втиснулся в окопчик, взглядом пересчитал уложенные на вещмешке диски.
Теперь уже с другой стороны, хоронясь за дорожной насыпью от огня установленных на луговине пулеметов, быстро выходила из леса серо-голубая рать; накапливаясь в прикрытии, ускоряя движение, разбрызгивая грязь и воду, в жутком молчании шли чужие солдаты через болотце вдоль дороги прямо на него.
Алеша притиснул к плечу теплый приклад. Руки его были спокойны. Душа согласна с сжимающими пулемет руками и с глазами, выводящими послушную мушку на живую цель. Все прожитое было с ним в эту наступившую минуту. И горькие слова Ольги, сказанные в прощанье: «Только знай, милый мальчик, чистеньким ты можешь быть, пока между тобой и фашистами наши солдаты. Солдаты и такие, как я…»
И огненный крест горящего самолета в ночном, олуненном небе, в котором сгорала его отчаянная Ленка.
И багровый вечер у незнакомой лесной деревни. И ствол автомата, входящий ему в глазницу. И офицер за столом, и патрон мальчишеской его наивности в чистой руке офицера. И угрожающий вопрос: «Was ist das?..»
Ноющим ртом, грудью, боками ощущал он сейчас удары, забивающие в нем его человеческое достоинство, убивающие его мальчишескую веру в какую-то всеохватную, равно живущую по всей земле справедливость.
Всплыло в его распахнутой памяти видение песчаного карьера. Рейтуз, стреляющий в женщину. Офицер в черном мундире, как будто наслаждающийся чужой смертью. Рейтуз и черный офицер с автоматным дулом вместо лица сближались, разбухали, заслоняли собой землю и небо. И вдруг распались на множество краснолицых, в серо-голубых куртках солдат, идущих в молчании через болото, вдоль дороги, прямо на него…
Расчетливо, прицельно, густо вбивал Алеша пули в торопящихся в зловещей от него близости чужих солдат. Ему не было больно, когда падали они в болотную растоптанную грязь, перекрывая своими телами путь идущим позади. В эти в вечность растянутые минуты он жил как будто без чувств, без мыслей. Одно он знал застылым разумом: он погибнет здесь, на дороге, но никому из тех, идущих на него, не даст пройти через себя к мертво спящему в редком леске, неготовому к бою, своему батальону.
Он расстреливал последний диск, когда, коротко взвывая, понеслись снаряды и через него на луговине, перед лесом, на страшной огненной сковороде, куда с исступленной обреченностью всё выбегали из леса солдаты и где людей было больше, чем самой земли, один за другим начали рваться. И как будто поднятые этими быстрыми всплесками разрывов, вскинулись у леса сразу три белых пятна, и рубашки закачались на шестах флагами просимой пощады. Не выпуская из рук пулемета, Алеша оглянулся: по всему взгорью дугой стояли «тридцатьчетверки», нацелив стволы пушек на луговину.
Все, что надо было сделать в этом бою, было сделано. Он поднялся, отряхнул от песка гимнастерку, штаны. Пилотку погибшего пулеметчика положил ему на плечо. Свою подобрал под откосом; не надевая, пошел дорогой вверх, к перелеску. На задымленную луговину, на лес, на болото он не смотрел — у него не было сил взглянуть на покрытую телами землю…
Наперерез ему бежал кто-то из пулеметчиков; бегущего к нему человека он видел, но все убыстрял шаг. Человек догнал его, тяжело дыша от бега, сияя потным, возбужденным лицом, представился:
— Командир пульроты, Гугуша Чхония!.. Спасибо, дорогой!.. Если бы не ты, прошли бы твоей стороной… Пойдем, пожалуйста. Посидим. Поговорим!
— Время ли говорить, лейтенант?! — Голос Алеши был холоден и сух.
В черных блестящих добрых глазах командира пульроты, счастливого отлично сделанной работой, проступила такая неподдельная скорбь, что Алеша не мог не смягчить свою резкость.
— Не обижайся, Гугуша Чхония, — сказал он примирительно. — В другой раз загляну…
— Приходи, дорогой, гостем будешь!..
Алеша почувствовал: душа его, как будто занемела в жестокости боя, теплеет, отходит, и страшился, что начнет сейчас страдать от того, что совершил. Он торопился уйти от страшного, стонущего человеческими голосами болота.
— Слушай, доктор! Орден тебе будет! Обмывать надо!..
— Убитый пулеметчик ваш там… — Алеша уже досадовал, и лейтенант, чувствуя его досаду, погасил возбуждение.
— Знаю. Все видел. Четыре расчета хоронить будем…
Алеша, не оглядываясь, поднялся до первого, выступающего в поле, перелеска. Оставил дорогу, пошел по открытому, — гладкому, как коровий лоб, взгорью напрямик к зеленеющему вдали лесочку, где дневал батальон.
Из-за лесного увала по-прежнему доносился орудийный гул; в непрерывном содрогании земли слышались будто топочущие, лопающиеся звуки; поднимался и расползался в той стороне дым, похожий на дым лесного пожара. Туда, за увал, пролетали со звенящим ревом штурмовики. Туда же, выше них, с каким-то деликатным после рева штурмовиков, согласным звуком моторов шли построенные в «девятки» двухмоторные «петляковы». И где-то совсем высоко, под затененными до металлической серости поддонами кучевых облаков, и еще выше, между снеговыми их вершинами ходили широкими кругами «ястребки», — из подоблачных и надоблачных высот сторожили небо над идущим на земле сражением. Алеша старательно следил за небом, он пытался отвлечь себя от того, что оставил на болоте, у леса.
На вершине взгорья набрел он на стрелков, расположившихся здесь с зенитным пулеметом, укрепленным на турели в круглой яме, достаточной для того, чтобы надежно укрыть и троих. Один из стрелков, ленивый телом, с молодой кожей загорелых щек, спал на закинутых под голову руках, насунув на глаза пилотку, выставив к солнцу босые белые ноги; рядом стояли ботинки, ветрились портянки. Другой солдат, из пожилых, с морщинистым, будто запеченным лицом и неторопливыми руками, сидел по-домашнему, раскинув на коленях вещмешок, нашивал на прохудившееся место заплату.
Алеша теперь многому не удивлялся, не удивился он и домашнему покою двух стрелков-зенитчиков, занимающихся будничным человеческим делом в каких-то трех километрах от боя, от страшного побоища на луговине, жар и ужас которого с трудом он задавливал в себе. В опыт его бытия уже вошло понимание того, что на войне может быть всё: он видел рядом с благородством подлость, трогательную в своей нежности любовь рядом с грубым насилием, человеческое достоинство рядом с мучительной смертью, видел солдата, который устало и жадно ел, установив котелок на спину другого, убитого солдата, — всё это была война, всё это была жизнь на войне.
И то, что стрелки-зенитчики в минуты, когда он лежал за пулеметом, были в спокойствии, в будничной занятости и даже в ленивом сне, не вызвало в нем ни злого, ни осуждающего чувства.
Он молча сел рядом с хозяйственным солдатом, вытянул из теплой земли жесткую травину, сосредоточенно покусывал, наблюдая, как руки солдата аккуратно нашивают на мешок оторванный от портянки лоскут. Не удивился появлению незнакомого лейтенанта и солдат; не спеша он закрепил шов двумя стягивающими узлами, склонился, перекусил нитку, иголку пристроил в пилотке на внутренней стороне отворота, намотал на нее крест-накрест кончик суровья. Лишь теперь спросил деловито, как спросил бы любого идущего по деревне прохожего:
— Случаем, не знаешь, что за шум был у леса?
Алеша ответил неохотно:
— Фриц вроде бы прорывался…
И солдат, без желания узнать подробности, подтвердил:
— Много тут его охватили!.. А мы в сторожбе, — сообщил он, признав в Алеше собеседника. — Стоим. А сторожить нечего. Небо-то — наше!..
Он сложил мешок, подсунул напарнику под голову. Молодой приподнял пилотку, непонимающе глянул, повернулся на бок, удобнее подогнул ноги с черными пятками.
— Молодой! Сном войну окоротить хочет!.. У тебя кровь за ухом, ранен, что ли?..
— Кровь?! — Алеша провел рукой по волосам, пальцы окрасились. — Черт, видать, задело… — Он не столько удивился крови, сколько зоркости пожилого солдата, ему казалось, солдат ни разу на него не взглянул.
— Давай обмотаю, — предложил солдат. Он вытащил из кармана гимнастерки перевязочный пакет, подержал на ладони. — Для себя сберегал. Да, видать, не к случаю!
Алеша благодарно тронул его за руку:
— Спасибо, отец. У себя в батальоне перевяжу. Я ведь доктор…
Солдат даже малым своим вниманием его растрогал. Он испугался первого признака оттаивающей души и почувствовал, что надо уходить, — держался он из последних сил: где-то уж близко был неминуемый нервный срыв.
Солдат, от каких-то своих мыслей, забеспокоился:
— Погоди, погоди!.. Ты вот тоже молодой! Тоже, поди, не поймешь, что старшому помирать трудней? Жизнь-то, она чем привязывает? Не сладким сном. Не тем, что съел. Тем, что ей, матушке, дал. Я-то за свои полвека сколь делов сотворил? Пахал. Сеял. Дома ставил. Скотину пас Ребятишек своих до ума доводил. Ко всему приложился. А Никола что? Он и привыкнуть к жизни не успел! Ты, гляжу, тоже по молодости не оберегаешься. Погоди вот, до моих годов с жизнью поозоруешь — почнешь каждый закат оплакивать!.. Голову-то все же давай замотаю!.. — Солдат оправдывался, ему было неловко, что свой перевязочный пакет он вроде бы пожалел.
Алеша уже чувствовал едкую муть тошноты. Или удар шальной пули, не замеченный им, или оживающая память о кровавом болоте, набитом упавшими и падающими людьми, но что-то уже начинало свою изъедающую душу работу.
— Наверное, ты прав, отец, — сказал он, поднимаясь. — Спасибо тебе за верные слова.
В притихшее было небо снова вошел знакомый певучий звук моторов: девятка «петляковых» треугольником, три по три, отбомбившись где-то в нужном месте, возвращалась к своему полю. Самолеты шли невысоко, звезды на их оттянутых к хвосту крыльях отчетливо были видны, как и на крыльях четырех истребителей сопровождения, уже успокоенно летевших чуть впереди и выше. Алеша с привычным чувством соучастия земли к небу отметил про себя, что у этой «девятки» все обошлось благополучно. И собирался уже идти, но увидел еще один истребитель — такой же «як», с такими же звездами на крыльях, в спешности догоняющий самолеты. Все могло быть в скоротечном движении войны: краснозвездный истребитель мог — пока «петляковы» заходили на цель — отвлекать на себя «фокеры», мог пойти на преследование уходящего врага, мог просто побыть в небе над ведущей бой пехотой, — мало ли что могло задержать этот одинокий истребитель в изменчивых событиях войны! И Алеша с сочувствием следил, как отставший самолет догнал «девятку», некоторое время шел позади, как бы охраняя ее с тыла, потом, переместился ближе к хвосту одного из «петляковых». И вдруг случилось немыслимое: короткое пространство между истребителем и бомбардировщиком вдруг прочеркнули быстрые прямые строчки огня. Выбитый из полета бомбардировщик, увлекаемый тяжестью моторов, пошел к земле, оставляя за собой похожий на раскрывающийся парашют клуб черно-коричневого дыма.
Алеша не успел даже понять всю нелепость случившегося. И только когда истребитель развернулся, снижаясь и спасая себя, понесся почти над землей в сторону фронта, он услышал испуганный голос пожилого зенитчика.
— Ах ты, мать твою! Фашист в нашем самолете!.. К оружию, Никола! — Он ловко скользнул в окоп, ухватил рукояти пулемета, повернул длинный ствол с просвечивающими кольцами зенитного прицела на встречу самолету.
Алеша видел несущийся на него свой краснозвездный истребитель и не в силах был даже броситься на землю. Душа его как будто снова застыла. Он как будто не понимал, почему он, должен спасаться от своего самолета. И стоял беззащитно на самой вершине открытого взгорья.
Он услышал резкий треск зенитного пулемета. И тут же увидел, как из летящей к нему разрастающейся огромности металла, из самой ревущей ее середины, вырвался ему навстречу высверк огня.
Последнее, что осталось в памяти Алеши, был накрывший его моторный рев и звезды на черных, как ночь, крыльях.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ Тихий день
1
— Господи! Неужто кончилось?! — Васенка, будто до конца долгой дороги добралась, опустилась на позабытый бугор у Туношны, прижала к нагретой солнцем земле ладони. В усталости не за вчерашний день, не за последнюю тяжкую зиму — за всю долгую, без просветности, войну отдалась первому дозволенному покою, сидела в устоявшемся по-летнему дне, чувствовала, как оттаивает, оживает каждая жилка, каждая чувствилинка изнемогшей души. Покой был всюду: на лугу, в журчащей средь каменьев воде, во всем неоглядном небе, за тыщи верст по любую сторону, — над всей землей стояла тишина от замолкнувшей наконец-то войны. И только теперь, отсидевшись, отмолчавшись в давно незнаемом покое, Васенка услышала тихость замиренной земли.
— Господи! Неужто кончилось?! — снова прошептала Васенка и, уже окончательно веруя, что да, кончилось, казалось, нескончаемое лихо, поднялась, охватила загрубелыми ладонями тонкую свою шею, засмеялась, заплакала, не умея сразу привыкнуть к тому, что случилось.
Привиделась на какой-то миг сумеречная комнатуха в конторе, чуть подтепленная печью, невпроворот набитая бабами и ребятней, без дыханья, без шевеленья внимавшими голосу осажденной Москвы. Представить Семигорье без Москвы было не можно, и думалось в ту отчаянную пору, что здесь, в конторе, в неотлучности от единственного на все село старенького динамика, сплошь перезалатанного еще руками Ивана Митрофановича, и окончится их жизнь.
Но следом пришла весть о первой победе. А с ней и вера в праведный исход идущих сражений. С этой верой все они: и старички, и бабы, и девки, и мальчишечки — тянули сколько было сил и, вместе с далекими мужиками-солдатами, вытянули войну до Победы.
Толкнулась в неостывшей памяти минута из долгой череды годин, а всё увиделось в этой малой минуте. И непостижимо, но Васенка будто помнила, как все четыре года громыхало и полохалось над Семигорьем небо и только вот теперь замолкло, прояснилось…
Раздевалась Васенка осторожно, будто отирала прикипевшую к телу работную свою одёву. Куртку стаскивала с плеч с такой неловкостью, что, думалось, ни однажды не снимала за все безрадостные годины.
Стянула, раскинула на руках глянуть вроде бы в последний раз и ужаснулась — в такой войну проходила! Пообтерлась, застиралась до землистости — не поймешь, какой цвет прежде был. И пахала в ней, и лес валила, и баб утешала, и в райкоме вздорила против Доры Кобликовой, тоже сунув руки в карманы этой куртки. Латкам на локтях да по ширине ворота не подивилась — руками помахать да шеей повертеть довелось сверх всякого; а вот на заплаты в полах долго глядела, припоминая.
Вспомнила, как по той еще, дождливой осени всем селом убирали картофельное поле и Маруся Петракова первая разожгла на меже костер, сыпанула под уголья с подола картошки. Перед жадно загоревшимися голодными глазами ребятишек Васенка не устояла, сама выхватила пару горящих головней, запалила другой жаркий костер, разрешила печь мокрые от дождя и сырой земли картофелины, есть до сытости.
Добро она делала или не добро, о том тогда она не думала; хужее от того люди не стали, доказать это она могла бы и теперь.
А вот куртку прожгла по глупости. Показался на краю поля верховой. Маруся и крикни: «Из городу! Полномочный едет!..» Куртку-то она и накинула на горячие, только что выкаченные из костра картофелины, — му́кой стало для нее объясняться за каждый вольный свой шаг. Объясняться не пришлось, а подол вот подпалила…
Куртку Васенка все же не бросила, как явную ненадобность, свернула в аккуратности, уложила на траве. Расстегнула, сняла юбку, разглядела, тоже качала головой: на свет — что решето, по низу коленками обита до махрушек. А все же послужила, доходила-таки в матушкиной памяти войну. «Ох, батя, батя!» — оборотилась мыслями Васенка к отцу. Сам принес ей, виноватясь, эту юбку из матушкиного сундука. Как война началась, как пошло гулять по земле лихо, так и отрезвел помутненным умом неистовый в гульбе Гаврила Федотович, наотмашь рубанул, отвалил от себя Капку; проводил от порога, да так круто, что Васенка в жалости к мачехе даже попрекнула батю, Гаврила Федотович отмолчался, Капку, однако, до себя не допустил и, на диво всему Семигорью, так привязался к ответно признавшей его Лариске, что до тех пор, пока не взяли его по трудповинности в город на завод, ходил за ней, а заодно и за Рыжиком, ставшим названым братиком Лариски, с такой трогательностью, будто готовился к тому всю жизнь. И во все годы отдаленной городской жизни слал ей с оказией то сахарку, то игрушек-самоделок и письма писал большими буквами, словно внучоночка сама могла прочесть.
Матушкину изношенную юбку Васенка тоже бережно сложила. Сгоняя влипчивое комарье, плотно провела по лицу ладонями, ущупала твердую горбину на носу, горестную, лихих годин, мету, и сердце ворохнулось в тревоге. Память берегла веселые Макаровы слова, те первые его слова, что выговорил он на этом самом бугре: «Добрая! По носу вижу — добрая!» И, ощупывая будто не свою горбину, подумала с вдруг вернувшейся из былого пугливостью: «Теперь и не признает!..» И расстроилась, попрекнула виноватого в том старого Федю: «Ведь на часок доверил сторожбу непогоде!»
А какой бы потерей обернулось, не прибеги она в беспокойстве на ток. Десяти мешков зерна не досчитались бы, когда б, забыв про страх, не схватилась она с татями. Вот и пометили ее злой рукой… «Да что я, право! — остановила себя Васенка. — Неужто подаренная эта горбина из сердца увела добро? Чай, разглядит, что́ от чужого зла, что́ свое, неуступленное…»
Васенка жалостливо, по-детски вздохнула, сбросила о лица руки, уже в поспешности сняла с себя исподнее, взяла припасенную тряпицу с печной золой, спустилась к воде, привычно простирнула, развесила на кусты сохнуть.
Утвердившись в холодной струистой воде Туношны, в неглубоком чистом омутке, Васенка долго мыла себя желтым обмылышком, сбереженным скрытной на доброту Женей. Ведь Женя сегодня поутру почти силой послала ее на речку! «На-ко вот, обмойся, — сказала и сунула ссохшийся обмылышек, который при нынешней нехватке во всем богатством был несметным. — До чистого дня берегла. Видать, дождались… — и, вдруг, осерчав, крикнула: — Да чтоб с реки в прежней красе воротилась, слышь?!» Женя всегда закрывалась криком от доброты. Но кто судил не по хмурой ее крикливости, знал, что за долгую войну едва ли не каждый второй из бедовавших семигорцев был укреплен ее к сроку угаданной заботой.
Васенка поминала Женю, улыбалась, размачивала в мягкой воде обмылышек. Распустила по верху воды сохраненные, неопороченные волосы, намылила, долго, бережно мяла, полоскала косу, как обычно всегда, с вниманием стирала и полоскала податливое Ларискино бельишко. С тщательностью обмыла себя всю, от гибких рук до натруженных сильных ног, снесла совсем крохотный остаточек мыла к берегу, положила на лист лопуха. Сама тихо занырнула в как будто потеплевшую Туношну, вытянулась на мелких камушках на бойком перекате. Чувствуя, как давит грудь неспокойная ласковая вода, зажмурилась, усунула все лицо под бегущие напористые струи, подрагивающими губами ловила ответную ласковую их упругость.
Омылась Васенка в милой сердцу Туношне, вышла на берег, оглянула посвежевшими глазами влажное, закрасневшее от родниковой воды тело, застыдилась вдруг неосторожной своей наготы: пригнулась, прикрылась руками, поспешила к узелку со свежим бельем.
Надела довоенное, из ситчика, с простенькими цветочками, платье, просушила на ветру волосы, уложила, как всегда, тяжелым узлом на затылке, собрала, увязала рабочую, военной поры, одёву. Вроде прикончила со всеми делами, а уйти не спешила. Опустилась на свой, с девичества памятный бугор, укрыла ноги подолом от таких же жгучих, как прежде, допокосных комаров, умостила на подогнутых коленях подбородок и как будто вернулась в далекое времечко, когда не было в ее жизни ни Леонида Ивановича, ни вдовьих печалей, ни военных годин.
Щебетали вокруг птахи такими же, как в ту пору, голосами; кукушка, не ведая о войне и людских печалях, сильно, ровно насчитывала в заречном лесу годы; вот и иволга перекатила через Туношну свой звонкий, чистый голос.
«Всё так, всё как прежде, — думала Васенка, внимая. — Те же синие стрекозы над хлыстиками куги. То же лепетанье воды на перекате. Всё, всё, как было», — думала Васенка и, проникаясь тем, что помнила, силилась почувствовать и себя той, прежней, доверчивой Васенкой, в терпеливости ожидающей своего незагаданного счастья, хотела и — не смогла. Светло было глазам, покойно чистому, омытому телу, а сердце будто не здесь, не на Туношне, — томится неодоленной заботой.
«Что же это такое? — думала Васенка, обеспокоиваясь. — Пошто не радость в общей радости? Порушенная-то войной жизнь, хорошо, худо ли, но устанавливается на прежние места?! О том-то и забота, — Леонид Иванович вот-вот вернется! За всю войну весточки не подал, а чуется — живой!.. Придет героем, общей славой покрытый, неодоленной своей заботой. А встречать — привечать-то мне!»
Память воротила Васенку к прощальному дню у военкомата.
Леонида Ивановича увидела, как в яви, хмельного, суетного, взявшего от нее за последние дни и ночи все, что несытая его душа пожелала. В заботах о своем устройстве не нашел он, хозяин, в отход идущий от земли, ни единого надежного словечка, за которое, хотя б за единое, могла она зацепиться в своей вдовьей жизни! С ясной памятью на каждое его движение видела Васенка, как в торопливости ткнул он Лариску в бочок, тут же оговорил ее за сделанную в суетности боль.
И на баржу прошел в построении, даже взглядом не поискал их с Лариской. Будто чужие уже стали! С обидой да слезами в глазах воротилась она тогда домой. И было ей худо, как навсегда брошенной!
Теперь, припоминая каждый вдовий свой шажок, Васенка понимала, что не одна только обида жила в ней, было еще что-то вроде гордости или горькой усмешливости к Леониду Ивановичу, до чего прежде она и додуматься не смела. Да что-то непрочной казалась ей сейчас эта гордость, и обида вроде бы была не та.
«А ну, как, — думала Васенка, страшась того, что могло случиться, — ну, как, нетерпеливо переставляя ноги, войдет в дом Леонид Иванович, отвечеряет, а потом, ночи не дождавшись, и охватит, и сожмет жадной своей рукой, — устою ли? Откину ли нежеланную руку. Ведь муж. Хозяин! На свое, на мужнино, пришел!..»
В летнем, милом ее сердцу покое, омытая родниковой водой до девичьей свежести, сидела Васенка. Все было при ней: и Туношна, и птахи, и не тронутый ни косами, ни тропами вольный луг в ромашковых пенных наплывах, в разливах лилового колокольца; мирно гудели, справляя свое дело, шумели; вперебой, от каких-то своих нужд, цокали, звенели по всему травянистому раздолью кобылки да кузнецы; бабочки, словно подхваченные ветром перышки, вскидывались над лугом, падали на нужный им цвет, складывали крылья, затеривались в пестроте трав. Напряженным взглядом следила Васенка за луговой, идущей своим чередом жизнью, внимала и стрекозам, и шуму листьев, и слышным ей переливам речных струй, и порханью птах, на лету хватающих заботных бабочек; и от всего видимого ей хода земной жизни, где каждому от века уготовано свое, поманило ее броситься ничком в раздольный луг, охватить раскинутыми руками землю, и забыться, и смириться, и ждать, пока все не сладится само по себе.
«Пошто терзать-то себя? Тянуться заботой ото дня ко дню? Заходиться сердцем, строжиться умом?.. А что вот так-то, без воли да не в перекор судьбе?!
Да что это я? — очнулась Васенка. — Неужто опять к тому, что было? Ведь все отношено, отмучено. Все протащено через душу, будто дерево с растопыренными сучьями! Можно ли с такой-то душой да в прежнюю жизнь?! Ох, — вздохнула Васенка, поднимаясь, измученная неодоленной думой. — Лягко тут, в затишке, по-всякому мечтать! А ступит на порог — хватит ли сил, в глаза глядючи; правду вымолвить?.. Господи, не устоять мне! От жалости не устоять. Ведь с войны Леонид-то Иванович придет!..»
2
С душой непроясненной Васенка возвращалась в дом к Жене, у которой, худо, бедно ли, но прожила вместе с Лариской всю войну; возвращалась не прямиком, по лугу, а бором и вышла на другой край села, ближе к Волге.
Будто себя испытывая, подошла к лесхозовскому дому, где жили они с Леонидом Ивановичем и который сама заколотила досками по окнам и по двери в тот день, когда проводила хозяина на войну; присела на крыльцо с опасливым чувством возвращения к недоброму месту.
Дом не пустовал, осенью сорок первого ей самой пришлось отколачивать двери, топить печи, принимать с парохода зазябших детишек, эвакуированных из Ленинграда. В этот заброшенный к ним войной детский дом она вложила много забот и сил и как-то уже привыкла к тому, что место ее прежней, в общем-то одинокой и нерадостной жизни заполнилось чужесторонними людьми, другой, шумной, неспокойной, жизнью.
И теперь, сидя на крыльце, радуясь, что ее не окружили, не затеребили сиротские девчоночки и мальчишечки, отчаянно ревнивые к каждому движению ее рук, к каждому ее взгляду, — все были на купании, Васенка видела за полем, на песчаном берегу Нёмды, их пеструю толкотню, — радуясь, что одна, и в то же время, как всегда бывало с ней, стыдясь, что слишком озабочивается собой, разглядывала она дом и двор, выискивала и словно бы примерялась к тому, что еще осталось от той, прежней ее жизни.
Прибитая над угловым окном струганая доска, на которой чернело удивительное для Семигорья слово: «Гвадалахара», — было новым для дома. Удивительное слово родилось из сердца Жени, ее стараниями было отдано детскому дому. Она же, решительная Женя, достала где-то лоскуты военных плащ-палаток и своими твердыми на дело руками сшила всем ребятишкам испанские шапочки. На собрании, где семигорские бабы обдумывали помощь детскому дому, она так и сказала: «Мы еще припомним фашистам Испанию!..» — и подняла над головой свой маленький, железно стиснутый кулак.
Женя была до ярости убеждена в том, что зло надо душить в зародыше, и всем говорила, что война пошла на Россию от того, что фашистам дали взять верх там, на сожженной земле Испании…
Когда Васенка жила в доме, трогательной доски со словом «Гвадалахара» не было. А вот выдавленное снизу на угловом окне стекло, как прежде, забитое фанеркой, было. Стеклу навредил, стуча в нетерпеливости палкой, Леонид Иванович; фанерку, не нашарив целого стекла в доме, прибила сама Васенка.
Прежним было и чисто вымытое крыльцо, на котором сейчас она сидела, с той же запавшей но краю косой ступенькой, второй от низу; с этого широкого крыльца она в потерянности и глядела, как Леонид Иванович в свой последний перед уходом день, вытащив стол и на него все домашние припасы, шумел и угощал проходящих к Волге мужиков.
Стол, закиданный квашеной капустой, грибами, раздавленными огурцами, стоял тогда среди двора, ближе к калитке, где теперь врыт в землю другой стол, пониже, подлиннее, за которым в теплое время кормят ребятишек.
У загороди, в углу двора, доныне хоронилась потемнелая от дождей, но еще гожая будка недоброго пса Кулака; цела была и проволока, протянутая до сарая, и даже цепь. «Придет — нового пса заведет, — думала Васенка, входя памятью в прошлые, общие их, тогда привычные ей заботы. — И баньку сладит. Сладит! — думала она в том же движении мыслей, углядев за огородами старую, черную от копоти и заброшенности, отцовскую баньку. — Небось злой до дела вернется. Ладно бы до дела!.. — Опять перекинулась она на ту смуту в душе, что мешала ей быть в этом тихом и чистом дне, будто подаренном за все лихости войны. — Ох, как не лягко умом-то отказать! — думала Васенка. — Все через жизнь прошло. Болит, а с сердцем сцеплено!..»
Ужавшись на ступеньке хоженого-перехоженого ее беспокойными ногами крыльца, она томилась в смуте, и вдруг как будто забрезжило в ее думах. «Да что это я! — от сердца попрекнула себя Васенка. — На что ни погляжу, что ни вспомню — всё нехорошо. Неужто ничего доброго и не было?!» С поспешностью, даже какой-то старательностью она припоминала что-нибудь ладное, что посветило бы неуступчивой душе, но, как ни силила свою память, света вокруг Леонида Ивановича не находила: помнила только хваткие его руки да особенный, покашливающий смешок, с которым всей своей тяжестью он валился к ней в постель.
«Ну да как же! Ну да что же это! — не сдавалась сердцем Васенка. — А ну, как переменился Леонид Иванович? А ну, как война пообразумила его лихость да беззаботность?.. Вдруг в самом деле возвернется героем да, соскучившись по доченьке, оборотится заботливым отцом Лариске?!» Васенку словно обожгло надеждой; вся тоска, скопленная в одинокости, вся ласковость доброго ее сердца, поманенные этой надеждой, будто сдвинули тягостную смуту с души. Всем покинутым семигорским бабам после лихости военных годин мечталось о верности и крепости домашней жизни; ожидала и страшилась Леонида Ивановича и Васенка.
Из окна, как того не хотелось Васенке, ее приметили; шаги заторопились в гулких сенях, на крыльцо в поспешности вышла Валерия Михайловна, воспитательница, она же директор шумной ребячьей «Гвадалахары», не местная, ленинградская. Придерживая у груди руки, с озабоченностью на приятном лице, она выговорила:
— Как же так, Васена Гавриловна? В дом не заходите! Будто для вас он не свой…
Васенка еще не вышла из подступившей к ней прежней своей жизни, смотрела в робости, будто тоже из той жизни, на душевно близкую ей, еще не старую, но уже всю седую женщину; не найдясь, как объяснить нужное ей сейчас одиночество, виноватясь взглядом и голосом, попросила:
— Уж я чуть посяжу тут…
Валерия Михайловна знала Васенкину жизнь, догадалась, с чем пришла она на крыльцо прежнего своего дома, с деликатностью истинной ленинградки она молча, понимающе поклонилась, пошла, тихо ступая, как от постели больного, к себе в маленькую комнатенку, отгороженную на повети. А Васенкины мысли, вспугнутые посторонним ей сейчас человеком, обрели обратный ход. Валерия Михайловна только на минуту показалась, вроде бы ничего не сказала, а Васенка знала, как твердо обошлась она с давнишним своим мужем: открылись его обманы, и гордая женщина не дала ему прощения, даже когда он встал перед ней на колени; навсегда оставшись одинокой, она нашла утешение и радость в том, чтобы отогревать и растить маленьких сирот.
Все это Васенка знала, и высветленные надеждой думы о Леониде Ивановиче опять запасмурнели. Чего-то не хватало ей вспомнить в своей жизни, вспомнить такое, что враз бы вывело к нужному шагу, пока хоть в думках, для себя; потом бы и в деле она сумела стать решительной. Васенка оглядывала дом и двор, выискивала что-то в знакомых предметах, но то, что было перед ней, она уже видела и знала. Намучившись напрасным ожиданием, она хотела было уже подняться и пойти, как взгляд ее отличил рядом — рукой достать! — совсем еще молоденькую рябинку. Серенький стволик, изогнутый у земли, выше — прямой до стройности, в крепкой зелени крылатых листьев, был откорнем, рос от срубленного прежде дерева. И Васенка, уцепившись взглядом, поняв, откуда явилась здесь, у крыльца, новая живость, даже вздрогнула, вся напряглась. Вспомнила высокую, ломкую рябину, от которой прежде, особенно по осени, оживлялся дом и весь широкий двор, и до знобкости ясно привиделся ей тот день, когда Леонид Иванович порушил лю́бое дерево. Было то первое лето в жизни ее Лариски. Слабая здоровьем, она болела, и Васенка почти неотлучно носила ее на руках, кормила старательно и часто. А Леонид Иванович, не ночевавший дома, вернулся поутру с деловой, как он говорил, гулянки, развеселый, охочий, потянул ее в постель, не дожидаясь, когда она докормит малышку. Уговаривала она Леонида Ивановича — не уговорила. В нетерпеливости он азартился, зажав под мышкой четверть с брагой, лил в кружку, совал жестяной край ей в губы, осевшим в застолье голосом пришептывал: «Пей, хлебай, горлица… В постеле злее будешь…» Не ведая, что творит, он потянул Лариску, торопясь оторвать ее от груди, и тогда Васенка, оберегая малышку, ударила Леонида Ивановича. Ударила зло и, видать, сильно, потому что Леонид Иванович в удивлении отступил. Прижимая к себе плачущую Лариску, она поднялась, взяла у подтопка кочергу, не узнавая себя в явившейся вдруг решительности, махнула по звонкой бутыли, с которой стоял он в обнимку. Дожидаться, чем кончится его буйство, не стала, ушла с Лариской во двор. А Леонид Иванович, разгромив в доме чугуны и горшки, выскочил к ним на волю, мокрый от браги, жалкий, взъяренный, и поднял на нее топор.
Второй раз за свою жизнь смотрела она так на Леонида Ивановича. Стояла, даже не отклонив головы, прикрывая рукой Лариску, смотрела, чуть сощурив глаза, и Леонид Иванович, не удержав над головой топор, опустил его на рябину. От первого удара рябина вздрогнула. Он ударил еще. Потом еще, пока не треснула подсеченная древесная плоть.
Пала рябина, неловко подогнув под себя ветви, а Леонид Иванович, разрядившись, врубил топор в оставшиеся корни, сказал с угрожающей мрачностью: «Пню не быть деревом! Попомни, горлица…» Все это ясно, до самой малости, припомнила сейчас Васенка к тому другому, что всегда помнила о Леониде Ивановиче, и, стараясь додумать то важное, что еще на Туношне замутило ей душу, как бы отвечая поманившей надежде, прошептала:
— Возможно ли такое: бросил в холодности, возвернулся — сердце обогрел?! Война кого сделает лучше? Только вывернет в каждом то, что прежде было…
Васенка взяла с крыльца свой узелок, дошла до калитки, оборотилась, еще раз обозрела памятный, теперь вконец зачужавший ее сердцу двор, одолевая тяжесть не сброшенной с души смуты, сказала:
— А дерево-то выросло. Выросло, Леонид Иванович!..
3
Женя встретила Васенку настороженным взглядом.
— Отмылась? — спросила и, вглядевшись, тут же, в сердцах села на лавку, уставила кулаки на острых коленях. — Ну, девка? Пошто тебя на речку посылала? Глаза-то не отмыла!..
Васенка виновато улыбнулась навстречу взгляду осерчавшей Жени, успокоила:
— Отмылась, Женя. Вся отмылась! Вот и платье другое надела…
— Платье — вижу. В глазах не отмыла!
— Прожитое разве отмоешь, Женичка!.. — сказала Васенка в невеселости.
— А вот надо! В прежней чтоб красе показалась!..
— Какая теперь краса! До мирности дожили, вот и вся радость…
Женя вскочила, будто не с лавки — с высокого тракторного сидения, хлестнула обочь себя бывшим в ее руках полотенцем, как кнутом.
— Замолчь, панихидница! — крикнула, враз опаляясь яростью. — Что мне мирность, когда на сорок баб один мужик вертается! Прежде не голубили, теперь и в очередь не жди… Ты-то своего дождалась! Себя потешишь да на место погиблых без счета нарожаешь. Мне-то вот ни единого своего дитя в живых не свидеть…
Васенка ждать не ждала от Жени подобного, как-то вдруг потерялась, в удивлении смотрела на неразлучную во всю войну подругу и помощницу. Она так привыкла к Жене, приноровилась к ее, созвучной ей, заботной к людям душе, что совсем не замечала ее неприглядности. В войну и Женя, и сама Васенка словно забыли о наряжаньях да прочих разных красивостях; в лихие годины открылась какая-то другая цена людям, и в этой новой цене Женя стоила дорогого. И вдруг эта ярость, этот выплеск неудержанной бабьей злости…
Васенка смотрела в дурное от крика лицо Жени, на жилистую шею, темную в разрезе чистой кофты, и не понимая своей вины, искала и не находила ответных, замиряющих Женю слов.
А Женя, кулаком задавив в глазу слезину, туркнулась в угол, оборотилась спиной, и такой жалкой от одинокости увиделась Васенке ее худенькая, какая-то мальчишеская спина, что она тут же забыла окинувшую ее обиду. Мягко подошла, обняла Женю за плечи, прижалась щекой к жестким, всегда коротко подстриженным ее волосам, стараясь теплом своего прикосновения внушить ей совершенную ненужность таких вот переживаний, сказала, утешая:
— Не надобно так, милая Женя. Что худое-то загадывать! Вместе войну пережили, вместе бабье лихо ого́рим.
От Васенкиной ласки Женя отстранилась, отошла к лавке. Села, отворотившись к окну, с неотрывностью глядела в улицу; молчала долго, видать, в душе пересиливала свою не совсем еще понятную Васенке тягость. Не оборачиваясь, заговорила хриплым, на всю жизнь надорванным в тракторном шуме голосом:
— Ладно, Васка. Я ж понимаю! Солнце равно светит, а у растенья, у каждого, свой цвет. Которые и вовсе без цвета… А готовилась сказать тебе вот что: Макарушка живой вернулся…
Первые минуты под жалким и до жуткости тоскливым взглядом Жени Васенка держалась, только чувствовала, как захолодели ее щеки и лоб. Потом сила ее сломалась: с запылавшим лицом она метнулась за печь, к рукомойнику, долго мочила холодной водой над тазом щеки, губы. Вышла, прислонилась головой к косяку, смотрела на Женю в открытости всех своих чувств, как бы говоря: «Что таиться, подруга милая! Вся я тут. Суди, если можешь…»
Женя, лицом почти черная от неразлучного с ней солнца, какое-то время смотрела из-под сивых бровышек, не принимая ни ее открытости, ни покорства. Потом всхлипнула, бросила кулаки к лицу, протащила ото лба до подбородка, будто сдирая кожу, грохнула кулаками о стол; не прогнав тоски из глаз, крикнула:
— Эх, трын-трава, в поле ветер! Не бывать тому, чего от роду не дано… Иди, сядь, Васка!..
Встала, твердыми шагами прошествовала к печи, громыхнула заслонкой, явилась с плошкой. На горячей глиняной плошке в багровости сочилась располосованная ножом пареная свекла.
— Сдуру себе сготовила, — сказала, хмурясь, но без прежнего зла, подсунула ближе к недогадливой Васенке. — В контору небось пойдешь! Вот и подновись. Потри губы-то! Повыцвели за войну… И глазам веселости дай!.. Чую, не усидит в дому Макарушка, не под мои окна — к тебе притянется!
Весь остаток дня Васенка безвыходно высидела в маленькой комнатке конторы, которую прежде держал для себя Иван Митрофанович. Не однажды, в рассеянности перекладывая исписанные черным карандашом газетные обрывочки, что в ходу были заместо бумаги, вдруг холодела сердцем, заслышав шаги на правленческом крыльце. Но истомившее ее ожидание оказалось напрасным — Макар не явился.
В обиде Васенка рванулась было к Макарову дому, будто бы к тетке Анне, но дела не придумала, без дела предстать пред Макаровы очи не посмела. Попрекая в душе за то, что не стосковался, не явился, не показал себя после стольких годов разлуки и тех непростых слов, которые сказал в прощанье на Волге, у баржи, которые она боялась помнить, но помнила, собралась домой. Селом шла с видом озабоченным, не выказывала невеселых своих чувств, отвечала на приветы сродненных с ней за войну старух, баб, ребятишек, как всегда, с вниманием. Но дома едва дождалась часа, чтобы лечь, уйти от взглядов все понимающей Жени; лежала с открытыми глазами, строгими думами пытала свои чувства к Макару Константиновичу. Но строгости, как ни старалась, не собрала. Из летней нетемнеющей сумерети Макар смотрел на нее своими веселыми, косящими, как у коня, глазами. И не отдалялся, а вроде бы подходил все ближе. И виделся до ясности пригожим, каким был в первой встрече на Туношне, на беседе у бабы Дуни, в зимней ночи, когда шли они в близости из клуба и Макар чуть не поцеловал ее, захолодевшую от страха.
Рядом с думами о Макаре, в какой-то тайной сопричастности с ними, вспоминалась Васенке случившаяся тогда же, в девичестве, одна пытливая ее забава. По весне, в лесу, набрела она на только что родившийся под корнями ели родничок. В котловинке было чуть воды, но на дне казала себя слабенькая живая струйка. Она то начинала биться, как в радости вдруг бьется сердце, раздвигала скопленный на дне тяжелый для нее мусор, то замирала, уходила обратно в землю, и черные, сопревшие листы, опавшие хвоины, веточки тут же сползали на промытую по серому песку дорожку. Струйка начинала биться, раскидывала с дороги сор, снова никла, снова оживала. Васенку будто околдовала живая водица. С радостным сочувствием наблюдала она, как пробивает себе дорогу родничок, и, вдруг испугавшись, что живая струйка обессилеет, замрет, вздумала оберечь хотя бы горстку чистой воды. Загадала на радость, в торопливости очистила, огородила котловинку чем могла; место приметила. В самую эту пору и толкнулся в ее жизнь Леонид Иванович. Про ключик забылось. Только нынешней весной, и то в случайности, набрела она на загаданное место. Распознала родничок, и озарилась давняя ее задумка, — отодвинутые черные листья и мусор лежали по сторонам, вода переполняла котловинку, бежала среди корней, а на дне, в чистом песчаном окоеме, без устали бился, питая совсем уже не робкий ручей, ключик!
И что за причуда была ей, мужниной жене, по-вдовьи перетерпевшей войну, с трепетностью вспоминать какой-то бывший в давности родничок? А вот вспомнилось. Загадывала-то она на Макара!..
Поднялась Васенка чуть свет; не спала, а встала в бодрости. Сама, без догляда, потерла свеклой губы, ушла в торопливости из дому, чтобы вместе с бабами отправиться на ближние покосы. Загадала опять, как в девичестве: придет Макар к косцам — значит, и ее жизнь пойдет к радости! Да случилось так, что перед самым выходом в луга в раскрытое окно ее конторки, куда на минуту она забежала, влетели голоса собравшихся у крыльца баб. Бабы, может, и не думали, что Васенка услышит их слова, но Васенка услышала. Открылось ей из шумного говора, что Макар и двух дней не побыл дома: обрадовал, успокоил мать и поутру пешим отправился за двадцать верст на железную дорогу, — невесть куда, неведомо зачем.
Васенка, как сидела за столом, оборотив напряженное лицо к окну, так и осталась в неподвижности; глухо, пусто стало, будто сердце выпало из груди.
А через сколько-то прожитых в пустоте дней Васенка вдруг повстречала Макара на мощеной дороге, идущей в гору от Волги к селу. С тугой котомкой за плечами, в солдатском обличье, притомленный дальней дорогой, но такой же, как помнила: увиделся ей Макар сдержанно-улыбчивым, пригожим, хотя сразу приметила: чужая вмятина двоила подбородок и под темной щекой вроде бы ненужной морщиной белел широкий рубец. Шел он прямо к ней, а рядом, ухватив тоненькой рукой его руку, послушно торопилась, перебирая высокими ногами, девочка, незнакомая Васенке девочка, по личику, по платьицу вроде бы городская. Васенка, распознав Макара, прихватила руками шею, словно удерживая готовый вырваться крик, но, пока Макар подходил, совладала с собой, даже сготовилась первой сказать приветные слова, достойные возвратившегося с войны солдата. Взгляд ее, в еще не остывшей обиде, завистливо подметил, с какой бережностью ведет Макар послушную ему девочку: вроде бы и торопится к ней, Васенке, а шаг придерживает, приноравливает к меленьким девчоночьим шагам. И от первой недоброй приметы настороженный взгляд снова метнулся к девочке; Васенка разглядела большие, серьезные, ей почудилось, косящие, как у Макара, глаза, и качнулась дорога вместе с Макаром и девочкой и потемнело небо, как в подступившей туче.
Могла, могла бы понять Васенка, что по годам девочка не военных лет, что не может она быть Макаровой, а вот не поняла; подумала только, что, если есть девочка, значит, есть и женщина, близкая Макару, и шагнула ему навстречу в незнаемой прежде слепящей ревности. Чувствуя, как бьется под рукой, охватившей шею, жила, насмешливо сощурила глаза, подражая кому-то, — уж не Зинке ли Хлоповой? Господи, до чего дошла! — без привета, с вызовом спросила:
— Твоя, что ль?..
От неожиданных Васенкиных слов Макар остановился, помедлил с ответом, но ответил, не отводя от Васенки глаз:
— Моя.
— Гляжу, не терялся там! — сказала Васенка, чувствуя, как ломается звенящий от отчаяния ее голос. На что Макар, опять помедлив, по-серьезному, будто не понимая Васенку, сказал:
— Солдату на войне нельзя теряться, Васена Гавриловна! — а в косящих догадливых его глазах метнулись веселые черти.
И Васенка, увидев в светлых глазах Макара этих всегда пугавших ее в девичестве чертей, поняла, что выдала себя, и Макар теперь знает, что страдает она от того, что кто-то другой объявился между ними.
Макар как-то очень уж бережно приобнял девочку за плечики, поставил перед собой. Васенка с вновь закипающей в сердце ревностью, всегда слепой и всегда бесполезной, следила за руками Макара, с видимой ей ласковостью оберегающими покорную ему девчушечку.
И когда Макар, не спуская с Васенки внимательных глаз, тихо, со значением, которого она не поняла, сказал: «Познакомься, Васена Гавриловна, — наша Катенька-Годиночка», — она едва сдержалась, чтобы свою сердечную боль не выказать на девочке.
Подчиняясь Макарову слову, присела, взяла худенькие податливые ладошки в свои нечувствующие руки, сказала что-то не очень-то ласковое и умное, что потом вспоминала и вспомнить не могла, — уж очень больно, по самому сердцу, ударило Макарово слово «наша».
Поднималась Васенка медленно, будто сдвигая занемевшей спиной сразу все: и ревность, и боль, и стыд за дурные свои надежды.
И когда Макар со слышимой и непонятной ей радостью сказал: «Что ж, Васена Гавриловна, путь-то у нас вроде один!» — она, в мыслях уже отделив себя от Макара, ответила:
— Эх, Макар Константинович! А мы-то вас, как света утреннего, ждали!.. — И, откинув свои темные волосы с побелевшего лба, пошла, будто силой уводя себя в поле.
Макар, хмурясь, смотрел, как ширилось пустое пространство между ним и Васенкой, хотел было остановить, сказать наконец то, что давно и неотступно нес через всю войну.
Но Катенька-Годиночка, все это время с недетской сосредоточенностью смотревшая то на Васенку, то на Макара и все-таки не понявшая, кто же она такая, встреченная ими красивая тетенька, вдруг крепко прижалась к его руке, глядя снизу вверх печальными глазами, спросила:
— А далеко еще до дома?..
И Макар, будто возвращаясь в другое бытие, с трудом улыбнулся, бережно положил тяжелую ладонь ей на голову, оглаживая памятные ему еще с душного июля сорок первого года светлые, с бантиком в косице волосы, сказал:
— Пришли, Катенька. Вон за теми высокими тополями наш дом!..
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ У Феди-Носа
1
В невеселое утро ехал Алеша к Феде-Носу: сквозь туман не пробивалось и солнце, никли от росы придорожные елохи, и лес за рекой стоял как в молоке, — осенняя пасмурь будто вошла в лето, не угадать было, чем обернется погода к середине дня.
Лошадь Василий подогнал к самому крыльцу, спросил, ничем не показывая жалости:
— Пособить?..
Алеша покачал головой, сполз с телеги, сунул костыли под мышки.
— Домой езжайте, Василий Иванович…
Он не хотел, чтобы его ждали, стыдился привлекать к себе внимание ребятишек и семигорских женщин, чьи лица уже замелькали в окнах. Федя-Нос был ему нужен, и не для охотничьей утехи, о которой он мог бы его попросить, совсем не для мелкого, суетного дела — Федя-Нос нужен был ослабевшей его душе. Он помнил, и там, на войне, вспоминал мудрую рассудительность Феди и теперь ждал, что в доме старика Носонова найдет утерянную душой опору.
Федя-Нос будто не заметил его костылей; зорким взглядом, брошенным из-под низких бровей, враз увидел и негнущиеся ноги, и деревяшки под руками, но увидел и — похоронил в себе. И поторопился навстречу на своих кривоватых, как у старого цыгана, ногах, обутых в залатанные кожей валенки; обнял накрест, по-отцовски, и так держал немалое время, то ли одолевая свою разволнованность, то ли давая успокоиться Алеше. Смахнув с широкой бороды упавшую из глаз мокредь, отступил, давая простор гостю, и, когда Алеша задвинул себя за стол на лавку, сел напротив, глядел в глаза, не убирая с лица скорбь, но и показывая суетностью рук и блеском затерянных в старческих морщинах глаз радость от того, что вот все-таки явился к нему в дом полюбившийся еще прежде человек.
— Попомнил старика! Спасибо тебе, Олеша, — он говорил своим окающим, совсем не изменившимся с той памятной поры голосом, а мысль его — Алеша улавливал это обострившимся за годы госпитальной жизни чутьем — металась по закуткам избы, выискивая такое, что могло бы с ходу порадовать парня-солдата.
— Вот, Олеша, сейчас я тебя уважу. Как знал, что будешь, — поберег.
В полу, перед печью, он легко, в один мах, откинул тяжелую крышку, полез в по́дпол; к столу вернулся с ношей. Бережно отвернул концы полотнины, из вощеной бумаги извлек с запечатанными сотами рамку, в чугуне с горячей водой, стоявшем в печи, нагрел нож, ловким движением, любовно следя за теплым лезвием, освободил соты от рамки, уложил на блюдо.
— Вспомни-ко, как баловался у меня медком… Пасека, Олеша, погибла. А озера в прежней целости. И утки нонешний год жутко! Не беспокоили дичь, некому было беспокоить. Ружьишко-то цело ли? А про Уралку — знаю. Стрелял его сын Дарьи Кобликовой. На войне не был, а собаку стрелил! Как узнал, нарошно на дороге укараулил. Говорю: как же это ты, парень? Друга так рассчитать! Привел бы ко мне, я б держал Уралку, пока Олешу война не отпустит!.. Нехорошо он на меня посмотрел, нехорошее слово сказал. Ах ты, думаю, дробь твою пороха мать, не сек тебя никто, пока поперек кровати лежал! Да что, Олеша, теперь о том, Уралку не вернешь. Но собачку я для тебя обговорю. Без друга, Олеша, не оставлю…
Федя все это говорил готовя свое угощение, говорил без роздыха, в явном старании поводить Алешу по прошлым дням и прошлым заботам — чуял он: в прошлом было то, за что Алеша мог зацепиться и памятью и сердцем.
— Ну-ко, уважь старика, подсластись! — Федя подвигал ему блюдо с сотами. — Тут каждая капля в силу…
Алеша молча смотрел на пребывающего в доброй суете Федю, слушал, не давая подняться к глазам растроганности, которой против воли полнилась его душа. Он понимал, какой бесценностью для нынешнего голодного года распорядился сейчас старый Федя, и страшился, что от этого вот открытого человеческого усердия, которым встретил его ничем не обязанный ему человек, он не выдержит, выйдет из той замкнутости, в которой сам себя держал.
Может случиться и того хуже: по-мальчишески разревется от своей беспомощности, от обиды на судьбу: слишком кроваво обошлась с ним война, и привыкнуть к тому, что случилось, — об этом он думал раньше и теперь, — дано ему не будет.
Алеша подавил пугающую растревоженность, глядя на свои выложенные на стол руки, глухо, с какой-то даже жестокостью к себе и приветившему его Феде, сказал:
— Не за сладостью пришел я к вам, дядя Федя…
Федя как будто ждал этих слов, не хотел, но ждал; и, когда услышал их, переменился: будто, не вставая с места, в чужой, неуютный ему дом вошел; и суетность его враз убралась, и желание угостить гостя оставило. Сник Федя, перед горем Алешиным сник. Но уступить — не уступил. Лицо его, всё, от темного лба до щек, растресканное в долгой жизни, охваченное снизу желтым волосом бороды и отмеченное раздутым, как картофелина, носом, некрасивое, может быть даже страшное, и в то же время чем-то к себе располагающее, медленно приподнялось, как будто подсветилось падающим из окон светом; под растущими вразброс, тоже желтыми бровями замерцали, вроде бы изнутри накалились, густой черничной синевы глаза.
— Вот что скажу тебе, Олеша. Беды нет, пока вера не потеряна. Жуткую историю тебе расскажу. Но ты послушай, поймешь, каково мое к тебе слово. Брательник мой меньшой в давние годы ушел из села. Случилось это в ту, еще царскую войну. Я со штыком на австрийца ходил, а он отца, мать оставил, пошел в Вологодчину, в лесную глухомань. Не от войны, в солдаты ему так и так не полагалось, — горбат был. За верой пошел. Такое душевное беспокойство ему явилось. Приняли его староверы, оженили. Слух был, мол, и убогого добро не минуло. Ладно. Как первая война замирилась, да отвоевали мы после революций еще гражданскую, отпустили нас по деревням. К тем годам малость образовалась в России жизнь. Отыскал я, навестил брата Прокопия. Скажу тебе как на духу: многого ждал, но, что свидел, представить умом не мог! Не дом — молельня, на стенах — лики, белого света ни в одном окне, мрак да лампадный дух. В супружнице брата Прокопия ни бабьего, ни человеческого: памятник надмогильный! В угол задвинулась, накрылась черным, на единое на слово губ не разомкнула! Из кружки воды глотнул, так кружку за порог на моих глазах бросила…
Братец до отвратности покорен. Всё с поклоном. Грудь двумя перстами осеняет. Ну, думаю, Прокопий, ухватил ты веру!
Напрочь порвалась наша с ним родственная линия. Слыхом не слыхивал годов двадцать. И представь, Олеша, в эту вот, нонешнюю войну, в самую ее середку, является в дом ко мне странник. Вот в эту дверь взошел, у порога встал, стоит. Малахай ниже бровей, — весь в заморози. Одежки много, да все худая. А на воле мороз, зима в рост по снегам ходит! Сума на боку, на спине котомка. Котомка-то спервоначалу привиделась — не сразу горб углядел. Говорю: что стоишь, мил человек? Пришел — садись, грейся, печь горит!.. Суму каким-то кособоким движением он с плеча на пол скинул, сам опять стоит. Подошел я, посветил горящим фитильком — признал Прокопия. Злого в сердце в жизнь не держал. Обнял по прежней памяти, как положено, со всей холодной одежкой в охапку его забрал. Только чую, ответно он меня не обнимает. Отстранился, глянул, а рукава-то в его одеже без рук!
Таково, Олеша — без рук. Я потерялся: ни спросить, ни молвить. Он вроде на меня смотрит, а в глазах жизни нет, будто из дальней дали глядит, разглядеть, что перед ним, не может. Закинул голову на горб, тоненько, вроде овечки, проблеял:
— Помирать к тебе пришел. Без веры остался…
Прожил со мной череду дней и всё в немоте! Ни в ночь, ни когда кормил его — ни единого раза даже обрубками рук себя не перекрестил. Только взгляд кинет в красный пустой угол да тут же глаза опустит. Посидит — опять взглянет. Вот ведь что — знамения он ждал! Веру потерял, а знамения ждал. Верил, убогий человек, до последнего часа своего верил!.. Горбатого, бают, могила выправляет. Брата Прокопа и могила не поправила — гроб-то пришлось под горб прилаживать. Перед самой кончиной он мне, Олеша, открылся. А случилось таково: сидел Прокоп в ночи у огня, и явилось ему вроде озарения: всемогущ бог, неотступна вера. Сотворил он молитву, сказал: «Верю в тебя, господи. Огради!..» — и положил руки в огонь… Таково, Олеша. Проникся я исповедью Прокопа так, что жутко мне стало. И долго под его словом жил, все хотел догадать, какой это такой поворот: человек силен верой, а тут вдруг вера да против человека?!
И вот что, Олеша, мне открылось: не всякая вера истинна. Мир-то, он — рукотворный! От ложки, избы — до души человеческой! А он — руки в огонь. — Федя умолк, боком навалился на стол; так и сидел, отворотившись, рукой придавив волосатую голову. Не поднимая головы, договорил:
— Вот, Олеша, что может сотворить вера с человеком. А вот что человек может, когда вера доподлинная, то должно показать тебе, Олеша!
Алеша усмехнулся; сам чувствовал — нехорошо усмехнулся. Сказал:
— А что, если нету веры? Ни доподлинной, никакой?..
Федя поднял голову, обесцвеченная временем кожа на плоских его щеках закраснела. Из-под косматого волоса бровей в упор глядел он в глаза Алеши, будто взглядом добирался к дальним, запрятанным его мыслям. Неожиданно возвысив голос, чего никогда с ним не бывало, проговорил:
— Доказать хочешь, что веру потерял? Понапрасну стараешься, мил человек! Коли жить остался, значит, есть в тебе вера!.. Что суровости напустил? Деревяшек своих напугался?! А ты не пугайся. За людей ты кровь пролил. И скажи ты мне, найдется хоть одна живая душа у нас в Семигорье, по всей Волге, да что там — по всей России, что деревяшками тебя попрекнет?! Не случиться такому, Олеша. Народ, он чуткий до чужого горя. А горе твое каждой вдове, каждому мальчонке, будь он сиротинкой или об руку с воротившимся отцом, — свое, сердечное, кровное горе!.. Костылики-то свои ты помалу прибирай. Окрепись на деревяшках-то, ходи-бегай! По лесу с ружьем хаживай! Себя окрепишь — все другое приложится. Голова, руки — при тебе. Дело еще сотворишь, Олеша. Заметное людям дело сотворишь!.. — Федя положил на стол руку; придавил другой, будто под руку собрал весь разговор; смотрел, выжидая.
Алеша низко держал голову, губы его дрожали. Федя тронул его против шерстки, погладил жестко, с задиром; и неожиданная неуступчивость старого человека, к которому он шел за утешением, а втайне и за состраданием, больно задела его. Правду Фединых слов он чувствовал, обида мешала принять как будто для него припасенную правду. Хмуро выглядывая из-под упавших на лоб волос, он спросил:
— В чем же ваша вера, дядя Федор?
— А вот есть она, Алеша! Не скоро умом ее сознал. Но с нонешних лет вижу: и прежде была. Как объяснить непридуманно, — уж больно проста моя вера. Как думаешь: помри я — убавится чего-то на земле?.. Молчишь! — Федя в досаде отогнал с меда мух. — Понятное дело: не по душе старика обидеть…
Алеша заставил себя разжать неохочие к разговору губы:
— Для меня убавится: доброго человека не станет…
— Ну вот и отличил! В том вся моя вера: жизни добра добавить. Тут мы с нашей Васенушкой парой, в одной упряжке: тяжел воз, всё в гору, а везем. Везем! Такая моя вера, Олеша. Она меня держит. Не могу, Олеша, оставить людей на трудной дороге жизни без малой моей помоги!.. А медку-то покуса́й! Слово словом, а сила тебе нужна…
Федя в неловкости, от того, что невоздержанно заговорил о себе, зашарил по столу руками, опять суетно озаботился гостем, как было это в начале встречи.
Алеша упрямо не притрагивался к дорогой Фединой затайке — к сотам, подернутым каким-то особенным коричневым загаром, сочащимся прозрачнейшей медовой живицей, пахнущим прошлыми счастливыми днями, хотя знал, что упрямством своим ранит сердце старого человека.
«Напрасно, все напрасно, — думал он. — Все, что говорят мне, — слова, не больше как слова! Прошлое остается только в памяти. В жизни, в том настоящем, что вокруг, прошлое не удерживается. Сдвинулась жизнь, сдвинулось и добро. Может, оно и осталось где-то. В Феде, наверное, осталось, — думал Алеша, чувствуя, как наливаются глаза слезами. — Но оно уже не мое добро. Помочь оно не может, потому что я уже не такой, каким был. Память обманывает. Опять меня обманывает моя память! Все переменилось, а я живу тем, что помню. Надо знать, что ты есть и что тебе надлежит…»
Смотреть на Федю он не мог, так горько ему было то, о чем он думал. Еще не в силах решиться встать, сдержанно попрощаться и уйти, дождаться Василия с лошадью где-нибудь на околице, он сидел, плотно отгородившись от Феди рукой, упорно глядел в сторону, на давно не беленную, копотью закинутую до самой задвижки печь. И грязная эта печь, и общая давняя неухоженность в доме, и весь дом, угловато-тесный от разных нанесенных сюда ненужностей — старых кадок, порванных хомутов, связок лозы, — дом, с глухо заросшим от времени жилым пространством, казалось, тоже был безучастен к нему.
Упираясь одной рукой о стол, другой о лавку, Алеша неуклюже поднялся, сунул под мышки костыли. Но, прежде чем сдвинулся с места, он заслышал в сенях шаги и в угрюмой неприветливости уставился на дверь.
2
Дверь в один мах отворилась; пригнувшись под низкую притолоку, через порог стремительно шагнула в избу Васенка. Встала, тревожным взглядом вобрала в себя сразу всего Алешу с его копной волос, очками, костылями, будто обессилев, привалилась к косяку.
— Вернулся!.. — сказала и засмеялась, хорошо, легко засмеялась.
Встречи с Васенкой Алеша не ждал; увидел в глубине ее оживленных глаз немой вопрос, опустился на лавку, с неловкой поспешностью стал засовывать костыли под стол. Васенка не могла не заметить его растерянности, но виду не подала; будто не имея к нему никаких других дел, кроме понятной каждому радости его возвращения, присела к столу, не спуская с него внимательных радостных глаз, как будто виноватясь перед ним, проговорила:
— Не серчай, Алеша! Бабы гукнули, что ты у Феди, — не стерпела…
Алеша с трудом приходил в себя; с грустной ревностью ума отмечал, что Васенка все та же: такой вот, до беззащитности открытой, будто излучающей доброту и ласковость, она и хранилась в его памяти. Показалось даже, что годины с их жестокостью и горем обошли Васенку. Вот только слово «гукнули» непривычно услышать в памятном мягком, всегда каком-то стеснительном ее говоре; отметив это чужда для нее, резкое слово и что-то еще, неясно уловленное им, он подумал, что все-таки, даже, наверное, Васенка изменилась.
Плавным быстрым движением рук Васенка пригладила волосы, как всегда плотно уложенные, оттянутые узлом на затылке, от ходьбы распушившиеся вокруг маленьких, аккуратных ушей; не отнимая рук от головы, поверх до смуглости загорелых локтей посмотрела на Федю каким-то особенным, тоже для нее непривычным, будто поощряющим его к чему-то взглядом; с озабоченностью сказала:
— Федя! Милый! Не сочти за труд, добяги до Капитолины. Пусть найдет вина бутылочку. И скажи — надо, мол, Васена Гавриловна наказала!..
Алеша было запротестовал, но Васенка не дала и двух слов сказать:
— Ты, Алеша, с войны вернулся. Так неужто не приветить тебя по русскому деревенскому нашему обычаю!.. Лихо кончилось. Жизнь по местам все расставляет. Можно ли солдату от приветных речей отказываться?!
В том, как она это сказала, была убежденность, и Алеша, покоряясь ее убежденности, опять подумал, что прежде такой решительности он у нее не знал.
Федя, как только увидел Васенку, зарозовел серединками морщинистых щек, как от близкого сильного тепла; глаза его, было заугрюмевшие от тяжелой Алешиной молчаливости, вновь в живости зачернели; подняться, чтобы встретить Васенку у двери, он не посмел и теперь, сидя с ней рядом, на одной скамье, привечал взглядом как близкого сердцу человека. Он тотчас встал, засобирался поспешнее, чем то требовалось; Алеша вспомнил о былой его слабости, но даже про себя не осудил. Ему казалось, Васенка отослала Федю не без умысла, и вовсе не вино и не обычай были тому причиной. Разговора о Леониде Ивановиче он страшился; и, когда Федя вышел, в поспешности забыв, что оставил дверь открытой, весь напрягся в ожидании. Но Васенка только коротко взглянула, порывисто поднялась, придерживаясь за косяк, склонила над порогом гибкое сильное тело, плавным движением руки дотянулась до скобы, притворила дверь; к столу вернулась в задумчивости.
— Вот, Алеша, не могу наблагодариться на Федю: золото человек. Иной раз глаза закрою, огляну полные лиха годы и думаю: спасение наше — Федя. Сколько семигорских баб да детишек не дотянули бы до Победы, если бы не Федино житейское уменье! Два ума на все село война оставила: Федю вот да Акима Герасимовича, пастуха. Только они и выручали, когда бабьи руки уже ничего не могли… — Васенка не жаловалась; казалось, она рада была хоть чуток скинуть с души из того, что скопилось за войну, и говорила: про Федю, про всех других семигорских: про девок и баб, голодавших пацанчиков, не в пример скоро ставших мужиками, про Женю, Лариску, трудно, через болезни, идущую в рост.
Алеша слушал Васенку с каким-то сложным чувством настороженности и обиды. Васенка зачем-то старалась внушить ему, как нелегко жилось людям здесь, где не падали бомбы, где не горела земля, где взрывы не отрывали ноги и руки, где поля в одночасье не покрывались сплошь телами поутру еще живых солдат; она как будто не видела его беды, не хотела, знать, каким он вернулся с войны, каково ему теперь в откинутости от общей жизни. Отчужденно, не слушая, он смотрел, как двигались ее руки, быстрые пальцы ощупывали доски плохо струганной столешницы, поднимались к груди, трогали пуговицы на кофте, опять беспокойно ложились на стол; не сразу услышал он зов.
— Алеша… Алеша!.. — в беспокойстве окликала Васенка. — Пошто запропал! Ни говоришь, ни меня не слышишь… Болит что?..
Алеша покачал головой; одинокость и безысходность, наверное, были на его лице. Васенка поднялась, села рядом, обняла за плечи, и Алеша в охватившей его душевной слабости прижался головой к ее шее.
— Эх ты, горечко мамино! — с тяжким вздохом сказала Васенка. — Хочешь, чтоб пожалели… А надобна ли тебе, Лешенька, жалость-то эта! Ты подумай-ка, в войну всем равно досталось. По-разному, но горюшка у каждого взахлеб… На восемьдесят шесть дворов — семьдесят две похоронки. Это же представить невмочь!.. Живой, живой ты, Алеша, услышь ты это слово! Жить тебе надо. Со всеми, кто остался в живых! Не можно ночь и день, себя жалеючи, думать, — умом поослепнешь. Радости не увидишь. Ведь ты, Алеша, сильный. Ты такой еще парень!..
Васенка запустила пальцы в его густые волосы, потрепала, прижала к себе, поцеловала в бровь и — взволновалась. Алеша почувствовал, как испугалась Васенка своей ласки, поднялась, встала у окна, присунула к стеклу запаленное лицо. Глядя сквозь стекло на волю, напряглась о чем-то спросить, но не спросила: пошла по избе, на ходу бездумно прибирая в беспорядке побросанные вещи, каждой находя место.
Оставленный на лавке, Алеша потерянно следил за Васенкой. С охватившей его вдруг ревностью и обидой сказал:
— Федю вот жалеешь!..
Васенка только что подхватила с подоконника сунутые сюда, наверное, еще с зимы, порванные рукавицы, услышала неприкрытую горечь Алешиных слов, повернулась будто в удивлении:
— Что ты такое, говоришь, Алеша! Первый горемыка в Семигорье — Федя. Беды к нему катятся, будто под горой живет! Небось словечка о себе не молвил. А вот тебе скажу. До первой еще победы, что была под Москвой, — похоронка на сына. Через год — на дочь; в городе училась, в радистки пошла. Забросили на фронт — там ее немцы и сгубили. Настена, жена, — ты, верно, ее и не знал, дела у тебя только до Феди были, — не удержалась на свете. А нужна она была ему, ой, как нужна! А следом еще лихо прикатило: брат потерянный, убогий явился. Зиму бедовал с ним Федя — мыл, одевал, с ложки кормил. В пору-то какую! Корочка хлеба явится на стол — праздник!..
Васенка стояла посреди избы, перекладывала с руки на руку Федины рукавицы; упрекать вроде бы не упрекала, а хмуро внимавший ей Алеша от слов ее бледнел.
— Я, Алеша, эти вот рваные рукавицы взяла, а вижу, как в этих рукавицах, в крещенские морозы, Федя лед долбил в Нёмде, чтоб вытянуть бог весть из чего сплетенные мережки, какой ни есть добычей людей подбодрить!.. Тот худой зипун, что на гвоздь навесила, тронула, а сердце от памяти заныло — в зипунишке этом в мартовскую липкую вьюжицу Федя на салазках тянул до города младшенькую петраковскую девчонку — животом, слабиночка, измаялась, не знаю, как отходили в больнице! Воротился домой, с неделю от кашля не говорил. А ведь крепкий свой тулуп да катанки средь зимы солдатам послал! Теперь вижу мед у него был прихоронен, ни пол-ложки для себя не взял!.. Травку какую-то все попивал… Даже неструганный, кособокий этот вот стол, мне, как сам Федя, дорог. Ведь хорошие-то доски он со стола сбил, чтоб брата честь по чести схоронить!.. Много, ой много лиха на одного! Устал он жить. Для себя ему и жизнь-то не надобна. А живет! Не сказать сколько людей за этим столом, в этой вот избе, душу себе отогрело! И ты к нему пришел, другого своему горю не выбрал. Значит, чувствуешь, у кого сил занять!..
Васенка перегнула рукавицы, всунула в печурку, потеснив пучок сухой травы и бересту, снова встала у окна, сложила на груди руки, глядела вприщур на волю. Алеша чувствовал себя скверно, так скверно, как никогда не чувствовал себя перед людьми. Две правды, две жизни сошлись, схлестнулись в стареньком домишке Феди, и Алеша, до самого этого часа живущий только правдой солдата, вдруг потерялся перед той, другой правдой, которая была за горестными словами Васенки.
Васенка, не размыкая крепко прижатых к груди рук, медленными шагами прошла по избе, подсела к столу, из-под в строгости сдвинутых бровей посмотрела жгуче, спросила, сдерживая голос:
— Что про Леонида Ивановича не спрашиваешь? Или знаешь что?..
Алеша опустил голову. Из самой середины войны память вынесла кроваво-красный влажный вечер, затерянную в смоленских лесах незнакомую деревушку, Леонида Ивановича на крыльце чужого дома. Радость их, трех, по чистой случайности не расстрелянных вместе с десантом, и тут же, в ответ на их доверчивость, руки Красношеина на его, Алешином, автомате, короткий толчок в спину, обрывающий свободу. Плеснулся в глаза тот кроваво-красный догорающий день у незнакомой деревни, и тут же память сменила его видением холодной ясной августовской зари на опушке влажного бора, Красношеина, в обнимку с немецким пулеметом, неловко прижавшегося к стволу старой сосны. Он видел его таким, каким был Леонид Иванович за несколько минут до смерти: плотная тень от нависшей сосновой лапы как бы отсекала от его лица верхнюю половину; на освещенной половине были усмешливые, стиснутые до синевы губы; на затененной, верхней, как будто не было ни волос, ни лба, — одни глаза, как две черные пещеры с мерцающим отсветом дотлевающих где-то в самой их глубине углей. И голос сохранила память — западающий в хриплость красношеинский голос; и слова, в завет ему, Алеше, сказанные: «Про все Васенке не говори. А вот про то, что сейчас здесь будет, про то скажи…»
Все это мгновенным видением пронеслось перед закрытыми глазами Алеши. Он не знал, что должен сказать Васенке. В полном смятении чувств думал: «Вот он, судный час: грехи чужие, исповедь моя…»
Васенка угадала: носит в себе Алеша весть о Леониде Ивановиче! Руки ее задрожали, поднялись к лицу; она подсунулась ближе, едва слышным голосом спросила:
— Коли знаешь, скажи?!
Глухо, под стол, он сказал:
— Он погиб… — И, испугавшись вдруг повисшей тишины, еще глуше добавил: — Он хорошо погиб…
На Васенку Алеша не смотрел. Капала из умывальника вода, капли размеренно, как постук ходиков, ударялись о какую-то твердь в тазу; тупой звук становился все слышней и как будто ближе, мешался с высоким звоном в ушах, который пришел с ним оттуда, с войны; в высоком звоне он едва расслышал тихий растерянный голос.
— Алеша, Алеша… Можно ли так-то: хорошо погибнуть?!
— Стало быть, можно… — Он поднял наконец глаза. Васенка, опираясь локтями о стол, держала голову руками, смотрела с пристальностью вниз, мимо стола, на яркое солнечное пятно под окном; все было в ней неподвижно, лишь удивительно ровные, полные, как у Зойки, сейчас бледные, губы чуть подрагивали, как будто от неслышных ему слов. Васенка прищурилась, не отрывая глаз от светлого пятна на полу, медленным напряженным голосом спросила:
— Пошто не говоришь мне все?
Алеша молчал; он и теперь не знал, искупил ли вину Леонид Иванович своей смертью или так навек и остался без Родины. Одно он знал твердо: он и трое его товарищей жизнью были обязаны ему. И когда молчание стало невыносимым, упрямо повторил.
— Леонид Иванович погиб. Под Смоленском. Это все, что я знаю.
В глазах Васенки, всегда светлых, теперь как будто затененных, он видел смятение и боль; придерживая руки у высокой шеи, она смотрела, ожидая. Потом как-то сдвоенно вздохнула, и напряжение, бывшее в ней с первых минут, как вошла она в дом, оставило ее; руки пали с мягким стуком на стол, лицо, непривычно решительное, напряженное этой решительностью, дрогнуло в каком-то горьком недоумении; и вся Васенка открылась в прежней своей беззащитности:
— Алеша, Алеша, понимаешь ли ты, что мне надобно знать все? Все, до словечка последнего! Судьба моя в том, Алеша! Быть мне верной его памяти или забыть, про все забыть! Не помнить, себя не казнить, коли случится по-другому…
Боль Васенки Алеша видел; он протянул через стол руки, вобрал в ладони покорные ему Васенкины пальцы, сжал, сострадая. Он облегчил бы свою душу, если бы здесь, сейчас рассказал о том, что пережил там, на Смоленщине. Но тяжесть памяти о предательстве Леонида Ивановича тогда перешла бы к Васенке, придавила бы ни в чем не виноватое ее сердце. Проясненный состраданием чужому горю, он держал в своих ладонях покорную ему руку, принимая на себя чужую боль, говорил:
— Погиб Леонид Иванович. Нам помог, а сам погиб. Ты теперь знаешь, люди узнают. И памятью себя не осуждай. Свободна ты в теперешней своей жизни. Слышишь, Васена, свободна!..
Васенка высвободила руку. С силой прижимая к лицу ладони, огладила глаза, щеки, будто смывая дурноту наконец-то дошедшей верти, посмотрела внимательно:
— Больше ничего не скажешь?..
Алеша покачал головой. Васенка шевельнула в усмешке углами губ, вздохнула:
— Что ж, ладно, Алеша. Знаю, как ты был добр к Леониду Ивановичу! Как-нибудь разберусь сама…
Лицо ее потвердело, морщины отяжелили лоб, сузились в раздумье глаза; она хотела о чем-то спросить, но вошел в радостной суете Федя, извлек из-за пазухи бутылочку, по-стариковски лукаво улыбаясь, поставил на стол.
Васенка поднялась, оправила на себе старенькую кофту, взглядом уходя в светлый проем окна, проговорила устало:
— Спасибо, милый Федя… Что-то нехорошо мне сегодня! Посидите, выпейте с Алешей. А я пойду. Не можу…
Федя проводил Васенку взглядом, шагнул было к двери, остановился: глядел на Алешу из-под косматого волоса бровей, вопрошая.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ Иван-чай
В лесу зацвел иван-чай. Возвращаясь с лугов в село по старой вырубке, Васенка вдруг увидела спокойный малиновый его пламень и как будто обожглась, — кипрей был Макаровым цветком!
«Люблю я тот лесной цветок, Васенушка. Вроде бы обычный, на глазах у всех растет. А разглядишь — навек полюбишь. Диво-цветок! И в том его диво, что на цвет бережлив! Запалится снизу и долго землю красует, пока последним цветком на вершинке не отгорит…»
Давно были сказаны эти слова, в ту еще пору, когда робкое ее сердце только-только обнадеживалось мечтой. А вот, поди, — запомнила, пронесла через жизнь Макаровы слова о цветке.
После вести о Леониде Ивановиче, что принес Алеша, снова в смуте была Васенка. Вроде бы всё — душой укрепилась, сготовилась не уступать себя прошлой жизни. И сумела бы, выстояла, — и перед лихостью Леонида Ивановича, и перед геройством. Сказала бы: «Так, мол, и так, Леонид Иванович. В войну себя не уронила. Честной женой дождалась. А теперь не суди — жизнь по сердцу начну улаживать!..»
Сказала бы открыто, на всем миру. Не дала бы худой молве по селу прокатиться. И если бы Макар принял ее, повинную, глаз перед людьми не опустила бы. И никто бы не попрекнул, что свое счастье на чужом горе ставит…
Так бы оно и вышло, вернись Леонид Иванович живой. А тут — погиб. Да еще «хорошо погиб» — слово-то какое надумал Алеша!.. А память людская, она — строгая. Мужем проводила на войну Леонида Ивановича, мужем ее в людской памяти он и останется. Что за дело кому, что изжила она в себе прежнюю жизнь! Страданием изжила, без возврата. Что за дело кому, что с девичества сужен был ей Макар?!
Замутил ей душу милый человек Алеша. И опять будто бросило ее к началу. Опять не знает, как верно поступить. А в жизни-то как бывает: раз отступишься, три отступишься, а потом в душевной своей силе и навовсе свянешь!..
Стояла Васенка, приникнув к оставшейся на вырубке сосне. Обжигал ее малиновый огонь иван-чая. А решиться на то, к чему сердцем была готова, не могла. Солнце уже перешло, нависло над мохнатостью леса, а она все стояла, в который раз проживала свою жизнь. Всю перебрала, от денечка до денечка, а как добралась до нынешнего ее порога — будто на берег вышла из воды. Вздохнула глубоко, на ощупь причесала, прибрала волосы, оглядела платье, совсем-то уж заношенное, не к такому случаю, да куда кинешься: другого искала бы — не нашла! И, не думая больше о том, в чем она, как со стороны глядится, вошла с решительностью в малиновый разлив, наломала самых лучших огоньков и пошла прямиком через село, мимо раскрытых окон, на виду своих баб-страдалиц, ковыряющихся в этот вечерний час за плетнями в огородах, мимо убереженных от войны ребятишек, играющих в улице, — на виду всех своих семигорцев, отбедовавших вместе с ней лихо. Шла, высоко подняв голову, держала на руке любимые Макаровы огоньки, с достоинством отвечала на оклики, на приветные слова и под любопытствующими взглядами всех, кто глядел на нее, шагнула с улицы в Макарову калитку, не задерживая смелых шагов, незаметно перекрестив под цветами гулко стучащее сердце, поднялась в крыльцо.
В горнице, к великому облегчению Васенки, никого из сторонних не было; была только близкая ее сердцу баба Дуня да Макарова матушка, тетка Анна, и девочка, что явил с собой Макар, о которую и ударилось слепо и больно, ее сердце при случившейся встрече на дороге у Волги.
Макар первым увидел Васенку в открытом проеме переборки, отгораживающей горницу от кухни. На темном, побитом войной его лице высветились глаза, скуластые щеки закраснели, и когда-то сплошь черные, цыганские, теперь поседелые колечки волос как будто задрожали на лбу. Не по своей воле — будто окликнули его зычно, поднялся Макар, уперлись в стол его тугие кулаки. Видела Васенка, как напрягаются, дрожат вместе с веками опаленные его ресницы, будто смотрит он встречь солнцу, а глаз отвести не хочет. Всё увидела Васенка: и одобряющий взгляд бабы Дуни, и движение матушки Анны, укрывшей лицо руками, как будто в невозможности поверить тому, что случилось, и, не вступая в горницу, в прежней своей беззащитности, глядя на Макара, выговорила едва слышно:
— Пришла я, Макарушка. Хоть казни, хоть милуй. А без тебя не можу… — Сказала и укрыла лицо в малиновом пламени иван-чая, прижалась головой к тонкой переборочке, вроде бы уже и стоять не в силах.
Макар сделал ответное движение к ней. Но девочка сидела с ним рядом, и потревожить ее Макар не решился. По-прежнему глядя на Васенку, как будто удерживая ее взглядом, он бережно положил на голову девочки руку, осторожно, словно боясь порушить что-то до невозможности хрупкое, сказал:
— Прими, Катенька, у дорогой нашей гостьи цветы. И пригласи.
По голосу Васенка, холодея, догадала, что выношенное в ее сердце счастье не свяжется с Макаром без этой вот худенькой девочки с косичками на плечах, с большими, без детской улыбчивости глазами. И когда девочка послушно вышла из-за стола и, меленько перебирая тонкими высокими ногами, пошла к ней, в тревожности залилась жаркостью стыда за дурноту прежних своих чувств. Оторвалась от переборки, от которой, казалось, и оторваться не могла, присела, вложила в слабые руки девочки ворох малиновых огоньков, охватила худенькие, как у Лариски, ее плечики, прижала к себе и, целуя в волосы, казня себя, плача от жалости к Годиночке, судьбу которой знало уже все село, покаянно шептала:
— Прости меня, Катенька!.. Не распознала тебя, доченька!.. Прости, кровиночка моя светлая…
Катенька притихла, прижалась теплым лобиком к ее плечу. И когда Васенка чуть отстранилась, глядя заплаканными глазами, протянула руки, заботливо вытерла ладошками ее мокрые щеки, позвала:
— Ну пойдемте! Пойдемте же!.. — За руку она подвела Васенку к столу, сказала неожиданно звонким голосом: — Ну вот! А дядя Макар так вас ждал!..
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ О, жизнь…
К полуночи затихал осторожный говор за стеной в комнате отца и матери. И Алеша начинал жить. Он уходил в свое прошлое. И старался понять то, что было действительной жизнью. И себя, одинокого, вроде бы уже и ненужного большому миру, в котором каждый был как будто сам по себе и в то же время — он это знал — никто не жил, не мог жить независимо друг от друга. Лежал он на железной узкой, неудобной кровати — кровать эту он выбрал сам, из своей наклонности к спартанскому устройству быта, — лежал в ночной отторженности от близких и далеких ему людей, и бились в нем с новой, как будто обнадеживающей силой яростные отцовские слова: «Жить будешь, как все. Как все!.. Запомни это!..» Давно были сказаны эти слова, еще в далекий день отъезда всей семьи Поляниных из Москвы сюда, на землю Семигорья. Но почему-то он вспоминал тот день и отца в страшной ярости, с которой он словно выхлестывал скопившееся в нем как-то само собой, от благ высокой отцовской должности, барство.
С горькой усмешливостью вглядывался Алеша в даль того дня, в искаженное лицо обычно всегда доброго к нему отца, вслушивался в срывающийся на крик голос. «Думать забудь о мягких вагонах! — кричал отец. — Жить будешь, как все… Как все!.. Запомни это!»
«Как все!» — Алеша помнил это важное для отца, важное для него слово. Сейчас он не желал ничего большего. Верхом его теперешних желаний было жить, как все!..
Страшно обошлась с ним жизнь!
Теперь он имел право на тот мягкий вагон, который в отрочестве манил его удобством и почетом. Хотя бы по орденской книжке, куда вписаны его боевые ордена и это его право на мягкий вагон. Он имел теперь право если не на барскую, то по крайней мере, на бездеятельную жизнь в доме отца или в каком-либо другом доме. По государственным документам, которые удостоверяли пожизненную его инвалидность! Наитяжелейшую! Имел он и пожизненную пенсию на прожитие без труда. Он знал высокую справедливость всех этих представленных ему прав, но был совершенно равнодушен к этим своим правам. Они обеспечивали его жизнь, но не успокаивали душу. Они как будто отнимали его право жить, как все…
Ярость, с которой были когда-то выкрикнуты отцовские слова, Алешу теперь не обижала. Текучее время обкатывает в памяти самые острые углы бытия, когда-то причинявшие боль; но важный для него смысл сказанных в прошлом слов жил, слова упруго бились в памяти беспокойной, какой-то подталкивающей силой. Он прислушивался к настойчивому зову этих слов и, мучительно напрягаясь телом и мыслью, думал: «А как живут все?..»
Все начинают свою взрослую жизнь с семьи. В одиночестве человек не может. Ему тоже был нужен, до покалывающих мурашек на пальцах, до сухости на подрагивающих губах, какой-то теплый комочек рядом. Теплая живая плоть, к которой можно было бы прижаться, забыться, уйти от того, что повторялось изо дня в день, не отходило, не менялось. В желании близкого, согревающего живого тепла он видел рядом с собой Лену. И маленького человечка, который не появился, но мог бы появиться для жизни от первой его близости с Женщиной, с дерзкой, отчаянной в чувствах Ленкой. В не забытой им холодной землянке. На неудобных жердях, под двумя согревающими их шинелями. В отсветах пламени горящего в печурке тола! Она и маленький «он» могли бы быть с ним рядом. Если бы не зло войны, в ничего не жалеющем пламени которой сгорела его, так нужная ему в жизни Лена…
В тоске, одиночестве он думал порой о Яничке, которой так хотелось быть с ним рядом. Думал о Ниночке, о затворническом домашнем ее счастье с Юрочкой, о котором теперь он знал. Думал о Васенке, о теплых ее руках, о неожиданном, в доме Феди-Носа, материнском ее поцелуе, о который она словно обожглась. И о Рыжей Феньке. О том, как шел к ней с грешными своими мыслями в то, далекое теперь, юное время. О Рыжей Феньке, которая из чувственной его памяти так и не ушла.
Но память о прошлом не могла согреть его одинокое тело. А то, что было в самой жизни, в идущей вокруг него жизни, то было для других. Для всех. Не для него.
«Но если для меня осталось только одиночество, то зачем оно?.. — думал Алеша, стараясь быть мужественным перед вечным вопросом бытия. — Зачем тогда сама моя жизнь? Зачем?.. Если нет любящей женщины, которая могла бы вывести меня из одиночества. Если не дано мне продолжить саму жизнь. Не лучший ли исход у тех, кто вовсе не вернулся с войны?..»
«Но разве смерть лучше жизни?! — думал Алеша. — Не видеть. Не слышать. Не знать… Разве это лучше оставленной мне возможности просто внимать жизни, идущей вокруг?.. Говор ручья за палисадом, свист иволги, облака в высоком, распахнутом небе — разве одно это не может обернуться радостью бытия?! Разве не права Васенка в страстном своем слове: «Живой ты! Живой! Услышь ты это слово!..» Война оставила мне жизнь. Может ли быть что-то большее?!»
«Хорошо. Всё так, — думал Алеша, волнуясь и пытаясь открыть для себя какую-то важную истину. — Большего богатства, чем жизнь, у человека нет. Но в том ли жизнь, чтобы просто жить? Есть? Пить? Прибираться в доме?.. Отовариваться продуктами и одеждой?.. Молодым обзаводиться семьей? Следуя извечному закону природы, растить себе на смену детей? Радовать себя гостями-приятелями? Песней под гармонь? Зоревой рыбалкой или охотой?.. Если жизнь в этом, то много ли я потерял? В такую жизнь, пожалуй, уложусь и я. Даже в улыбчивую рыбалочку или потешную охоту, — в лодке можно и отзоревать!.. Да в том ли жизнь? В том ли смысл ее — чтобы есть, пить, озабочиваться тем, чтобы был у тебя и завтра теплый угол, приличная одежда? Семейное согласие, маленькие удовольствия жаждущих удовлетворения чувств?.. В том ли смысл — если брать жизнь не просто в ее биологическом проживании, а именно как человеческую жизнь?! Разве может человек прожить свою жизнь, как сосна или береза? Отличается она чем-то от жизни того же зайца или филина, ухающего по ночам в бору?.. Зачем-то дан человеку разум? Зачем-то ему, единственному из всего живого, дана возможность постигнуть смысл своего бытия?..
Что ведет по жизни отца с его не только прямым, но вспыльчивым, колючим характером, с его фанатической устремленностью в будущее? Работа, работа, только работа! Без никакой, даже без малой корысти. Даже без намека на корысть! Просто работа. Всё, что изо дня в день он строит, организует, направляет, отстаивает — всё для людей. Для тех, кто, быть может, даже наверное, не думает с благодарностью о нем, упрямом созидателе условий для нынешних и для будущих, — он верит, — лучших по своей человеческой сути людей! Отец верит в будущее. Без этой веры и работы ему не выдержать бы тех душевных потрясений, постоянных перегрузок, которые валит и валит на него жизнь.
В этом весь он, отец. Большего ему не надо. Вера и работа — вот его жизнь! У меня ни того, ни другого. У меня нет будущего. Даже мама в бесконечных своих уступках неистовому разуму отца, даже в горестных своих печалях по неосуществленным мечтам творит, как все, малую свою пользу, — для отца, для него, Алеши, для тех, кто способен ее понять и принять такой, какой в своих печалях она стала. Отец может жить, как все, и там, где все. Мама может. А что могу я?..» Алеша мыслями добирался до себя, и мужество, в которое он хотел верить, оставляло его; темнело в душе, медленные слезы текли по щекам. Он не вытирал их, стыдиться в ночи было некого. А подушка к утру обычно просыхала. Постель к тому же он убирал сам. Мама, как казалось ему, не знала о душевных его страданиях в ночи.
«Вот, мамочка, — думал Алеша, сдавливая губами солоноватый натек слез. — Не только для людей — в малом домашнем нашем мирке ничего я не могу. Даже для тебя! Война подкосила и твои ожидания. Если бы даже я пошел за твоей мечтой тогда, когда пришлось мне, еще не зная своей судьбы, делать выбор, я не смог бы теперь сыграть для тебя ни сонаты, ни романса. Не смог бы порадовать твое святое материнское тщеславие где-нибудь в знакомой тебе ленинградской гостиной ни привлекательностью вида, ни изысканностью манер. Жизнь не поддержала твоей мечты. Война распорядилась нам обоим не в радость. Все, что могло быть comme il faut[15], — убито. Все внешнее — убито, мамочка. Осталась для жизни лишь душа. Душа и ум. Как бы ни были они добры и благородны по твоей вере, что могут они, если отнята у меня сила, сама возможность силы? Если одинок я и скован неподвижными этим и стенами? Если душа и ум только для меня и скрыты во мне?!»
Бродят, бродят мысли в бессонности притихшей ночи. Забредают на дороги войны, на роковые перекрестки жизни и смерти, через которые, оберегаемый неведомо какими силами, он прошел. Памятливые мысли бродят в видимых ему далях, возвращаются вспять, на землю Семигорья — к истоку, от которого началась собственно его жизнь, — на других дорогах она складывалась, а неостывающее чувство причастности к этой вот, родной ему земле пошло отсюда…
В ночи, в непроницаемой тишине дома, звучит где-то выше левого виска тонкая, на одной ноте, звень — незатихающий отзвук пули, ударившей его в последнем для него бою, там, у напитанного кровью болота. Теперь вечно будет звучать в нем этот камертон войны, как сказал ему Ким, сын Арсения Георгиевича Степанова, чем-то созвучный ему человек и смелый хирург, вырвавший его из рук уже охватившей его смерти…
«Кто же говорил мне: жизнь — та же война?.. Ах, да. Говорил это Арсений Георгиевич. В госпитале. В ППГ-4, где обхаживали меня после первого боя и первого, пустячного по сравнению с тем, что было потом, ранения. Как же говорил Арсений Георгиевич? Как-то мудро говорил…» — Алеша напрягает память, и слова, давно сказанные, как будто звучат в темной и пустой его комнате! «Жизнь — та же война, Алексей, — это голос Арсения Георгиевича. — Война с невежеством. С леностью умов. С жадностью плоти. За честность, за справедливость в отношениях между людьми. Только что кровь не льется по телу — вся там, внутри, невидимая даже дружескому взгляду. А раны и рубцы — те же…»
«Да, раны и рубцы — те же, — думает Алеша. — Ранами я изуродован. А душа разве не в рубцах?! Такие ли еще отметины на ней! Не от пуль — от людей. От тех даже, кто был на войне. Кто воевал…» Волнуясь какой-то важной, открывающейся ему мыслью, Алеша даже сел на кровати. И тотчас в квадрате окна, который был чуть светлее черных в ночи стен, он увидел серую согнутую спину Аврова и мушку пистолета на прорези его шинели. И опять, как это уже было с ним, в горьком ощущении упущенного времени увидел, как расплывается под мушкой пистолета, становится невидимой в коричнево-красных кустах тальника пригнутая серая спина Аврова.
— Вот она, — подлость! — шепчет Алеша. — Она таилась в душе Аврова! Война заставила ее открыться. И снова услужливая подлость ушла в жизнь…
Алеша откинулся на подушку. Авров разбудил другое видение войны: накрывающий рев самолета, высверк огня, удар, подламывающий ноги, красные звезды на черных крыльях. Пуля минула. Подлость — достала. Руками фашиста, укрывшего себя звездами не своего самолета. Когда зло встречает силу, оно оборачивается подлостью…
Алеша чувствовал, как пылает голова, неспокойны от возбужденного сердца руки; он даже зажмурился от ясности видений того последнего на фронте дня.
— Нет-нет, рано я ухожу от жизни! Война не кончена. Она только перешла с опаленной земли в человеческие души!
Он вспомнил встречу, даже не встречу, а просто случай. В теперешней жизни, где печальный его мир был: дом, скамейка у палисада, снова дом и — очень редко — луг у реки, — каждая встреча, каждый взгляд даже на отдаленную чью-то жизнь словно прожигали в его душе след; потом по многу раз, из конца в конец, исхаживал он мыслями эти следы, стараясь понять чужую жизнь и себя, незримо живущего около. Встреча, о которой сейчас он помнил, случилась на лугу, за Нёмдой, куда, пытая свою, волю и свои возможности, он забрел. Забрел и повалился в траву, опрокинутый болью. В отвращении к своей немощи отстегнул, скинул с остатков ног тяжелые приделки, бросил сохнуть мокрые, в пятнах крови чехлы, которые теперь носил вместо когда-то привычных носков и портянок. Лежал на спине, приходил в себя, разглядывал жизнь высокого неба, облака с округлой протенью, медлительно выплывающие из лесного заречья. Смотрел, не давая себе думать о ногах вообще, не думать о том, чего теперь у него не было. И вдруг услышал голоса. Поднял из травы голову, увидел на луговине ребятишек. По-разному одетые, но все в одинаковых испанских шапочках-пилотках, неспокойные, как пролетные птицы, они вольно разбежались по травяному раздолью, и две воспитательницы, как мудрые птицы-сторожа, с возвышений оберегали их.
Алеша лег на живот, положил подбородок на ладони, с неожиданно пробудившимся любопытством, каким-то примеривающим взглядом, наблюдал полную чувственного восторга подвижную молодую жизнь.
Из общего круга отделился мальчонка, понесся с поднятым на палке марлевым сачком вслед за улетающей бабочкой прямо к нему, пока еще незримому в траве. Видны были его распаленное азартом лицо, кудряшки волос, будто нарочно набросанные на лоб из-под сбитой на затылок пилотки, глаза, распахнутые в диком желании догнать, придавить сачком пьяно летящую над цветами бабочку. Странное желание вдруг охватило Алешу: захотелось до зуда в ладонях подняться навстречу бегущему мальчишке, подхватить сильными руками, подбросить к небу, чтоб, замирая сердчишком, завопил, завизжал он от восторга, и, как когда-то он сам, взлетая над отцовской головой, просил: «Еще! Еще, пап!..» — услышать от мальчишки свои же, из детства, слова.
Алеше казалось, он мог бы для маленького человечка сделать что-то важное, необходимое ему, то, что сам радостный человечек сделать еще не может.
Мальчишка был уже рядом, уже слышалось его сбитое бегом дыхание, быстрый мягкий топоток ног. И Алеша, воображением уже брошенный ему навстречу, вдруг представил, как, увлеченный погоней, малыш увидит его, как остановится в испуге, как в страхе закричит, понесется обратно, под защиту надежных своих воспитательниц, и от того, что представил, вжался в траву, не зная, куда спрятать страшное для посторонних глаз свое тело.
Мальчишка не добежал: может быть, бабочка, отпугнутая суетным его движением, метнулась в сторону, увела за собой, но мягкий быстрый топоток отдалился. Алеша облегченно вздохнул.
Через какое-то время воспитательницы построили ребятишек, повели к Семигорью, к детскому дому, и растянутый, звучащий тонкими голосами строй утек живым ручейком к домам, под уличные ветлы. Пустая луговина и тишина возвратили одиночество, вместе с ним и отрешенность от деятельного человеческого мира. Снова, не давая проявиться бесполезной душевной боли, он смотрел в исцеляющее небо, на полную загадочных перемещений жизнь облаков, но небесная высь на этот раз не исцеляла. Напряженный слух ловил земные звуки, и среди милых ему звуков земли: пересвиста иволг у реки, нетерпеливого ржания коня в леспромхозовском поселке, натужного плюханья колес пробирающегося Волгой буксира — всё чудились ему тонкие, перебивающие друг друга голоса ребятишек. Он не мог отрешиться от ощущения какой-то своей причастности к мимолетно коснувшейся его радостно-доверчивой их жизни.
Какая-то связь между его памятью о войне и доверчиво бегущим в луг мальчишкой была, он ощущал эту связь теперь; лежал в ночи, растревоженный своими же мыслями, думал: «Неужели и этому мальчишке суждено пройти весь тяжкий путь познания и горя, который прошел я?.. Неужели то, что приняли мы на себя, не может оберечь его жизнь?.. Неужели все начинать ему сначала?! — Алеша, волнуясь, закинул руки на спинку кровати, сдавил холодные железные прутья. — Ведь я был таким же доверчивым мальчишкой! И тоже ждал от жизни только радости и добра!.. Почему же опыт и сила тех, кто дал нам жизнь, и тех, кому мы доверили себя, не могли оградить нас от горя и зла?! В том ли закон, что каждое поколение должно все начинать сначала? Или в том закон, что люди, идущие вослед, не должны повторять то, что было нашим страданием и горем?! Как сделать, чтобы милый, сбереженный в войне малыш не повторил мой горестный путь?.. Как сделать, чтобы выстоял он, когда жизнь вдруг обернется не радостью, не солнцем и бабочками? Когда в какой-то из дней выкатится ему под ноги угодливая, заманивающая подлость и зло бросит ему свой, быть может, властный вызов?! — Алеша провел по горячему лицу руками, как бы останавливая почти физически ощущаемые мысли; уже спокойнее, вместе с тем упрямо подумал: — Нет, дорогой друг Алеша. Кто-то был бы рад выбить тебя из жизни. Без тебя, битого, злу легче править свой бал! Если жизнь та же война — война в человеческих душах, — то нужны ей не только руки-ноги. Нужны и ум, и слово, и работа честной мысли, без которой людям не обойтись. Нет, что-то я еще могу принять на себя!.. Хотя бы ради того доверчивого мальчишки…»
— Алешенька! — голос мамы тревожен: она неслышно подходит, кладет руку на разгоряченный лоб. — Скоро утро, а ты на час не заснул!..
— Прости, мамочка! — Алеша осторожно усаживает Елену Васильевну на кровать, ладонями придавливает ее руку к своей голове. — Скажи, мама, скажи, пожалуйста, ты никогда не думала, откуда является в жизнь зло? — Он едва различает Елену Васильевну, слабо белеющую в темноте ночной рубашкой, но чувствует и скорбную ее притаенность, и обнадеживающую ее близость.
— Не знаю, Алешенька, — слышит он наконец ее неуверенный голос. — Добрые и злые поступки зависят от многих причин. И прежде всего от порядочности человека. А порядочность, как мне кажется, не совместна с эгоизмом души… Не знаю, Алешенька. В одном я убеждена — горе приходит от тех, кто не умеет думать о других…
— Спасибо, мама! — Алеша передвинул к губам ее руку; с горечью ощущая идущий от ее руки, не перебитый одеколоном запах дыма и лука, благодарно поцеловал. — Спасибо. Ты всегда укрепляешь мою веру, мама!..
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ У счастливых
— Мама! Я больше не могу. Хочу видеть Ниночку и Юрку!..
— Но Алешенька… — Елена Васильевна не находила слов, она боялась того, с чем мог встретиться Алеша в благополучном доме Кобликовых.
— Но Алешенька, — говорила, волнуясь, Елена Васильевна. — Юра и Нина давно уже вместе. И живут счастливо. Тебе будет очень больно видеть то, что вернуть невозможно…
— Хочу видеть счастливых, мама!
Алеша стоял, опираясь на костыли, упрямо наклонив голову, и Елена Васильевна поняла, что остановить сына не в ее силах.
Собирался Алеша долго. Облачился в офицерский китель и брюки, пошитые специально для него из когда-то недосягаемого полковничьего бостона, добытого с помощью пожилого госпитального интенданта, сочувствовавшего его молодости и тяжелой судьбе, прикрепил даже ордена. Но постоял у окна, вообразил, как предстанет перед взглядами тех, к кому незвано стремился, и содрал с себя весь парад. Надел единственный свой костюм, в котором когда-то счастливо танцевал в ДК с Ниночкой, Леной Шабановой, с удивительной, памятной ему до сих пор Зойкой, костюм, непостижимыми жертвами сохраненный Еленой Васильевной, и, больше не давая себе думать о том, во что он одет и как выглядит, с решительностью прошагал через кухню, мимо поникшей у плиты матери, прошел на крыльцо, где его поджидала лошадь.
1
В тихой улочке, зеленеющей нетронутой гусиной травкой, Алеша придержал лошадь, пустил ее шагом и, пока телега катилась по мягкой сухой колее мимо сплошных дощатых заборов и высоких деревянных тротуаров, уже ни о чем не думал и даже как будто не волновался.
Лошадь он привязал вожжами к одной из двух старинных тумб, врытых при въезде во двор, отпустил чересседельник, разнуздал; из телеги перетащил, зажимая под локтем, охапку сена, положил перед мордой мерина, благодарно тронувшего его руку теплыми губами. Он не то чтобы хотел отодвинуть минуту встречи с людьми, в которых было его прошлое; просто он старался заботой о живом, послушном ему существе утвердить себя в том ощущении, что что бы ни случилось там, за воротами, в которые сейчас он войдет, сама жизнь, пусть малое, но его участие в ней, останутся при нем.
Все же когда он повернул тяжелое кольцо на воротах и железная накладка звякнула, освобождая ход калитке, когда, подпирая себя костылем и помогая палкой, он медленно двинулся через просторный двор к крыльцу, грудь ему стеснило, он даже остановился, вытер проступивший пот.
Первой на его пути оказалась Дора Павловна. С крыльца она спускалась навстречу, заметив, видимо, из окна, и смотрела на его с каким-то неприятным ему удивлением, как будто старалась понять причину его появления.
— Здравствуйте, Алеша, — сказала она, пожимая его напряженную руку. — Как вы решились на такой путь?.. Я слышала о вас. Но, признаться, не ожидала. Что же, проходите. Юрочка и Нина дома.
В просторной кухне Дора Павловна указала на лавку у окна, по-деревенски длинную и широкую, сказала сдержанно:
— Посидите пока тут. Нина должна привести себя в порядок.
Алеша с волнующим его чувством узнавания опустился на лавку, с любопытством оглядел кухонный стол с когда-то зелененькой в клеточку, теперь стертой до серости, казалось, навечно прилипшей к столешнице клеенкой. За этим столом сиживали они бок о бок с Юрочкой, грызли с аппетитом огурцы, запивая их, по его рецепту, молоком. За этим столом Дора Павловна поила их чаем и он внимал ее строгим речам, боясь звякнуть ложечкой о чашку, поднять глаза и возразить, хотя и в то робкое время в чем-то не соглашался с ней.
Из-за прикрытой двери доносились звуки возни и шепот.
Алеша покосился на дверь, заметил между русской печью и стеной что-то вроде широких спальных нар, наполовину задернутых ситцевой занавеской, которых прежде здесь не было, две замятые подушки на них, скомканное, отброшенное, видимо в поспешности, одеяло, догадался, что этот уединенный угол Дора Павловна отвела молодым, и жаркая сухость в горле перехватила ему дыхание. В оторопи он попытался сунуть костыль и палку в дальний от окна темный угол, чтобы Ниночка не вдруг заметила его нынешние деревянные опоры, но понял тщету своих усилий, нахмурился, оставил костыль в руках.
Дора Павловна, стоя у плиты, проследила за движением его рук, сказала, не пытаясь даже смягчить жестокий смысл своих слов:
— Ничего не поделаешь, Алеша. Надо уметь мужественно переносить эгоизм чужого счастья. Счастливые, к сожалению, не думают о других и всеми силами отвоевывают для любви не только медовый месяц. — Удерживая на нем взгляд своих темных строгих глаз, договорила: — Надеюсь, теперь вы понимаете мои нынешние материнские заботы?
Да, Дору Павловну он уже понял. Он еще не видел Нину, слова не сказал Юрочке, а Дора Павловна уже внушала ему, что в этом доме он только гость и никаких надежд на возврат былых близких отношений между ним и завязавшейся молодой семьей быть у него не должно. Молча, с какой-то даже усмешливостью наблюдал он, как Дора Павловна ходила по кухне, в нетерпении мяла пальцами ладони. Ему казалось, она не находит слов, приличествующих их встрече, но желания помочь ей в ее затруднении у него не было.
Дора Павловна направилась к двери комнаты, в которой все еще слышались шепот и суета, возвышая голос, сказала:
— У меня нет времени! — Потом пожаловалась не то себе, не то Алеше: — Как дети! Все еще дети…
Она подошла к холодной печи, сняла с керосинки, стоявшей на плите, тихо шумевший чайник, задула огонь. Запахом копоти напахнуло на Алешу, и по каким-то непостижимым законам памяти он вдруг увидел зачерненные пожаром стены полуразрушенного завода, где все они, плененные солдаты и командиры, ждали своей участи, грязный бетонный пол, в углу прислоненного к стене дядю Мишу с раскинутыми босыми ногами, и услышал полубезумный зов: «Алеша!..» — и захлебывающийся от торопливости и слабости, его голос. В мгновенном виденье все это вдруг оказалось здесь, у холодной печи, рядом с Дорой Павловной, и Алеша даже замер, даже холод почувствовал в висках от отчетливости того, что увидел. Самого главного Дора Павловна могла и не знать, она могла не знать, что дядя Миша жив, что он в Ленинграде, что письмо об этом невероятном событии уже лежит в маминой резной шкатулке, вместе с его фронтовыми письмами!.. То, что явилось из памяти Алеши, было так близко этому дому, что, еще не поборов волнения, он неожиданно для себя спросил:
— Дора Павловна, скажите, Юрочка так ничего и не узнал о своем отце?..
— Что? Что вы сказали?! — Дора Павловна подходила, вглядываясь ему в глаза настороженным взглядом.
— Вы что-то знаете? — спросила она тихо, так тихо, что он понял ее скорее по движению губ.
Алеше стало не по себе, вторгаться с чужими тайнами в чужую жизнь он не имел права. И, отвечая настороженному взгляду Доры Павловны, отрицательно покачал головой.
Дора Павловна медленными шагами дошла до порога, повернулась, еще раз внимательно взглянула на Алешу.
— Что же, все может быть, — сказала она рассеянно. — Порой мы излишне чувствительны к своему прошлому. Мы почему-то забываем непреложный закон бытия: у каждого есть только одна реальность — реальность настоящего… — Она молча прошла несколько шагов, воскликнула: — Нет, это невероятно! Даже думать об этом глупо. Разумеется, глупо! — Она с трудом одолевала раздражающую ее мысль. — Нет, так можно дойти и до мистики! — Дора Павловна взяла себя в руки. Смягчая взгляд, посмотрела на Алешу, как будто только теперь по-настоящему увидела его.
— Простите, Алеша, — сказала она, усталым движением руки оглаживая лоб и глаза. — Я все о себе. Но за вашими плечами своя нелегкая жизнь. Вернуться без ног… Это же страшно!.. Если бы Юрочка…
Алеша видел, как Дора Павловна побледнела. Он, сжал губы, протестующе повел головой, стараясь остановить напрасный разговор. Дора Павловна, кажется, его поняла. Некоторое время ходила молча, сделала движение к двери, поторопить молодых, но раздумала. Подошла к столу, оперлась о край, спросила, устремив взгляд в окно:
— Скажите, Алеша, приходилось ли лично вам проявлять на фронте жестокость?
Алеша удивленно взглянул на Дору Павловну. Нет, Юрочкина мать, кажется, не изменилась, по-прежнему она жила в своем довоенном мире. Он пожал плечами, ответил угрюмо:
— Война, Дора Павловна, сама по себе, в любых проявлениях — жестокость.
— Прекрасно сказано! — Дора Павловна смотрела на него с новым для нее чувством одобрения. — Надеюсь, вы знаете, что война определяется как продолжение политики? Иными средствами, но — продолжение?.. Если жестокость признается в войне, то справедлива она и в политике?.. А значит, и в жизни?.. Нет ли в нашей жизни постоянного, не всеми видимого фронта? Не должен ли каждый из нас и в мирной жизни оставаться солдатам? Вы не согласны с подобным утверждением?..
Алеша с трудом высвобождался из-под властной, подавляющей логики Доры Павловны. Опять Дора Павловна возвращалась к своей как будто преследующей мысли. Он помнил, он хорошо помнил, как в один из дней еще мирной жизни, в этом доме и, кажется, за этим же столом она говорила им с Юрочкой о борьбе и праве на жестокость. «Да, мир Доры Павловны все тот же, — думал Алеша, крепче охватывая костыль, вжимаясь щекой в деревянную его шершавость. — Как хочется ей подтвердить свой житейский принцип опытом солдата, вернувшегося с войны! Не хочет, не может она понять, что жестокость в жизни не то же самое, что жестокость в войне…»
Алеше казалось, что Дору Павловну он понял, и, смягчая свое несогласие, осторожно ответил:
— Жестокость к врагу я признаю, Дора Павловна. Но бороться со злом — это бороться не с человеком, а за доброе в человеке…
— Вы так думаете? — Глаза Доры Павловны сузились, крылья аккуратного прямого носа напряглись, все ее холодной красоты лицо сделалось похожим на лицо прицеливающегося и уже готового выстрелить человека. — Почему же на войне убивали людей, а не зло в людях?! — Взгляд Доры Павловны был по-прежнему устремлен в окно, на какую-то одной ей видимую точку в пространстве над соседними домами.
Дора Павловна была сосредоточена на себе, на своих, беспокоящих ее мыслях, но Алеша чувствовал, что этой властной женщине все-таки не все равно, что ответит он. Он хотел объяснить Доре Павловне, что война не решает вопросов самой жизни, что в войне они лишь отстаивали право жить по своим законам, что теперь, после войны, они снова оказались перед жизнью, и каждому теперь снова думать, как жить, и мучиться вопросами добра, справедливости и человеческого счастья, но объяснить он не успел, — дверь от решительного толчка Юрочкиной руки распахнулась, и в кухню с приготовленной радостно-невинной улыбкой, клоня к плечу голову, вошла в сопровождении сияющего Юрочки Нина.
2
— Ну, Алеша, что же ты молчишь?! Ну, рассказывай, как ты жил, что было у тебя в эти невеселые годы?.. — Ниночка по девичьей своей привычке морщила нос, приподнимала брови, старательно моргала ресницами, обадривала его улыбкой. А Алеша, будто окаменев, смотрел затуманенными глазами и повторял про себя одну-единственную фразу, которая почему-то именно сейчас явилась к нему из его школьных дневников: «Дивно хороши у Ниночки волосы!.. Дивно хороши у Ниночки волосы!..» — и слова эти как будто вырывали его из годин войны и смыкали прошлое с настоящим. Ниночка сидела почти рядом, разделял их только угол стола. Вытянутой руки хватило бы, чтобы дотронуться до ее волос, нежной шеи, как делал он когда-то, робкими прикосновениями выражая то, что не умел, что всегда стеснялся высказать словами. Он видел в одном из завитков ее волос, по-новому подколотых над правым ухом, застрявший там крохотный обрывочек газеты. Ниночка, наверное, тоже, как делали это девчонки из санвзвода, накручивала волосы на газетные жгутики, и была, наверное, в этих жгутиках, когда он подъехал к дому, и, в спешке раскручивая, расчесывая волосы, не заметила этого малого обрывочка. Будь это в прошлом, он протянул бы руку, виноватясь улыбкой, убрал бы из ее волос этот трогательный след ее забот, и, наверное, они бы вместе посмеялись, счастливые своей доверчивостью друг к другу. Но прошлого не было. Была только память о прошлом. И разделял их не угол стола. Рядом был Юрочка, ее муж, и вынуть соринку из Ниночкиных волос было его правом. Он мог встать, подойти к Ниночке, прижаться щекой к ее волосам, мог обнять, мог даже поцеловать!.. Он все мог, этот счастливчик Юрочка! Нет, не углом старинного массивного стола Алеша был отделен от Ниночки. Людей разделяют не вещи. Не стены домов. Не пространства земли и неба. Людей разделяют условности. И если человек принимает их и следует им — они крепче стен, неодолимее расстояний!..
— Ну, не молчи, Алеша! Ну, расскажи, как ты воевал?! — Ниночка в старании расшевелить его протянула к нему руку, но не дотронулась, — под быстрым взглядом Юрочки вскинула локти, поправила волосы.
— Ну, Алеша!..
Юрочка, навалившись боком на стол, наблюдал Алешу с каким-то притаенным любопытством. Был он в том особенном состоянии, в котором обычно бывают молодые мужья в счастливо начавшихся супружеских отношениях. Какая-то не свойственная ему медлительность, какая-то даже леность проглядывала в его движениях, когда он пододвигал себе стул, или садился, или, подперев голову рукой, не глядя, перелистывал страницы лежащей на столе книги. Время от времени, по какому-то неясному побуждению, он поднимал свои лучистые глаза, смотрел на Алешу, как будто издали, из прошлых лет, и можно было уловить в его взгляде снисходительность удачливо устроившегося в жизни человека.
С тех пор как Дора Павловна ушла, сославшись на дела, и Алеша с лицом, жарким от напряжения и стыда за свою неуклюжесть, сделал свои мучительные под взглядом Ниночки шаги из кухни в эту комнату и сел, засунув костыль и палку под стол, Юрочка как будто совершенно успокоился за исход случившейся встречи и предоставил ему полную свободу обозревать свою бывшую любовь. Ниночка, со своей стороны, как ни занята была старанием молодой хозяйки перед гостем, чутко следила за настроением своего мужа, с готовностью, с каким-то даже заискиванием отвечала на его взгляды, укоряла и успокаивала выражением своих глаз.
Алеша понимал весь их бессловесный разговор, чувствовал свою ненужность в этом доме и все-таки сидел и в каком-то упрямстве, склонив голову к стиснутым на столе рукам. Ниночка наконец не выдержала, дотронулась пальцами до его руки.
— Ну, не молчи же, Алеша! Расскажи нам, как было там, на войне… — В близких глазах Ниночки, за натянутой улыбкой, он увидел растерянность, почти смятение человека, не знающего, как держать себя с ним, трудным для нее гостем, и, жалея ее в ее старании, проговорил почему-то хриплым голосом:
— Давайте лучше говорить о жизни. Хотя и на войне не только смерть. И там жили… — он хотел сказать: «И даже любили…» — и не сказал: как-то не вместилось это слово в дом, в котором он сейчас был.
Ниночка заморгала в новом для себя затруднении понять его, спросила быстро и невпопад:
— И тебе не пришлось никого убить?
Алеша пожал плечами:
— Я ведь раненых спасал.
— Но у тебя, я слышала, ордена?! За что?!
— Наверное, за то, что хорошо спасал!.. — Алеша неожиданно для себя рассмеялся. Помедлив и взглянув на Юрочку, засмеялась и Ниночка.
— Ты, оказывается, шутить научился! — сказала она, в ответном смехе освобождаясь от мучившего ее напряжения. — А я вот даже не знала, как с тобой говорить! — успокаиваясь, она почти неуловимо обласкала его благодарным взглядом, повернулась к Юрочке, оживленно спросила:
— А помнишь, Юр, как вы с Алешей бежали на районном кроссе тысячеметровку? Мне так хотелось, чтобы на финиш вы пришли вместе. Грудь в грудь. Честное слово!.. Алеша на секунду тебя опередил. И было это двадцать второго июня, когда война уже началась. Странно, правда? Война уже шла, а у нас соревнования, праздник. Люди нарядные, веселые. И вы оба такие красивые, сильные!..
Алеша не понял, что заставило Ниночку вспомнить именно тот день. Для кого она вспоминала: для себя, для него, для Юрочки? Как ни старался Юрочка быть благородным в проявлении своих чувств к Алеше, торжество удачника, теперь уже окончательно взявшего верх над давним своим соперником, нет-нет да прорывалось в его лучистом взгляде. Алеша угадывал это его торжество и не осуждал его: что поделаешь, если война стала ему, Юрочке, помощницей!..
Но день своего торжества он помнил. И с такой силой отчетливости, что даже дыхание у него сбилось, как в минуты уже завершенного бега. Победную секунду он вырвал у Юрочки не по случаю. Два месяца ежедневного бега по лесным необустроенным просекам, в любую погоду, с желанием и вопреки желанию, с убежденностью в своей победе и в дни отчаяния и безверия, — все вобрала та победная его секунда. Была в ней и память о поражении в зимнем кроссе, и сочувственные советы Васи Обухова, и робкие, ободряющие слова Витьки Гужавина, и тревога мамы, обеспокоенной нагрузками на его сердце, и даже Ниночкину иронию. Да, и Ниночкину иронию, хотя к тому времени их влечение друг к другу достигло, казалось, совершенной взаимности. Но именно тогда сказала она ему: «Все-таки напрасно ты стараешься. Знаешь, какие сильные и славные парни пытались обойти Юрку? А он как был, так и ходит в чемпионах!..» Он промолчал, хотя готов был завыть от обиды — Ниночка не верила в него! Но в солнечный жаркий полдень, при праздничном шумном стечении едва ли не всех жителей городка, он все-таки обошел непобедимого Юрку!
Юрка шел ведущим всю тысячеметровку и первым выметнулся из лесного оврага на открытую взорам людей луговину. Алеша бежал вторым, в каких-то трех-пяти шагах от Юрки, и все время чувствовал, что может бежать быстрее. И тут, на луговине, на финишной прямой, приказал себе: «Пора!» и вложил в движение ног всю накопленную тренировками силу. Секунду, другую они шли плечо в плечо; боковым зрением, странным для тех напряженных мгновений, он видел, как расширились в изумлении и отчаянье глаза Юрки, как бешено заработали его быстрые руки, и тут же все медленно ушло назад — протянутая по финишу лента повисла на его, Алешиной, груди, как будто стиснутой от бега непереносимо трудным дыханием. Да, случилось это 22 июня 1941 года, и победа эта опять не стала его, Алешиным торжеством: через какой-то час-два все они узнали о войне и ценности их собственной жизни сделались ничтожно малыми в сравнении с общей бедой и общим долгом, к которому все они тут же почувствовали себя причастными.
Ему всегда все давалось трудно. Каждая победа над слабостью своего характера или обстоятельствами жизни, осуществление даже малой, самой близкой мечты, — все давалось ему в упорном напряжении сил. Он не знал, почему всегда так требовательно взыскивает с него жизнь. Но видел, что у друга его юности, при всех его житейских обидах, все складывалось много удачливее и как будто без собственных его усилий. Вот и ту трудную его победу над Юрочкой затушевала война. И та же война вернула Юрочке Нину, и семейное его счастье устроилось как бы само собой!..
Счастливчик Юрочка! Плывет как парусник, и ветер все время в паруса!..
А была в той довоенной поре возможность и его, Алешкиного, счастья! Ведь Ниночка в ту пору выбрала его, а не Юрку…
Он помнил, как однажды все трое сошлись они на вечерней безлюдной улице. С Ниночкой они уже встречались, и Ниночка полупризнавалась ему в своих чувствах, посмеивалась над Юркой, давая понять ему, Алеше, что Юрка для нее — не серьезно, он просто так, не больше как развлечение в ее в общем-то затворнической жизни.
Объясниться с Юрочкой, как на том настаивал Алеша, она, однако, не торопилась и с обижающей Алешу неуступчивостью заботилась о том, чтобы никакие чужие глаза не могли увидеть их вместе. До времени Алеша мирился с ее осторожностью. Но когда однажды они встретились в кино и, как незнакомые, просидели весь сеанс и порознь вышли в толпе на еще светлую улицу и Ниночка, озабоченно склонив к плечу голову, как всегда быстро пошла вперед, предоставляя ему право следовать за собой в отдалении, Алеша не выдержал оскорбительной, ненужной, по его мнению, театральности. Он догнал Ниночку и, как будто отстранив ее и себя от любопытствующих взглядов бывших на улице людей, взял ее под руку. Он видел жаркий всполох испуганных ее чувств, ее изменившееся лицо, чувствовал протестующие ее движения, но только крепче прижимал к себе ее руку, заставил пройти рядом с собой весь путь до ее дома. Он шел с достоинством отчаяния и обреченно думал, что прощения за дерзость ему не будет. А Ниночка, едва они укрылись в безлюдности знакомого парка, тут же обласкала его лукаво-восхищенным взглядом и поцеловала, награждая за мужество.
И вот наконец случилось: все трое оказались друг перед другом. Юрочка только что вернулся с тренировок и предстал перед ними в каком-то взлохмаченном, угрюмо-сияющем виде: губы — в улыбке, настороженный взгляд нацелен в Алешу: он что-то уже знал и настроен был не по-доброму.
Ниночка радостно возбудилась присутствием Юрочки и всю дорогу старательно расшевеливала его угрюмость. Она крепко держала обоих под руки, обоих одаривала милыми своими улыбками, успокаивала хорошими словами. Но чем ближе подходили они к дому Ниночки, тем все ощутимее росло напряжение всех троих. Каждый вел себя по праву своих чувств, и каждый сознавал, что выходят они, все трое, на тот перекресток, где не просто расстаются, — где решаются судьбы. И когда у калитки парковой ограды Юрочка молча отцепил его руку от Ниночкиной руки и, встав между ними, с полупоклоном холодно сказал: «Спасибо за компанию. Дальше обойдемся без провожатых» — и, полуобняв Ниночку, повел ее к калитке, Алеша вдруг до отчаянной ясности понял, что Ниночке, по сути, все равно с кем из них идти!..
Давило виски. Бешено стучало сердце. Он не помнил, как очутился в калитке. Загородил собой проход, молча стоял и смотрел в глаза Нине. Он ждал, что она вспомнит о том, что говорила ему в тени лип, что были за его спиной. В слабом свете уличной лампочки, светившей с высоты столба, он видел, как в досаде поджались губы на затененном ее лице, взгляд в беспокойстве перекинулся с его лица на Юрочку.
— Мальчики! Отношения будем выяснять потом! — сказала она. С милой улыбкой повернулась к Алеше, взяла за отвороты пиджака, потянула на себя, как будто собиралась его поцеловать, прошептала:
— Ты иди! Я сама поговорю с ним…
Алеша покачал головой.
— Решать будем сейчас, — сказал он твердо, не узнавая себя в проявленной решимости.
Ниночка как-то загнанно взглянула на него, подошла к Юрочке, уперла ему в грудь, ниже распахнутого ворота любимой им розовой рубашки апаш, сжатые в кулачки руки.
— Ты должен уйти, Юрка, — сказала она внятно и тут же просительно добавила: — Ну, пожалуйста!..
Юрочка не пошевелился.
— Уйдет он! — сказал он глухо.
Ниночка опять подошла к Алеше.
— Ну, Алеша, ну прошу тебя! Я сама ему все объясню!..
Он не уступал. Он знал свои чувства, верил в свою любовь. Выбор между ним и Юркой делала она, Ниночка, и чтобы облегчить ей этот выбор, он сказал тихо и твердо, зная, что поступит именно так:
— Если ты скажешь, чтобы ушел я, я — уйду…
Ниночка в мольбе прижала к груди руки:
— Юрка! Ну, можешь ты уйти!..
Юрочка стоял неподвижно, как парковая статуя, розовея распахнутой на груди рубашкой, пальцем он указал на Алешу:
— Уйдет он!
И тогда Ниночка крикнула в отчаянье:
— Уходите вы оба! — и, закрыв лицо руками, заплакала.
Алеша подошел, осторожно взял ее за плечи, провел в калитку, снова загородил собой проход. Юрочка попытался оттолкнуть его плечом, но Алеша стоял крепко, охватив столбики руками. Он был выше Юрочки на голову, и хотя силой они никогда не мерились, он знал, что в силе ему не уступит.
Ниночка дошла до дома, оба они услышали, как осторожно притворилась знакомая им обоим дверь. С ревнивой настороженностью следя друг за другом, они вместе пошли от калитки. Алеша не был совершенно уверен в своей победе, Юрочка не был убежден в своем поражении. В возбуждении они всю ночь бродили по пустынным улицам городка, в непонятной откровенности изливали друг другу души. Только когда разгорелась заря и солнце пробилось красными пятнами сквозь заволжские леса, Юрочка, дрожа от прохлады и нервного напряжения, сказал:
— Ладно, чудик. Спать пойдем к тебе. Домой не могу…
Устроились они на одной кровати, в крохотной комнатушке деревянного домика на окраинной улочке, которую для Алеши снимал отец на время весеннего половодья, когда разлив Волги отрезал поселок и Семигорье от городка и школы. Алеша как-то умудрился заснуть и проснулся уже в разгаре дня. Юрочка лежал на боку, подпирая голову рукой, смотрел в упор, внимательно и недобро. Алеша виновато улыбнулся, хотел подняться, Юрочка движением руки остановил.
— Лежи! — сказал он, продолжая его разглядывать. Спросил мрачно: — Как это ты не побоялся положить меня рядом? Я же мог задушить тебя!
Алеша попытался перевести разговор в шутку:
— Не задушил же!
— Не задушил. Не могу решить, кто из вас мне нужнее: ты или Нинка. — Он сказал это взвешенно, серьезно, и на минуту Алеше стало страшно за Юрку, за спокойную его рассудительность после ночи потрясений и потерь…
Ниночка выбрала его, Алешу. И как ни часто встречались они в последний перед войной месяц, как ни щедры были их ласки, как в покорности ни льнула к нему Ниночка, он не смел и помыслить обидеть ее грубым мужским желанием. Свята была для него Ниночка, и святость ее он оберегал всей силой своих убеждений, которые к тому времени у него уже сложились.
А Ниночка? Что она? Чем жила ее душа в те, казалось ему, счастливые дни?
Он как будто слышал ее голос и слова из той, последней их ночи перед уходом его на войну. «Прощай, мой милый рыцарь!» — сказала ему Ниночка печально и чуточку раздраженно и, как казалось ему теперь, с едва уловимым вздохом облегчения. «А был ли тот вздох облегчения? — думал Алеша, глядя на что-то говорившую Ниночку и не слыша ее. — Уж не придумал ли я его теперь от обиды, от горечи, от вида чужого счастья?.. Но «милый рыцарь» был. Были и слова Юрочки: «Ты уезжаешь, а Ниночка остается!» Он подарил эти отяжеляющие сомнением душу слова ему в неведомость военной дороги, и жестокий смысл тех слов, которым тогда он не поверил, был теперь в яви перед ним.
Какого труда стоило ему вырвать у Юрочки секунду, одну только секунду, миг на беговой дорожке! И как легко досталось счастье Юрочке — само легло в раскрытые руки!.. «Ну что же, ну что же, — думал Алеша, стараясь не выдать смятение от пробужденных памятью чувств. — Свое прошлое я прожил, чужое счастье, как того хотел, увидел. Остается мне… Что остается мне?..»
Жужжание мухи, с упрямым пристукиванием бившейся на стекле окна, привлекло их внимание. Юрочка повернул голову, смотрел, еще не находя в себе желания подняться. Настежь раскрытое окно было рядом. Но муха исступленно елозила по стеклу в квадрате рамы, стараясь пробиться на волю. Юрочка все-таки приподнялся, хлопнул книгой по окну. Оглушенная муха некоторое время неподвижно лежала на подоконнике, потом, топорща смятое крыло, перебежала на раму, снова полезла вверх. Юрочка отложил книгу. Он не хотел пачкать рук, взял с полки старое бритвенное лезвие, аккуратно приставил, перерезал муху пополам. Обе ее половинки упали на выступ рамы. Юрочка, брезгливо морщась, бросил лезвие на подоконник, хотел отойти, но увидел, как половина мухи, где была голова и лапки, вдруг зашевелилась, с любопытством стал глядеть. Половина мухи с тем же упрямством ползла по стеклу вверх. Время от времени останавливаясь, будто цепенела от напряжения, потом переставляла вперед одну, другую лапки, подтягивала Вверх половину своего тела, снова цеплялась лапками и ползла, все ползла вверх по освещенному снаружи стеклу. Где-то на половине своего невероятного пути муха остановилась, задрожали ее крылья, последним напряжением сдвинула она вперед ноги и сорвалась, упала замертво на подоконник.
Юрочка удивленно присвистнул.
— Смотри-ка, — сказал он, — тоже за жизнь цепляется! — Он нацелился пальцем, сощелкнул остатки мухи на пол..
Ничего особенного не было в том, что сказал и сделал Юрочка. Но в мухе, разрезанной пополам, в ее исступленном упорстве, с каким она ползла по освещенному снаружи стеклу, как будто что-то было от Алешиной судьбы, и Алеше сделалось не по себе. Наверное, взгляд его выдал: он заметил, как Ниночка, пожав плечом, переглянулась с Юрочкой. И тут же, упрекая, обиженно сказала Алеше:
— Ты совсем не слушаешь меня! — Приподнялась, посмотрела в зеркало, поправила волосы.
3
Юрочка отошел от окна, будто в затруднении, потер шею, сказал:
— Ну, вы тут воркуйте. Я пойду покурю! — он вытянул из пачки, лежащей на подоконнике, папиросу, похлопал по карману брюк, проверяя, на месте ли зажигалка, пролез боком между столом и стульями, вышел в кухню. Ниночка проводила его внимательным взглядом, когда входная дверь прихлопнулась, сказала в неодобрении:
— Курить начал! — она слабо улыбнулась, приглашая Алешу разделить ее иронию; Алеша промолчал. Ниночка сделала скорбное лицо.
— Мы ведь скоро уезжаем! — сказала она. — Дора Павловна задержала нас до осени. А институт уже в Брянске… Так что мы в ожидании и нетерпении. Ты-то полсвета объездил! А я ведь нигде не была.. Жила, как рыбка в аквариуме!.. А ты не хотел бы поступить в наш институт?! Ты же любил лес? А что, Алеша?! Вот была бы прелесть!.. — Бледные ее щеки закраснели, повлажнели глаза. Она наклонила голову так, что волосы легли на плечо, заглядывая сбоку ему в глаза, как любила делать это в школьные времена, спросила:
— Ты не забыл? Ты все помнишь?!
Алеша почувствовал маленькую, почти невесомую ладонь на своей тугой от постоянного напряжения руке.
— Ого! Какие в тебе силы! — Ниночкины пальцы озорно пробежали по закаменело лежащей на столе его руке, придавили запястье.
— Ты не должен на меня сердиться, Алеша, — сказала она медленным шепотом, отделяя слово от слова и тем придавая каждому особый смысл. — Я все та же. Понимаешь? Все та же!.. — Лаская его руку, она смотрела улыбчивым взглядом, приподняв брови: она как будто возвращала его в прошлое, и в голосе ее, в ее укрытости от Юрочки, было обещание какой-то будущей, неопределенной, но возможной между ними радости.
— Алешка! Поверишь ли, но мне всегда хотелось, чтобы вы оба, понимаешь — оба! — были со мной! Ты слышишь, что я говорю?!
Шепот Ниночки волновал, в то же время тоской давил сердце. Алеша не знал, как, не обижая, высвободить свою руку из-под Ниночкиной руки. Глазами он искал хоть что-нибудь, что могло бы их отвлечь.
На подоконнике лежала оставленная Юрочкой надорванная пачка папирос и плоская, скупых военных времен, упаковка спичек.
Ни на фронте, ни в госпитале Алеша так и не научился курить, хотя вслед за другими пробовал втянуться в одурманивающую привычку — не пошло, не увидел в том надобности. Теперь он готов был укрыть свое смятение даже за папиросным дымом. Осторожно высвобождая руку, он потянулся к пачке, спросил:
— Можно?..
— И ты куришь?!
Ниночка не то чтобы удивилась, она растерялась от необходимости решать что-то в этом доме самой. Беспомощно оглянулась на приоткрытую в кухню дверь, неуверенно проговорила:
— Юрка вообще-то курит на крыльце. Но ты ведь — гость? Тебе, наверное, можно…
«Вообще-то», «наверное», — да, Ниночка все та же! Алеша передвинулся, взял папиросу. Зажег спичку, пустил дым в открытое окно, стараясь за небрежностью движений скрыть неумелость.
Из окна, за огородами, видна была Волга в окоеме низких желтых песков. Два буксирчика, густо дымя, старательно отжимали плоты от отмелей к левому высокому берегу, где на вершине горы, под купами ветел и берез, проглядывали угловатые крыши и окна домов Семигорья. С реки донеслось тягучее гудение парохода, пристающего к городскому дебаркадеру. Торопливее зацокали на мощеном тракте, что шел к пристани, подковы лошадей, послышались покрики возниц, спешащих к пароходу и сдерживающих на уклоне лошадей.
Пока Алеша молча курил, выдыхая в окно дым и все сильнее ощущая в горле раздражающую горечь табака, усилился шум и говор в стороне реки — толпа прибывших поднималась в город. Часть людей на подъеме свернула с тракта, люди шли теперь перед окном, серединой улицы, переговаривались в озабоченности, торопились к каким-то ждущим их делам.
И Алеше вдруг захотелось вырваться из дома, в котором он был, захотелось оказаться среди этих спешащих бородатых мужиков в пыльных картузах, с мешками на спинах, среди парней в солдатских сапогах и гимнастерках, с нездешними чемоданами на плечах; среди баб в платках, с бегущими за ними ребятишками, среди простоволосых босых девок с узлами и обувкой в руках, спешащих вслед за мужиками, к какой-то уже определившейся для них цели. Разглядывая идущих мимо людей, он даже пригнулся к окну и услышал обиженный голос Ниночки:
— Ну, не накурился еще?..
С зажатой в зубах папиросой, щурясь от неприятного ему дыма, он повернулся. Ниночка увидела его приоткрытый рот и ахнула:
— Алеша! У тебя же полный рот металлических зубов! Зачем ты их сделал?! У тебя же были прекрасные зубы! Мне так нравилась твоя улыбка!.. Ну, зачем, зачем? Неужели захотел быть оригинальным?..
Алеша вынул изо рта папиросу, втиснул в край цветочного горшка. Уловил знакомый запах листьев герани и почти задохнулся от мучительного для него запаха, — как будто снова втиснули его в такой угол той, памятной ему комнатушки у железнодорожных путей; снова как будто надвинулся, заслоняя свет, Красношеин, и заныли скулы, подбородок, заныло все лицо от ударов тех, других, уверенных в своей силе, кулаки которых крошили его зубы.
Не поднимая глаз, почти не разжимая губ, он проговорил:
— Так уж получилось…
Как-то сразу пришло к нему решение уйти из этого дома, живущего, может быть, и счастливой, но непонятной ему жизнью. Привычно напрягаясь, он поднялся, непослушными протезами качнул тяжелый стол. Ниночка испуганно одной рукой прикрыла живот, другой подхватила с края стола пустую цветочную вазу.
— Какой ты неуклюжий, Алеша! — упрекнула она, стараясь за мягкостью тона скрыть испуг. — Это же подарок Доры Павловны!.. — Она поставила на стол вазу и, вдруг поняв несоразмерность своих чувств с тем, что мог сейчас переживать Алеша, покраснела. Ресницы ее повлажнели, она умоляюще протянула свои тонкие руки, прикоснулась к костылю и как будто обожглась: сжала пальцы в кулачки, прижала к лицу, изменившимся глухим голосом попросила:
— Не оставляй меня! Ну, пожалуйста. Ну, посиди, Алеша!
Когда Алеша, постояв в молчании, тяжело и ненужно снова опустился на стул, она сжала дрожащими влажными пальцами его руку, как бы винясь сразу за все, и, убеждая его, сказала:
— Я ведь понимаю тебя, Алеша! Я так тебя понимаю! Ты совсем не похож на Юрку… Тебе нужна понимающая тебя душа. Я знала это. Я и тогда знала это!.. Так вот душой я была и всегда буду с тобой!
Ниночка сильнее сжала его руку, косясь на приоткрытую в кухню дверь, потянулась к нему, но входная дверь отворилась. Ниночка заговорщицки приложила палец к губам. И Алеша, ощущая в груди одновременно пустоту и тяжесть, с грустью подумал: «Счастлива ли ты, Ниночка?!»
4
Все трое томились разговором, когда вернулась Дора Павловна. Вошла она в комнату деловито, как в свой рабочий кабинет, внимательным взглядом окинула всех троих, сидящих в унылой неловкости, свела прямые брови.
— Гость в доме, а стол пуст?..
Юрочка издал странный, выражающий недоумение звук, отвернулся с видом оскорбленного человека.
— Угощать-то чем? — сказал он. — Воспоминаниями о годах прошедших мы уже сыты!
Ниночка под взглядом Доры Павловны выпрямилась, как будто приготовилась встать, моргая ресницами, пролепетала:
— Я, Дора Павловна, предлагала Алеше картошку, он отказался.
— Эх, дети, дети! — Дора Павловна вздохнула, вышла в кухню, вернулась с серой полотняной скатертью, раскинула над столом прямо на руки Юрочке. — Накрой! — сказала строго.
Из кухни она принесла ломтики черного хлеба на дощечке, тарелку с еще не обсохшими кусочками отварной щуки, видимо, только что взятую в райкомовской столовой. Глядя с иронией на Юрочку, поставила на стол миску свежих огурцов вперемежку с бледными, еще не дозревшими помидорами, накрыла их сверху пучком темно-зеленого лука, пристроила по бокам четыре в смуглой скорлупе яйца.
Юрочка, через плечо обозрев неожиданно явившееся богатство, подобрел взглядом. И пришел в совершенное изумление, когда Дора Павловна вошла с бутылкой темного вина, удерживая в пальцах другой руки четыре граненых стакана. Оторопелого взгляда Юрочки она как будто не заметила, поставила на стол призывно звякнувшие стаканы, передала бутылку Алеше.
— Открывать вам, Алеша!.. — сказала она, подчеркнуто выделяя своим вниманием именно его. — Хотя это не спирт и не солдатская водка, обычный кагор, каким причащают прихожан в нашей вновь открытой церкви, все равно мы как-то должны отметить ваше возвращение. Трудное и достойное ваше возвращение!
Дора Павловна стоя ждала, пока Алеша, смущаясь общим вниманием, извлекал поданным ему штопором тугую пробку из бутылочного горлышка, разливал по стаканам густое черно-красное вино. Наконец он отставил бутылку, поднял на Дору Павловну глаза. Дора Павловна выдержала паузу, как делала всегда перед каждым своим выступлением, сосредоточивая внимание всех на том, что сейчас она скажет, придавливая пальцами крепкой полной руки грани стоящего перед ней чернеющего вином стакана, сказала тихим отчетливым голосом:
— Мы все взволнованы приемом в честь парада Победы. И горды высказанной благодарностью и признательностью русскому народу за его мужество, терпение, за его неизменное доверие правительству. Думаю, из нас четверых наибольшей благодарности и уважения заслуживаете вы, Алеша. Свои заботы, тяготы, черные дни отчаяния были и у нас. И мы трудились насколько хватало сил. Даже выше сил. И все-таки ваше мужество; мужество солдата и человека, заставляет смотреть на вас по-особому. Я рада, не удивляйтесь — я искренне рада, что вижу вас в своем доме, Алеша! — Дора Павловна подняла стакан, подержала в раздумье, поставила обратно: — Люди устали! А расслабляться нельзя. Работа, работа и работа ждет каждого!.. Я верю, Алеша, что и вы будете жить не в стороне от наших дел. Мне нравится бесстрашие вашего ума. Мне нравится, что вы умеете думать не только за себя и не только о себе… — голос Доры Павловны обрел металлическую жесткость, она смотрела через стол на Алешу, но взгляд ее вбирал и сидящего с ним рядом Юрочку, больше даже Юрочку.
Алеша сидел между Ниной и Юрочкой, прикрывал в неловкости лоб и глаза ладонью. Он не понимал, что с Дорой Павловной, откуда у нее эта неожиданная ожесточенность к тому, что еще утром всей своей материнской силой она защищала. Дора Павловна как будто старалась, возвышая Алешу, возмутить усмешливо-спокойную душу сына.
Юрочка уловил неприятную для себя суть в словах и тоне матери. Изумление, не сходившее с его лица все время, пока строгая, никогда не жаловавшая гостей, его мать устраивала столь щедрое застолье, сменилось настороженной иронической гримасой. И когда Дора Павловна договорила:
— Я знаю, Алеша, вы сами ушли туда, на передний край войны, и потому заслуживаете вдвойне нашего уважения. — Юрочка все с той же ироничной усмешкой откинул голову на высокую спинку стула, сложил как будто в задумчивости губы трубочкой, выждал с совершенным подражанием Доре Павловне вниманием, сказал невозмутимо:
— Я понимаю, мамуля, твои восторги по отношению к нашему другу. Но ты почему-то забываешь, что в упомянутой тобой победе есть и моя доля. Кто в зиму сорок второго года тренировал бойцов лыжных батальонов в нашем военном лагере? Не твой ли сын, мамуля?..
Дора Павловна, не изменив ни позы, ни выражения лица, обращенного к Алеше, с подчеркнутым спокойствием проговорила:
— Надеюсь, ты понимаешь, что смотреть из дома, как люди идут под грозой по открытому полю, и самому пройти сквозь ту же грозу, не одно и то же?..
— Не все хорошо, что громко, мам! — Юрочка по-прежнему был невозмутим. — Ты сама меня учила: все, в том числе и поступки человека, зависят от условий. Ты ведь не можешь сказать, как действовал бы я, окажись на фронте? Может, я не только спасал бы раненых, но и подбил самолет, сжег бы танк!..
— Ты забываешь, сын, что условия человек выбирает или создает сам. Согласно со своими убеждениями и совестью.
— Ты хочешь сказать что-то о совести?! — Юрочка сощурился, как будто слишком яркий свет мешал ему смотреть. Взгляды Доры Павловны и Юрочки встретились, и Дора Павловна напряглась в усилии удержать сына от каких-то неприятных для нее слов. И Юрочка — Алеша это ясно почувствовал — уступил ее молчаливому приказу, усмешливо мотнул курчавой головой, протянул руку к стакану.
— Ладно, не будем. Истина в другом: чтобы жить, надо есть. Перейдем к делу?.. — с нарочитой сосредоточенностью он смотрел на вино своими лучистыми глазами.
Дора Павловна села. Хотя Юрочка и подчинился молчаливому ее приказу и не решился тронуть какую-то известную ему болевую точку ее души, Дора Павловна уже не могла отступить от опасно начатого разговора. Взглядом она погасила застольную Юрочкину суету, загнав в уголки губ горестную, сожалеющую усмешку, спросила:
— Сын! Ты мог бы сказать мне, в чем твое счастье?
Юрочка сделал вид, что подавился, развел с комическим видом руки, поставил вино на стол.
— Мамуля! Тебя сегодня не узнать! Насколько я понимаю, — он погладил мизинцем кончик носа, сохраняя комичное выражение лица, — насколько я понимаю, — повторил он, — у нас сегодня не урок политграмоты, а встреча с другом?.. — Ирония, которой он обычно укрывался от подступающих к нему неприятностей, на этот раз не сработала. Слова и страдальчески сморщенное его лицо на Дору Павловну не подействовали. С упреком, с горечью, с каким-то даже душевным надрывом, она спросила:
— Скажи, сын, ты хоть как-то почувствовал, что война кончилась?..
— Ну, мать, — Юрочка крутнул головой, как будто высвобождая шею от захлестывающей петли, смешок короткий и резкий вырвался из колечка его полных губ.
— Нет, не почувствовал! — крикнул он. — Знаю, что кончилась. А не почувствовал! Даже на нашем столе — та же военная картошка, та же нищенская пайка хлеба!.. Ты это хотела от меня услышать?!
Дора Павловна неторопливым и трудным движением соединила пальцы рук, глаза ее сузились.
— Услышать я хотела другое, — сказала она ровным голосом. — Жаль, что твое счастье, сын, определяется только тем, что ты можешь взять со стола…
— Успокойся, мамуля. С тобой мы расстаемся. И начинаем жить своим умом.
— Это меня и страшит. Ты научился жить для себя. Ты не научился беспокоиться о других.
— Ничего, научусь. Была бы нужда. А беспокойств у всех у нас хватает… — Юрочка вытянул из пачки папиросу, стал нервно разминать, всем видом показывая, что сейчас встанет и уйдет.
Алеша молча, впустив голову, поглаживал пальцами лоб. Впервые за все годы знакомства он сочувствовал Доре Павловне и, казалось ему, понимал ее боль и ее запоздалую тревогу. Вспоминая горячечную исповедь дяди Миши, он видел сейчас другую Дору Павловну, ту отчаянную семигорскую Дашку, которую дядя Миша встретил и полюбил в своей молодости. Какой же силой характера она владела, если способна была бросить вызов всему свету, всему тому, что стало для нее устаревшим порядком жизни?! Даже одна, с Юрочкой на руках, она не изменила своим убеждениям и не вышла из борьбы. И как будто стянула себя стальными обручами, сумела для всех и навсегда стать строгой, невозмутимой, всегда убежденной в своей правоте Дорой Павловной! Он не помнил в ее костюме расстегнутой пуговицы, в ее прическе — растрепанной пряди, никогда не слышал в ее голосе ни растерянности, ни отчаяния, ни ожидания помощи или хотя бы сочувствия. Теперь он видел ее такой. И только такой…
«Так почему? — думал Алеша, не решаясь вмешаться в обострившийся поединок матери с сыном. — Почему при такой силе характера она не сумела выстоять перед Юрочкой? Почему сделала его исключением из правил, которым с неотступностью следовала сама? И вопреки высоким принципам данной ей власти, вопреки своим убеждениям, оберегла Юрочку от опасностей фронта в трудные для всех годы войны?.. Долго же шла она к переоценке того, что было ее непреходящей болью?!»
Дора Павловна наблюдала Юрочку с невозмутимостью человека, уже пережившего боль. Она, как будто на трудном заседании, знала свою цель и видела сразу всех, сидящих перед ней. Взгляд ее остановился на Ниночке.
— А ты, Нина, что ты можешь сказать о своем счастье? — Дора Павловна ждала, выдерживая на лице снисходительную улыбку, как будто наперед знала, что ей ответят.
Ниночка поспешно и как-то неловко выпрямилась. Она уже была напугана взрывом Юрочкиной ярости, прямой вопрос Доры Павловны поверг ее в почти детскую растерянность.
— Счастье?! — пролепетала она с разбегающейся по бледному лицу улыбкой. — Не знаю, Дора Павловна. Я думаю, мне кажется, — она бросила на Алешу извиняющийся взгляд, — мы с Юрочкой нашли свое счастье…
Дора Павловна вздохнула.
— Вот, Алеша. Все говорят о счастье. Все хотят, все заботятся о счастье. И никто даже не пытается определить — а каково оно, это самое счастье! Кошечке тепло и сытно, кошечка мурлычет. И мурлыканье кто-то принимает за счастье… А кто-то свою жизнь отдает за других, кто-то за счастье почитает свою гибель! Вы думали о своем счастье, Алеша?
Алеша ожидал, что Дора Павловна спросит его, хотя бы для того, чтобы Юрочка услышал слово солдата, видевшего войну. Он знал и то, что хотела бы услышать от него мать Юрочки. И был в странном и сложном состоянии души: он понимал Дору Павловну, жалел Ниночку, сочувствовал Юрочке и не хотел обострять отношения не согласных друг с другом и все-таки близких ему людей. Он повернул стоящий перед ним стакан, сосредоточенно разглядывая, как колеблется за толстыми гранями почти черное вино, сказал, не поднимая глаз:
— Наверное, еще не время говорить о моем счастье, Дора Павловна!
— И все-таки, Алеша! — Дора Павловна требовала ответа, и Алеша, напрягаясь оттого, что должен был ответить не так, как того ждала от него Дора Павловна, сказал:
— Для меня, после того что я видел и пережил, счастье — это в любых условиях остаться человеком…
— Да, но без борьбы человек не может быть человеком?! — воскликнула Дора Павловна, на мгновение изменив своей выдержке.
Алеша помедлил, подумал, согласился:
— Да, наверное, это так.
— Это — так! — Дора Павловна утвердила в Алешиных словах свою, важную для нее мысль, повторила в задумчивости: — Да, это — так!..
Алеша улыбнулся, стараясь улыбкой смягчить давящую настойчивость Доры Павловны, сказал:
— Думаю, что такое счастье у нас впереди. А сейчас я хотел бы поддержать Нину. За ее и Юрочкины семейные радости! — Он поднял стакан, смотрел на Дору Павловну, навстречу ее пристальному взгляду, и ясно ощущал, как пробивается сквозь, казалось бы, навечно устоявшуюся непроницаемость ее натуры слышимое только ему созвучное движение ее мыслей и чувств.
Дора Павловна пригубила, отставила стакан, посмотрела на закрасневшуюся от мгновенного удовольствия Нину, на Юрочку, сосредоточенно наливающего вино из бутылки себе в опустевший стакан, снова встретилась глазами с Алешей, сказала своим ровным голосом:
— Я была бы счастлива, наверное, была бы счастлива, если бы вы, Алеша, были моим сыном.
Юрочка, пролив на скатерть вино, задрожавшей рукой поставил бутылку, вложил папиросу в рот, отломил от упаковки спичку, чиркнул, вызывающе закурил. Пустил дым в пространство комнаты, нервическим движением пальца убрал с губы приставший кусочек папиросной бумаги, сказал, задыхаясь, как после тяжелого бега:
— Что ж, Алексей Иванович, гордись! У тебя при здравствующем отце появилась еще и вторая мама!..
Ниночка судорожно всхлипнула, закрыла лицо руками. Дора Павловна медленно поднялась; она как будто не слышала ни язвящих слов сына, ни плача невестки, сказала со спокойствием делового человека:
— Мне пора идти. Ждут нескончаемые мои дела. Я могу проводить вас, Алеша…
С крыльца Дора Павловна спускалась первой, старалась помочь, и Алеша, переступая со ступеньки на ступеньку, стесненный ее вниманием, настойчиво повторял:
— Спасибо, Дора Павловна. Я сам… Я сам…
Уже стоя на земле, он встретился с внимательным взглядом Доры Павловны, сердце его дрогнуло: он понял, что ждет от него Дора Павловна. Он вправе был промолчать, мог попрощаться, добраться до лошади и уехать, с собой унести хранимую в памяти невероятную среди войны и смерти свою встречу с дядей Мишей. Он счел бы справедливым оставить в неведении Юрочку с его корыстным интересом к где-то обитающему отцу и оберечь тем самым от возможных потрясений устоявшийся семейный мирок Ниночки. Но он не мог обмануть ожидание Доры Павловны, той Доры Павловны с ее неуходящей болью матери, с сострадающим вниманием к нему, которую сегодня он узнал. Он знал ее боль, видел напряженное ожидание в темных неспокойных глазах, ее напряженную руку, придерживающую его костыль, и сказал, сознавая важность того, что открывал.
— Дора Павловна, — сказал он. — Я не хотел говорить. Но вы должны знать. На фронте я встретил Юрочкиного отца. Я думал, он погиб. Но Михаил Львович — жив. Он снова в Ленинграде. Мама получила от сестры письмо, что он жив, вернулся… Михаил Львович — мой дядя…
— О, боже! Я чувствовала, что так просто все это не кончится! — Дора Павловна стояла какое-то время в неподвижности, как будто привыкая к еще одной тяжести, вдруг опустившейся ей на плечи. Потом вытянула из нарукавного обшлага темного своего костюма маленький платочек, приложила к глазам.
— Юрочка теперь своего добьется! — сказала она с какой-то безнадежностью, как будто уже смиряясь с тем, что должно теперь быть. Медленным движением она убрала платочек. — Но вы, вы-то, Алеша! Выходит, вы Юрочкин брат?! О, мальчик мой!.. — Дора Павловна прижала к себе его голову, и Алеша, покорясь ее движению, почувствовал тепло, почему-то всегда ему казалось холодных, ее рук.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ Волга
1
В жарком августовском дне размеренно лежала Волга в раздвинутом ее силой окоеме. Береговые леса и пойменные тальники, вобравшие ранней желтизны, в точности повторялись в глади воды. Казалось, было два берега: один настоящий, в действительной жизни; другой — словно подсеченный в основании и опрокинутый в воду, совершенно такой же, даже отчетливее, и по краскам гуще, чем действительный. Но любая, самая маленькая рябь, поднятая случайным дуновением ветра, разрушала нижний, отраженный берег, и тогда становилась очевидной непрочность как будто такого же, но ненастоящего мира.
Алеша сидел в старой Фединой долбленке, напряженно всматривался в расцвеченную даль воды, и этот, сознаваемый им, радующий глаз обман почему-то отзывался болью.
Обеими руками он держался за нагретые солнцем борта, чтобы уравновесить себя на узком поперечном сиденье, сощуриваясь, глядел, старался сосредоточиться на том, что было вдали, что отражалось в воде, и все-таки видел лежащие на берегу протезы; на протезах были ботинки, брюки закрывали их до широкого поясного ремня, — казалось, на песке, у Волги, лежит половина человека. Алеша видел эту свою, чужую ему половину, ощущал то, что осталось в нем живого и хотевшего жить, и с напряженным душевным холодком, который всегда появлялся в нем, когда он готовился исполнить опасное, но уже принятое решение, вглядывался в Волгу. Все, что было вокруг, все, что сейчас он видел, было до сладкой боли знакомо: и словно выглаженное от берега до берега пространство Волги; и даль, теряющейся в лесах реки, чуть размытая в призрачную дымку; и песчаные чистые берега с полого уходящими под воду косами; и ветхая эта долбленка со следами давней осмолки, в которой сейчас он сидел, но рассчитанную надежность которой не раз испытал, — всё, даже небо с чуть забеленной предосенней голубизной, с теми же, казалось из юности, облаками, и высокий береговой крутик с серыми покатыми крышами Семигорья, — всё было из прежней его жизни. Знакомо жила в ощущении упругость волжской воды, которая всегда рождала в послушном теле стремительную, жадную радость движений. Все до малости вернулось после жестоких к нему годин войны, все готово было принять его, как принимало прежде, а он, внимая всему, не решался поднять кормовик с памятной, наполовину отколотой лопастью и толкнуть лодку в знакомое пространство воды. Он еще не сделал того, что задумал: от дома он дошел сюда; к Волге, по лугам, с висящим на шее ружьем; пусть с костылем под мышкой и палкой в руке, но он одолел путь, который вчера еще казался невозможным. Теперь предстояло ему испытать себя среди простора и силы когда-то доброй к нему реки. Ему надо было вернуть себе необходимую для жизни силу одоления: душевная работа, которая долгое время в нем происходила, подошла к пределу, за которым должно было последовать действие, может быть, безрассудное, но действие.
Если бы знал отец, куда и зачем он потащился в это как будто обычное утро, если бы застал его здесь, у Волги, в последней готовности к неразумному по его понятиям поступку, он взвился бы в неистовстве от его мальчишества, от очевидной его глупости, от совершенной потери здравого смысла. И был бы прав отец в своем страхе потерять его даже такого, да еще теперь, когда войны уже не было.
Если бы мама нашла его в эти минуты, трудно даже представить исход ее переживаний. Все поняв, она молча уступила бы его упрямой дерзости; угасая от переживаний, ждала бы его на берегу, и, если бы он не одолел, если бы не выплыл, не вернулась бы домой и мама.
То, что он задумал, было жестоко по отношению к матери, к отцу, было жестоко по отношению к себе, было вопреки разуму, но что мог он поделать: чтобы выиграть бой, надо подняться в атаку…
Лодка, в которой Алеша сидел, уже плыла.
Как ни казалась в тихости дня неподвижной осветленная солнцем Волга, он чувствовал по тому, как лодка смещалась, текучую, глубинную ее силу; в первый раз Алеше было страшно перед силой реки.
Ощущение прежней власти над водой в нем жило; сквозь поколы подступившего страха он старался утвердиться в былой своей уверенности пловца. В какую-то минуту ему показалось, что он обрел прежнюю силу и власть над пространством воды, — он поймал это ощущение, оттолкнулся руками от сидения и перекинул свое короткое тело через борт.
Плыть он не мог. Натренированное послушное тело, всегда без усилий входившее в наилучшее положение для плавных скользящих движений, не приняло привычных ему условий: голова, не уравновешенная тяжестью ног, неостановимо потянула его вниз. Алеша понял, что уже не овладеет увлекающим его в глубину падением, и в тоскливом удивлении перед близким, ненужным, глупым концом своей жизни уже готов был смириться с тем, что уготовил себе сам. Много раз на фронте и на руках врачей, в болезнях и страданиях от ран подходил он и даже переступал последнюю черту бытия. И спасала его не только помощь врачей, — в не меньшей мере и сила заложенной в нем жизни.
И на этот раз, наперекор растерянному сознанию, сила заложенной в нем и не прожитой еще жизни воспротивилась его смирению. Какими-то невероятными круговыми движениями удалось ему на мгновение вытолкнуть себя на поверхность, хватнуть задыхающимся ртом воздух, и снова тяжесть головы утянула его в глубину. Даже в отчаянности борьбы за жизнь Алеша ощущал, что бессмысленно, неумело тратит силы только на то, чтобы развернуться и вытолкнуть голову наверх. Пугаясь нарастающей толщи воды, он в бешенстве работал руками, крутился колесом, то уходил под воду, то снова всплывал, пока наконец ему, обессиленному, не удалось ухватиться за борт лодки, по непонятной случайности не уплывшей от него.
Он лежал на косе, у воды, лицом в песок, без сил, без мыслей, казалось, без чувств, как когда-то в давнюю, еще довоенную пору лежал на этой же косе Васенкин брат Витька, вот так же в отчаянье от неласковой к нему жизни пытавший свою судьбу.
Жизнь повторялась, пусть в другой судьбе, но жизнь повторялась.
Здесь, на косе, и нашел его Федя-Нос. Алеша не видел, кто шел к нему по берегу, — очки его, вместе с протезами, остались далеко от того места, где сейчас он лежал, — но по мерному звуку уже близких, с пришаркиванием шагов, по тому, что человек, к нему идущий, его не окликнул, а подошел сначала к лодке, подтянул ее на берег с протяжным шорохом подминающего песок днища и лишь потом, с посипывающим, вроде астматическим, дыханием, тяжело сел, Алеша и с закрытыми глазами верно знал, что с ним рядом — Федя.
Вряд ли он мог бы ясно объяснить свое отношение к старому Феде-Носу. Но из множества людей, которых он узнал за свою жизнь, каждого из которых данной ему острой зрительной памятью мог бы мысленно призвать и усадить с собой рядом, одного-единственного его, Федю, он мог видеть и слышать в том своем странном состоянии как бы отделенности от действительного мира, в котором сейчас был. Он не знал, почему этот неуклюжий с виду и ловкий в движениях старик, какой-то даже жалкий в своей неопрятности, тянул его к себе. Что бы ни выкидывал Федя в своей нескладной, по понятиям Алеши, жизни, как невзрачно ни гляделся бы среди прочих всех семигорских мужиков, связь, соединяющая их, не обрывалась, и Алеша шел к нему и в радости, и в горе. Ни Федя, ни Алеша не объяснили бы друг другу, по каким беспокойным сигналам, по каким законам души вдруг заторопился Федя-Нос на Волгу, отыскал его здесь, на косе; но Федя сидел рядом, и Алеша знал, что он — рядом, и не поднимал головы, хотя ждал его слов.
Федя отдышался, заговорил сокрушенно, как всегда бывало, когда брал на себя Алешину вину:
— Не тако надобно, Олеша, к Волге-то заходить! Не вдруг, помалу надобно. Помалу, Олеша, любое дело одолеешь!..
Алеша крепче вжался щекой в песок: он не удивился тому, что Федя оказался рядом; он боялся, что Федя начнет его утешать.
— Забирайся-ко в долбленку, Олеша. Побуду с тобой. Оно, может, дело и пойдет!
Алеша готов был заупрямиться, но Федя встал, подвел к нему ближе лодку. Хмурясь, не глядя на Федю, он боком, опираясь на ладони, подвинул себя к лодке, движением сильных, развившихся за годы госпитальной жизни рук перебросил себя через борт на сиденье, сел ссутулясь, глядя на воду. Он не терпел принимать помощь от кого бы то ни было. Но Федя-Нос имел над ним непонятную власть.
Работая кормовиком, Федя вывел лодку на середину залива, где могучее русловое течение Волги почти не ощущалось, ободрил:
— Пробуй, Олеша. Придержу, ежели что.
Алеша, не отпуская лодки, погрузился в воду, расслабил тело и тут же почувствовал, как легкую нижнюю его часть повело наверх. Попробовал, подгребая одной рукой, поставить себя в вертикальное положение — вода упрямо развертывала его вдоль борта, опрокидывала на спину. Алеша в горечи чувствовал, что Волга не признает его теперешнего, в уже испытанном отчаянии оттолкнулся от лодки, надеясь на силу своих рук.
И все повторилось: голову, будто к шее был привязан камень, потянуло вниз, и снова он бешено закрутился, пытаясь вытолкнуть себя из воды. В волосах он почувствовал неожиданно цепкую руку Феди; рука приподняла его, он ухватился за лодку, отвернул от Феди мокрое лицо, глотал воздух, будто после бега.
Федя вроде бы не замечал явных его невозможностей; склонившись над бортом, он размышлял, будто над неводом, севшим на донную корягу:
— Понятное дело, Олеша. Тело прежний лад помнит. Надобно тебе другую опору отыскать. Голову-то не тяни. Подбородок пусти к воде, обопрись. И рукам суеты не давай!..
Удерживаясь за лодку, слизывая натекающую с мокрых волос на губы солоноватую от слез воду, Алеша думал, тоскуя от бесполезности своих усилий: «Дожил! Федя плавать учит!.. Нет, дорогой мой Федя! Или вот сейчас я поплыву, или больше ты меня не увидишь…»
Он отпустил лодку, раскинул руки, медленно стал погружаться в глубину. И в этом медленном, без движений, падении вдруг почувствовал, что короткое его тело расположилось и может плыть; тот воздух, который он вдохнул и удерживал в груди, как будто уравновесил его. Он ждал, что счастливо найденное положение вот-вот нарушится, тяжесть головы снова, уже безвозвратно, потянет его в глубину. Но тело, будто парящая в воздухе птица, медленно опускалось, не теряя найденной в воде опоры, и вдруг плавно коснулось гладкой твердости дна, — знал Федя, где дать ему волю. И когда он лег на дно и плавно повел в стороны руками, тело поднялось, послушно двинулось по плотному слою воды. Грудь требовала вдоха. Алеша, как в былые времена, вытянулся, плавно толкнул под бока воду, и тело пошло головой вверх, всплывая. Он вдохнул раз, другой, снова опустился под воду, опять всплыл, еще раз вдохнул от свежести волжского простора, выбросил перед собой руки, развел с силой, отгребая воду с пути движения, и ощутил, в содрогнувшей душу радости, как скользнуло тело, не потеряв найденной опоры.
Погружая голову в прохладу воды, лицом и плечами ощущая бодрящую упругость реки, он плыл заученными брассовыми движениями рук, — одних только рук! И хотя короткое тело ощутимо кособочилось, он все-таки плыл — плыл! — и знал, какая бы глубина под ним ни была, она уже не для него!
Давно не тренированные в маховых движениях, мускулы устали; Алеша перевернулся на спину, часто шевеля под собой кистями рук, удерживая себя в новом положении, попробовал плыть на спине и с новым приливом радости почувствовал, что плывет на спине даже свободнее — облегченное тело как будто само, удерживалось на воде. Он раскинул руки, замер в настороженном ожидании: тело, чуть провиснув в пояснице, медленно погружалось; вот уже грудь, уши, подбородок ушли под воду, и, когда остался над поверхностью воды лишь крохотный островок лица с торчащим носом, почувствовал, как мягкая сила реки приподняла его и оставила на себе, под светом и теплом слепящего солнца.
Он лежал, раскинув руки, не двигаясь, не погружаясь в воду, и Волга медленно разворачивала его и несла в своем текучем просторе вдоль невидных ему берегов; движение он ощущал только по солнцу: то слепило его даже сквозь закрытые веки, то глазницы затенялись; он открывал глаза, видел над собой даль неба и знакомые, из юности, облака…
Над гладью реки прошел и догнал его сдержанный окрик: «Олеша! Ко мне подгребай!..» Время от времени Алеша замечал в стороне расплывчатое пятно лодки, лодка не приближалась и не отдалялась, Федя следил за ним и в то же время, все понимая, оберегал его радость.
Алеша поднял голову: по очертанию высокого лесистого берега понял, что унесло его ниже Нёмды. Он повернулся, смущаясь своей радостью и силой, не спеша поплыл на Федин зов.
2
Надевал Алеша протезы с дощечки, подложенной Федей. И хотя он был удовлетворен почувствованной своей силой и вроде бы успокоился, пока Федя вез его в лодке к берегу, «влезание» в протезы каждый раз вызывало в нем тоску и раздражение. Ломать свой нетерпеливый характер, минута за минутой сдерживать всегда готовое к порыву тело, сцепливать, пристегивать один за другим ремни, ремешки, резинки, расправлять на болезненных культях складки шерстяных чехлов, потом с напряжением, от которого темнело в глазах, поднимать себя на деревянные ходули и, уже стоя, снова подправлять и стягивать до тугой неподвижности опять те же ремни — все было противно взрывной Алешиной натуре. Стоило немалых сдерживающих усилий разума, чтобы зажать клокочущее бешеное желание разбить неповоротливые деревяшки, разорвать, раскидать всю эту оковывающую его тело тяжелую сбрую.
После вольного проявления силы в мягком текучем просторе Волги особенно трудно было навешивать на себя мученические свои вериги.
Алеша хмурился, и пока молча, в видимой досаде, ворочал деревяшки, Федя отошел к лодке, будто в озабоченности что-то покачивал, постукивал, давал ему самому управиться с одёжей и душой.
Когда Алеша наконец поднялся и, не внимая укоряющим словам Феди, помог затащить подальше на берег лодку, которую доверчивый Федя не приковывал ни на какие цепи и которую ни один волжский лиходей ни разу не согнал с места без его на то согласия, Федя в какой-то суетности, скрыть которую вроде бы старался и не мог, поднял с песка Алешино ружье, навесил себе на плечо, с заметно полегчавшим настроением позвал:
— Помалу пошли, Олеша. Помогу тебе гору одолеть.
Алеша покачал головой.
— Нет, Федя, сам буду добираться. Посижу немного и пойду, — он протянул руку к ружью; Федя неожиданно торопко отстранился, смутившись своей торопи, пояснил:
— Тягость-то, ужо сам домой к себе занесу.
— Нет-нет! Ружье оставьте, — сказал Алеша безулыбчиво.
— Погоди, Олеша, Ты скажи, пошто пушку сюда приволок? Охоты тут никакой!.. — Он глядел обеспокоенно и строго, и Алеша вдруг догадался, о чем думал Федя. И смутился: Федя был недалек от действительных прежних его мыслей; но к ружью эти мысли отношения не имели.
— Нет, дядя Федя!.. Ни единого патрона с собой!.. Ружье просто для выкладки, чтоб по-солдатски… Не то, все не то, Федя! Волгой порадовался. А на земле вот плох! К земле привыкать надо… — Он принял ружье, приладил за спиной, ободряюще улыбнулся, видя, что старый добрый человек никак не решается его оставить: что-то держало его около.
— А скажи, Олеша, много зла на душе скопил? Круто жизнь-то с тобой обошлась!..
Алеша не удивился прямому Фединому спросу; глядел в себя, зла не видел. Не было зла в его душе ни на жизнь, ни на людей. Была обида, горькая обида на то, что, на войне осталась его молодость, что отнята у него сама возможность жить, как живут все. Но обида — не зло. Зла не было. И душа осталась, как была. Проглядев всего себя, он поднял на Федю измученные постоянной болью глаза, сказал, как настежь раскрылся:
— Было, Федя. Много зла было. Думал, так со мной и жить будет! А теперь ушло. Ушло! Нет во мне зла, дядя Федя. Вот нет и — всё!.. — И, как будто сам удивляясь тому, развел руками.
Федя посмотрел на него из-под своих, растущих вниз, на глаза, седых, с остатней желтизной бровей, зорко смотрел, хватко и — поверил.
— Вот и ладно, Олеша. Не каждый от лиха добро сберегает… Ну, теперь пойду. — Он отошел на шаг, воротился.
— Может, в гору пособлю?
— Нет, Федя, нет. Сам!..
Алеша, навалившись на костыль и палку, смотрел, как поднимается Федя по крутой тропе, наискось пробитой в горе семигорцами. Взбирался он поначалу ходко, памятливо переступал по неровностям тропы заметно покривленными ногами.
Но скоро приустал, поник в спине, на кручах подпирался рукой. Где-то на середине горы Федя остановился, полинялая распоясанная его рубаха и такие же пообтертые до светлости порты маячили бледным пятном на одном месте. Потом Федя переместился повыше, снова остановился, видно, не выдюжил, сел; виднелось теперь только бледно-синеватое пятно рубахи. К вершине, где тропа уже пропадала из глаз, Федя добрался, похоже, на коленках; однако добрался, скрылся за горой.
Алеша прикованно следил за неровным, упорным стариковским ходом, прикидывал свой предстоящий путь на крутую гору, и неожиданная мысль пришла ему: сейчас он будет так же, с еще большим трудом взбираться наверх, к Семигорью, и много медленнее, чем взбирался Федя. А ведь ему двадцать два, всего двадцать два года! Тогда как Феде — за семьдесят. Если мерить его мерой физических возможностей старого Феди, то война вырвала из его жизни пятьдесят лет. Полвека!.. Он сейчас как семидесятилетний старик! Даже хуже! — без долгой его жизни, без дел, радостей, печалей, какие могли бы быть за пятьдесят лет… Это же целая человеческая жизнь!..
Странная и страшная эта мысль была как удар гулкого колокола, гудела и не замирала; и оторопь, и слабость до холодного пота охватили его. Тяжело нависнув на костыле, не двигаясь, он как-то вдруг прозрел свою будущую жизнь, и страшно ему стало от того, что ждало его. Он долго стоял, ждал, когда прихлынет от сердца к рукам нужная ему сила; опираясь на костыль и палку, сделал шаг, другой и, покачиваясь, тяжело переступая, пошел к горе.
3
Видная издали, почти на самом берегу Нёмды, стояла одиноко, в давнем наклоне береза. Алеша с трудом добрался до березы, за рекой уже виднелись над темной хвоей бора дома поселка. Он все-таки одолел весь путь, который в бессонности ночи задумал. Ему бы еще шагов с тысячу — и будет дома. Он сможет посмотреть в глаза отцу, маме, измученно, но почти победно: сегодня он возвратил себе что-то из той жизни, из которой выбила его война.
«Все хорошо, все хорошо», — твердил Алеша, переставляя костыль, за ним правую протезную ногу, потом палку, за ней левую, тоже не свою ногу. Он шел бы дальше, если бы не уже непереносимая боль разодранной и воспаленной в протезах кожи; он делал шаг — сердце останавливалось от боли, культи как будто всовывали в пылающие жаром угли. Шея гнулась под висящим на ремне ружьем; он не знал, что обычное ружье, которое прежде без заботы он таскал по лесам с рассвета до темна, может оборотиться в казнь. Он обливался потом, едва держался костылем и палкой, но до березы дошел.
Он помнил: до войны здесь росли из одного корня две одинаково высокие, сильные березы; в удобную развилину между стволами он однажды усадил отдыхать Ниночку в одну из редких — Ниночка просто до дрожи боялась чужих глаз! — их прогулок вдоль Нёмды. Теперь одной березы не было, кто-то спилил ее, и, видимо, давно. Алеша пристроился на высоком, почернелом от непогод срезе, привалился к другому, еще целому стволу, закрыл глаза. Ствол почему-то был холодный, хотя день выстоял жарким; спиной и затылком он чувствовал глубинный холод березы, и, хотя прохлада сейчас была ему приятна, он с толкнувшим сердце чувством вины вспомнил свою, всегда хранящую для него тепло сосну, там, за рекой, в лесу, у которой ясно думалось и успокоенно дышалось.
Протезы теперь он не снимал, знал: боль не даст снова надеть их; не открывая глаз, он только ослабил опутывающие его ремни, чтобы дать отдых занемевшему в неволе телу.
В неподвижности боль как будто затихла. И в живой, никогда не остывающей памяти всплыл такой же вот августовский день сорок первого года: Обоз, увозивший их, суетных, бритых, стеснительных; мама, затерявшаяся где-то в пыли, окутавшей дорогу; и грозовая туча за горой, под которую все они с нетерпеливой дерзостью въезжали. Он помнил мост через Туношну, по разбитому настилу которого колеса увозящих их подвод простучали с добрым грохотом, похожим на выстрелы, и — как будто это было сейчас — сжалось сердце от ощущения невозвратности того, что оставлял он тогда за Туношной… Стараясь уйти от бесполезной сейчас памяти, Алеша заторопился, сполз с высокого пня, перенес тяжесть тела на протезы и охнул: глаза оплеснуло тьмой, ноги горели, как будто с них сдирали кожу. Стиснув губы, он стоял, заставляя себя привыкнуть, к неотступающей боли. Сделал шаг, другой, попятился, снова прислонился к березке: почувствовал — не дойдет.
«Вот и все, — подумал. — Вот она, черта, отсекающая от жизни. Оказывается, и у человека есть предел возможного. И не дано раздвинуть этот предел ни упорством, ни волей. Кажется, я дошел до своего предела…» Он смотрел затуманенным болью взглядом через поля на взгорье, где были дома и люди; и не смел и не знал, как людей позвать.
Из многого, что хранила память в том августовском, уводящем на войну дне, он не давал себе вспомнить только Зойку, белым трепетным видением ожидавшую его у расстанной дороги. Он знал свою вину перед ней, перед девичьей ее преданностью, им не понятой и не принятой. Он знал, что земное богатство, оставленное им в тот день за Туношной, к которому с надеждой и верой он теперь припадал, может шаг за шагом вернуться к нему; не могла возвратиться в его жизнь лишь удивительная семигорская девчонка, ее открытая всему свету, преданная любовь. Он сознавал это с отяжеляющей душу скорбью, как сознавал и справедливость этой, ощущаемой им теперь, может быть, самой великой потери. И, сознавая, не дозволял себе трогать притаенную в душе скорбь. Но в этот час одиночества и боли взорванная страдающими чувствами его память опрокинула запреты: он увидел несущееся к нему с придорожного косогора белое, трепетное, живое облако и услышал протяжный, как осенний птичий клик, наполненный разлукой и тревогой девичий голос:
— Але-ее-шка!..
И настолько сильны были ощущения того далекого дня, что, он не смел открыть глаза; и с такой яростью он сдавил костыль, что стонала прихваченная, болтами деревянная опора. Заглушить память он не мог и стоял, опустив к груди голову, давал пройти через душу скорбным и светлым видениям.
Когда поутихла наконец душевная сумятица и Алеша возвратился в день, в котором сейчас был, и снова явственно ощутил и свое одиночество, и меру своей беспомощности, и поднял от груди голову, и посмотрел в даль низкого предвечернего неба, он увидел, как от Семигорья, — не от середины, не от прогона, откуда выходила дорога к Нёмде, — а от крайнего, ближнего к Волге дома, отделилось и заскользило вниз вдоль некошеных хлебов светлое быстрое пятнышко. Алеша даже не удивился: прошлое было в нем, оно было в сегодняшнем дне, видение прошлого продолжалось; он знал, что видит то, что хранит его память. И только когда белое пятнышко обозначило себя на луговине, на которой он был, и уже не в пятнышке — в белом облачке он увидел бегущую к нему девчонку, он напрягся до ледяного холода в лице, придавил себя к березе и замер, как будто должна была сейчас окончиться его жизнь.
Зойка налетела как стремительный, упругий, обжигающий ветер; с раскиданными по лбу, по щекам, по губам волосами, она, на последних шагах, будто втянутая магнитной силой, вникла лицом в его грудь, охватила его плечи и, целуя в подбородок, в щеки, в губы, сдвигая с носа очки, измазывая радостными слезами, обретенно, счастливо твердила: «Алеша… Алеша…» Она оторвала от груди мокрое, смеющееся лицо, заглядывая в его растерянные глаза черными, блестящими, как речные камушки-окатыши, глазами, виноватясь, радуясь, смеясь, быстро говорила:
— Я же только-только вернулась! Дядя Федя увидел, кричит, беги, тебя Олеша ждет!.. Я как побегла! Ну про все на свете забыла!.. Алеша… Алеша… Вот какой ты стал, Алеша! Еще красивей. Еще лучше!
Алеша, уронив костыль, смятенно сжимал Зойку железными своими ручищами, жался стыдящимся лицом к ее волосам, пахнущим теплом и полем, и не давал ей поднять головы, чтобы не увидела она прожигающие его глаза слезы.
Зойка первая пришла в себя. Как-то деловито обеспокоилась одной ей известным беспокойством, навесила себе на шею ружье, подняла с земли костыль, заботливо подставила ему под локоть, другую его руку примостила на своем плече, прижала крепко своей рукой. Осторожно, настойчиво отстранила его от березы, сказала в сосредоточенности, по давней девичьей своей привычке растягивая слова:
— Пошли, Алеша. Потихонечку. Далеко-о-о нам еще идти!..
1973—1982 гг.
Примечания
1
— Руки! Покажите руки!.. (нем.)
(обратно)2
— Я не вижу цепей, которыми он был прикован к пулемету! Я спрашиваю вас, где цепи?! (нем.)
(обратно)3
— Еще два-три таких русских пулеметчика, и от моих солдат останутся кресты! Березовые кресты!.. (нем.)
(обратно)4
Помощник начальника штаба.
(обратно)5
Что это такое? Что означает этот патрон?.. (нем.)
(обратно)6
Я спрашиваю, что означает этот патрон? Пароль? Знак?.. Для кого?.. (нем.)
(обратно)7
Еще раз спрашиваю, что означает этот патрон?! (нем.)
(обратно)8
Веди ко мне! (нем.)
(обратно)9
Какого же черта ты привел его сюда?! (нем.)
(обратно)10
Встать!.. (нем.)
(обратно)11
Бросить оружие!.. (нем.)
(обратно)12
Солдаты! Война в России для вас закончилась. Будет у вас время подумать над своей судьбой и судьбой своего отечества. Мы надеемся, что никогда больше вы не доверите свои жизни и будущее Германии таким бредовым проповедникам насилия, каким был ваш фюрер. От вас зависит ваша будущая жизнь. Каждый, из вас… (нем.)
(обратно)13
Каждый из вас… (нем.)
(обратно)14
Реактивные снаряды.
(обратно)15
Благовоспитанность (фр.).
(обратно)




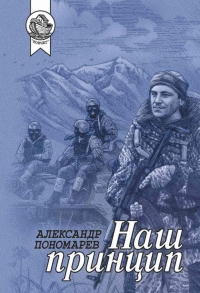

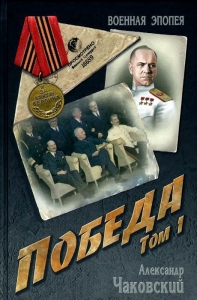

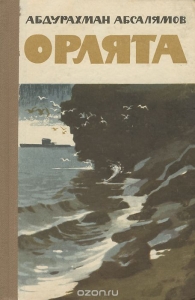



Комментарии к книге «Годины», Владимир Григорьевич Корнилов
Всего 0 комментариев