1
3
4
5
6
7
8
1
2
4
5
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
24
25
26
1
Огромное алое солнце, похожее на раскаленный шар, лежало на вершине розового облака, будто перегретого жаром светила. А выше нежно-серебристым пеплом застыли редкие слоистые облака... Все вокруг приняло красноватый оттенок — и крыши виднеющегося вдали села, и деревца на краю аэродрома, и даже закамуфлированные пятнистой окраской бомбардировщики.
— Солнце красно вечером — нам бояться нечего, — изрек штурман самолета старший лейтенант Штанев, подходя к командиру экипажа сержанту Хрущеву, стоявшему невдалеке от своего самолета и с явной заинтересованностью поглядывавшему на закат.
Они были одногодками, но судьба распорядилась так, что Штанев закончил военное училище штурманов три года назад, а Хрущев — летное училище в самый канун войны. Несмотря на сержантское звание, командиром экипажа согласно существующему положению назначили пилота: так уж повелось в авиации и на флоте — командует экипажем тот, кто управляет машиной.
— Похоже, не верна твоя поговорка, — возразил сержант. — Есть чего бояться — видишь, какая наковальня поднимается? Быть грозе.
— Ну так и что? Гроза не фронтальная, обойдем. В подтверждение слов штурмана заработали моторы на одном самолете, затем на другом. А вскоре весь аэродром дрожал от могучего грохота. Бомбардировщики один за другим стали выруливать на старт. Хрущев проводил их взглядом и, когда последний скрылся в предвечернем мареве, достал портсигар.
— А нам, должно быть, командир полка снова сюрприз приготовил, — подвел итог штурман. — Какую-нибудь малоразмерную цель уничтожить или на разведку лететь.
Хрущев не ответил. Он и сам давно догадался, почему их экипажу приказали задержаться со взлетом. Майор Омельченко особенно выделяет их экипаж — самые трудные задания поручает только им. Улыбается при этом: «Вы везучие». Что правда, то правда: вот уже год воюют и, как говорится, бог миловал — все живы и здоровы.
Правда, самолет их не раз подбивали, однажды даже горели, но все обошлось хорошо. Зато на их счету три сбитых «мессершмитта», десятки уничтоженных танков, орудий, автомашин. Но везение — штука изменчивая: может быть, где-то уже припасен и твой снаряд, твоя пуля, от которых не уйти. Но не об этом сейчас кручина: по сообщениям Совинформбюро положение на фронте очень тяжелое, фашисты развивают наступление на Сталинград.
Хрущев помял пальцами папиросу, сунул в рот и собрался было идти покурить за хвост самолета, когда увидел мчащуюся к их самолету командирскую эмку. Майор Омельченко выскочил из машины на ходу и, нетерпеливо выслушав рапорт о готовности самолета и экипажа к выполнению задания, энергично прошагал к выстроившимся в шеренгу штурману и стрелкам.
— Сколько бомб взяли? — спросил майор у Штанева.
— Как приказано, товарищ майор, шесть ФАБ-сто и две ФАБ-двести пятьдесят, — ответил старший лейтенант.
— Двестипятидесятикилограммовые снимите, — приказал командир и протянул руку за картой. — Полетите далеко — в Белоруссию. — Он указал точку на карте. — Вот сюда. Выход на цель точно в час тридцать. Обозначение цели: пять костров в линию с востока на запад и два по бокам — посадочное «Т». Плюс ко всему — две красные ракеты. Только после этого дашь команду прыгать. — Омельченко обернулся и Хрущев со штурманом увидели возле эмки молоденькую русоволосую девушку в голубеньком платьице в горошек, с ватником в руках и рюкзаком у ног. — Это ваш новый член экипажа, вернее, пассажир, — пояснил Омельченко. — Доставить в целости и сохранности. Выбросите ее и повернете вот на эту станцию. Отбомбитесь и — домой. — Омельченко вернулся к девушке, пожал ей руку. — Ни пуха ни пера!
— Спасибо, — поблагодарила пассажирка чуть заметным поклоном.
Омельченко сел в машину и уехал. Девушка взялась за рюкзак, чувствовалось, он не легкий, и Хрущев шагнул к ней.
— Разрешите. — Сержант одной рукой взялся за лямки рюкзака, легко поднял — ему с его силенкой и не такое приходилось поднимать — и понес к кабине стрелков.
— Сурдоленко, разместишь, — приказал он старшему сержанту. — И о девушке позаботься — чтоб сидеть было удобно...
Штурман с техником по вооружению принялся снимать лишние бомбы. Хрущев помог им, выгрузили бомбы на тележку и отвезли их на специальную площадку. Теперь можно было покурить.
За хвостом самолета у врытой в землю урны стояла их юная пассажирка и раскуривала папиросу. Сержант направился к ней, чтобы договориться о порядке работы в воздухе.
— Командир, сагитируй ее остаться в нашем экипаже, — бросил вслед Штанев. — Я из нее такого штурмана сделаю!
Хрущев приостановился.
— Боюсь, Яша, ты в первом же полете с ней потеряешь ориентировку...
Девушка сделала вид, что не слышит их подначек, смотрела куда-то вдаль. Подходить к ней стало как-то неловко, и Хрущев остановился поодаль, закурил. Она глубоко затягивалась, как заправский курильщик, неторопливо, с наслаждением выпускала дым. Густая копна русых волос спадала на плечи. Носик чуть вздернут — гордо, независимо; губы сочные, яркие — совсем девчоночьи. На вид ей было не больше восемнадцати. «Да, судьба ее не из легких — прыгать в тыл к фашистам. Ведь всякое может быть», — с тревогой подумал Хрущев, исподволь поглядывая на нежданную пассажирку.
Девушка словно прочитала его мысли, повернулась.
— Товарищ сержант, идите вместе покурим, заодно я хочу спросить у вас кое о чем.
«А она не из робкого десятка, — отметил сержант. — Собственно, другую и не послали бы. Притом — одну». Раньше Хрущеву доводилось видеть подобных пассажиров. Их
выбрасывали в тыл врага по три, четыре человека, в основном мужчин. А эту, совсем девчушку, — одну.
— Во сколько полетим? — деловито спросила девушка, взглянув на свои ручные часики и, спохватившись, представилась: — Эльза.
— Иван Хрущев, — ответил сержант. — Полетим скоро... Эльза — из немцев Поволжья? — задал он первый пришедший на ум вопрос — не молчать же...
Девушка чему-то улыбнулась, отрицательно покачала головой.
— Из Белоруссии. Гостила у родственников, а тут война... Теперь вот таким путем приходится домой возвращаться. — В ее удивительно синих, как весеннее небо, глазах играли смешинки. Нашел о чем спрашивать... Она папе с мамой не скажет теперь, кто она, куда и зачем летит. И он решил подыграть ей:
— Надолго домой?
— А это от вас будет зависеть. Судя по сводкам — надолго. Прилетайте в гости. Встречу как старого товарища.
— Что ж, может, и прилечу — на войне всякое бывает.
Он сказал просто так, чтобы поддержать разговор, не думая и не предполагая, что в судьбах бывают самые невероятные свершения.
Их беседу внезапно прервал упавший с высоты гул самолета — нудный, с прерывистым завыванием. Запоздало спохватилась сирена, и все, кто был у самолета — штурман, стрелки, авиаспециалисты, — кинулись бежать к бомбоубежищу. Хрущев бросил папиросу и тоже приготовился к спринту, но, глянув на девушку, смутился: она спокойно выпустила изо рта дым и насмешливо поглядывала то на убегавших, то на их командира.
Что это с ними? — спросила, будто не понимая.
— Видите ли, — неуверенно проговорил сержант, не зная, как выйти из щекотливого положения, — думаю, что и вам будет не лишним воспользоваться бомбоубежищем — чем черт не шутит...
— Так это же «фокке-вульф», разведчик, — упрекнула летчика девушка. — Разве вы по хулу не узнали?
Хрущев поразился ее слуху: в небе и в самом деле появилась «рама». А разведчик, конечно же, бомбить не станет. Наверное, прилетел сфотографировать аэродром. Очень вовремя угодил — пусть фотографирует, когда наши самолеты почти все в небе.
Зенитки открыли огонь. «Фокке-вульф» покружил немного и удалился восвояси.
— Так вот о чем я хотела вас спросить, — вернулась к прерванному разговору девушка, — как зависит длина взлета и посадки вашего самолета от наклона взлетнопосадочной полосы? Конкретно: когда быстрее взлетит самолет — в гору или под гору?
— Разумеется, под гору.
— Почему?
— Потому что под гору он быстрее наберет необходимую для отрыва скорость.
— Выходит и под ветер он быстрее оторвется?
— Нет. Скорость берется относительно воздушной массы, а не земли; так что под ветер самолету потребуется больше времени для разбега.
— Понятно, — кивнула девушка и пояснила: — Это я на случай, если к вашему прилету придется площадку подыскивать.
— Запомню.
Из бомбоубежища показались штурман со стрелками и авиаспециалистами.
— Что, командир, решил проверить выдержку нашего нового члена экипажа? — сострил Штанев.
— Нет, Яша, это она проверила нашу. И скажу тебе по секрету, некоторые очень некрасиво драпали, особливо симпатичный старший лейтенант.
— Так я не от фрица — за папиросами в каптерку бегал, чтобы с вами за компанию покурить. — Он достал пачку «Казбека» и услужливо раскрыл перед девушкой.
— Опоздал, Яша. Пробегал. Теперь покуришь, когда вернемся. По местам! — скомандовал Хрущев.
Вокруг — чернильная темнота; частые вспышки молний бьют по глазам, ослепляют и оглушают: не видно ни стрелок приборов, ни лампочек подсвета, не слышно гула моторов; лишь чувствуется, как самолет то проваливается вниз, то взмывает ввысь. Иногда Хрущеву кажется, что бомбардировщик разламывается — трещат и стонут шпангоуты, звенят от напряжения стрингера; с консолей крыльев срываются голубые огненные язычки — электрические разряды. Кажется чудом, что самолет еще держится в этом адовом небе, бушующем грозовыми смерчами, и невероятным, что молодой летчик наперекор стихии ведет самолет в кромешной тьме, когда то и дело из поля зрения исчезают авиагоризонт, указатель скорости, вариометр. А молнии сверкают все чаще, все оглушительнее гремят раскаты грома.
— Штурман, стрелки, как вы там? — спросил командир у членов экипажа по СПУ — самолетному переговорному устройству.
— Нам-то что, а вот ты как ведешь? Я даже компаса не вижу, — отозвался Штанев. — Может, вернемся? Облака плотнеют, и если мы врежемся в них — окажемся у дракона в пасти!
— Ты же говорил, нам бояться нечего, обойдем.
— Да вот, все обложило кругом — ни зги!
Перед самым носом бомбардировщика снова сверкнула молния, ударила сверху вниз, и в кабине запахло озоном.
Докладывает стрелок-радист Сурдоленко:
— Товарищ командир, экипажи, что пошли на бомбежку, сообщают, что возвращаются — не смогли пробиться сквозь грозу.
— Но командир полка лично приказал нам выполнить задание, — напомнил Штанев. — Командир, попробуем пробить облака вверх.
— Заботливый, погляжу, — усмехнулся Хрущев. — Рассчитываешь провести занятия по ориентированию по звездам?
— А что, я такой! — для бодрости духа хохотнул Штанев. — Но приоритет, товарищ командир, за тобой. Однако обойти грозовой фронт вряд ли удастся...
— Сурдоленко, свяжи-ка меня с пассажиркой, — приказал командир. Он представил, как девушка надевает шлемофон, пристегивает ларингофоны, и возникло непоборимое желание потянуться к ней, помочь.
— Товарищ командир, Эльза слушает, — раздался в наушниках приятный и бодрый девичий голос.
— Как самочувствие?
— Терпимо. Спасибо, ваши ребята подбадривают.
— Вернуться придется, видите — вокруг ад кромешный.
— Очень даже красиво. Мне ни разу не приходилось попадать в такую грозу...
— Из-за такой красоты можно сразу в преисподнюю угодить.
— Если серьезно, то вполне согласна с вами. И все же возвращаться никак нельзя: меня ждут именно сегодня. Представляете себе, что значит отменить встречу в тылу? Ведь сотни людей работают на это...
— Представляю, — вздохнул Хрущев.
— Но не лезть же в бучу! — вмешался штурман.
— Все, Яша, дебаты окончены, — категорично пресек разговор Хрущев. — Летим на запад с набором высоты. Кстати, впереди вон окошко уже просматривается.
Насчет окна он, конечно, подзагнул, стрелки еще могут поверить, а штурмана, опытного воздушного волка, не проведешь: сидит-то он в самом носу, все видит. Но тот промолчал. А минуту спустя сам поддержал командира:
— До цели осталось всего двадцать минут лету. Теперь, думаю, дотопаем.
Болтанка стала утихать, а минут через пять мелькнула одна звезда, другая, и вскоре
впереди по курсу действительно обозначилось «окно».
— Доверни десять градусов влево, — попросил штурман. Он уже успел сориентироваться по звездам и уточнить курс.
Со штурманом Хрущеву явно повезло: толковый, знающий в совершенстве свое дело специалист. Воевал на Хасане, в финскую, ордена Красного Знамени и Красной Звезды имеет, но не кичится наградами и старшинством.
— Так держать. И можно потихоньку снижаться, командир, а то заморозим нашу гостью.
Хрущев убрал обороты моторов, и гул заметно ослабел. Внизу то слева, то справа вспыхивали трассы, но до самолета не долетали — он летел выше пяти тысяч метров. И снова у сержанта шевельнулось тревожное чувство за девушку: что ее ожидает там внизу? Ведь фашисты, слыхал он, перехватывают радиограммы и выкладывают ложные костры. Да и сам прыжок — в ночь, в неведомое... Отчаянная дивчина. И слух какой: по гулу «фокке-вульф» определила. Такая, наверное, и немецкий в совершенстве знает, и стреляет только в десятку...
— Командир, костры по курсу, — доложил штурман. — Хватит снижаться.
Хрущев посмотрел на высотомер. Да, хватит — тысяча. Перевел самолет в горизонтальный полет.
— Сурдоленко, готовь девушку к прыжку. Проверь парашют, рюкзак.
— Понял, командир. Все сделаем на совесть. Тем более такая девушка... Даже жалко расставаться!
— Спасибо, товарищ сержант, за благополучную доставку, — прозвучал в наушниках голос девушки. — Прилетайте в гости. Буду ждать. Не забудьте мои позывные — две ракеты...
— Не забуду, Эльза.
— Вижу: костер выложен согласно условиям, — сообщил штурман.
— Вижу. Рассчитай поточнее.
— Не промахнусь... Приготовились!.. Пошел! Хрущев накренил машину, посмотрел вниз, но кроме
черноты ничего не увидел.
— Курс двести десять...
— Подожди, Яша. Надо убедиться...
— Ну, ну... Сделай кружок.
Лишь когда в небо взметнулась красная и зеленая ракеты, Хрущев облегченно вздохнул и взял курс на заданную для бомбометания цель.
— Подержи, командир, я ветерок уточню, — попросил Штанев.
Не успел он закончить промер, как впереди вспыхнули три луча прожектора, и, то расходясь, то перекрещиваясь, стали шарить по небу. Бомбардировщик шел ни навстречу.
— Так держать, Ванюшка! Открываю бомболюк.
Хрущев почувствовал, как отяжелел самолет — открытые створки бомболюка создавали дополнительное сопротивление, — и прибавил обороты.
Внизу замелькали вспышки: зенитки открыли огонь. Снаряды рвались впереди и по бокам, выше и ниже, но заградительная зона была довольно-таки слабенькая — сюда редко залетали наши самолеты.
Штурман сбросил светящие авиабомбы — САБ — и железнодорожная станция осветилась не ярким, но вполне достаточным светом, чтобы рассмотреть на ней эшелоны.
— Крути, Ванюшка, восьмерку.
Это означало, что нужно отвернуть круто вправо, затем влево и встать на цель с обратным курсом.
Бомбардировщик послушно лег на правое крыло, затем на левое, и снова голос штурмана вывел его на прямую:
— Так держать! На боевом!
Время тянулось мучительно медленно. Снаряды рвались все ближе, и прожекторы метались совсем рядом, но видно за пультами сидели неопытные солдаты и им никак не удавалось поймать самолет в перекрестие лучей.
— Так, отлично идет, — вслух рассуждал Штанев. Замолк на несколько секунд и вдруг заорал благим матом: — Стой! Стой, говорю!
— Как это «стой»? — недоуменно спросил Хрущев.
— Да цель прошла! — сокрушенно чертыхнулся штурман. — Кнопку забыл нажать. Прости, зевнул. Надо на второй заход.
— Понятно, надо, — незлобиво согласился Хрущев, чтобы успокоить штурмана.
— Как же я так, — продолжал сокрушаться Штанев. — Вел, вел... Теперь из-за моего зевка снова на рожон надо лезть.
— Ну это еще не рожон. Не зевни второй раз. [10]
— Теперь на век запомню... Так держать!.. Сброс!
Бомбардировщик облегченно качнулся, а внизу один за другим полыхнули разрывы. Загорелись цистерны с горючим, и высокий столб пламени осветил далеко все вокруг.
— Курс нах остен! — весело заключил Штанев. — Теперь поскорее набирать высоту!
— Высоко не полезем. На этот раз попытаемся обойти грозу с фланга. Рассчитай курс, пока облака не закрыли звезды.
— Посмотрим, командир, а может удастся пробиться напрямую — час-полтора сэкономим.
Звезды действительно вскоре стали меркнуть, а через несколько минут исчезли совсем, но Штанев уже сделал свое дело, и бомбардировщик прямым курсом шел к родному аэродрому. Снова его стало подтрясывать, вначале потихоньку, словно испытывая нервы экипажа, потом — все сильнее и сильнее.
Сверкнула молния и высветила узкую полоску пространства между космами облаков и степью.
— Да, командир, потолок-то у нас — прямо над головой. За высотой глаз да глаз нужен, — обеспокоенно предостерег штурман.
Минут двадцать они снова летели в кромешной тьме, ничего кроме приборов не видя. Молнии вспыхивали все реже и наконец остались позади. Облака оборвались, обнажив на востоке чуть заметную серую полоску — наступал рассвет.
Бомбардировщик неощутимо скользил в свежем спокойном предутреннем воздухе, и Хрущев, откинувшись на спинку сиденья, почувствовал неимоверную усталость, глаза начали слипаться: вот только бы посадку произвести — уснул бы прямо здесь.
А небо все светлело, моторы пели все умиротвореннее, все нежнее, будто убаюкивали, и стоило большого труда держаться, следить за показаниями приборов.
Аэродром по курсу! — напевно и радостно сообщил штурман.
— Будем садиться с ходу.
— Понятно.
С земли дали условия посадки: штиль, посадочный знак выложен как раз с западным стартом.
Хрущев снизился, не доходя до посадочной полосы метров пятьсот, выпустил шасси и закрылки. Но солнце
уже поднялось над горизонтом и его огненно-оранжевые лучи били прямо в глаза, ослепляя пилота. Можно было уйти на второй круг и посадку совершить под небольшим углом к «Т», но слишком уж устал летчик, а потому решил садиться. Земля казалась совсем близко, и Хрущев потянул на себя штурвал.
— Добирай, добирай! — подбодрил его штурман, которому из своей кабины землю видно значительно лучше.
Летчик опустил хвост машины, создавая посадочное положение, но колеса почему-то не касались земли. Скорость быстро падала, и бомбардировщик вдруг резко пошел вниз, будто провалился. Сильный удар содрогнул машину, шасси хрустнули, как спички, и бомбардировщик, взрывая землю винтами, юзом пополз по посадочной полосе.
Когда самолет остановился, наступила зловещая тишина, никто не трогался со своих мест. Сержант Хрущев от стыда и досады готов был провалиться сквозь землю -такую ошибку и курсантом не допускал. Но сиди не сиди, выходить надо. Он открыл фонарь. Вылезли из своих кабин и штурман, стрелки.
— Вот это подсказал, — сокрушенно покачал головой Штанев. — Прилетели, мягко сели, доложите, все ли целы...
Хрущев лишь глубоко вздохнул. Да уж, сели — срам на всю дивизию.
От КП отъехала командирская эмка и направилась к беспомощно распластанному на земле самолету.
— Не та гроза, что позади, гроза — спереди, — невесело констатировал штурман.
Это уж точно. Омельченко с его крутым характером за такую посадку по головке не погладит. Хрущев покрепче нахлобучил фуражку, расправил под ремнем складки комбинезона и, когда эмка остановилась, шагнул навстречу командиру полка.
— Товарищ майор, экипаж задание выполнил! — доложил сержант. — Пассажир выброшен с парашютом в заданном районе, после бомбометания на станции по эшелонам отмечены взрывы вагонов с боеприпасами и цистерн с горючим.
Омельченко выслушал рапорт, махнул рукой — вольно, — и молча пошел вокруг бомбардировщика. Лицо непроницаемо, сосредоточенно: то ли бушует от
негодования, [12] то ли озабочено — густые брови сошлись у переносицы на лбу обозначилась глубокая складка.
Остановился, глубоко вздохнул.
— Н-да, очень, очень не вовремя. Устал? — окинул сочувствующим взглядом сержанта.
— Да солнце вот в глаза...
Омельченко взглянул на солнце, словно упрекая светило, и снова без упрека посмотрел на сержанта.
— Давайте-ка на отдых, а я дам команду отбуксировать самолет на стоянку...
— Гроза и на этот раз нас миловала, — повеселел Штанев.
Хрущев слышит грохот, чьи-то возгласы, торопливую возню. Кто-то неотступно трясет его за плечо. Он все слышит, чувствует, понимает, что творится что-то неладное, но глаза открываться не желают.
— Да проснись же ты! — узнает он наконец голос Яши Штанева. — Летчику погибнуть на земле — свинство.
— Это точно, — соглашается он, с трудом размыкая веки. Кто-то мелькает перед глазами и скрывается за дверью. Перекрещенные бумажными лентами стекла окон их громадного общежития — бывшего клуба — вдруг вздрагивают и со звоном сыплются на пол. Земля шатается под ногами, в уши бьет раздирающий вой пикировщиков.
Сержант одним махом хватает с тумбочки брюки, гимнастерку, фуражку, планшет, одевается на ходу; у двери на секунду задерживается, надевает на босу ногу сапоги — благо они сорок последнего размера и нога влезает в них без задержки. Иван бежит следом за штурманом. В сотне метров от общежития — траншея, ведущая к бомбоубежищу, — старший лейтенант и сержант сваливаются в нее. Переведя дух, оба смотрят вверх. В небе кружит четверка Ю-87. Фашистские летчики высматривают цели и пикировщики один за другим устремляются вниз. Вокруг них белесыми шапками вспыхивают разрывы снарядов.
Эльза оказалась права, вспоминает Хрущев предупреждение девушки. Вчера покружил разведчик, а сегодня и бомбардировщики пожаловали... Как она там? Приземлись вроде бы благополучно — красную и зеленую ракету дала... Отчаянная дивчина. Эльза... Неужели немка?.. Нет, [13] конечно. Кличка... Волосы русые, губастенькая, синеглазая, — он чувствует, как сердце наполняется волнующей нежностью.
Бомбардировщики выходят из пикирования и берут курс на запад. Грохот и гул затихают, лишь из-за казармы доносится треск — что-то горит; черные клубы дыма почти вертикально поднимаются ввысь.
— Спохватилась Маланья к обедне, а она отошла, — вылезает из траншеи сержант Гайдамакин, механик с соседнего самолета. — Снова фрицы опоздали.
Хрущев распрямляется во весь свой могучий рост, смотрит на аэродром и, кроме своего бомбардировщика, поднятого на козлы, да У-2, приютившегося у заброшенного капонира, ни одного самолета не видит. И людей — никого.
— А где же все? — спрашивает летчик.
— Известно где — на задании, — знающе отвечает механик. — А оттуда — под Сальск, на новый аэродром, — И сожалеючи вздыхает: — Снова на перебазирование. И снова — на Восток... Так что вы поторапливайтесь в столовую, а то и пообедать не успеете. Туда как раз и комполка поехал.
У столовой суета, перебранка, звон посуды: официантки, заведующая столовой и трое солдат выносят прямо на улицу кастрюли, котлы, миски, ложки, упаковывают в ящики. Подъезжает грузовая автомашина, из кабины вылезает майор Омельченко, громко распоряжается:
— Быстро все в кузов и — на станцию. Все едете тем же эшелоном. — Замечает Хрущева со Штаневым: — А, и вы здесь. Не выспались? Я тоже не выспался. Перекусили?
Тоже нет? Ничего, поедите в вагоне. Помогайте грузить им и — в эшелон. Будете помогать майору Кузьмину.
— А самолет? — в недоумении восклицает сержант.
— Какой самолет? Ваш?
— Ну конечно.
— Он же без шасси. А где их сейчас достанешь? Сожжем.
— Да вы что?! — забывая о субординации, искренне восклицает сержант. — Это ж... бомбардировщик. Отличный самолет!
— Был, товарищ сержант. А теперь — считайте, списали его.
— Он и теперь... Разве трудно его отремонтировать?
— Легко? — усмехается Омельченко. — Так в чем же [14] дело? Ремонтируй, лети. Только времени у тебя маловато. Если к моему приезду на аэродром не успеешь, придется пешком топать.
— Успею. — Хрущев поворачивается к штурману: — Яша, захвати чего-нибудь перекусить и на самолет.
Иван срывается с места, как спринтер на старте, и мчится во весь дух на аэродром.
У бомбардировщика, поднятого на козлы и одиноко маячащего на стоянке, Хрущев, к своему удивлению, находит техника и механика. Оба что-то колдуют над искалеченными шасси.
— Уж не хотите ли вы приспособить этот чурак вместо подкоса? — спрашивает сержант с иронией.
— Хотим, — вполне серьезно отвечает механик. — Колеса нашли, а подкосами чураки послужат. По всем произведенным мною точнейшим расчетам — выдержат. При условии, разумеется, если летчик взлет и посадку произведет плавно, без перегрузок.
— За этим дело не станет. Но как вы их крепить будете?
— Порядок, командир, все продумано, — заверяет техник, видя, как волнуется летчик, — не беспокойтесь. Идите собирайте свои вещички и полетим. А то как бы фрицы не накрыли...
Сборы недолги: шинель, постель — в скатку, летное и прочее обмундирование — в вещмешок.
А с аэродрома уже доносится рев двигателей.
— Никак наш? — неуверенно спрашивает Штанев.
— Похоже...
Сержант и старший лейтенант хватают вещевые мешки и торопятся на аэродром. Штурман достает из кармана комбинезона кусок хлеба с салом, делит пополам и пробивает сержанту. Жуя на ходу, они одновременно задирают вверх головы: высоко в небе снова кружит «фокке-вульф». И ни одного выстрела зениток — те тоже снялись со своих мест.
— Наш самолет, наверное, увидел, — высказывает предположение Штанев.
Хрущев согласно кивает головой — рот забит хлебом; кант так голоден, что совсем уж невтерпеж.
— Как бы он на взлете нас не шандарахнул, — высказывает опасение штурман.
— Если взлетим, не шандарахнет, — заверяет командир. [15] Пояснить не успевает: у самолета им энергично машет рукой техник — быстрее, быстрее!
Летчик и штурман припускаются бегом.
Около их бомбардировщика, возвышающегося уже не на козлах, а на шасси — протезах, подрагивающих от вибрации моторов, стоит майор Казаринов, заместитель командира полка по политической части. Он в летном обмундировании, через плечо — планшет с картой.
— Где вы застряли? — недовольно спрашивает майор, стараясь перекричать шум моторов. — Минут десять уже молотят, — кивает он на винты. — Быстро по кабинам — и по газам! Я колодки уберу.
Техник с механиком сворачивают инструментальную сумку, хватают под мышки струбцины и лезут в кабину стрелков. Штанев не торопится, недоверчиво оглядывает деревянные подкосы шасси, лишь после этого забирается на плоскость.
— А вы? — спрашивает у Казаринова Хрущев.
— Взлечу за вами, — взглядом указывает майор на виднеющийся за капониром У-2. — Ну, Иван Максимович, как говорят, ни пуха ни пера!
Хрущев энергично поднимается в пилотскую кабину и застывает в удивлении: приборная доска зияет пустыми глазницами — ни указателя скорости, ни высотомера, ни вариометра, ни авиагоризонта. Даже лобовое стекло снято. Те, кто улетал рано утром, посчитали, что судьба этого бомбардировщика предрешена, и сняли многие приборы и детали на запчасти. Оставили только «пионер» — указатель поворота и скольжения, компас да прибор температуры головок цилиндров. Задержавшись взглядом на последнем, Хрущев почувствовал, как по спине покатились холодные капли пота: стрелки термопар обоих моторов отклонены вправо до упора. Значит температура головок цилиндров выше 300°, а положено не более 140° и моторы вот-вот может заклинить. Надо немедленно их выключить, дать им остыть, а потом уже готовиться к взлету.
Хрущев тянется рукой к лапкам магнето, но на секунду задерживается: надо сообщить Казаринову. Майор по его жесту догадывается о намерении и отчаянно машет рукой и показывает в угол капонира: где раньше лежали баллоны со сжатым воздухом, теперь было пусто. Ну конечно же теперь моторы нечем запустить. Придется взлетать [16] на перегретых... Что из этого получится?.. Да еще с таким шасси... Хрущев подает команду убрать колодки, и бомбардировщик трогается с места. Теперь надо выбрать направление взлета. «Когда быстрее взлетит самолет: под гору или в гору?» — вспоминается вопрос девушки. Вот ведь какая ирония судьбы: девушка спрашивала для себя, а решать эту задачу практически приходится ему. Их аэродром, оказывается, с покатом, на что ранее он не обращал внимания: для «здорового» самолета это существенного значения не имело, а вот для такого «инвалида» — сущая проблема. Ко всему еще и штиль. Итак, под гору...
Моторы с оглушительным ревом набирают обороты, и встречный поток воздуха, врываясь в проем, где должно быть лобовое стекло, прижимает летчика к спинке сиденья
сильнее и сильнее. Значит, скорость нарастает. Не так быстро, но Хрущев на это и не надеялся. Стойки шасси удалось приладить, но амортизация не работала. Малейшая неровность аэродрома тугими ударами отдавалась во всем теле.
Остается позади выбитая, без единой травинки, взлетно-посадочная полоса, а самолет все бежит и бежит, не чувствуя опоры под крыльями. Моторы ревут надрывно, со стоном, и, кажется, вот-вот не выдержат, испустят дух.
Давно, почти в самом начале разбега, Хрущев поднял хвост самолета, чтобы уменьшить сопротивление, но и это не помогает — бомбардировщик все бежит, будто и не собирается отрываться от земли. Иван старается ему помочь — берет на себя штурвал, создавая побольше угол атаки крыла, — никакого эффекта. А впереди уже видна лощина. Там — бугры, яр. И теперь даже если прекратить взлет, не спастись: тормозов у колес нет...
Толчки все сильнее, все чаще и ощутимее, трудно удерживать штурвал, педали руля поворота. Надо попробовать еще. Хрущев тянет на себя «баранку». Бомбардировщик подпрыгивает и зависает в воздухе с такой беспомощностью, что малейшая болтанка, малейшее дуновение ветерка свалит его на крыло. Летчик напрягает все свои силы, все свое мастерство, придерживает самолет над самой землей, давая ему возможность набрать скорость. И хотя ее определить не по чему, сержант чувствует — растет она, скорость, буквально по сантиметру. А моторы надрываются изо всех сил, стрелки прибора температуры головок цилиндра до сих пор за красной запретной чертой. [17]
И сбавить обороты нельзя — самолет тут же упадет Поток воздуха с остервенением бьет в лицо, треплет комбинезон, словно хочет сорвать его с плеч, со свистом уносится в щели фонаря кабины и по фюзеляжу к хвосту все сильнее прижимает летчика к сиденью, и это радует Хрущева, обнадеживает: бомбардировщик набирает скорость и обретает устойчивость. Теперь можно и переводить в набор высоты. Чуть заметное движение штурвала на себя — и земля уходит вниз.
Вот тебе и взлет под гору, почему-то снова вспоминается разговор с девушкой-разведчицей. Если бы она узнала, какой нынче был взлет...
3
Осенний лес будто еще дремал, но солнце поднялось уже высоко и залило всю громадную поляну, около которой расположился партизанский отряд после утомительного ночного перехода. На этой поляне следующей ночью предстоит принять самолет с Большой земли. Эльза изрядно прозябла, оттого и проснулась, но вставать не хотелось, ноги все еще гудели от ходьбы по бездорожью, по лесам и болотам. Она плотнее запахивала плюшевый пиджачок, втягивала голову в воротник и усиленно дышала во внутрь, стараясь согреться. Где-то недалеко раздавался назойливый стрекот сороки. «Неужели немцы?» — тревожно мелькнула мысль, окончательно разгоняя сон. Эльза высунула голову, прислушалась. Рядом похрапывали боевые товарищи, шагах в двадцати бесшумно расхаживал часовой Геннадий Подшивалов. Он был абсолютно спокоен и не обращал внимания на стрекот сороки. Значит,
все в порядке, кто-нибудь из своих потревожил лесную сплетницу: Подшивалов — опытный партизан, с первых дней войны в лесу и изучил повадки птиц.
Спать Эльзе больше не хочется, но и вставать особого желания нет: девушка лежит, припоминая детали предстоящего задания, прислушиваясь к таинственным лесным шорохам. Лес она любит с детства. Правда, в Воронежской области, где она родилась, леса не такие — их можно было исходить вдоль и поперек, и вековых сосен да елей видеть ей не доводилось, но все равно лес для нее был сказкой, миром волнений, загадок, открытий. Она любила лазать по деревьям, и лазала не хуже мальчишек, [18] потому наверное и дружила с ними, знала почти все гнезда даже гнездо с прожорливым кукушонком, которого вскармливали небольшие желтогрудые птахи... Разве думала она тогда, что лес станет для нее родным домом? Вот уж четвертый месяц он спасает ее от зноя и холода, от дождя и вражеских пуль. Сколько за эти четыре месяца было устроено вылазок, засад, сколько уничтожено врагов! Но они все еще здесь, на нашей земле, эти проклятые фашисты в мышиного цвета мундирах, и неизвестно, сколько еще предстоит прожить в лесу...
Сегодня у Эльзы, вернее, у группы, в которую она входит, очередное задание: встретить самолет, прибывающий с Большой земли с оружием, боеприпасами, продовольствием и отправить с ним в тыл тяжелораненых.
Мысль о самолете чудодейственным бальзамом согревает сердце и наполняет грудь радостью, и она не может больше думать ни о чем другом, кроме того высокого сильного сержанта, одной рукой взявшего у нее тяжелый рюкзак. Она расстегивает воротник и встает. Делает несколько наклонов вперед, влево, вправо; закончив разминку, идет к куче сложенных вещмешков. Находит свой, достает фляжку с водой, полотенце. Правда, лучше было бы найти родничок или озерцо, но слишком много дел, чтобы тратить время на поиски. Некогда даже вскипятить чай, а с каким бы удовольствием она хлебнула хотя бы незаваренного кипятку. Но некогда и нельзя: командир строго запретил разводить костры до поры до времени, чтобы не привлечь внимания фашистов. И Эльза, хлебнув натощак холодной водички, аппетитно захрустела сухарем.
— Проснулась? — раздается негромкий голос командира группы Бавина, появившегося из-за деревьев. Так вот кто вспугнул трещотку-сороку.
— Холод поднял, — отвечает Эльза. — Да и пора осмотреться, что тут к чему.
— Площадка, по-моему, очень подходящая. Целое поле. Здесь раньше хлеб сеяли...
Эльза выходит на опушку. Солнце слепит глаза, и она опускает взгляд и от восторга
вскрикивает — прямо перед ней пенек со всех сторон утыкан желтовато-серыми с коричневыми пятнышками шляпками опятами. Она наклоняется и срывает несколько штук. Грибной запах ударяет в нос, пьянит, и ей чудится большая, закопченная на костре сковородка, доверху наполненная жареной картошкой с грибами. Но костры жечь запрещено, и приходится отогнать [19] видение. Эльза распрямляется, делает несколько шагов, стараясь заняться своими мыслями, но лес будто дразнит ее, выставляет напоказ, коричневоголовые боровики и подберезовики, оранжевые подосиновики, охряные маслята и рыжики.
Эльза не раз слышала как полным-полны белорусские леса грибами, и около базы вместе с другими девушками собирала их, но такую щедрость природы видела впервые. Давно не ступала, видно, здесь нога человека, коль все стоит в диком, первозданном виде. Неплохо было бы нарезать грибов да насушить над костром к зиме...
Бавин заметил: сквозь бурьян и траву кое-где просматривалась прошлогодняя стерня, неровная — то высокая, то низкая: косили чем попало и как попало. И все же косили. А в этом году поле заброшено: нечем сеять, да и некому.
Эльза спускается в самую низину: поляна представляет собой длинную элипсовидную площадку около полутора километров длиной и метров пятьсот шириной с заметным наклоном к лесу, где они остановились. «Под гору самолет быстрее наберет необходимую для отрыва скорость», — вспоминаются слова высокого с добрыми глазами сержанта, спокойного и чем-то очень милого, располагающего к откровенности, к доверию. Перед вылетом Эльзу предупреждали, чтобы ни с кем на аэродроме в разговор не вступала. Она нарушила этот запрет и до сих пор не может понять, что толкнуло ее на это. И раньше ей приходилось встречаться с симпатичными мужчинами, оказывающими внимание и желающими добиться взаимности, но ни один из них не взволновал ее так, как сержант. Чем околдовал он ее?.. Лицо самое простое, фигура далеко не спортивная, походка вразвалочку, а вот что-то в нем есть такое притягательное. Вот и не сдержалась она, первая заговорила... и когда приземлилась темной ночью здесь, в Белоруссии, ответила ему красной и зеленой ракетами.
С той ночи, вернее с того вечера, думает она все время о сержанте. Он даже снится ей, является в воображении в минуты радости и грусти — высокий, сильный, спокойноуверенный в своих поступках. Таким он ей, по крайней мере, представлялся. А когда вчера сообщили, что к ним с Большой земли прилетит самолет, на душе у Эльзы стало и того беспокойнее: все кажется, будто прилетит к ним он, ее знакомый сержант. Разумом она понимала — такое невозможно: сержант летает на бомбардировщике, [20] ожидается транспортный самолет. Но сердце не подчинялось рассудку.
Вот и выбранная для посадки самолета площадка. Она ровная с твердым грунтом, поросшим сурепкой, лебедой, васильками — извечными спутниками колосовых, — вымазавшими чуть ли не в рост человека. Посадке они не помешают, а вот взлетать будет сложнее. Эльза останавливается еще раз окидывает площадку взглядом, прикидывает: «Взлетит, под гору... А костры разложим вот здесь...»
Эльза первой улавливает гул самолета и сразу определяет — наш, Ли-2. Тормошит прикорнувшего у сложенного в кучу хвороста командира, намаявшегося за эти сутки более всех: он за все в ответе — за скрытность перехода, доставку тяжелораненых, обеспечение благополучной посадки самолета, и за многое другое. Потому и отдыхал он меньше остальных. Вот только с наступлением темноты, когда хворост уложили в кучи и все приготовили к встрече самолета, он прилег и мгновенно уснул.
Бавин поднимается без промедления — военная жизнь приучила его всегда быть начеку и во сне помнить задачу, — прислушивается. В слабом свете зависшего у самой кромки леса лунного серпа видно его сосредоточенное лицо.
— Наш, — уверенно подтверждает он, смотрит на часы и командует: — Зажечь костры!
Ли-2 делает круг, и Эльза испытывает такое неудержимое желание послать красную и зеленую ракеты, что достает из-за пазухи ракетницу. Бавин замечает это.
— Пока нет необходимости, — предостерегает он.
И Эльза приходит в себя, прячет ракетницу. Конечно же нет никакой необходимости...
Самолет делает заход и почти у самой земли включает фары. Садится точно на траверсе костров. Бавин, Эльза, Подшивалов и еще четверо партизан, непосредственно занимающихся посадкой, бегут к нему. Ли-2 разворачивается и ослепляет светом фар приближающихся. Эльза прикрывает глаза рукой. Самолет сбавляет обороты, но летчики моторы не выключают, чтобы в случае крайней необходимости иметь возможность немедленно взлететь. Отрывается дверь. Эльза видит в проеме человека и кричит изо всех сил пароль. Спускается лестница и ей протягивают руку. Она одним махом взбирается в салон и с замершим [21] сердцем идет по узкому проходу между ящиков и тюков к кабине летчиков. А ноги становятся пудовыми их трудно оторвать от пола и вот-вот подломятся — так бывает только во сне... Навстречу ей выходит высокий мужчина в меховой летной куртке, в шлемофоне. Лицо не видно, но походка... Такая знакомая...
«Иван!» — с тревогой думает она. Но тут же бессильно опускает руки: нет, не он. Бледно-оранжевый блик от костра, пробивающийся сквозь иллюминатор, высвечивает немолодое лицо с широким приплюснутом носом, раздвоенным подбородком. Не он..
— Туда нельзя! — властно останавливает ее летчик. — Вы что хотите?
— Вы командир? — Эльза берет себя в руки и заставляет успокоиться.
— Нет, командир там, — кивает высокий на дверь пилотской кабины. — Он скоро выйдет.
Командир, выглянув из-за перегородки, — небольшого роста, круглолицый, — нетерпеливо махнул рукой:
— Быстрее разгружайте, время вышло!
— Простите... — Эльза поворачивается и медленно спускается по трапу на землю.
Самолет улетел. Партизаны перенесли в лес ящики, тюки; самое необходимое взяли с
собой, остальное зарыли под кронами деревьев.
— Эльза! — на пути в лагерь подзывает Бавин девушку. — Готовь группу к заданию. На этот раз — железная дорога Тереховка — Хоробичи. Немцы усиленно перебрасывают к Сталинграду боевую технику и живую силу. Дорогу охраняют каратели и полицаи, так что будьте осторожны. Возьмите мины замедленного и дистанционного действия. Возвращайтесь сюда же. Встреча через пять дней.
Второй день сыплет дождь. Мелкий, холодный, и воздух от него стылый, промозглый, пробирающий до костей. Одежда на партизанах промокла, отяжелела и не согревает. Вторые
сутки группа подрывников во главе с Эльзой находится в засаде. Трижды партизаны минировали железную дорогу и трижды немцы срывали диверсию: два раза мины обнаруживала специально натасканная овчарка, в третий сработала шумовая сигнализация, и партизаны чуть не попали в засаду. Пришлось менять роковое место, уходить дальше на восток. [22]
Почти весь день пролежали партизаны недалеко от железнодорожного полотна, изучая систему его охраны. А на этом участке фашисты неусыпно оберегают важнейшую артерию своего фронта: вдоль насыпи расхаживают часовые с собаками, два раза проезжала дрезина с пулеметом; а когда идут особо важные эшелоны, впереди паровозов прицепляются платформы, груженные песком.
Много за эти длинные-предлинные часы передумала Эльза перебирала в памяти свои прежние вылазки на шоссейные и железные дороги. Были и раньше трудные случаи, но этот — особенный. Можно, конечно, просто взорвать железнодорожную линию и уйти — это тоже задержит на какое-то время переброску на фронт эшелонов, — но надо не просто взорвать дорогу, а и уничтожить технику, фашистов. И Эльза со своими друзьями ждала. Ночь опускается медленно, заливая чернотой болотистые низины, сквозь которые вчера пробирались партизаны, опушку леса, насыпь железнодорожного полотна. И вот все — и небо и земля — становится черным. По-прежнему моросит дождь, по-прежнему холод сковывает тело. Эльза чувствует, как ноги начинает сводить судорога. Она то поджимает их, то распрямляет; тишина такая, что слышно, как на далекой отсюда станции пускает пары паровоз. Эльза замирает, прислушивается; с разлапистой ели ритмично и монотонно шлепают дождевые капли.
— Идите, — шепчет Подшивалов, кивая в сторону ели. — Переобуйтесь, разотрите
ноги.
— Потом, — так же тихо отвечает Эльза. Она — командир подрывной диверсионной группы — не может, не должна показывать свою слабость. Всем трудно, и не у нее одной сводит судорогой ноги. Надо вытерпеть, выдюжить, иначе какой же ты командир!
Слева на железной дороге вспыхивает светлячок — кто-то прикуривает. Не иначе патрульные. Вскоре издалека доносятся приглушенные дождем голоса. Речь немецкая. Но с собакой фашисты или нет? Днем ходили с овчаркой, теперь не будь ее — не вели бы себя так беспечно. Хорошо, что ветерок потягивает со стороны насыпи, иначе собака могла бы учуять партизан.
Голоса немцев удаляются в сторону соседнего поста и затихают. Расстояние между постами около двух километров. Партизаны располагаются почти посередине. Если патрульные пойдут до конца своего участка, ждать придется не менее получаса, но могут вернуться и раньше. [23] А вот у будки, где находится их пост, они не удержатся от соблазна зайти погреться...
Дождь усиливается, и его всепроникающей холодной сырости, казалось, уже не стерпеть.
К счастью, патрульные вскоре возвращаются. Погода видно, и им не по нутру — назад идут к будке. Торопятся и разговаривают уже не столь весело.
Едва замирают их голоса, Эльза встает и бежит к насыпи. За ней — Подшивалов, Быков, Бутримович, Кравчук. У каждого на плечах рюкзак с тяжелой ношей — взрывчаткой, ломами, кирками и другими инструментами необходимыми в подрывном деле. Без слов, без жестов останавливаются одновременно у железнодорожного полотна, — все было отработано заранее — снимают рюкзаки и приступают к делу: подкапывают насыпь, подготавливают заряд, бикфордов шнур. Эльза отходит чуть подальше и для подстраховки устанавливает еще и противотанковую мину. Грунт, несмотря на затяжной дождь, твердый как камень, и кирка с трудом отколупывает спрессованные голыши. Эльза быстро устает: по лицу и шее вместе с каплями дождя сбегают и капли пота. Подходит Подшивалов.
— Мы закончили, — сообщает он. — Давайте помогу. Она не успевает ответить: на спину партизана из темноты прыгает овчарка и сбивает его с ног. Эльза на миг цепенеет, несмотря на то, что все время была начеку — овчарка обрушилась, как привидение, — но лишь на миг. Бросает кирку и, выхватив из-за голенища сапога финку, падает на собаку и вонзает ей в брюхо острое лезвие. Овчарка дико взвизгивает, пытается вырваться из-под человека, однако силы быстро покидают ее.
В ту же секунду на насыпи вспыхивают огоньки, раздается автоматная очередь, пули свистят над головой Эльзы. Снизу отвечают наши, и все стихает: то ли немцы залегли, то ли пули партизан попали в цель. Слышно лишь, как хрипит овчарка и бьется в предсмертной агонии.
Эльза отползает и тянет за собой с насыпи Подшивалова.
Внизу группа собирается и, как и прежде, не говоря ни слова, партизаны ползут один за другим по-пластунски в сторону леса. Выстрелов больше не следует ни с насыпи, ни со стороны будки: то ли там не слышали, то ли расценили эту стрельбу как
предупредительную. [24]
Лишь метров за двести от насыпи Эльза приостанавливается и спрашивает у Подшивалова:
— Не укусила?
— Шарф спас. За горло было уж вцепилась.
— Придется взрывать, не дожидаясь эшелона, — включается в разговор Кравчук. — Сейчас спохватятся, подкрепление прикатит.
— Может, и не прикатит, — возражает Быков. — Похоже обходчиков мы уложили тихо... Почему они так быстро вернулись?
— Вот и меня это волнует, — отзывается Эльза. — Вернулись они не случайно: или собака нас учуяла, когда проходили мимо, или скоро должен следовать эшелон. Первое маловероятно: если бы они выслеживали нас, не поступали бы так опрометчиво. Скорее — второе. Так что, подождем немного...
Догадка оказывается верной: не прошло и десяти минут, как с Запада донесся перестук колес по стыкам рельсов. А спустя еще немного окрестности потряс взрыв...
И снова изнурительный марш-бросок по болотам, по трясинной хляби. Люди выбивались из сил. Порой казалось, что сердце не выдержит, вот-вот разорвется в груди. Автомат гнет к земле, ноги подламываются. Хочется упасть прямо перед собой и передохнуть хоть минутку. Но надо идти. Она — командир и должна показывать пример.
Лишь на рассвете они попали в лес, где нет ни кочек, ни болот, а опавшая с деревьев листва манит сильнее, чем перина. Эльза выбрала место поглуше и объявила привал.
Засыпая, она слышала в небе гул самолета и в воображении явственно и четко увидела простое, доброе и улыбчивое лицо сержанта. Где он теперь, жив ли?..
4
Весна сорок третьего на Северный Кавказ пришла дружная, солнечная. До самого марта держались морозы, потом зарядила непогодь, и вдруг в один день все переменилось: небо очистилось от облаков, ветер стих и землю залили синь неба да лучи яркого, полетнему знойного солнца. Аэродром быстро о подсох и заполыхал слепящими, как само солнце, одуванчиками. Зазвенели в небе жаворонки, загорланили на уцелевших деревьях грачи, латая [25] старые гнезда, нежно и переливчато выводили рулады л сточки, сидя на карнизах у своих мазанок, заставляя людей хоть на минуту забыть о войне, о том, что на каждом шагу их подстерегает смерть.
Лейтенант Иван Хрущев стоит около своего бомбардировщика, наблюдает за птицами и ему вспоминается детство. Давно ли босоногим мальчишкой бегал он за «фордзоном», появившимся в селе трактором, и мечтал прокатиться на нем. А когда увидел самолет и узнал, что им тоже управляют люди, потерял покой и сон. И давно ли он был курсантом авиашколы, впервые поднялся в небо. Если не думать о войне, словно только вчера совершил самостоятельный полет. Но попробуй не думать, когда война сама напоминает о себе. Вон каким стал твой бомбардировщик: правая сторона фюзеляжа, крыло, стабилизатор закопчены, местами оплавились от огня.
...Еще при подходе к цели Хрущев заметил, что правый мотор искрит, в кабине почувствовалась гарь.
— Командир, из выхлопных патрубков правого мотора летят снопы искр, пахнет горелым маслом, — осторожно доложил стрелок-радист.
— И я чую, — подтвердил штурман. — Нехороший запах. Может, вернемся?
Хрущев был обеспокоен не меньше: запах гари свидетельствовал о неисправности мотора. По всем правилам надо возвращаться, но экипаж идет первым, чтобы сбросить контейнер с рассеивающимися ротативными авиабомбами для обозначения цели, по которой будет наносить удар полк... И до цели осталось совсем немного. Однако члены экипажа встревожены, напряжены, это тоже может повлиять на результат бомбометания. Надо как-то успокоить их. Хрущев уменьшил обороты правого мотора -искрение прекратилось — и сказал весело:
— Живы будем — не помрем! Смотри, штурман, не прозевай цель!
Пилотировать между тем стало труднее, самолет так и норовил развернуться вправо, приходилось все время жать левую педаль, чтобы компенсировать неравномерную тягу рулем поворота. Лишь когда штурман доложил, и до цели осталось семь минут лету и пора снижаться, летчик облегченно вздохнул, убрал обороты и левого мотора. Позиции вражеских войск в Керчи, которые предстояло бомбить, ощетинились сотнями прожекторов. Заполыхали разрывы зенитных снарядов. Недаром Керчь между собой летчики называли «рентгеном». Чем ближе самолет подходил к городу, тем ближе и чаще вспыхивали разрывы. Бомбардировщик трясло и бросало из стороны в сторону будто он попал в вихри тайфуна. Вот, наконец, и порт через который фашисты снабжали всю свою «Голубую линию», пытаясь сохранить Таманский плацдарм. Штурман сбросил пятисоткилограммовый контейнер. Не успел Хрущев отвернуть самолет в сторону моря, как внизу заполыхали огни, образуя световой эллипс. Спустя немного все в порту заплясало, закачалось, запрыгало в световых отблесках, будто кто-то устроил иллюминацию с фейерверком. И долго еще наблюдал экипаж, летя над морем, гигантские вспышки пожаров. Хрущев, помня о правом моторе и зорко наблюдая за ним, всецело положился на левый, натужно постанывающий, но уверенно тянувший экипаж к своему аэродрому. Лишь когда вышли на прямую к посадочному «Т» и были выпущены шасси и закрылки, летчик рискнул дать полные обороты обоим моторам. И тут же из правого вылетел сноп искр и следом за самолетом зазмеился огненный шлейф. Пришлось снова убирать газ. Едва бомбардировщик приземлился, правый мотор окончательно заглох.
А солнце так печет, хоть снимай гимнастерку да загорай. Воробьи, ошалев от радости, то пулями носятся друг за другом, то, собравшись в стаю, гомонят, стараясь перекричать друг друга. И от этого яркого солнца, от обилия цветов и веселого гомона становится радостно на душе.
От соседнего самолета к Хрущеву направляется командир полка подполковник Омельченко. На лице тоже радость, улыбка. Предупреждающим жестом останавливает летчика, собравшегося отдать рапорт.
— Вольно, товарищ лейтенант. — Протягивает руку для приветствия: — Здравствуй. Дотопал, говоришь? — кивает на самолет. — Да, в рубашке родился. Девяносто девять шансов из ста, чтобы мотор загорелся. Но все обошлось. Поздравляю. И с благополучным возвращением и с очередным званием: только что сам телеграмму читал — старшего лейтенанта тебе присвоили. Рад и горжусь — достоин. Сколько, говоришь, на «рентген» слетал?
— Третий десяток разменял.
— Н-да, отдохнуть бы тебе, пока самолет ремонтируют
Но сам понимаешь, какое жаркое время. Фашисты делают все, что бы удержать «Голубую линию» и Крым. Эскадру асов «Удет» сюда перебросили.[27]
— Надо бы, товарищ подполковник, нанести удар по аэродрому базирования.
— А где базируется эскадра?
— Думаю, что скорее всего в Багерово. Я сам видел вчера, когда возвращался с задания, как вспыхивал там прожектор, освещая посадочную полосу. До этого там ночью полеты не производили.
— И я видел. А днем разведчик летал, снимки привез — аэродром пустой.
— Значит, немцы используют Багерово только ночью как аэродром подскока.
— И я так думаю. Но командованию нужны доказательства. Нам приказали во что бы то ни стало сфотографировать аэродром ночью.
— Надо какой-то маневр придумать...
— Думали. Только немцы тоже меняют тактику, на мякине их не проведешь. И воюют упорно. Истребители при обстреле зениток нас атакуют... Ну да ладно, отдыхай, что-нибудь придумаем.
Омельченко ушел, а Хрущев стоял, погруженный в невеселые думы. Нет, война не дает о себе забыть... На днях два лучших экипажа погибли — капитана Ситнова и старшего лейтенанта Кулакова. Не раз Хрущев летал с ними на задание, не раз во время атак истребителей друзья прикрывали друг друга огнем пулеметов. Молодые, хорошие ребята. И вот их нет. А кто-то не вернется еще сегодня, и завтра...
— О чем, командир, задумался? — прерывает размышления старшего лейтенанта штурман. — Снова Эльза небось вспомнилась?
— А что, разве не достойна? — поддержал шутливый тон командир. — Ты и то ее не забываешь, а я как-никак с ней по душам разговаривал.
— Хороша Маша, да не наша, — вздыхает Штанев. — И далеко к тому ж. Давай-ка лучше отдохнем, пока есть возможность.
5
Вечером резко холодает: земля еще не отогрелась, едва солнце опускается за горизонт, стынью веет снизу и сверху, от посиневшего сразу неба, ставшего по-осеннему холодным, неприветливым. Хрущев и Штанев провожают [28] уходящие один за другим на юго-запад бомбардировщики. Последним взлетает старший лейтенант Смольников, на фотографирование Багерово.
Пилоты Смольникова недолюбливают, и есть за что: в полку летчик около года, а на боевые задания летал не более десяти раз. Все у него что-нибудь, как говорится, не слава богу. Вот и сейчас Хрущев провожает взлетающий самолет, прищурив глаза.
— Если он улетит, пойдем отдыхать, — говорит Штанев.
— Не спеши, кума, в баню, пар останется — позовут, — шутит Хрущев. И будто в воду смотрит: бомбардировщик вдруг уклоняется к оврагу и прекращает взлет. — Что я тебе говорил?
— Теперь не иначе нас пошлют, — дополняет Штанев.
Не проходит и пяти минут, как к ним подбегает дежурный по аэродрому и сообщает: срочно на КП.
У землянки, служащей командным пунктом, Хрущева поджидает командир дивизии полковник Лебедь, командир полка подполковник Омельченко, начальник штаба, замполит. Лица у всех хмурые, недовольные.
— На постановке задачи присутствовали? — без обиняков спрашивает Лебедь у Хрущева.
— Так точно, товарищ полковник, присутствовал.
— Какую задачу должен выполнять Смольников?
— Сфотографировать аэродром Багерово. Теперь эта задача поручается вам. Ясно?
— Так точно.
— Полетите на самолете Смольникова, — уточняет Омельченко.
— Отправляйтесь на самолет и готовьтесь к вылету. Какие будут у вас, товарищ старший лейтенант, соображения по этому поводу? — поинтересовался полковник.
— Наши летчики уже трижды летали на это задание. Неудача, думается, заключается не только в том, что аэродром сильно защищен зенитной артиллерией, прожекторами и истребителями, а и нашими тактическими просчетами: разведчик идет в общей группе на Керчь, когда все средства ПВО приведены в боевую готовность. И высота фотографирования — шесть тысяч метров — великовата:
могут облака помешать, и локатором легче поймать...
— Ваши конкретные предложения? — Лебедь что-то быстро помечает в блокноте
— Разрешите мне, товарищ полковник, взлететь на [29] сорок минут позже? К этому времени группа завершит работу, ПВО успокоится. Я на приглушенных моторах с семи тысяч снижусь до тысячи восемьсот...
Лебедь стреляет взглядом в Омельченко, в Штанева и вновь делает пометки в своем блокноте.
— Хорошо, пусть будет по-вашему. Взлетайте, старший лейтенант, хоть на час позже, но снимки — привезти!
6
Бомбардировщик долго и нудно набирает высоту, и чем выше он поднимается, тем чернее становится небо и ярче светят звезды, словно до них остается совсем близко. Члены экипажа изредка подают голос, не желая, видно, отвлекать командира от пилотирования. Наконец стрелка высотомера достигает семитысячной отметки. Летчик отдает штурвал от себя — переводит самолет в горизонтальный полет. Машина сильно отяжелела, почти не реагирует на рули, долго раскачивается, «плавает», прежде чем опустить нос или накрениться. Кислородная маска плотно охватывает переносицу и подбородок, чистый кислород сушит горло; зато на такую высоту редко залетает зенитный снаряд, истребителей тоже пока не видно. Внизу — пустота и безмолвие. Притаилось, спит все живое... Нет, не спит! Справа, чуть в стороне вспыхивает ракета и взвивается ввысь, то ли указывая, где вражеская цель, то ли просто приветствуя наших летчиков. Кто он, этот
смельчак? Профессиональный разведчик или оставленный для подпольной работы отчаянный мальчишка-комсомолец?
— Командир, а не твоя ли это Эльза нам сигнал подает? — спрашивает Яков Штанев, словно разгадав его мысли.
— Она, Яша, она, — подыгрывает Хрущев. — Вчера по телефону звонила, приглашала в гости. Сказала, ждать будет, а товарищ полковник Лебедь, видишь, в другое место послал.
— Ничего, Ванюша, в другой раз к ней слетаем. А сейчас подержи железно курс, высоту — еще разок промер сделаем.
Яша Штанев — отличный штурман. И человек замечательный. Скромный, спокойный, в совершенстве знающий свое дело, с удивительной интуицией. Недавно полк получил задачу разыскать и уничтожить головной склад боеприпасов [30] фашистов, который снабжал всю «Голубую линию». Экипажи-разведчики избороздили Таманский полуостров вдоль и поперек, но никто даже признаков головного склада не обнаружил. И вот полетел Хрущев. Штанев сам выбрал маршрут. Ночь была темнее, чем эта. Над станцией Старотиторовская штурман попросил сделать круг. Внизу — тишина. Ни одного выстрела.
— Странно, очень странно, — высказал свои мысли по СПУ Штанев. — Спят фрицы или затаились?.. Спустись пониже, командир.
Хрущев посмотрел вниз и увидел чуть заметные огоньки, движущиеся в одну сторону и внезапно пропадающие.
— А ведь это машины, Яша, с маскировочными козырьками фар, — сказал он штурману. — И появились они здесь не случайно, тем более, что ни одной грунтовой дороги на карте в этом месте не обозначено.
— Наверняка внизу склад, Ванюша! — радостно крикнул Штанев. — Бросим одну для пробы?
— Бросай все! — приказал Хрущев.
— Есть.
Бомбардировщик облегченно взмыл ввысь, а на земле заполыхали разрывы. Один, другой, третий... И вдруг будто вся вселенная содрогнулась...
Трое суток потом рвались в Старотиторовской боеприпасы — торпеды, авиабомбы, орудийные снаряды...
Да, со штурманом повезло Хрущеву. И не только со штурманом. Стрелок-радист Саша Сурдоленко — воздушный снайпер, трех «мессершмиттов» уже срезал. Под стать ему и стрелок сержант Степан Давыдов — тоже подбил двух «мессеров». С таким экипажем воевать можно...
И вот теперь — новое ответственное задание.
— Командир, цель впереди, — докладывает Штанев. — Десять влево.
Хрущев на секунду отрывает взгляд от приборной доски и видит чуть заметные всполохи, похожие на зарницу.
Вижу, Яша, кажется, наши неплохо работают.
— Вот так бы и по Багерово...
— А что, если прилетим, а фрицев там нет?
— И ты сомневаешься?
— Да нет. Но немцы не дураки. Вчера тут кружили наши разведчики, позавчера. Вот возьмут фрицы да одну ночку и не прилетят, дадут нам возможность сфотографировать пустое поле. [31]
— Прилетят, — твердо стоит на своем Штанев. — Они тоже хотят бить более эффективно, а из глубокого тыла это не так-то просто. Да и горючку приходится им экономить.
Доводы штурмана убеждают. В самом деле, аэродром подскока для немцев не просто эксперимент, а крайняя необходимость. С топливом у них становится все хуже и хуже, а летать приходится все дальше. Вот и вынуждены они хотя бы на ночь перебрасывать авиацию к линии фронта, совершать налеты на наши тыловые объекты, прикрывать свои порты и войска...
— Пора снижаться, — напоминает штурман. Хрущев убирает газ моторам, и бомбардировщик почти неслышно скользит вниз. — Десять влево... Отлично, так держать!
— Аэродрома что-то не видно, Яков.
— Скоро увидишь...
Стрелка высотомера энергично бежит по окружности, отсчитывая потерянные метры высоты: 5000, 4000, 3000. Хрущев снимает кислородную маску и слышит, как гулко бьется собственное сердце — все остальное замирает в напряженном ожидании, в едином стремлении подойти к цели незамеченными. Удастся ли? Летавшие ранее сюда экипажи рассказывали, что аэродром прикрывает радиолокационная станция с мощным прожектором, который мгновенно ловит самолеты. Затем подключаются другие прожекторы, бьют зенитки, подходят сзади истребители. Но пока все тихо. Высота 2000, 1800. Хрущев дает газ моторам, выводит машину в горизонтальный полет...
— На боевом курсе!
Штурман сбросил светящую авиабомбу, включил фотоаппарат.
Экипаж напряженно ожидает, что предпримут немцы. И вот она, ослепительная вспышка. Будто само солнце зажглось в ночной черноте.
Глаза не успевают освоиться с темнотой, как сверкает голубой луч прожектора. Сверкает, как неотразимый клинок, с первого же выпада пронзающий противника... И все-таки он запаздывает. Всего на долю секунды, но этой доли вполне хватает, чтобы фотоаппарат сработал.
Единым движением руки Хрущев смахивает со лба на глаза светозащитные очки и бросает бомбардировщик вниз, влево. А в него уже впиваются еще несколько серебристоголубых лучей. Теперь рывок вправо и вниз, вниз!
Лучи клонятся вместе с самолетом, будто застряли, пронзив его фюзеляж. Кругом бушуют разрывы снарядов, слева справа, спереди темноту пронзают трассирующие пули. Вниз, вниз!
— Иван, что ты делаешь?! — истошно кричит Штанев. — Под нами Керчь, крыши домов! Набирай высоту!
Хрущев выхватывает машину из крутого снижения и ведет по горизонту. Низко — да! Но в этом спасение. Лучи прожекторов выпустили самолет, отстали, зенитные снаряды рвутся намного выше. И пусть фашисты лупят в белый свет, как в копеечку.
— Под нами море! — торжественно докладывает штурман. — Курс сорок пять.
— Домой? — с подвохом спрашивает Хрущев.
— Домой, домой, — не улавливает иронии Штанев.
— Думаешь, успеешь еще в деревню к милашке?
— Нет, лучше по пути к твоей Гильзе, то есть Эльзе, заскочим, ведь она приглашала, — не остается в долгу штурман, и оба весело смеются.
Ему снится берег Черного моря, пляж. Купаются люди, загорают. Он плывет к берегу, но волной относит его, он выбивается из сил и ничего не может поделать. Эльза видит его и зовет громко каким-то незнакомым мужским голосом: «Хрущев, Хрущев!» Он хочет отозваться, но не может, нет голоса. Тогда она зовет штурмана: «Штанев, Штанев! Да проснитесь вы, черти!»
И он узнает голос — Омельченко. Тут же вскакивает. Точно, в казарме сияющий Омельченко с какими-то листами бумаги в руке.
— Проснулись, сони! Извините, что прервал ваш отдых. Не мог утерпеть. Спасибо вам, други. — Подполковник обнимает Хрущева, целует. — Отличные снимки. Аэродром действующий. Лебедь хоть и зол на тебя, велел реляцию писать, к капитану тебя представить.
— Так я что, — улыбается Хрущев. — Это вот штурман постарался.
Не беспокойся, и штурмана твоего не обойдем.
7
Эльза входит в село и невольно замедляет шаг, а сердце бьется так сильно, будто она на беговой дорожке. [33]
Искоса смотрит налево, направо — ни души. Дворы заросли лебедой и лопухами, ни заборов, ни калиток — видно, все пошло на топку. Село кажется вымершим. Но огороды посажены, прополоты; кое-где во дворах лежит разбросанное на просушку сено — лето выдалось дождливое, холодное. Но куда же подевались жители в самый разгар домашних и полевых работ: часы на руке Эльзы показывают начало двенадцатого. Боятся выходить из дома, чтобы не попасться на глаза фашистам? Но и немцев не видно. Какая-то зловещая тишина таится вокруг. Даже воробьи шныряют как-то торопливо, испуганно.
У четвертой от края хаты она замечает на телеграфном столбе объявление. Лучше, конечно, пройти мимо, а если там интересное сообщение? Надо подойти. Объявление написано по всем правилам, на форменном бланке с орлом и фашистской свастикой. Отпечатано на машинке на польском языке: «Немецкое командование доводит до сведения
всех жителей, что 3 июля 1944 года в воздушном бою был сбит советский бомбардировщик. Двоим членам экипажа удалось спастись.
Немецкое командование напоминает: за укрывательство советских
военнослужащих — расстрел, за помощь в поимке — денежное вознаграждение — 10 тысяч марок за каждого...»
Поднялась цена, мысленно усмехается Эльза. Неделю назад фашистские вояки предлагали пять тысяч и корову. Корову наверное сами съели... Расклеили всюду, даже в этом неприметном местечке Попины, затерянном среди лесов и болот. Хотя именно глухомань и отдаленность от дорог заставили Эльзу заглянуть сюда. По рассказам партизан бой между советским бомбардировщиком и немецкими истребителями происходил над железной дорогой Брест — Пинск, недалеко от сел Попины, Королины. Там и выпрыгнули двое. Лес и болота помогли им укрыться от преследования. Путь советских летчиков, несомненно, лежит на восток. Но не так-то легко будет им выбраться из болот и пробиться к своим сквозь сплошные потоки отступающих фашистских войск. Хорошо, если они попадут к партизанам. По непроверенным слухам один летчик неделю назад прибился к соседнему партизанскому отряду. Бавин даже фамилию назвал: то ли Данин, то ли Данынин, капитан, Герой Советского Союза. Но с какого именно он сбитого самолета — никто не знал.
Эльза не тешит себя мыслью, что она найдет имени [34] Ивана Хрущева, своего давнего знакомого, который до сих пор не выходит из головы и сердца. Правда, к этой неотвязной мысли она уже притерпелась: сколько раз судьба испытывала ее терпение, насмехалась над ней — на каждую встречу с прилетающими с Большой земли экипажами Эльза отправлялась с трепещущим сердцем: ей казалось, что именно в этот раз прилетит он. Но прилетал другой. И во второй, и в третий, и в десятый раз... Приходилось ей и отыскивать сбитых летчиков. Знакомого сержанта среди них не было. Но надежда встретить его не угасла. И потому, когда командир спросил, кто желает отправиться на поиски летчиков, сбитых 3 июля, она вызвалась одной из первых... Сегодня 15 июля. Прошло двенадцать дней. Эльза побывала не в одном селе, поговорила не с одним жителем, услугами которых пользовались партизаны — никаких следов. Только вот эти объявления-листовки. И странное дело: читая их, на душе у Эльзы становится теплее — значит, летчики не пойманы, либо где-то прячутся, либо пробираются на восток.
У нее разработана нехитрая, но правдоподобная легенда: она, жительница ближнего городка, забралась сюда в сельскую глухомань, чтобы выменять на свои украшения — браслет, серьги, часы — продукты. Но сельчан мало интересуют теперь побрякушки, вот и ходит она из села в село. С приближением советских войск обстановка намного улучшилась: многие из тех, кто работал на фашистов, теперь демонстративно выражают недовольство своими хозяевами.
Заходя в село, Эльза окольными путями выспрашивает, где живет нужный ей человек, на которого можно положиться, а потом уже у него узнает о всех новостях и о разыскиваемых летчиках. В Полинах месяц назад побывал Геннадий Подшивалов и познакомился там с крестьянином Феликсом Домбровским. Знакомство, правда, было
случайным, мимолетным, но что-то партизану-разведчику понравилось в поляке. Он заверил Эльзу, что на Домбровского можно положиться. Где он живет, Эльза не знает, потому, как и делала раньше, решает зайти в первую опавшую хату. Настораживает лишь то, что ни во дворах, ни в окнах не видно ни души.
Прочитав объявление, Эльза еще раз беглым взглядом окидывает заросшую бурьяном усадьбу — никого, — и идет дальше. В соседней хате кто-то мелькает в окне — занавеска колышется, — но испугавшись чего-то, прячется. То [35] же происходит и в другом доме. Значит, в селе творится что-то неладное. Эльза размышляет, как поступить: заходить к кому-нибудь или побыстрее исчезнуть? Но тогда будет мучить сомнение: не зашла, а летчики возможно именно в этом селе. И она решается. Круто и решительно поворачивает к следующей хате, будто идет к давним знакомым. На ее счастье перед ней открывается дверь и из сеней выходит пожилая женщина: темные густые волосы уложены кое-как, и морщинистое лицо с усталыми заплаканными глазами, в которых застыло безутешное горе.
— Добрый день, — здоровается Эльза, стараясь как-то смягчить свое бестактное вторжение.
— Здравствуйте, — равнодушно отвечает женщина и, словно очнувшись и только что увидев перед собой девушку, спрашивает: — Вы ко мне?
— Собственно, я хотела... но вам, видно, не до меня.
— Да уж... — У женщины текут из глаз слезы. — Говорила ему, умоляла, не слушал, а теперь вот... — Ей хочется выговориться даже чужому человеку, поведать о горе. — За что они...
Эльза смутно догадывается — забрали мужа. В последнее время фашисты устраивают в городах и селах ночные набеги по квартирам и забирают все трудоспособное население, угоняют на оборонные работы; некоторых мужчин зачисляют в армию, не брезгуя «низшей расой».
— Не плачьте. Может, все образуется, вернется...
— Вернется, — всхлипывает женщина. — Кое-кого в прошлом году забрали и — ни слуху ни духу. А теперь... и старых, и малых.
— Всех до одного?
— Прихвостней своих только и оставили.
— Это кого же? — спрашивает Эльза так, словно каждого знает в селе.
— Ежи Ковальского да Феликса Домбровского. «Как!» — чуть не вырвалось у Эльзы.
Феликс Домбровский... А Подшивалов говорил, что на него можно положиться. Она-то
ведь и шла к нему... Хотя, откуда мог знать Подшивалов — видел всего один раз. И все-таки кое-что следует уточнить, обстоятельно во всем разобраться. Вспоминается внешнее описание Домбровского: худой, болезненного вида... И Эльза возражает:
— Домбровский, я слышала, болен.
— А мой не болен? — голос женщины вдруг ожесточается. — Сколько лет от живота мается. На простокваше да [36] на киселях только и держался. Кто теперь ему будет там отваривать да процеживать?.. И не посчитались. А Домбровский... Знаем, кто справку ему
выправил. Дружок-полицай из Карелии... Частенько к нему наведывался с компанией. Кутят напропалую — по соседству живем, все видим и слышим... Вот никуда его и не забирают.
«Так, так, — думает Эльза, — значит, с полицаями и немцами дружбу водит. Что ж, таких нынче — и нашим и вашим — немало. И Подшивалова наверное хорошо встретил, а тот поверил ему. Хотя... Геннадий — опытный человек, угощениями его не обманешь... И все-таки с Домбровским надо ухо держать остро».
— Я зашла к вам, не знала, — извиняющимся тоном оправдывается Эльза, — хотела часы на продукты сменять.
— Кому они теперь, часы, нужны, — вздыхает женщина. — Не то, что на них, на белый свет смотреть тошно.
— Я понимаю, — соглашается Эльза. — Может, Домбровский позарится?
— Может, и позарится, — отрешенно и безразлично отвечает женщина.
Эльза теперь знает из слов женщины, что Домбровский живет по соседству, но по какую сторону? Как бы выпытать и это?
— А он дома? — спрашивает Эльза.
— С час назад во дворе копался. — Женщина поднимает голову и смотрит на соседский двор, что справа, в сторону, куда Эльзе идти.
— Попытаю счастья. — Эльза поклоном благодарит женщину и направляется к калитке.
Но Домбровского дома не оказалось. Одиннадцатилетний мальчуган, важно отрекомендовавшийся Каролем, сообщает, что отец косит траву за селом и указывает, где именно.
Эльза выходит за село и видит у небольшого стожка среднего роста мужчину, звенящего бруском о косу — тост. Подходит ближе. По описанию Подшивалова — он: лицо худое, желтовато-землистое, с темными впадинами под глазами — явный признак желудочного заболевания. Руки жилистые, крупные — руки труженика; прилипшая пропотелая рубашка облегает тугие мускулы, сильные бицепсы.
— Здравствуйте, — приветствует Эльза. [37]
— День добрый, — отзывается мужчина, прячет брусок в задний карман брюк и пронзает девушку недоверчивым изучающим взглядом.
— Вы Феликс Домбровский? — на всякий случай спрашивает Эльза.
— Да, я Феликс Домбровский. Что угодно, пани?
— Вам привет от Геннадия Подшивалова.
— Кто такой Геннадий Подшивалов?
— Вы познакомились с ним месяц назад. Он был с товарищами.
Домбровский скептически щурит глаза — не принимайте меня за дурака — и улыбается:
— Что-то не припомню... Что еще просил передать этот Геннадий, как его... Почивалов?
Он нарочно, должно быть, искажает фамилию. Но доверяет или и в самом деле служит и нашим и вашим?
— Ничего особенного. Просто он рекомендовал обратиться к вам. У меня есть часы, я хочу поменять их на хлеб.
Он мельком смотрит на часы, а потом на девушку — глаза в глаза.
— Пани — смелая девушка. Часы советские, и только за это уже могут быть большие неприятности.
— Ну почему же. Сейчас много всякого... Мне подарил их немецкий офицер.
— А немецкий солдат может арестовать за них. Вчера у нас искали русского летчика. Может, это его часы?
Ее снова пронзает колючий, недоверчивый взгляд. Хитрый, опытный человек. Будто рассказывает, а на самом деле пытается выведать у нее. Нет, что-то в нем настораживает, не располагает к доверию...
— Что вы...
— Очень похоже. И логично: летчика надо прятать, кормить, вот вы и взяли его часы. А у нас вчера из-за него забрали всех мужчин и девушек, способных держать лопату. Рыть окопы.
— А вас? — решает она отплатить ему тем же.
— Меня? — усмехается Домбровский. — Разумеется, и меня могли забрать, если б не моя язва желудка. — Лицо его хмурится. — А вот четверо сбежали, вернее, спрятались где-то заранее. Трое парней и одна девушка. Кто-то предупредил их. Плохо им будет, если поймают... [33]
Что это — предупреждение или откровение? Убираться отсюда подобру-поздорову или довериться ему?
— Ну их-то поймать теперь трудно. А вот осведомителя...
— Это точно, — соглашается Домбровский. — Скорее всего, кто-то из своих. А возможно и случайность. Говорят, фронт приближается, вот и бегут — одни на восток, другие — на запад.
— А вы? Опасность ведь никого не минует.
— Разумеется. Но мне рановато трогаться с места и трудновато — трое иждивенцев. Она не придает значения последней фразе, в которой заключалось именно то, что ее
интересовало: у Домбровского двое иждивенцев, жена и сын, третьим — советский летчик. Но Эльза пропускает это мимо ушей.
— Друзья помогут. — Она имеет в виду полицейских, он — партизан.
— Разумеется. Как это у русских: не имей сто рублей, а имей сто друзей. У меня действительно много друзей. Вот даже какой-то Геннадий Подшивалов, которого я не помню. Откуда он?
Вопросы, вопросы, вопросы. Глаза хитрые, все время насторожены. Нет, она не верит
ему.
— Издалека. Но два дня назад я видела его у Синявки.
— Синявка, Синявка, — повторяет Домбровский, о чем-то думая и задерживая взгляд на почти новых немецкого фасона сапожках. — Хотелось бы повидать вашего Подшивалова. — И глаза его снова хитро щурятся: — Может, и в самом деле старый знакомый. Где же его разыскать?
Похоже, он считает ее за дурочку — вот так и выложит она ему местонахождение партизанского отряда.
— Вас сейчас отвести к нему или попозже? — не скрывает она иронии.
— Сейчас, пани, не надо, — то ли не замечает он, то ли делает вид, — Сейчас опасно: всюду по дорогам дозорные рыщут. И вам лучше бы переждать до ночи.
Уж не собирается ли он и ее выдать немцам?
— Где? — с вызовом спрашивает она, давая понять, что не боится его и в случае чего сумеет постоять за себя.
— Хотя бы вот в этом стожку. Скоро обед и Кароль, мои сынишка, принесет чего-нибудь подкрепиться.
Он говорит искренне, и это сбивает ее с толку. Ей очень хочется остаться, отдохнуть в
стожку, выспаться. [39]
Но разве можно на задании думать об отдыхе, о сне, когда где-то рядом наш советский человек нуждается в помощи, возможно раненный, обессиленный, голодный. Правда, у нее тоже со вчерашнего утра во рту маковой росинки не было, но ночью она вернется в отряд, поест.
— Спасибо, — благодарит она. — Но мне надо идти. А если действительно вам нужен Подшивалов, приходите. Он вас встретит.
— Куда?
— Туда же, к Синявке. Слыхали про Тухлое озеро?
— Слыхал. Там кругом болота.
— Верно. А от сорок первого разъезда есть тропа. Пойдете по ней. У Кривого ручья вас будут ждать. Когда вы выйдете?
— Завтра ночью.
— Послезавтра на рассвете вас встретят...
Она и предположить не могла, что всего в десяти шагах от нее, в том самом стожке, в котором предлагал переждать до ночи Домбровский, прячется человек, ради которого она рисковала жизнью. Если б она знала!..
8
Небо светлеет незаметно, медленно. Поначалу гаснут звезды над головой, потом одна за другой меркнут у горизонта. Ветер не шелохнет. Тишина стоит такая, что, кажется, слышно, как растет трава. Лишь изредка вскрикивают ночные птицы да с востока нет-нет да и донесется не то раскат грома, не то артиллерийская канонада. Но небо от горизонта до горизонта чистое, трава обильно покрыта росой — верный признак погожей погоды. Нет, оттуда, с востока, идет не гроза, то катится, приближается долгожданный фронт.
Эльза и Подшивалов лежат в кустах недалеко друг от друга у самой тропинки, ведущей к Тухлому озеру, и внимательно всматриваются в сторону, откуда должен появиться Домбровский. То, что он может привести карателей или полицаев, практически исключено: теперь фашистам не до карательных мер против партизан, тем более не до борьбы с одиночками — весь восточный фронт трещит по швам и катится на запад. Прозревают даже тс, кто визжал от радости, когда Гитлер наступал.
У Феликса Домбровского, как выяснилось, действительно [40] есть покровитель в полиции — наш человек, разведчик. Возможно, он передал через Домбровского что-то важное, коли тот не рискнул довериться девушке и напросился на встречу с партизанами.
Небо у горизонта синеет, а лес кажется фиолетовым; в низинах собирается туман.
Прострекотала где-то сорока, и лес, будто по сигналу горниста, оживает сотнями птичьих голосов. Все вокруг преображается, хорошеет, наполняется сочными многообразными красками.
— Прелесть-то какая! — не удерживается от восхищения Эльза.
— Т-с-с, — прерывает ее Подшивалов.
Эльза прислушивается, пропуская мимо ушей птичью трескотню, и улавливает далекие тяжелые шаги. Идет не один... Двое. На всякий случай снимает автомат с предохранителя.
Они появляются из-за кустов: один — среднего роста, худощавый, второй — высокий, заросший бородой и усами; шагает неторопливо, вразвалку. Феликс Домбровский и... что-то в нем непонятно знакомое. Шагает могуче, по-богатырски, вразвалочку... Борода короткая, густая. Черты лица крупные, мягко очерченные. Глаза... Из-под густых бровей их не видно. Да и далековато еще он. Домбровский идет впереди шагах в пяти. Ближе и ближе. Где видела она этого высокого бородача?.. Вот он совсем рядом. Смотрит в ее сторону. Глаза голубые, добрые, веселые. Его глаза! И она не выдерживает, вскакивает, продирается к нему сквозь густые, больно стегающие ветки.
— Иван! Ваня! Мужчины останавливаются, удивленно смотрят на нее.
— Эльза?! — Хрущев разводит руками. — Вот так встреча!
— Ванюша, родной! — Она обнимает его, самого близкого и желанного человека.
— Ну и ну! — дивится Геннадий Подшивалов, выходя из засады. — Не зря, стало быть, она искала его.
— Эх вы, — смеется над ними Феликс Домбровский, Узнав историю их знакомства. — Ведь предлагал же переждать в одной копне до вечера. Глядишь, и свадьбу сыграли бы...
— Теперь сыграем, Феликс, обязательно сыграем, — весело отвечает капитан Иван Максимович Хрущев. Свадьбу они сыграли лишь через полгода. Война потребовала [41] от них новых суровых испытаний на мужество и отвагу: Эльза Ефимовна в составе партизанского отряда продолжала рейды по тылам врага. Иван Максимович водил эскадрилью на бомбежку фашистских аэродромов, военных объектов, переправ, складов... Встретились они снова в канун победного 1945 года в штабе фронта, куда были вызваны за
получением наград: Иван Максимович — ордена Ленина и Золотой Звезды Героя, Эльза Ефимовна — ордена Красной Звезды.
1
На востоке у самого горизонта небо багрянится и теплым пламенем медленно поднимается ввысь, растекаясь нежным светло-сиреневым цветом чуть ли не до самого зенита; вершина купола — синяя, с бирюзовым отливом, а к низу, на запад, небо темнеет, спадает за горизонт ультрамариновым пологом. И на земле все живое и неживое, движущееся и неподвижное, будто в сговоре с этим цветом, играет его красками, то светлеет, то темнеет, то багрянится, ласкает глаз какой-то непонятной волшебной разнотонностью. В низинах и над рекою висит тонкая неощутимая дымка тумана, и от нее веет приятной прохладой, еле уловимым росным запахом, наполняющим грудь, каждую клеточку тела бодростью, хорошим настроением. Даже кони, кажется, чувствуют эту красоту, пофыркивают от удовольствия, головы высоко подняты, шеи выгнуты дугой, глаза светятся, будто и они радуются этой заре. И к речке на водопой они спускаются неторопливо, грациозно, словно боясь нарушить предутреннюю идиллию.
Николай Молибога, напарник Семена, сидит на коне, как на диване, свесив ноги на одну сторону, лениво отмахивается от назойливых комаров и мошкары, мурлыкает себе что-то под нос. Гимнастерка не подпоясана, ворот расстегнут, густые темно-каштановые волосы небрежно и залихватски чубом свисают на лоб, и это ему идет, вполне соответствует его характеру — бесшабашному парню и лихому кавалеристу. Семену Николай нравится: красивый украинский хлопец, веселый, смелый, острый на [42] язык. А главное справедливый — ни себя, ни товарищей в обиду не даст. Командиры тоже его уважают, хотя Николай иногда и выкидывает такие коленца, за которые другим не поздоровилось бы...
Кони спустились к реке, разбрелись по берегу и, зайдя в воду, стали жадно пить.
Николай в один миг сбросил сапоги, гимнастерку, брюки и нырнул. Плавать и нырять он мастак, показался метрах в семидесяти от берега, и то ли от холодной воды, то ли от удовольствия пронзительно взвизгнул и широкими взмахами поплыл к середине. Кукла, его лошадь, вдруг перестала пить, посмотрела на своего недавнего ездока и... поплыла за ним.
— Ты куда?! Назад, назад! — закричал Семен, но лошадь и ухом в его сторону не повела.
Николай услышал встревоженный голос Семена, увидел Куклу и повернул наперерез ей. Но не тут-то было. Лошадь круто взяла в сторону, обогнула ездока и, вытянув шею, устремилась к противоположному, вражескому берегу. Что ей взбрело в голову, кого она там увидела? Вот скотина!..
Семен метался по берегу, не зная, что предпринять. Лошадь сбежала к японцам. Это же ЧП!
Николай сделал круг на середине, тоже раздумывая, как поступить, и — за Куклой.
— Да ты что! — понял его намерение Семен и ужаснулся. Берег, правда, пуст, а вдруг японские пограничники где-то затаились.
Кукла вышла на берег, отряхнулась и преспокойно стала щипать траву. Ну не зануда ли? Будто там слаще!
Николай размашисто выбрасывал руки вперед, быстро приближался к тому берегу. Семен смотрел то на него, то на Куклу, то вглубь берега. По-прежнему было тихо и спокойно.
Когда Николай встал на ноги и пошел из воды, Кукла перестала щипать, навострила уши. В общем-то смирная и покорная лошадь. А тут вдруг взбрыкнула: от табуна отбилась, над хозяином издевается — он к ней, а она от него. Николай пригнулся, вытянул вперед руку, будто бы сахар предлагает. А она не верит, глазом косит и все Дальше отходит: дудки, мол, не обмануть, вижу твою пустую руку. И все-таки сомневается, подпускает к себе поближе. Вот, слава богу, и совсем остановилась: видно, что-то ласковое, доходчивое сказал ей Николай. [43]
Он подошел к ней, погладил по шее и, взявшись за коротко подстриженную гриву, одним махом вскочил на спину. В ту же минуту прогремел выстрел. Семен увидел, как вдали из туманной мари появились две человеческие фигуры. Японские пограничники.
Николай ударил пятками лошадь в бока, и Кукла, то ли не ожидавшая такой грубости, то ли тоже услышавшая выстрел и почуявшая опасность, хватила с места в галоп. Влетела в воду, поднимая ввысь брызги, упала, сбрасывая с себя седока, вскочила на ноги, но не торопилась плыть, давая возможность Николаю ухватиться за гриву.
Издали донеслось еще несколько выстрелов и чужие голоса, но когда японцы подбежали к берегу, Николай и Кукла подплывали уже к своим...
После завтрака начальник заставы построил отряд.
Рядом с ним стоял майор с голубыми петлицами и авиационной эмблемой на рукаве.
— Товарищи, — заговорил начальник заставы строго. — Только что получен протест японских властей по поводу нарушения на нашем участке японской границы. Красноармеец Молибога, выйти из строя!
Николай сделал два шага вперед, круто повернулся лицом к строю.
— Объясните товарищам, что у вас произошло, — потребовал начальник заставы.
— Так хиба ж це нарушение? — непонимающе пожал плечами Николай. — Коняка, Кукла, сдурела, тудыточки подалася. Ну а я домой ее возвернул.
— Видали? — сердито указал на красноармейца начальник заставы. — Коняка сдурела, а он, умный, нашелся, границу нарушил. Пять суток ареста! Становитесь в строй!
Потом начальник заставы предоставил слово майору с голубыми петлицами. Оказалось, его приезд никакого отношения к нарушению границы не имел.
— Товарищи красноармейцы, — заговорил майор тепло и доверительно. — Я прибыл к вам из Чкаловской авиационной школы. Вы наверное слышали призыв Центрального Комитета комсомола «Комсомолец — на самолет!) Вот я и приехал по этому поводу. Кто из вас имеет образование не ниже рабфака или неполной средней школы, после построения прошу подойти ко мне...
Николай толкнул Семена в бок — давай.
— Что ты, — грустно усмехнулся Семен, — Какой из [44] меня летчик. Я за лошадью плыть испугался. Вот тебе бы...
Николай глубоко вздохнул.
— Я бы с удовольствием... Надо ж этой Кукле... Кто меня со взысканием возьмет?..
— А ты попробуй.
Молибога безнадежно махнул рукой. Майор сам разыскал его:
— Хотите стать штурманом? — спросил без обиняков.
— Еще бы! — Глаза у Николая азартно загорелись. — Но вы ж не возьмете.
— Возьмем, — твердо сказал майор. — Смелые люди нам нужны. Смелые и дисциплинированные. Надеюсь, вы поплыли на тот берег не для того, чтобы показать, какой вы храбрый?
— Та шо вы! То ж Кукла — лучшая коняка...
— Значит, записывать вас?
— И меня и друга моего Семена Золотарева. Он самый ученый среди нас, десять классов окончил...
У Семена зарделись лицо и уши. Он не знал, радоваться ему или огорчаться.
2
Поезд неустанно и резво мчал их мимо однообразных сопок, поросших кедрачом, белоствольными березками, багульником, вдоль нешироких быстротечных речек с зелеными лугами, усеянными яркими цветами — лето в этом году выдалось дождливое, жаркое, — мимо редких маленьких деревушек. Семен подолгу смотрел в окно и тревога никак не покидала его сердце. Что ждет его впереди? Николай не раз подшучивал: «Боишься?» Он и впрямь боялся высоты.
Раньше Семен видел самолеты только на картинках, лишь один раз в небе да и то так далеко и высоко, что не верилось, есть ли в нем люди — какая-то маленькая не машущая крыльями птичка. А теперь их на аэродроме стояло несколько десятков, разных по виду и по величине, одномоторных, двух — и даже четырехмоторных; и крылья — у одних сверху, у других снизу, а у некоторых Двойные, снизу и сверху, стянутые узкими металлическими лентами.
Майор, который приезжал за ними, объяснял: [45]
— ...Это моноплан — с одним крылом, это биплан с двумя крыльями. Ут-один, У-два, Р-пять, СБ — скоростной бомбардировщик. А теперь по одному залезайте в кабину.
У Семена, когда он сел в штурманское кресло, дух захватило — какая-то фантастическая машина, почище жюль-верновского «Наутилуса», а сколько приборов, кнопок, ручек... Семену только теперь по-настоящему захотелось летать, овладеть волшебством управления этой чудесной машиной. А то, что страшновато немного, не беда, сладит он с собою. Что он, хуже других?
Первым полетел Молибога. На У-2, во второй кабине. В переднюю сел немолодой усатый капитан со строгим лицом и цепким, пронзающим насквозь взглядом. Впереди у него зеркальце, чтоб видеть, как там чувствует себя курсант. Сделали круг над аэродромом, сели. Николай вылез из кабины с блестящими от счастья глазами.
— Ну, хлопцы, така прелесть — ни в сказке сказать, ни пером описать! — воскликнул
он...
Второй пассажир оказался менее удачливым — после посадки его стошнило. Капитан, правда, не придал этому значения.
— Бывает, — сказал успокаивающе. — Без привычки...
А у третьего спросил:
— Ну доложите, что видели. Летчик должен все примечать.
Когда очередь дошла до Семена, он почувствовал, как на лбу и спине выступил холодный пот. Страшно было подниматься ввысь, а еще страшнее смотреть вниз. Встречный поток врывался в кабину, трепал комбинезон, словно хотел раздеть, хлестал по щекам. Летчик положил самолет на крыло и такой закрутил вираж, что в глазах зарябило. Голова Семена, как у черепахи, сама пошла в плечи. И тут же он увидел в зеркале колючие беспристрастные глаза капитана. «Что, дрейфишь?» — будто спрашивал он. «Ничего подобного», — так же мысленно возразил Семен и расправил плечи. Даже перегнулся и глянул за борт, где в непонятном хороводе кружились белые домики какой-то деревушки, желтые квадраты уже скошенных полей, сады, речка... [46]
В голове у Семена тоже все кружилось, немного подташнивало, но он собрал все силы и доложил:
— Красноармеец Золотарев совершил ознакомительный полет по кругу. Какие будут, товарищ капитан, замечания?
— Что видели?
— Небо видел, деревню видел, поля, речку.
— И то добре, — констатировал для себя капитан и напротив фамилии Золотарева в своей тетради записал: «Курсант чувствовал себя в полете хорошо, действовал уверенно».
4
Летчик энергично довернул самолет на заданный курс, и бомбардировщик будто застыл на месте. Лишь гул моторов да проплывающая внизу земля говорили о его движении. Семен еще раз сделал промер, уточнил скорость и направление ветра и распрямился в кресле. На душе было хорошо — и от синего безоблачного неба, и от того, что учеба в штурманском училище подходила к концу, и от собственного достоинства и своей значительности: страх он переборол и теперь при воспоминании о прошлом ему становилось смешно, по всем предметам он имеет только отличные оценки. И главное — по бомбометанию, на зачетный полет которого сегодня летит. Надо не подкачать и на этот раз. И наденет он темно-синюю парадную форму с лейтенантскими петлицами и авиационными эмблемами, поедет домой в отпуск.
Впереди показался полигон, изрытая взрывами площадка с размеченными квадратами, макетами самолетов, мостов. Семену предстояло разбомбить «мост». Он и предположить не мог, что через два года такое же задание, только совсем в других, боевых условиях, и не по макету, а по настоящему мосту через Днепр, ему придется выполнять...
— Двадцать вправо!.. Еще пять... Так держать! — скомандовал Семен летчику-инструктору.
Ферма «моста» медленно ползла к перекрестию оптического прибора бомбометания, прибора, который совсем недавно поступил на вооружение бомбардировщиков и которым Семен успешно овладел. [47]
«Пора». Семен дернул рычаг и почувствовал, как вздрогнул бомбардировщик, освобождаясь от бомб.
На втором круге он увидел результат своей работы бомбы попали в цель. Он чувствовал себя на седьмом небе.
5
Летно-тактические учения дальнебомбардировочного полка закончились 20 июня. Экипаж командира звена капитана Серебряникова, в котором Семен Золотарев летал штурманом, снова показал лучшие результаты по самолетовождению и бомбометанию. Командир полка майор Микрюков объявил экипажу благодарность. А 21 июня вечером многие летчики и штурманы были отпущены на отдых. Правда, майор предупредил:
— Если над городом увидите По-2, сразу же бегите на аэродром.
— Будем надеяться, что он не появится, — высказал пожелание Иван Серебряников. — Какие, штурман, планы? — спросил он у Семена.
— Сходим в парк, посмотрим, кто там появится сегодня на танцплощадке.
Они были молоды и неженаты, в Новочеркасск прибыли совсем недавно, и каждый мечтал встретить такую девушку, чтоб любима была и любила, чтоб пошла за ним на край света.
На ужин в свою летную столовую они не пошли.
— Сегодня мы заработали ужин с вином и музыкой, — сказал Иван Серебряников, — поужинаем в ресторане.
Серебряников был старше возрастом и званием, и Семен старался во всем подражать своему командиру.
В общежитии они нагладили обмундирование, начистили сапоги и пуговицы и вышли на свою знаменитую Коммунальную улицу, на которой жили многие летчики и штурманы полка, и пошли к проходной.
В этот вечер парк был особенно многолюден. По аллеям гуляли парочки, на скамейках сидели принаряженные старики и старушки, с танцплощадки неслась музыка, волнуя молодежь.
Ваня был возбужден и полон решимости. Едва вошли на танцплощадку, он ринулся на поиски своей суженой, и вскоре подвел к Семену такую же маленькую, как он сам, худенькую девушку с красивыми карими глазами. [48]
— Познакомься с моей землячкой. На практику из Воронежа приехала.
— Таня, — несмело назвалась девушка.
Семену она тоже понравилась: скромная, застенчивая, милая. А Иван к концу танцев был от нее без ума: за недолгую службу Семен хорошо узнал некоторые черты своего командира — влюбчивость и мгновенную смену настроения. Он был то весел, то сердит, то мрачен; настроение у него менялось от одного слова.
Но в этот вечер Иван был постоянен: шутил, смеялся и ни на шаг не отпускал Таню. А Семену не везло: девушки, которые ему нравились, оказывались уже занятыми. И он, проводив после танцев своего командира и друга до квартиры, где остановилась Таня, отправился в общежитие.
«Наконец-то высплюсь вволю, — помечтал он. — И на завтрак не пойду». За время летно-тактических учений он, несмотря на свою молодость и привычку недосыпать, изрядно устал.
Едва добравшись до кровати, он уснул мертвецким сном. Ему снился какой-то шум, гул самолета, кто-то куда-то его звал. Проснулся он от сильного толчка в бок. Иван Серебряников сердито прикрикнул на него:
— Да ты что, оглох? Сколько тебя будить можно? Быстро собирайся, тревога! Командир на По-2 над городом летает!
«Нашел время тревоги устраивать, — недобрым словом помянул Семен майора Микрюкова. — Мало ему было летно-тактических учений...»
Но уже на пути к аэродрому злость Семена сменилась беспокойством: а вдруг и в самом деле война? О ней в последнее время говорили много и часто, и разговоры как бы само собой приглушили серьезность назревающих событий. А теперь они всплыли ярко и отчетливо: неоднократные нарушения фашистскими самолетами нашего воздушного пространства, сосредоточение их войск вдоль западной границы. [49]
Уже издали они обратили внимание на оживленное движение людей и техники на аэродроме.
У самолета они услышали самое худшее, чему не хотелось верить: война!
И столько сразу поступило команд: рассредоточить самолеты и закамуфлировать, отрыть окопы и землянки, подвезти к самолетам бомбы, набить запасные ленты патронами; с аэродрома никуда не отлучаться, ждать приказ на боевой вылет.
Где-то около полудня, когда бомбардировщики были рассредоточены и замаскированы, а аэродром опоясан окопами и траншеями, дежурный объявил о построении. У деревянной будки, еще вчера пестревшей черными и белыми квадратами,
теперь тоже выкрашенной серо-зеленой краской, собрались летчики и штурманы, воздушные стрелки-радисты и стрелки, инженеры и техники, механики и мотористы — весь личный состав полка.
Семену казалось, что это все еще ему снится страшный, неприятный сон — все так было неожиданно, неправдоподобно...
— Товарищи! — Голос майора Микрюкова был каким-то незнакомым, глухим, взволнованным. — Сегодня в четыре часа утра фашистская Германия напала на нас. Ее авиация бомбила наши города Киев, Минск, Львов, Вильнюс...
Капитан Серебряников нетерпеливо переступал с ноги на ногу и кусал губы. Лицо его было суровым, решительным...
Потом выступал заместитель командира полка по политчасти майор Александр Филиппович Исупов. Говорил спокойно, ровно, и каждое его слово доходило до сознания, зажигало людей ненавистью к фашистам.
— ...Мы помним тридцать третий год, приход к власти Гитлера, помним процесс над Георгием Димитровым, разнузданную геббельсовскую пропаганду против Советского Союза. Уже тогда эти маньяки мечтали о мировом господстве, поставили перед собой цель сделать рабами поляков, чехов, словаков, русских. Но не выйдет у них это. Мы скорее погибнем, чем станем рабами...
В полк Исупов, как и многие, прибыл полгода назад, срок небольшой, чтобы узнать друг друга в таком большом коллективе при такой напряженной повседневной работе. Но и за это время замполит успел завоевать авторитет у личного состава: летал он превосходно, был общителен, [50] откровенен и слово его было железным — уж если он что-то пообещал или потребовал — сделает, добьется своего.
За Исуповым слово попросил Никита Гомоненко.
— Молода, прекрасна наша Родина. Только сил набирать стала, расцветать. Недавно я бродил по улицам Киева и восторгался: какой красавец-город. А сегодня фашистские бомбы разрушают его, жгут дома, скверы. И только мы, бойцы Красной Армии, можем преградить дорогу этим вандалам, уничтожить коричневую чуму... Наш экипаж комсомольский, и я прошу, чтобы нас первыми послали на самое трудное, самое ответственное задание...
Никита смахнул со лба капельки пота, поправил чуб. Когда он подошел к своему экипажу, Вдовенко пожал ему руку — правильно сказал, штурман.
7
Четыре дня экипажи неотлучно находились у своих готовых к боевому вылету бомбардировщиков, но команды почему-то не поступало, и капитан Серебряников не раз отпускал колкие словечки в адрес «штабников», которые чего-то «ждут, выжидают», не решаются на ответный удар. А на пятый поступила команда бомбы снять, в бомболюки погрузить все необходимое техническое имущество, забрать техника, механика и моториста и перебазироваться под Запорожье на аэродром у села Мокрое.
Серебряников кинулся было к командиру полка за разрешением съездить в общежитие, забрать летное обмундирование.
— Поздно, — Микрюков глянул на часы. — Сейчас начнем взлетать. Получите новое на новом аэродроме.
Потом перебазировались под Кировоград. Затем...
Лишь 30 июня полк в полном боевом составе взял курс на Ровно, где, по данным воздушной разведки, сконцентрировались танковые и моторизованные дивизии противника. Погода стояла облачная, предгрозовая. Мощная плотная кучевая облачность поднималась ввысь и растекалась на 8000 метров «наковальнями». Бомбардировщики летели между облаками, как по ущелью. Бомбить должны были по ведущему, и у Семена имелось время посмотреть вниз, уточнить свое местонахождение, а заодно и узнать, что там происходит. По слухам, фашистская авиация разрушила [51] многие наши города, сожгла аэродромы и станции. Но пока таких следов на земле видно не было.
По мере приближения к фронту дороги становились все запруженнее: люди, машины, повозки двигались на восток и на запад. На восток — отступающие, беженцы, на запад спешили свежие части, чтобы преградить путь фашистам.
А вот показались и первые пожары: слева дымила Винница. Несколько дней назад экипаж Серебряникова пролетал над ней, и Семену тогда захотелось побывать в этом утопающем в зелени городе. Теперь черный смрад застилал все — и белые дома, и купола церквей, и сады. Облака стали редеть, и Серебряников приказал усилить осмотрительность: фашистские наземные войска охранялись истребительной авиацией.
Ведущий дал команду подтянуться и из пеленга перестроиться в клин. Значит, скоро
цель.
Не доходя Мизоча, бомбардировщики развернулись почти на 180 градусов и пошли вдоль шоссе на Ровно.
Ведущий начал снижаться. А за ним и остальные. Шоссе здесь было пустынно. Изредка покажется повозка или мотоциклист, но и они, заслышав гул бомбардировщиков, бросались в сторону от дороги.
Ведущий дважды качнул крылом влево — приготовиться к атаке. Семен посмотрел вперед и увидел в клубах пыли колонну. Танки шли один за другим метрах в двадцати, как на параде. И столько их было — не сосчитать. Голова колонны терялась в голубоватой дымке у небольшого, раскинутого по обе стороны дороги села.
Вот они, фашисты. Семен впервые видел их воочию, и холодок пробежал у него по спине. Столько танков! Темные, с нацеленными пушками на восток. Трудно было оторвать от них взгляд. А ведущий уже открыл бомболюки.
Семен глянул на высотомер. 800 метров. Хорошая высота для прицельного бомбометания по малоразмерным целям. Да и плотность колонны такая, что промахнуться трудно. Держи только точно по курсу... Серебряников хорошо понимал это без подсказки — бомбардировщик летел будто по струнке...
На шоссе взметнулся первый огненный султан. За ним другой, третий... Лишь когда строй бомбардировщиков пронесся над головой колонны, фашисты поняли, в чем дело, и кинулись кто куда. Одни танки остановились, другие свернули в сторону, стремясь рассредоточиться, третьи смрадно чадили.
В селе, в тени хат и деревьев, тоже стояли танки. Семен увидел, как заметались между ними люди в темной одежде. Что это фашистские вояки, не было никакого сомнения. Когда бомбардировщик начал разворачиваться для нового захода, Семен припал к пулемету и дал по фашистам длинную очередь.
Пока бомбардировщики разворачивались, колонна сломала свою линию, и танки расползлись в разные стороны от дороги. Ведущий качнул вправо — бомбить самостоятельно.
Строй бомбардировщиков тоже распался.
Откуда-то открыли огонь зенитки, в небо потянулись пулеметные трассы. Но они ничуть не напугали Семена, даже наоборот, вызвали какой-то азарт, прилив энергии. Штурман выбрал два танка слева и скомандовал летчику:
— Двадцать влево... Еще пять...
И когда танк вполз в перекрестие, нажал на кнопку сброса бомбы.
Бомбардировщики кружили над селом и дорогой, круша танки, расстреливая из пулеметов танкистов. Около двух десятков черных столбов дыма тянулись к небу...
Ведущий дал команду на сбор.
— «Мессершмитты»! — крикнул по самолетному переговорному устройству стрелок-радист сержант Довгаленко. И в ту же секунду справа небо распорола огненная трасса. Она сверкнула как молния, заставив шарахнуться влево самолет Серебряникова и чуть не столкнуться с машиной командира звена. Ваня выровнял бомбардировщик и кинул его вправо. И вовремя — вторая трасса прочертила слева.
Впереди задымил чей-то самолет...
Истребители, как коршуны перед ненастьем, закружили вверху, выбирая жертвы и обрушиваясь на них. Бомбардировщики маневрировали, отстреливались из пулеметов, но строя уже не было и экипажи не могли поддерживать друг друга огнем, «мессершмитты» свободно маневрировали, атаковывали одиночные самолеты парами, звеньями и сбивали их...
У Семена сердце сжималось от боли, когда он видел, как загорался наш самолет.
Сержант Довгаленко то и дело докладывал: «Истребить слева сверху», или просто: «Справа, снизу». Серебряников [53] бросал машину вправо или влево, вверх, вниз и истребители промахивались. Иногда слышно было, как очереди стегали по крылу или фюзеляжу, как снаряды рвали дюраль, но бомбардировщик летел...
Наконец атаки прекратились: у истребителей, видно, кончалось горючее.
Бомбардировщики стали подтягиваться друг к другу и занимать свои места в строю. Из девятки третьей эскадрильи, в которой летел Семен Золотарев, осталось четыре самолета...
Вечером на аэродром прилетел командир корпуса генерал Тупиков. Собрал весь летный состав и спросил без обиняков:
— Почему такие большие потери?
Генерал и раньше часто бывал в полку. Его любили за простоту, за откровенность и искренность и потому желающих высказать мнение нашлось немало. Летчики объясняли потери тем, что «мессершмитты» почти вдвое превосходят бомбардировщиков в скорости, их пушечное вооружение позволяет вести огонь с большей дистанции; штурманы говорили о неприкрытой задней нижней полусфере, откуда чаще атакуют истребители. Семен внимательно слушал выступающих, мысленно соглашался с каждым и думал о том, какой же выход найти из создавшегося положения? Скорость при всем желании у бомбардировщика увеличить не удастся, пушку на него тоже не поставишь...
Слово попросил лейтенант Никита Гомоненко. Русочубый, голубоглазый, тонкий в талии. Энергичный, любящий веселую шутку, подначку, он был зачинщиком вечеров песен или плясок, викторин и конкурсов по штурманскому делу и знанию авиатехники. Осенью прошлого года сослуживцы избрали его секретарем комсомольской организации. И не ошиблись. К Никите молодежь тянулась как к своему вожаку, верному товарищу, отличному авиатору. У него учились, с него брали пример.
— Выступавшие до меня товарищи верно говорили о причинах наших потерь, — сказал Гомоненко. — Действительно, и скорость наших бомбардировщиков по сравнению с «мессершмиттами» маловата, и вооружение послабее, и задняя нижняя полусфера не прикрыта. Но самая [54] главная причина, думается мне, не в этом. Давайте вспомним учебник авиационной тактики, как там рекомендуется отражать атаки истребителей. В учебнике сказано, что воздушный бой с истребителями бомбардировщики должны вести в плотном строю, поддерживать друг друга огнем, создавать неприступные зоны огня... А как мы встретили истребителей? Разбрелись над полем боя кто куда, увлеклись охотой за танками и забыли об опасности. Вот нам и досталось на орехи... Второе: у нас на самолетах есть радиостанции, а связь между экипажами мы можем вести только через радиста закодированным текстом. Но когда атакуют «мессершмитты», чтобы предупредить соседа об опасности, кодировать текст некогда. Надо разрешить вести переговоры открытым текстом. И третье: да, задняя нижняя полусфера у нашего бомбардировщика — мертвая зона. Надо ее закрыть. Думаю, сделать это можно: установить пулемет снизу. Как? Инженеры сообразят...
Никита сел. Семен проводил его восхищенным взглядом — голова! Смело сказал о том, о чем другие даже не обмолвились, а разве не знали, что нарушили все законы тактики и потому были биты... И не только сказал, а и предложил дело — вести открытым текстом радиообмен, установить снизу пулемет...
Генералу тоже понравилось выступление лейтенанта Гомоненко. Он поблагодарил его и добавил:
— Да, товарищи, тактика в бою — первейшее оружие. Я от того, как вы ею владеете, зависит многое. Товарищ майор, — обратился он к командиру полка, — с завтрашнего же дня организуйте у самолетов занятия по тактике, на боевые задания летать только строем. Приступить к обучению летного состава ночной подготовке. Что же касается установки дополнительного пулемета, то в соседних полках это уже делают. В воздушные стрелки возьмите пока авиаспециалистов по вооружению...
9
Ночью на аэродроме не смолкал визг электродрелей, тук молотков, гул бензо — и маслозаправщиков. Авиаспециалисты ремонтировали израненные машины, пополняли боекомплект, заправляли баки топливом. А около штабной землянки выстроилась целая очередь вооруженцев, желающих[55] стать стрелками. У входа в землянку стоял стол, освещенный маленькой лампочкой от аккумуляторной батареи, за ним сидел заместитель командира полка по политической части майор Исунов и записывал желающих. Семен Золотарев после ужина тоже пришел к землянке, чтобы поддержать техника самолета младшего лейтенанта Трифонова, разрешить ему слетать на боевое задание в качестве стрелка.
— Ведь вы видели, как я стреляю, ШКАС собираю и разбираю с завязанными глазами...
Да, Семен Золотарев не раз видел Трифонова в тире, не раз техник состязался с
воздушными стрелками в стрельбе по мишеням и всегда выходил победителем. Его пример — а в том, что он и в небе будет точен, Семен не сомневался — сыграл бы большую роль в поднятии авторитета воздушного стрелка.
А у землянки инженер полка отчитывал сержанта Гайдамакина, механика самолета:
— ...Еще один стрелок нашелся! А самолеты кто к боевому вылету будет готовить? Думаете, только в небе куется победа? Марш на самолет и чтобы я вас больше здесь не видел! — Инженер повернулся, давая понять, что разговор окончен, и взгляд его застыл на Трифонове.
— А-а, и вы снова сюда пожаловали. Слова не убедили, хотите, чтоб я взыскание вам вкатил?
— Один только полет, товарищ инженер-капитан. Один.
— А кто самолеты будет готовить, если с вами что случится? — не соглашался инженер-капитан. — У нас и так не хватает специалистов.
Золотарев подошел к Исупову.
— Товарищ майор, разрешите своей властью.
— Уговариваете меня нарушить приказ комбрига Цибина? — улыбнулся Исупов.
— Тут особый случай. Надо доказать, что ШКАС не хуже немецкой пушки... Всего на один полет.
Замполит подумал.
— Хорошо. Но только на один...
К утру бомбардировщик экипажа Серебряникова отремонтировать не удалось, повреждения оказались серьезными, чем после предварительного осмотра, — Серебряников и воздушный стрелок-радист Довгаленко стали помогать технику, а Золотарева командир экипажа послал в [56] тир обучать стрельбе сержанта Куксу, назначенного в экипаж воздушным стрелком.
По пути в тир у бомбардировщика капитана Чуплыгина Семен увидел техника-лейтенанта Трифонова в темно-синем комбинезоне, в шлемофоне с очками на лбу — как заправский летчик.
— Летим? — с улыбкой спросил Семен.
— Летим, — кивнул техник-лейтенант и глаза его азартно блеснули. — Посмотрим, каков он, фриц, на деле. Подарочков я ему хороших приготовил, век помнить будет.
— Желаю удачи и счастливого возвращения. Самоуверенность техника несколько обеспокоила Семена. Что это: легкомысленность или вера в свои силы и способности? Откровенно говоря, Семен тоже до воздушного боя не очень-то дрейфил, а вот когда увидел, как горели наши самолеты, как падали они на землю и взрывались, страх стал сжимать горло и сердце. И он снова, как и после первого ознакомительного полета в училище, подумал, что в авиацию попал случайно. Да, он боялся лететь на очередное боевое задание. Разумеется, он никому об этом не скажет и ни под каким предлогом не откажется лететь, но быть вот таким, как Трифонов, самоуверенным, бодрым, он уже не мог.
Они еще не дошли до тира, как бомбардировщики стали взлетать. Золотарев и Кукса проводили их взглядом.
— А вам тоже очень хочется летать? — спросил Семен у Куксы.
Сержант внимательно посмотрел в глаза лейтенанту, видимо прикидывая, а можно ли ему довериться, помолчал.
— Видите ли, если говорить откровенно, то и хочется, и колется — боязно. С другой стороны — чем я хуже других? Не так, говорят, страшен черт, как его малюют. Пообвыкнусь, выживу из себя этот страх. Ну, а коли погибну значит, так на роду написано. Да и потом не просто так погибну — за правое дело.
Логика сержанта, ясная и убедительная, успокоила Семена, и он учил его целиться хладнокровно, плавно нажимать на спусковой крючок, стрелять экономно, короткими очередями, подпуская истребитель на дистанцию эффективного огня.
Кукса оказался способным учеником. Уже при третьей попытке он ни одной пули не
пропустил мимо цели. [57]
На аэродром они вернулись, когда бомбардировщики стали заходить на посадку. Едва самолет заруливал на стоянку, как его тут же окружали летчики и техники, авиаспециалисты из БАО, и все те, кто был поблизости. Всех интересовал один вопрос: как прошел боевой вылет. К всеобщей радости приземлились все машины.
Золотарев и Кукса поспешили к самолету Чуплыгина. Пока винты молотили воздух, гася инерцию, а техник подкладывал под колеса колодки, Семен и Кукса обошли бомбардировщик вокруг. В хвостовой части Семен насчитал около десятка пробоин, шесть
из них зияли около нижней пулеметной установки, за которой находился техник-лейтенант Трифонов. Жив ли он?..
Наконец винты остановились, и на землю спустились летчик со штурманом, а потом сержант Закапко. У Семена готов был сорваться с языка вопрос: «Что с Трифоновым?», но спазмы сдавили горло.
Закапко увидел полные тревоги глаза окруживших его товарищей и поспешил их успокоить:
— Все в порядке, сейчас вылезет техник-лейтенант. Можете поздравить его: срезал одного «мессера».
Трифонов спустился на землю неторопливо, разминая затекшие руки и шею — почти пять часов он лежал в одной позе, опираясь на локти и пригнув голову к узкой прорези в фюзеляже, через которую вел наблюдение за задней нижней полусферой. Несколько сильных рук подхватили его и стали бросать в воздух...
После обеда Трифонов рассказывал своим однополчанам:
— Отбомбились мы, отошли от цели. Ну, думаю, не повезло, не увижу фрица. Пролетели минут пять, чувствую, дергает веревочка за ногу — Закапка предупреждает: внимание, «мессер» в небе. Пригляделся я, увидел «мессершмитта». Но он был так далеко, что открывать огонь бесполезно. Да и быстро он ушел из поля зрения. Облетел вокруг вдали, снова в хвост зашел — знает, мертвая зона тут. Я приготовился, взял его в прицел. «Мессер» пошел на сближение. Подпустил я его метров на триста и саданул прямо в лобешник. Рванулся он было вверх — от неожиданности, наверное, — а там его Закапка поджидал. Добавил ему из своих спаренных пулеметов. Задымил стервятник и закувыркал к земле... [58]
— Нет слов, молодец, — похвалил техника замполит Исупов. — Но, как и договорились: то был ваш первый и последний боевой вылет.
10
Второй месяц войны подходил к концу, а положение на фронте, как ожидали летчики, не улучшалось, а ухудшалось. Немцы захватили Минск, Могилев, Витебск, Оршу, Смоленск, вышли к Днепру. За эти два месяца полк нанес более двухсот бомбовых ударов по скоплению вражеских войск и техники на железнодорожных станциях, по аэродромам и переправам, по танковым колоннам и штабам. А железная лавина все катилась на восток и катилась. Полк, несмотря на усиление огневой мощи самолетов, на приобретенный опыт ведения воздушных боев с истребителями противника, нес потери.
Особенно трудными были боевые вылеты 20 августа в районы Кривого Рога и Кировограда, где сосредоточились крупные танковые группировки фашистов, прикрываемые мощным заслоном зенитного огня и истребителями. Утром не вернулось четыре экипажа, и вот теперь... Прошло уже полчаса, как семерке капитана Шанаева следовало вернуться, а ее все не было. Летчики и техники с тревогой посматривали в небо, понимая, что задержка не случайная.
Семен Золотарев видел, как тускнеют лица однополчан, как все чаще из груди то одного, то другого вырываются вздохи. Шанаев — любимец полка, лучший командир эскадрильи, и вся его семерка — опытнейшие воздушные бойцы, воевавшие в небе Халхин-Гола и Финляндии.
А экипажу Серебряникова пока везло. Сержанты Довгаленко и Кукса оказались отличными воздушными стрелками, надежно защищали свою машину. На их счету было уже по одному сбитому «мессершмитту».
Кукса как-то пошутил над собой:
— А я еще раздумывал, чудак, идти в стрелки или нет.
— Летят! — раздался чей-то радостный возглас, Золотарев вначале услышал, а потом и увидел тройку бомбардировщиков, появившуюся с севера, а не с запада, как ожидалось. Самолеты выскочили из-за колхозных сараев и сразу пошли на посадку. Спустя минут пять приземлились [59] еще два бомбардировщика. Два экипажа из этого полета но вернулись...
Вечером в столовой выпили по сто фронтовых граммов в память о погибших и молча пошли отдыхать. Утром снова предстояло лететь...
Новый день принес новые плохие известия: наши войска после ожесточенных боев оставили Гомель, Чернигов; фашисты сжимают кольцо окружения вокруг Киева.
Третья эскадрилья получила боевую задачу вылететь под Боярку, где разместился штаб 6-й немецкой армии, и разбомбить его.
Экипаж Серебряникова уже сидел в самолете, одетый во все меховое — полет предстоял на большой высоте, — и командир честил по чем зря снабженцев, на складе которых ничего не нашлось по его росту: комбинезон болтался на нем, как на вешалке, унты, несмотря на то, что он намотал на ноги поверх портянок по полотенцу, елозившие вверх-вниз по голени. Пока шли с построения к самолету, Иван трижды садился переобуваться. Золотарев посоветовал ему пристегнуть унты к поясу — для этого имелись специальные лямки. Командир послушался, и идти ему действительно стало легче. Но теперь, сидя в кабине, он снова чертыхался: лямки мешали ему.
— Если они попадут в управление, всем нам хана! — говорил он Золотареву, словно штурман был во всем виноват.
— Я ж хотел, как лучше, — сказал в свое оправдание Семен. — Ну отстегни ты эти лямки.
— А если придется прыгать? Унты слетят в два счета.
— Легче будет драпать от немцев, добираться до ближайшего леса, — пошутил Семен
— Двадцать седьмой, на связь! — прервал их разговор голос командира полка.
— Двадцать седьмой на связи, — отозвался Серебряников.
— Готовы к выполнению задания?
Так точно.
— Вам изменение. Пойдете но другому маршруту на разведку. Вдоль Днепра: Запорожье, Днепропетровск; Днепродзержинск. Если обнаружите переправу, сфотографируйте ее и домой. Нет — сбросите бомбы по скоплению фашистов.
— Один пойду? — спросил Серебряников. [60]
— Почему один — с экипажем, — сострил командир.
— Понял...
У Семена холодок пробежал по спине. Один экипаж на такую цель... Лучше б на Киев. Там, правда, не легче штаб фашисты охраняют посильнее, и маршрут около двух тысяч туда и обратно, «мессершмитты» сотню раз могут перехватить, но туда летит эскадрилья, а сюда, вдоль Днепра — один экипаж...
Золотарев спустился на землю, чтобы вместе с техником заняться подготовкой фотоаппарата, за ним спрыгнул с крыла и Серебряников. Расстегнул комбинезон, вытер вспотевшие лицо и шею.
— Ну и жарища. Солнце не успело от горизонта оторваться, а дышать уже нечем. Значит, на высоту не полезем?
— Само собой. Пойдем тысячи на две, фотографировать — с восьмисот.
— Вот и отлично! — Серебряников сбросил комбинезон, отдал механику. — Отнеси, пожалуйста, в каптерку. — С сожалением посмотрел на свои лохматые собачьи унты: — Жаль сапоги не обул, теперь придется эти волкодавы таскать.
— Ничего, пар костей не ломит. — Золотарев тоже снял комбинезон и попросил механика: — Захвати и мой, а реглан принеси.
На подготовку ушло около получаса, с КП уже торопили:
— Чего тянете? Взлетайте. Серебряников махнул рукой:
— По местам!
Бомбардировщик бежал долго, нудно воя, словно не хотел отрываться от земли. Наконец взлетел.
— Прошли исходный пункт маршрута, курс двести шестьдесят, — доложил штурман. Подождал, когда бомбардировщик развернулся, похвалил: — Отлично, командир! Так держать! Сейчас промерчик сделаем, ветерок определим. Погода, как по заказу, — ни облачка. И фрицев мы сегодня одурачим как пить дать.
— Грозился заяц лису поймать, — невесело отозвался Серебряников. — Лучше поточнее рассчитай время захода на цель и курс, чтоб со стороны солнца.
— Непременно рассчитаю, Иван.
— Теперь в оба смотрите, здесь должны «мессершмитты» рыскать, — предупредил командир. [61]
Бомбардировщик забрался на две тысячи. Здесь было совсем не жарко, и Золотарев полюбопытствовал:
— Как, командир, цыганский пот не прошибает? Может, спустимся?
— Ни в коем случае. Ты забыл — я в унтах, — пошутил Серебряников и спросил: — Стрелки, как самочувствие?
— В порядке, — отозвался Довгаленко. — Глядим в оба.
— Впереди справа — четыре точки, — доложил Довгаленко.
Золотарев не сразу увидел летевшие навстречу самолеты: Довгаленко всегда поражал его своим зрением -видел то, что, казалось, невозможно узреть простым глазом; он осматривал небо, словно локатором, и привозил из разведки такие данные, которые трудно было отыскать на снимках. Скромный украинский паренек, черноокий красавец, он был надежным защитником экипажа. На его счету уже имелся сбитый истребитель, и сержант ни разу не позволил фашистам зайти в хвост своему бомбардировщику, поджечь его. Команды Довгаленко были лаконичны, грамотны, упреждающи: словно хороший шахматист, он на много ходов вперед разгадывал замысел противника. Его коллега воздушный стрелок Кукса тоже в своем роде был оригиналом: медлительный, немногословный, по-крестьянски прижимистый — стрелял только короткими очередями, жалея каждый патрон, — в бою преображался: все видел, все слышал и успевал посылать отсекающие трассы, которые сбивали у фашистских летчиков охоту лезть на рожон. В общем, командование считало экипаж слетанным и нередко поручало ему самые трудные задания.
Четыре точки, как Золотарев и предположил, оказались «мессершмиттами». Серебряников дал команду приготовиться к отражению атаки. Но истребители, то ли не заметив одиночный бомбардировщик — он летел ниже, то ли имея более важное задание, прошли своим курсов Следом за ними показался строй бомбардировщиков Ю-88, более двадцати, а над ними еще две четверки «мессершмиттов» — истребители сопровождения. Пошли, видимо, на Сталино.
А внизу впереди, чуть правее, виднелось уже Запорожье, затянутое смрадным дымом, стелющимся вдоль левого берега Днепра; то там, то здесь вспыхивали разрывы, [62] город обстреливала вражеская артиллерия, а может, и бомбила авиация.
— Командир, десять градусов влево, — попросил Золотарев. — Пройдем южнее.
Когда бомбардировщик, сделав петлю, взял курс вдоль Днепра, в небе появились
разрывы: фашистские зенитки, расположившиеся на правом берегу, открыли огонь. Серебряников набрал еще триста метров, и белые облачка стали вспыхивать то ниже, то выше — зенитчики пристреливались.
Золотарев перенес взгляд на землю. Правый берег Днепра кишел людьми и техникой, по дорогам с запада на восток двигались колонны машин, танков, орудий. Все это скапливалось у Днепровских круч, готовилось к броску на левый берег, где почти никого и ничего не было видно: то ли наши войска замаскировались хорошо, то ли остались за Днепром. Похоже на последнее: артиллерия наша почти бездействовала...
Показался и Днепропетровск. Огонь и дым там бушевали повсюду.
— Командир, десять вправо... Так держать!
Серебряников молча вел бомбардировщик, как по нитке. Разрывы теперь вспыхивали все чаще и плотнее, все ближе и ближе. Кабина наполнилась сладковато-горьким специфическим запахом сгоревшего тротила, в горле першило, как от перца, из глаз лились слезы, мешая вести наблюдение, но Золотарев не отрывался от прицела.
— Слушай, штурман, а не перемудрили мы с тобой этим звуковым эффектом? — спросил Серебряников. — Мне кажется и наши лупят по нам.
— Это только цветочки, ягодки впереди, — оптимистично заверил Золотарев. — Жаль, что мы не можем ответить фрицам. Посмотри, сколько техники в парке скопилось. Черным черно. Хотя бы одну соточку сбросить.
— Подождешь, переправа важнее. Неплохо бы искупать их в Днепре.
Днепропетровск уплывал под крыло. Разрывы зениток поутихли. Но не надолго.
Впереди чуть заметной лентой обозначилась переправа.
— Снижаемся до тысячи двухсот, — скомандовал штурман.
Бомбардировщик клюнул носом, и переправа быстро стала расти, контрастнее выделяться на водной глади. Да, [63] за ночь ее восстановили, и теперь по ней, как муравьи перед ненастьем, мчались танки, машины с орудиями и прицепами, бензовозы.
— Может, сразу шарахнем бомбами? — предложил Серебряников. — Уж больно густо прут. И зенитки пока дремлют, похоже, вправду за своего приняли.
— Не станем переубеждать их, пройдем без бомбометания. Сфотографируем, пока они на солнце по разглядели нас.
Серебряников уловил иронию, ответил в том же духе:
— А что, тактика — вещь серьезная. Действительно, то ли из-за того, что немцы приняли Ил-4 за «юнкерс», то ли плохо видели его, огонь не открывали. Золотарев, придерживаясь правого берега, без особого труда отснял часть переправы — всю объектив фотоаппарата захватить не мог, требовался еще один заход. И когда бомбардировщик, развернувшись чуть ли не над Днепродзержинском, лег на обратный курс, его встретил шквал огня. Стреляли зенитные орудия, пулеметы, автоматы — стреляло все, что могло стрелять, — перед бомбардировщиком сплошной стеной повисли разрывы, сквозь которые, казалось, не пробиться. И обходить нельзя, ни подняться, ни снизиться: снимки должны быть одномасштабные, монтироваться... Но не лезть же в этот кромешный ад на верную гибель...
— Давай, Иван, сделаем круг и еще раз зайдем со стороны солнца.
— Нет уж, Сеня, обходить не будем, — возразил командир, — слишком большой крюк. И зенитки не «мессершмитты», палят в белый свет, как в копеечку.
Логично. Золотарев совсем забыл об истребителях. А они поопаснее, чем зенитки. Он окинул взглядом парашютные лямки, вытяжное кольцо и усмехнулся: от одной мысли об истребителях к прыжку стал готовиться. А ведь как он не любил парашютные прыжки. Мало сказать не любил, боялся их, как черт ладана. Правда, тому была своя причина. Вскоре после того, как Золотарев прибыл в полк, назначили парашютные прыжки. Молодой штурман готовился к зачетам по штурманской подготовке и не успел уложить парашют. Парашютоукладчик сунул ему чей-то, уложенный месяца три назад, а может и более. При прыжке вытяжное кольцо заело — окислилась вилка, — и Золотарев пролетел метров шестьсот, пока не дернул кольцо обеими руками. На земле его встретил разъяренный [64] начальник парашютно-десантной службы дивизии:
— Я вам покажу затяжку! Трое суток домашнего ареста...
Отбывать наказание, правда, не пришлось. Начальник парашютно-десантной службы дивизии, довольный результатами прыжков, вместо трех суток ареста назначил Золотарева нештатным начальником ПДС полка. И несмотря на то, что теперь ему приходилось совершать чуть ли не по сотне прыжков в год, полюбить их он так и не смог.
Бомбардировщик вошел в зону заградительного огня, и его стало бросать, как телегу на ухабах: слышно было, как скрипят и стонут стрингера и нервюры, как барабанят осколки по обшивке, разрывая и корежа дюраль. Штурман чувствовал каждый удар, сердце замерло в ожидании самого страшного, и трудно было заставить себя думать, действовать. Но он заставил — еще плотнее прижался к прицелу, стал следить сквозь окуляр за землею.
— Десять влево... Еще пять... Так держать! — Он снова включил фотоаппарат.
А вспышки разрывов бушевали все яростнее, от смрадной тротиловой гари перехватывало дыхание, и не было времени, возможности надеть кислородную маску. Золотарев откашливался, зажимал замшевой перчаткой рот, но это помогало мало.
Наконец лента переправы показалась в верхнем образе прицела и медленно, очень медленно поплыла вниз. Бомбардировщик продолжало бросать и трясти, и сечь осколками. Но каким-то чудом он все держался, упрямо пробивался сквозь огненный смерч. И наконец пробился!
— Есть, Ваня, снимки! Есть! — торжественно воскликнул Золотарев, когда бомбардировщик вырвался из зоны огня.
— Теперь бы домой! — вздохнул Серебряников. — А мы не можем — бомбы держат.
— Чепуха. Теперь зато можем маневрировать по высоте. Давай-ка боевым разворотом набирай сколько можешь и шандарахнем! Радист, передавай координаты цели...
Бомбардировщик взвыл от натуги и круто полез вверх по спирали, разворачиваясь на цель, над которой от разрывов образовалось целое облако.
Зенитчики поджидали его, но не предполагали, что тяжелый [65] самолет наберет так быстро около семисот метров, и разрывы повисли намного ниже. С высоты хорошо было видно всю систему огня зенитчиков: огненная воронка ползла за самолетом и медленно сужалась. Стоило попасть в ее центр и тогда...
— На боевом. Так держать! — Золотарев открыл бомболюки.
Зенитчики подкорректировали расчеты, и «воронка» поднялась выше, опоясала самолет.
— Вниз, Ваня, на двести!
— Понял.
Бомбардировщик будто нырнул под разрывы, штурмана подбросило с сиденья, и привязные ремни впились в плечи, полетная карта, карандаши, линейка закружились над столиком, как в невесомости. Крутой выход из пикирования уложил все на место; теперь Золотарева так прижало, что трудно было пошевелить рукой. И хотя перегрузка длилась считанные секунды, штурман забеспокоился, как бы не опоздать с бомбометанием, потому решил бросать не все бомбы, а только две, для пристрелки. И убедился, что поступил
правильно — бомбы упали с перелетом. А переправу надо уничтожить во что бы то ни стало, не пустить фашистов на левый берег.
— Давай, Ваня, еще заход, промазали, — с сожалением сказал штурман.
— Даю. Ты не торопись. Постарайся, как на последних учениях.
Да, на учениях перед самой войной они бомбили здорово. Три захода, и все бомбы в «яблочко». Правда, тогда зенитки не стреляли и никакого маневра на боевом курсе они не совершали...
Серебряников будто прочитал мысли штурмана.
— Может, не будем горки устраивать?
— Собьют. А нам надо снимки доставить.
Но когда вышли на боевой курс и по обшивке снова забарабанили осколки, Золотарев процедил сквозь стиснутые зубы:
— Так держать!
Переправа, казалось, еще медленнее ползет к перекрестию, а самолет швыряет еще сильнее. Справа, будто раскололась шаровая молния, грохнул разрыв, и правый мотор поперхнулся, закашлял; в кабине запахло горелым маслом. Наверное, загорелся... Но не было времени оторваться от прицела... Командир молчал. И стрелки... Все [66] ждут, когда штурман сбросит бомбы. Теперь уничтожение переправы — самое главное в жизни.
— Так держать!.. Сброс!
Семен нажал на кнопку «Серия», почувствовал, как самолет облегченно подпрыгнул, и увидел, как бомбы стремительно понеслись вниз. Он не отрывал взгляда, пока на переправе не взметнулся черный столб взрыва. Танки, орудия, машины, словно игрушечные, полетели в воды Днепра.
— Есть, Ваня! Капут переправе! Влево девяносто и полный вперед. Теперь домой!
Бомбардировщик понесся к земле, разворачиваясь к левому берегу.
— На правом моторе вижу дым, — доложил Довгаленко.
— Знаю, — отозвался Серебряников и успокаивающе пояснил: — Наверное, маслопровод задело. — И убавил обороты. Мотор стал кашлять реже, но гарь усиливалась.
Внезапно зенитки прекратили стрельбу.
— Смотрите за воздухом, — напоминал командир. И едва он отпустил кнопку СПУ, как Довгаленко доложил:
— Слева сзади два «мессера», дальность — тысяча!
— Отразить атаку!
Серебряников выждал немного и, резко изломив глиссаду, повел бомбардировщик ввысь. Почти одновременно застучали нижний и верхний пулеметы. Штурман, держа свой ШКАС наготове, окидывал переднее пространство напряженным взглядом. Вот справа показались два тонкобрюхих силуэта и круто отвернули — пошли на новый заход для атаки сзади.
Командир снова перевел бомбардировщик на снижение и в это время мотор окончательно сдал — затрясся, как в лихорадке.
— Правый горит! — доложил Довгаленко, и в голосе его Золотарев уловил тревогу.
— Вижу. Включаю противопожарную систему, — спокойным тоном подбодрил товарищей Серебряников.
— Вправо вверх! — крикнул Довгаленко, и тут же пулеметы продолжили свой грозный перестук. Но нижний почему-то быстро смолк.
— Заклинило, мать его... — выругался Кукса.
— Запасной взял? — спросил Серебряников.
— А как же. Так время... [67]
— Прекрати болтать. Меняй.
Чувствовалось, выдержка командира начала сдавать.
«Мессершмитты» снова показались справа — выходили из атаки тем же правым разворотом. Но вдруг ведущий завис в верхней точке и, перевернувшись на спину, стал падать.
— Есть один! — сообщил Золотарев. — Твой, Довгаленко?
Но стрелку-радисту, видно, было не до торжества. Сквозь раздирающий его кашель, он еле проговорил:
— В кабине дым, дышать нечем...
— Приготовиться к прыжку, — приказал Серебряников. — Я поднаберу высоты.
Золотарев посмотрел вниз: Днепр остался позади, впереди под ними расстилалось
скошенное поле, кое-где возвышались копны соломы.
— А может, сядем? — спросил штурман.
— Мы — попытаемся, а стрелкам — прыгать... — Голос командира прервал очередной удар, словно бомбардировщик наскочил на препятствие и подпрыгнул. Золотарев ощутил острую боль в правой ноге. В ту же минуту весь самолет охватило пламя. Оно было такое сильное и яркое, что попытка сбить его пикированием ничего не дала. Штурманская кабина мгновенно наполнилась густым дымом, кожа реглана затрещала от огня. А командиру было и того хуже: ведь его кабина находилась между моторами. Золотарев собрал силы, нажал на кнопку самолетного переговорного устройства и крикнул:
— Прыгайте! — Но голоса своего не услышал: СПУ не работало, видно перебило проводку. Надо прыгать самому. Он нагнулся, чтобы открыть нижний люк, но тот не поддавался. Мельком огляделся вокруг, заметил в окно: в огне на плоскости стоял командир. Он тут же исчез — прыгнул. «Прыгать, прыгать!» — лихорадочно забила мысль. Он нащупал рукой рычаг аварийного сброса, но то ли сил осталось мало, то ли люк прижало воздушным потоком, механизм не срабатывал. Надо попытаться уменьшить скорость. Штурман второй рукой крутнул ручку триммера на себя, не веря в успех. И, о чудо! Бомбардировщик послушался. Еще, еще! Самолет поднял нос выше горизонта. Высота росла: 600, 700... Скорость уменьшалась... Пора. Еще одна попытка, и крышка люка провалилась вниз.
А языки пламени вовсю гуляли по штурманской кабине, [68] жевали полы реглана, лизали руки, тянулись к лицу. Золотарев схватил со столика полетную карту, замшевые
перчатки — потом сам удивлялся — до них ли было, — сунул все за пазуху и, уцепившись за края люка, выбросился наружу. Свежий, прохладный воздух подхватил купол его парашюта, бережно отнес от самолета, превратившегося теперь в горящую комету.
Штурман сильно натянул стропы, увеличивая скорость снижения. Он знал, что где-то рядом кружат «мессеры», чтобы наброситься и добить в воздухе. Семен видел, как бомбардировщик все еще лез вверх, пока пламя не добралось до бензобаков, которые взорвались, расплескав во все стороны огненные брызги. В какой-то миг в поле зрения мелькнули и три белых купола парашютов — значит спаслись все, и это его обрадовало.
Серебряников приземлился метрах в трехстах от Золотарева и не поднимался. Штурман отстегнул парашют, зажал рукой легкую рану на бедре и заковылял к командиру. Его остановил властный звонкоголосый окрик:
— Хенде хох!
Хлопнул выстрел. Пуля дзинькнула у самого уха Золотарева. Штурман упал, схватился за пистолет, вернее за место, где он висел, и обнаружил, что пистолет вместе с кобурой оторвало в момент раскрытий парашюта.
Из-за копны вновь последовал оклик:
— Вставай, фашистская сволочь! Хенде хох!
— Я свой русский, — обрадовался Золотарев.
— Знаем вас своих. — Из-за копны снова выстрелили. — Руки, руки поднимай. Хенде
хох!
— Заткнись со своим «хенде хох», — негромко отозвался Серебряников. — И прекрати палить, у нас ведь тоже, имеются пистолеты.
Ругань и стрельба прекратились. Из-за копны пугливо выглянула мальчишеская голова в кепке, во выходить на паренек боялся.
— Иди лучше помоги перевязать рану, — позвал Золотарев. — Не бойся.
— Еще чего, — сердито возразил паренёк и вышел из-за копны, держа наган на изготовку. К нему из-за второй копны спешил на помощь дедок с сивой бородкой, вооруженный карабином.
— Это наши, Митря! — издали сообщил дед. Вместе с ними Золотарев подошёл к лежавшему на спине командиру, и все трое остановились, как вкопанные; [69] паренек с ужасом и мольбой посмотрел на штурмана, словно он мог помочь чем-то. Лицо Ивана было неузнаваемо, в волдырях и ссадинах, брови и веки опалены, кожа на лбу, носу и подбородке потрескалась и кровоточила, пальцы рук вздулись и торчали врастопырку, он не мог ими даже отстегнуть карабины парашюта.
Золотарев забыл о своей боли, склонился над командиром.
— Давай-ка, отец, помогай, — попросил он старика, отстегивая лямки парашюта. — Отрежь кусок от купола, сейчас перевяжем.
Серебряников слабо попросил:
— Пить.
Губы сразу же закровоточили, и Золотарев подивился, какую надо иметь выдержку, чтобы при такой боли и не стонать.
— Сейчас. Сейчас попытаемся достать, — успокаивал он командира. Но ни речки, ни озерца поблизости не было.
— Село далеко? — спросил Золотарев у старика.
— Далеконько, — ответил тот. — Надо бы подводу. Можа, Митрю пока послать?
К счастью, посылать не потребовалось: прямо по стерне к ним мчалась машина. Из кузова ее выскочил красноармеец лет тридцати, с винтовкой, а из кабины — девушка, тоже в форме, с санитарной сумкой на боку. Бегло окинув летчиков взглядом, она расстегнула сумку, достала из нее пакеты, бинт, пузырек с какой-то жидкостью, налила в пробирку и поднесла к губам командира. Серебряников выпил и заскрипел зубами.
— Ничего, ничего, потерпи, — ласково сказала девушка. — Сейчас тебе станет легче.
У Золотарева то ли от собственной боли, которая снова дала о себе знать, то ли от страшного вида командира и его мук, закружилась голова, и он, чтобы снова не потерять сознание, опустился на землю.
Девушка забинтовала командиру лицо и руки, повернулась к штурману.
— А ну-ка, что у вас?
— Да вот задело малость.
Она осмотрела рану, вздохнула.
— Ну, это не так страшно, сейчас перевяжем.
— Документы есть? — спросил у штурмана красноармеец. [70]
— Какие документы — мы с боевого задания. Разве не видите — раненые...
— Откуда вы?
— Из-под Ростова... Где-то здесь наши стрелки, поищите их. И фотоаппарат надо снять с самолета. Может, уцелел. Там важные сведения.
— Найдем. Постараемся... — неуверенно сказал боец. Сержант Довгаленко подошел сам минут через пять, он тоже был ранен в руку и ногу; сержанта Куксу старик и паренек нашли мертвым — фашистский летчик не пожалел на него снарядов...
Воздушного стрелка здесь же в поле и похоронили. Фотоаппарат действительно уцелел каким-то чудом. Золотарев попросил срочно доставить его командованию.
Серебряников начал бредить: то подавал команды отразить атаку, то посылал кому-то проклятия, то убеждал Семена заходить на бомбометание со стороны солнца. В минуты просветления подзывал штурмана и просил:
— Только в полк, Сеня, в наш медсанбат. В госпиталь не надо.
Машина доставила раненых в Синельникове. Оттуда, как Золотарев ни просил, Серебряникова и Довгаленко отправили санитарным поездом в тыловой госпиталь. Один лишь штурман прибыл в свою часть.
Семен бродил по аэродрому, как неприкаянный, испытывая гнетущую тоску одиночества, не находя себе места: он и предположить не мог, что так сжился, сроднился с Иваном Серебряниковым, с этим взбалмошным и непоседливым человеком, несколько
бесшабашным, любившим порой чуточку прихвастнуть, с которым штурман нередко вступал в спор; с Николой Куксой, «крестьянским мужичком», как шутя называли его между собой в экипаже, неторопливым, вдумчивым; с Пашей Довгаленко, веселым хлопцем, толковым радистом и воздушным стрелком.
И хотя Семен знал, что Серебряников и Довгаленко живы, находятся в госпитале, ему казалось, что больше им никогда уж не встретиться. Ваня ранен тяжело и вряд
будет допущен после выздоровления к полетам. Довгаленко возможно и будет летать, но попасть в свой полк такой ситуации едва ли ему удастся...
Особенно было жаль Куксу. Ему не исполнилось еще и двадцати. Вспоминался разговор с ним перед первым [71] боевым вылетом: «А вам тоже очень хочется летать?» «Видите ли, если говорить откровенно, то и хочется и колется — боязно...» Он знал, на что шел.
11
И вот Семен один... Экипажи улетают на задания, прилетают, отдыхают и снова в небо. Техникам и механикам и вовсе не до него: не успевают ремонтировать самолеты, готовить их к боевому вылету. Только полковой врач да медсестра уделяют Семену должное внимание: основательно обрабатывают его рану, мажут какой-то мазью, тщательно забинтовывают, советуют больше лежать... Посмотрел бы он на них, как бы они лежали, окажись на его месте. Рана на ноге — чепуха, уже не кровоточит и особенно не беспокоит, а вот на сердце... Эта, пожалуй, не заживет.
Семен не заметил, что пришел на стоянку своего бывшего самолета, И удивился: перед ним на козлах стоял Ил-4, Уж не их ли это бомбардировщик?.. Нет, чудес на свете не бывает...
У бомбардировщика хлопотали техники Рева, Цыганков и механик Гайдамакин. Сержант первым заметил штурмана и, будто прочитав его невеселые мысли, подбодрил:
— Так что не скучайте, товарищ лейтенант, безлошадным не останетесь. К вашему выздоровлению соберем вот из нескольких самолетов один. Можете не сомневаться, будет не хуже заводского.
Только теперь Семен заметил, что у бомбардировщика крылья буквально изодраны клочьями, лонжерон и стрингера торчат, как кости какого-то доисторического животного. Стабилизатор и руль высоты тоже посечены осколками. Как только самолет держался в воздухе?
— Это капитан Шанаев на нем дотянул. В рубашке ребята родились — на посадке руль поворота отлетел, перебит был кронштейн, — пояснил Гайдамакин.
«Трудно, очень трудно приходится нашим летчикам», думал Семен. Еще утром он слышал в столовой, что немцы в нескольких местах навели через Днепр переправы. Задача полку — уничтожать их. А переправы охраняв зенитные батареи, истребители; правый берег буквально напичкан артиллерией... Уже не один экипаж не вернулся [72] оттуда. Два часа назад на бомбежку переправы в районе Кайдака улетел экипаж младшего лейтенанта Вдовенко.
Перед полетом Никита Гомоненко сказал Семену: — Не будь я штурманом, если не искупаем сегодня фрицев в нашем родном Днепре. Да так, чтоб навеки запомнили!
Никита — решительный человек, слов на ветер не бросает. Семен уже не раз видел его в воздушных боях и над целью, когда кругом полыхали разрывы снарядов, и завидовал его выдержке: с боевого курса не свернет, пока не сбросит бомбы. И летчик у него, тезка Серебряникова, под стать штурману — пулями и снарядами его не запугаешь!
Много в полку таких летчиков и штурманов. Много, но не все. Вчера один экипаж вернулся, не долетев до переправы, якобы из-за того, что забарахлил мотор, второй долетел, но в переправу бомбами не попал. Вот утром Гомоненко и пошел сам к командиру полка просить, чтобы на переправу послали их экипаж.
Майор Микрюков поначалу даже вспылил:
— Кого куда посылать, позвольте мне распоряжаться.
— Но наш экипаж — комсомольский, — стоял на своем Гомоненко. — К тому же и сам я секретарь комсомольской организации. На нас смотрят все, на нас равняются.
И Микрюков согласился... Вспомнив все это, Семен не пошел в палатку отдыхать, а остался ждать возвращения экипажа Вдовенко.
После полудня приземлились два бомбардировщика — старшего лейтенанта Аркатова и лейтенанта Королева, летавших с Вдовенко на подавление зенитных средств. Оба самолета были издырявлены осколками и снарядами. Летчики долго не покидали своих кабин, а когда вышли, по их лицам нетрудно было понять, что с экипажем Вдовенко произошло непоправимое.
Слушая рассказ Аркатова, Семен ясно представил себе разыгравшуюся в небе трагедию. Бомбардировщики Аркатова и Королева летели впереди, чтобы отвлечь внимание зениток на себя. Не доходя до цели, они заметили пару «мессершмиттов», летевшую выше. Фашисты тоже их увидели и стали разворачиваться. А тут самолет Вдовенко. То ли легкая добыча прельстила их, то ли они разгадали замысел советских летчиков, но преследовать пару не стали, а атаковали одиночный бомбардировщик. [73]
Стрелок-радист сержант Карпов и воздушный стрелок младший сержант Пулатов в экипаже Вдовенко были опытными воздушными бойцами и встретили «мессершмиттов» дружным огнем. Первая вражеская атака была сорвана. Истребители сделали разворот с набором высоты и атаковали со стороны солнца. Карпов прикинул время до сближения на дистанцию эффективного огня и скомандовал:
— Разворот!
Вдовенко бросил машину вправо. Истребители стали делать доворот. Вот тогда-то Карпов и поймал раскинутые плоскости ведущего в сетку прицела. Застучала очередь. Трасса прошила «мессершмитт», он задымил и, отвернув с боевого курса, рухнул вниз.
— Есть один! — крикнул Карпов.
— Молодец, — похвалил стрелка-радиста командир экипажа. — Смотрите за вторым.
Второй фашистский летчик на рожон не полез, попытался зайти в хвост
бомбардировщику. Но команды Карпова срывали его замысел. Выпустив несколько
длинных очередей с дальней дистанции и не добившись результата, «мессершмитт» отвалил в сторону и скрылся.
— Командир, до переправы десять километров. До-ворот влево пятнадцать градусов, — скомандовал Гомоненко.
Едва вышли на прямую, ударили зенитки. Вокруг повисли грязные клочья разрывов. Осколки гремели по обшивке, оставляя в фюзеляже и крыльях рваные пробоины.
— На боевом! Так держать! — сквозь зубы процедил Гомоненко, не отрываясь от прицела. Вот она, кажущаяся с высоты узкой лентой, переправа, по которой один за другим движутся танки. Фашисты стремятся на помощь к своим, закрепившимся на левом берегу Днепра. Надо не дать им сделать этого, во что бы то ни стало разрушить переправу.
— Так держать! — упрямо повторил Гомоненко, хотя видел, что бомбардировщик идет как по ниточке. Лишь взрывные волны подбрасывали его то и дело, мешая целиться. И вот она, наконец, самая середина переправы в центре прицела. Гомоненко нажал кнопку сброса. Самолет тряхнуло — бомба пошла вниз.
Столб воды вздыбился рядом с целью. Рядом...
— Давай на повторный! [74]
Бомбардировщик сделал петлю и понесся на переправу с обратным курсом.
Вторая бомба тоже легла рядом. Попасть в узкую полоску, когда кругом рвались снаряды, оказалось делом очень нелегким.
— Снижайся на пятьсот! — скомандовал Гомоненко. Чем меньше высота, тем больше шансов попасть в цель. Но те же шансы давал экипаж и фашистским зенитчикам. Несмотря на то, что экипажи Аркатова и Королева обрушили на них бомбы и огонь всех пулеметов, небо кипело от разрывов снарядов. По самолетам били танки, наземная артиллерия, пулеметы.
— Заходи еще! — крикнул Гомоненко.
Вдовенко сделал круг побольше и направил бомбардировщик на переправу в третий раз. Фашистские зенитчики сосредоточили огонь по его курсу. Заградительная стена черного дыма и частых вспышек стремительно приближалась.
— Так держать!..
Рядом ухнуло. Самолет подбросило, словно пушинку.
— Горит левый мотор! — тревожно доложил Карпов.
С трудом удерживая подбитую машину, Вдовенко взглянул влево. Красные языки пламени выбивались из-под капота и ползли по плоскости. За ними тянулся черный, густой, как деготь, дым.
«Надо немедленно уходить к левому берегу, — подумал Вдовенко. — Там наши, можно либо посадить самолет, либо дать команду прыгать... А переправа? Оставить ее, чтобы по ней шло к фашистам подкрепление?.. Нет, оставлять ее нельзя. Этот вопрос решен в экипаже еще вчера, и Гомоненко пошел к командиру полка не только от себя лично... Слово надо держать».
Летчик посмотрел вниз. Впереди, совсем недалеко, темнела на водной глади запруженная техникой длинная лента переправы.
— Никита! — позвал летчик штурмана.
— Я, командир!
— Иду на таран, всем покинуть самолет! Предупреди стрелков.
Мы слышали, командир. Остаемся с тобой. Бомбардировщик понесся вниз. Могучая взрывная волна содрогнула небо и землю... [75]
12
Семен пережил уже не одну утрату боевых друзей, а гибель экипажа Вдовенко подействовала на него угнетающе. Перед взором стоял Никита Гомоненко, каким он видел его утром. «Не будь я штурманом, если не искупаем сегодня фрицев в нашем родном Днепре...» — звучал в ушах его бодрый уверенный голос. И верно, фрицев они искупали. Но такой ценой... Настоящий был комсомольский вожак, пример во всем... А он, боевой штурман, ходит по аэродрому с клюкой, как восьмидесятилетний старик, из-за какой-то пустяковой раны.
Майор Микрюков выслушал его внимательно, кивнул на ногу, хотя Семен вошел в землянку без палочки и старался не хромать.
— Как рана?
— А что рана, — усмехнулся Семен. — Какая ей разница, где заживать, на земле или в
небе?
— Врач допускает к полетам?
— Разве сейчас время с врачами советоваться? Фашисты прут, гибнут лучшие люди...
— Я понимаю вас, Семен Павлович. Не спешите, долечивайтесь. Мы про вас не забыли. Будете летать со старшим лейтенантом Аркатовым...
13
Михаил Андреевич Аркатов в противоположность Ивану Серебряникову отличался немногословием, был несколько скрытным и малообщительным. Привыкать к нему было нелегко. Воздушные стрелки сержанты Зайцев и Оскаров тоже оказались сложными людьми, часто между собой спорили, не понимали и не хотели понять друг друга. А если экипаж разнороден, не дружен, это обязательно скажется в небе, Семен не раз убеждался в этом. Но, со своим уставом в чужой монастырь... К тому я? Аркатов был не только командиром экипажа, но и заместителем командира эскадрильи. К моменту назначения Золотарева под его начало Аркатов совершил более трех десятков боевых вылетов. И ни разу не был сбит. Летал он отменно, грамотно, в полку его ценили и самые трудные задания нередко доверяли только ему. В последнем полете «а подавление зенитных средств его штурман был ранен. [70]
И вот теперь Семену предстояло летать в этом экипаже. Аркатов представил нового штурмана своим стрелкам и посоветовал ему:
— Пока врачи не допустили вас к полетам и есть время, займитесь астрономией.
О переходе на ночные полеты в полку говорили с первого дня войны, но говорить одно, а делать другое: вывозить летчиков ночью было некому, и самолетов в полку осталось столько, что не успевали выполнять дневные боевые задания.
Сидеть без дела, провожать экипажи на задания и ждать их возвращения оказалось труднее, чем летать самому. В полете твои мысли заняты расчетами ветра и угла прицеливания, бомбометанием, слежением за воздухом, отражением атак истребителей, а на земле в голову лезло всякое. Новые потери действовали угнетающе, истощали нервную систему. Астрономия, которую Семен любил в училище и неплохо знал, теперь на ум не шла. А тут еще смена командного состава: Микрюкова забрали с повышением, а на его место прислали сначала майора Самохина, а затем майора Егорова, человека крутого нрава.
Командир эскадрильи капитан Омельченко тоже отличался крутым нравом, горячностью, нетерпимостью к малейшим недостаткам.
Он прибыл в часть то ли из запасного полка, то ли из училища, где обучал летному делу курсантов, а лейтенант Королев утверждал, что он был заводским летчиком-испытателем. Как бы там ни было, а назначили его командиром третьей эскадрильи, и держался он не как новичок, а как истинный ас, повидавший всего на свете. Высокого роста, могучий в плечах и с крутой богатырской шеей, он Действительно выглядел эффектно и поглядывал на всех сверху вниз, хотя каждый, кто попал под его начало, имел на счету по нескольку десятков боевых вылетов, сбитые самолеты, награды и благодарности.
Когда Омельченко представили и командир полка удалился, оставив нового комэска наедине с вверенным ему личным составом, капитан прошелся вдоль строя, внимательно разглядывая каждого летчика, штурмана, радиста и воздушного стрелка, вернулся к середине и пророкотал своим зычным с чуть уловимым украинским акцентом голосом:
— Отныне и навеки вечные запомните никем неписанные, а жизнью сложенные святые истины: о молодце [77] судят по выправке, о соколе — по полету; смелость — характер, опыт — качество; то и другое — боевое мастерство. А посему требую: в строй становиться опрятным и подтянутым, в полет идти хорошо подготовленным...
С первого же дня пребывания Омельченко установил в эскадрилье свои порядки: увеличил время на подготовку к полетам за счет отдыха, которого и так было негусто; стал проводить розыгрыши полетов, проверять знания летчиками и штурманами своих заданий, сил противника, действий в сложных ситуациях.
Не всем эти нововведения понравились. Кто-то сказал:
— Посмотрим, каков он в деле.
Возможность такая вскоре представилась.
Ночь стояла тихая и не по-осеннему теплая. Бомбардировщики летали но кругу: Омельченко обучал летчиков своей эскадрильи взлету и посадке. Прожекторы работали с большой осторожностью: включались, когда самолеты подходили к аэродрому, и едва они
приземлялись, сразу выключались. Было безоблачно, и немецкие бомбардировщики могли появиться в любой момент.
Сделав два контрольных полета с лейтенантом Королевым, Омельченко выпустил летчика самостоятельно. А сам пошел на КП. Туда к этому времени подъехал командир полка майор Егоров.
— Как дела? — поинтересовался майор.
— Хорошо. Второй летчик вылетел самостоятельно. Но ночь в этот раз выдалась невезучая. Вскоре в небе появился «фокке-вульф» и повесил над аэродромом светящую бомбу.
Лейтенант Ермаков, только что выпущенный в самостоятельный полет, в это время заходил на посадку. Руководитель полетов дал ему команду уйти в зону, но летчик то ли не слышал, то ли по какой-то другой причине продолжал снижаться. Прожектористы, не обращая на это внимания, выключили прожекторы и припустились в бомбоубежище.
И вот тут-то Семен нашел ответ на свой вопрос об Омельченко. Всех, кто был у КП, у самолетов, будто ветром сдуло — разбежались по окопам и траншеям, вырытым у стоянок, у складов. Семен тоже было рванулся за всеми, а в ногу, будто нарочно, предательски кольнуло. Да так сильно, что он даже присел.
Не бросился бежать лишь Омельченко. Он как стоял [78] коло КП, наблюдая за самолетом Ермакова, так и остался стоять.
Самолет Ермакова между тем приземлился с небольшим перелетом и, не погасив почему-то фар, продолжал катиться вдоль взлетно-посадочной полосы. Замедлил скорость, свернул вправо, к самолетной стоянке, и все так же не гася фар, стал кружить по спирали, медленно приближаясь к самолетам. Было ясно, что летчик в самом конце пробега выпрыгнул из самолета, боясь, что немец будет метить именно во взлетно-посадочную полосу.
— Что за чертовщина! — выругался Омельченко. Руководитель полетов высунулся из двери КП, озадаченно крикнул:
— Не отвечает! Похоже, в самолете никого нет!
И в самом деле, колпак кабины летчика был сдвинут назад.
Капитан Омельченко метнулся к бомбардировщику. При свете немецкой САБ его массивная фигура мелькнула на фоне фюзеляжа. Скорость бегущего по земле самолета была не менее двадцати километров, и если капитан, устремившийся к поручням между крылом и стабилизатором, не успеет схватиться за них, его собьет стабилизатором и ударит хвостовым колесом.
Омельченко успел. Схватился за поручни, но сил на большее не осталось, бомбардировщик с работающими моторами рванул его и потащил за собой. Было видно, как ноги волочатся по земле, поднимая дорожку пыли.
Семен, который вместе со всеми наблюдал эту картину, знал, что капитан Омельченко занимается спортом, подтягивается на турнике по двадцать раз. Теперь тоже следовало подтянуться, взобраться на крыло. Сумеет ли он это сделать?
Комэск попытался. Видно было, с каким трудом он дотянулся до крыла. Приподнял ногу и... сорвался. Если силы покинут капитана и он не удержится за поручни, то окажется под хвостовым колесом.
Омельченко, видно, ясно сознавал свое положение. Ведь спирали неуправляемого бомбардировщика с каждым витком становились все ближе и ближе к самолетной стоянке. Еще два-три витка и самолет врежется в какую-нибудь из машин...
Омельченко, собрав все силы, подтянулся и перехватил руками повыше, рванулся и оказался на крыле.
Семен даже вскрикнул от радости. [79]
Омельченко полежал на крыле секунд пять и, распрямившись, шагнул в кабину. Гул моторов тут же ослаб, фары погасли. Капитан зарулил на свободную стоянку.
Светящая над аэродромом бомба догорела и «фокке-вульф» улетел — видно, производил разведку.
Летчики, штурманы и авиаспециалисты вылезли из своих укрытий. Пожаловал к своему целому и невредимому бомбардировщику и экипаж старшего лейтенанта Ермакова. Командир, а за ним штурман и стрелки. Пристыженные, с повинными головами.
— А вы откуда взялись? — глаза Омельченко сурово сверкали, широкие густые брови круто изогнулись.
Ермаков еще ниже опустил голову.
— Бросить самолет на посадке, не выключив моторы?.. Вы знаете, чего заслуживаете? — голос Омельченко сорвался от негодования.
«Не миновать бедолагам военного трибунала», — подумал Семен.
— Но учитывая, что это ваш первый самостоятельный, — заключил капитан, — всем по трое суток гауптвахты с усиленной отработкой на материальной части!
14
Ночью 26 сентября Семен Золотарев снова вылетел на бомбежку скопления вражеской мотопехоты в районе Семеновки, что на Днепропетровщине.
Ночь стояла звездная, безоблачная. До линии фронта — ни огонька, словно вымерло все на земле. Лишь в стороне, когда пролетали мимо больших городов, были видны отблески пожаров. Вел бомбардировщик капитан Аркатов. Это был мастер своего дела. Пилотировал он без лишних эволюции — самолет словно застыл на одном месте, и только гул моторов да чуткая стрелка прибора скорости говорили о его движении.
Эскадрилью вел Омельченко. Правда, вел довольно относительно: его машину видно не было, да и те, кто шел за Аркатовым, летели в минутном интервале, в шести километрах друг от друга.
Молчал командир, молчали стрелки, и это молчание и тишина по мере приближения к линии фронта начинали давить на психику, вызывая все большую тревогу.
Перед полетом к Семену подошел заместитель командира [80] полка по политической части майор Казаринов, поговорили о том, о сем, потом замполит спросил:
— Страшновато?
Семен пожал плечами. Нет, героем он себя не считал и на первом боевом вылете очень переживал и волновался, а при мысли, что погибнет, страх сжимал сердце. Но это было тогда, теперь же он был опытнее и такие мысли гнал из головы.
Казаринов принял пожатие плечами за согласие, кивнул удовлетворенно.
— И в этом нет ничего предосудительного. Не боятся только сумасшедшие да дураки. Тем более после такой переделки, в какой вы побывали. Ничего, старайтесь держать себя в руках. Командир у вас опытный, истребителям ночью найти вас не так-то просто и зенитчики целятся по звуку.
Все это так, рассудком он понимал, и полет проходил пока — лучшего желать не надо, но нервы рассудку не подчинялись и сердце так неуемно частило, что мешало вести расчет пути, определять ветер, угол сноса... А когда впереди по курсу заполыхали разрывы, Семен почувствовал, как по телу покатились холодные капли пота. Захотелось крикнуть: «Влево!» или «Вправо!»
— Вот она уже где, линия фронта, — сказал Аркатов с сожалением. Но голос его был таким спокойным и обычным, что страх Семена дрогнул, попятился и исчез вместе с оставшимися позади разрывами. Семен облегченно вздохнул, вытер рукавом комбинезона лицо.
На цель они вышли с запада, и едва Семен сделал последний промер, как впереди загорелась светящая авиабомба. На земле и в небе замельтешили вспышки,
— Заметались, гады... Видишь, штурман? — Голос Аркатова не только спокоен, но и торжественен... Семен только теперь посмотрел на землю и в свете САБ увидел, как У машин, у танков, выстроенных вдоль улицы, как на параде, бегают люди... А он еще и бомболюки не открыл...
Семен поставил тумблер на «выпуск» и почувствовал, как бомбардировщик завибрировал, замедляя скорость, штурман прильнул к прицелу.
— Двадцать влево... Стоп. Так держать!
Он сбросил сразу все, серией, и хотя бомбы легли вдоль колонны и Семен увидел несколько запылавших машин, командир, кажется, остался недоволен.
— Зениток-то почти нет, — словно с сожалением сказал [81] он. Помолчал и заключил: — Сделаем еще кружок. Давай штурман, угости фрицев и из пулеметика.
И вправду, зениток было немного. Они располагались южнее села, ближе к железнодорожной станции, видимо чтобы охранять идущие к фронту эшелоны.
Омельченко повесил вторую САБ, хотя от пылавших бензовозов и так хорошо было видно все вокруг. Фашисты уже не метались около танков — то ли попрятались по окопам, то ли залегли; то там, то здесь вспыхивали султаны разрывов — бомбардировщики делали заход за заходом. И Семен пожалел, что сбросил бомбы серией. А из пулемета танку ничего не сделаешь.
— Давай, командир, правее, — попросил он Аркатова. — Зенитчиков поблагодарим... Так держать, со снижением. — Он выждал немного, тщательно прицеливаясь, и нажал на
гашетку. Пунктирная огненная трасса метнулась в темноту, где методично вспыхивали выстрелы зениток. Еще очередь, еще... И вспышки в том месте прекратились.
По другой батарее ударил воздушный стрелок.
— А теперь курс домой, — сказал Аркатов и перевел бомбардировщик в набор высоты...
На аэродром вернулись все экипажи. Семену даже не верилось, что все обошлось так благополучно, и испытывал угрызение совести за несдержанность, страх. Аркатов конечно же догадался о его состоянии и отчитает на разборе полетов. А может, и раньше...
Но командир не обмолвился об ошибке штурмана -сбросе бомб серией при первом заходе — ни когда писали донесение, ни когда подробно анализировали первый ночной полет. Лишь на следующий день, когда получили новое задание, он как бы между прочим спросил:
— Не ругал меня, что на второй заход пошел?
— В моем положении не до ругани было, — грустно усмехнулся Семен. — Не скрываю, дрейфил как никогда...
— Ничего удивительного, — спокойно воспринял признание Аркатов, — большой перерыв в боевых вылетах. Утратились и волевые качества. А чтобы закрепить твою уверенность, я и пошел на второй заход...
15
С переходом на ночные полеты боевая мощь полка значительно возросла, а потери уменьшились. Но слишком [82] неравны были еще силы, и фашистская армия продолжала наступление. В начале ноября полк получил приказ перебазироваться под Сальск и оттуда продолжать наносить бомбовые удары по сосредоточению вражеских войск в направлении Ростова.
Задача была не новая: с начала войны полк неоднократно менял место базирования; новым было то, что ранее перелеты совершались на незначительные расстояния и как правило, на аэродромы, где до подхода наземных служб обеспечения подготовку к боевому вылету помогали осуществлять БАО — батальоны аэродромного обслуживания — базирующихся там полков. Под Сальском же никаких полков и БАО не было, значит, придется ждать свои службы обеспечения, а осенняя распутица перевозку техники и оборудования на машинах не позволяла осуществить.
Командир полка, отдав приказ грузить наземное оборудование в эшелоны, взлетел первым и повел бомбардировщики на новый, раскинутый в чистом поле, необжитый, продуваемый всеми ветрами аэродром. Забрали самое необходимое — инструменты, кое-что из запчастей, палатки для жилья.
Не успели приземлиться, как поступил приказ нанести бомбовый удар по железнодорожной станции Пологи, где воздушной разведкой обнаружено скопление эшелонов с техникой и боеприпасами.
Самохин взялся за голову: как выполнить приказ, когда нет ни баллонов со сжатым воздухом, чтобы запустить моторы, ни электростартеров?
На аэродром прилетел представитель штаба дальнебомбардировочной авиации. Собрал в первой поставленной палатке командный состав, объяснил: враг угрожает Ростову, и если не уничтожить эшелоны в Пологи, положение наших войск ухудшится. Приказ надо выполнить во что бы то ни стало.
Золотарев тоже был приглашен на совещание — его назначили штурманом эскадрильи, — он слушал генерала и искренне сочувствовал ему и Самохину: ситуация сложная и ответственная, выхода из нее не видно, а за невыполнение приказа придется отвечать.
— ...К вечеру бомбы подвезут, думайте, как запустить остывшие моторы, — сказал в заключение генерал.
Вышли из палатки на пронизывающий ветер невеселые, озадаченные. Разбрелись по своим самолетам. [83]
Техник, выслушав Аркатова, недоуменно пожал плечами:
— Я, товарищ командир, не кудесник, без сжатого воздуха запустить моторы не сумею.
К вечеру бомбы действительно подвезли, но баллоны и компрессор разыскать нигде
не удалось.
У самолета к Аркатову подошел капитан Омельченко. Аркатов доложил ему, что экипаж к выполнению боевого задания готов, но для запуска моторов нет сжатого воздуха.
— Плохо, что нет сжатого воздуха. Очень плохо, — констатировал Омельченко. Но Семену показалось, что в голосе заместителя командира полка больше усмешки, чем огорчения. Капитан перевел взгляд на техника самолета: — Как же это вы не предусмотрели, товарищ техник-лейтенант? Наверное шмотки свои прихватили, а баллон со сжатым воздухом — не удосужились, и мысли такой в голову не пришло?
Техник пожал плечами.
— Так не было ж указаний.
— Это верно, не было, — согласился Омельченко. — Тут мы, командиры, прошляпили... А веревка у тебя есть?
— Веревка найдется. — Техник развернул моторные чехлы и достал оттуда фалу. Омельченко покрутил ее в руках, сделал на одном конце петлю.
— Ну-ка, Михаил, лезь в кабину, — приказал он Аркатову. — А вы все, у кого силенок поболее, сюда, — подозвал Омельченко Семена, техника и механика к себе. Петлю фалы он надел на лопасть винта, конец вручил в руки штурману и авиаспециалистам.
«Чудит наш замкомполка, — усмехнулся про себя Семен, поняв его затею. — Запустить Ил-четыре с помощью фалы — такого в авиации еще не было...»
Омельченко вышел вперед перед носом бомбардировщика и, как дирижер, поднял
руку.
— Как только я махну, вы дергайте фалу изо всех сил. Приготовились! Раз!
Семен с авиаспециалистами рванули фалу. Лопасти винта качнулись, мотор тяжело вздохнул.
— Еще раз! — продолжал командовать Омельченко. Но и второй, и третий, и пятый не давали желаемого результата. Мотор лишь пыхтел, кашлял, но не запускался. А Омельченко со своим украинским упрямством все [84] командовал:
— Еще раз! Еще!
С Семена пот уже катился градом, механик выбивался сил, и в его глазах поблескивал недобрый огонек. На двадцатый, а может, на тридцатый раз — Семен сбился со счета — мотор вдруг чихнул и зарокотал, лопасти закрутились, изобразив красивый дымчатый круг.
К самолету прибежал командир полка Самохин, а за ним и генерал. Спросил, переводя дыхание:
— Где раздобыли сжатый воздух? Омельченко лукаво усмехнулся.
— А мы заменили его, товарищ генерал... Веревкой. Через час все семнадцать бомбардировщиков, перебазировавшихся на новый аэродром, поднялись в ночное небо.
16
И снова отступление, снова горечь поражений, скорбь о погибших друзьях-товарищах. Ко многому за год боев привык Семен Золотарев — к недосыпанию и недоеданию, к обстрелам зениток и атакам истребителей — психологический барьер преодолел он накрепко и навсегда, — к жаре и холоду; к одному не мог привыкнуть — к потере друзей. Гибель однополчан острой болью отдавала в сердце, выводила из равновесия, надолго уносила покой. Особенно трудным выдался июль 1942-го. Фашисты перебросили на Южный фронт лучших своих летчиков, и вражеские истребители подстерегали советских бомбардировщиков днем и ночью, над целью и на маршрутах. И хотя мастерство летчиков полка за год намного возросло, превосходство в небе пока оставалось за немцами.
Не вернулись с задания экипажи старшего лейтенанта Карева и лейтенанта Денисова, на глазах всей эскадрильи погиб экипаж капитана Терехова...
К середине июля 1942 года крупная вражеская группировка в составе 6-й полевой и 4й танковой армий вышла к большой излучине Дона в район Боковская, Кантемировка Миллерово. В создавшейся тяжелой обстановке войска правого крыла Юго-Западного фронта отошли за Дон. Вражеские моторизованные части рвались к Сталинграду.
В ночь на 18 июля полк во главе с командиром майором Омельченко — его повысили в должности и в звании — вылетел на бомбежку скопления вражеских войск [85] в районе Богучара. Расстояние было небольшое, и экипажи за ночь сделали по два-три боевых вылета.
С последнего задания Омельченко возвращался уже на рассвете и, подлетая к своему аэродрому, — полк базировался в Вишневке под Морозовской, — увидел трассы снарядов, тянущиеся к самолету.
«Своего не узнали? — возмутился Омельченко. — Или немцы выбросили десант?»
На земле ему и другие экипажи доложили, что были обстреляны северо-западнее Морозовской.
О том, что немцы начали наступление, Омельченко знал, но чтобы они за ночь вышли к Морозовской — в это не верилось. Верь, не верь, а факты говорили другое. Чтобы выяснить обстановку, Омельченко послал на разведку экипаж капитана Давыдова.
Едва самолет взлетел, в штаб поступила шифровка: срочно перебазироваться в район Пролетарской.
Вскоре вернулся и экипаж Давыдова. Подтвердилось самое худшее — гитлеровцы северо-западнее Морозовской, в двух десятках километров от аэродрома.
— Грузить имущество и оборудование в бомболюки, — приказал Омельченко.
Прежний опыт помог экипажам быстро собрать все необходимое, погрузить на
самолеты и на автомашины БАО. То, что не могли взять, пришлось закопать в землю пли уничтожить.
Аэродром в районе Пролетарской полку был хороню знаком — зиму сорок первого и сорок второго годов коротали здесь, — но каково было удивление и разочарование летного состава, когда они еще на снижении заметили, что прежняя их база занята другими: на аэродроме сидели штурмовики Ил-2.
Не обрадовались и новые хозяева «гостям», особенно командование БАО. Немолодой капитан, командир БАО, категорично заявил:
— Обслуживать и обеспечивать вас не будем, потому как на своих сил и средств не хватает.
Положение действительно было тяжелое: ухудшилось снабжение горюче-смазочными материалами, не хватало бомб и снарядов. Все это Омельченко знал и понимал, но командиру БАО он сказал не менее категорично:
— Будете, капитан. И обслуживать, и обеспечивать, пока наша база не подойдет.
А вскоре из штаба дивизии поступил приказ: произвести разведку переправ на Дону и приступить к их уничтожению.
Командир БАО стоял на своем:
— Нет у меня для вас ни горючего, ни бомб.
— Не для нас, капитан, — пытался убедить строптивого хозяйственника Омельченко. — Для разгрома фашистов.
— Все равно. Не дам.
— Как это «все равно»? — вспылил майор. — Значит, вам все равно, что фашисты наступают? Потому вы и не хотите бомбы давать?
Капитан понял, что сказал не то, и стал оправдываться:
— Понимаете, мы тоже только позавчера перебазировались и подвезли бомб на несколько боевых вылетов, на наши самолеты...
— Так кто у вас «наши», а кто чужие? — наступал Омельченко.
И капитан сдался, отдал приказ заправить бомбардировщики и снарядить боекомплектом.
Первым на боевое задание с нового места базирования вылетел экипаж капитана Аркатова — на разведку.
Переправ долго искать не пришлось. Семен обнаружил их. Фашистские зенитчики встретили советский бомбардировщик яростным огнем. Аркатов, энергично маневрируя по курсу и высоте, все же вывел самолет на цель и штурман сфотографировал ее.
Разрывы снарядов остались позади, бомбардировщик, круто набирая высоту, взял курс на восток, чтобы линию фронта пройти в недосягаемости хотя бы орудиями среднего и малого калибра. И в это время воздушный стрелок-радист тревожно доложил:
— Сзади «мессеры», четыре.
— Отражайте атаки! — приказал Аркатов. Фашистские летчики сразу же дали понять, что в бою не новички: разошлись парами и ринулись в атаку с обеих сторон. «Не иначе, из эскадры «Удет», которая перебазировалась в начале 42-го года на Южный фронт», — подумал Семен и высказал свое предположение по СПУ командиру.
— Похоже, — согласился Аркатов и напомнил стрелкам: — Предупреждайте об атаках.
— Слева и справа, командир. Дальность — шестьсот, — Доложил стрелок-радист сержант Старых.
Аркатов выждал еще немного и бросил бомбардировщик вниз. Истребители вынуждены были изломать линию [87] полета, выходить на прямую и, чуть не столкнувшись друг с другом, шарахнулись в стороны.
Вторую атаку Аркатов сорвал уходом вверх. Он так подвесил бомбардировщик, что, казалось, машина застыла на месте. А когда истребители проносились мимо, Старых поймал ведущего в сетку прицела и нажал на гашетку Истребитель смрадно задымил и, перевернувшись вверх брюхом, полетел вниз.
«Мессершмитты» еще яростнее закружили вокруг бомбардировщика. Огненные трассы то и дело распарывали вокруг небо, хлестали по крыльям, по фюзеляжу. Штурман, стрелок-радист и воздушный стрелок с трудом успевали отражать атаки. А когда и второй истребитель напоролся на огонь пулемета воздушного стрелка, азарт фашистских летчиков спал, они повернули свои машины на запад...
Аркатов каким-то чудом дотянул на изрешеченном бомбардировщике до своего аэродрома.
Не успели инженеры и техники отремонтировать машину, как поступил новый приказ: перебазироваться на Армавирский аэродром. Спустя несколько дней — под Минеральные Воды. А 12 августа полк перелетел уже на другой аэродром.
Фашистская железная лавина катилась на Кавказ, к Грозному и Баку, к советской нефти, которой так недоставало гитлеровским войскам.
В ночь на 16 августа полк получил задачу нанести бомбовый удар по железнодорожной станции Георгиевская, где скопилось несколько вражеских эшелонов с войсками и боеприпасами.
Все исправные бомбардировщики, — а их осталось чуть более десятка, — поднялись в звездное, по-южному черное небо. Осветителем цели летел экипаж капитана Аркатова.
Майор Омельченко, ставя боевую задачу, заметил:
— Ваш экипаж удачливый...
В какой-то степени экипажу действительно везло: в какие только он переделки ни попадал и всегда благополучно возвращался на свой аэродром. Но удача, знал Семен, штука изменчивая, потому полагаться на везение нельзя; надо самому как следует готовиться к полету, все рассчитать, предусмотреть.
Штурман еще раз изучил расположение и направление горных хребтов, долин, по которым можно подойти к цели, не дав себя обнаружить средствам воздушного наблюдения, [83] оповещения и связи, дороги и улицы станции, где могут выгружаться из эшелонов войска с техникой.
Тщательная, продуманная подготовка позволила выйти экипажу на цель, не вызвав ни единого выстрела вражеских зениток. Лишь когда над станцией повисла светящая бомба, озарив железнодорожные пути с составами, из которых выгружались пушки, автомашины, ящики с боеприпасами, зенитки открыли огонь недружный и бесприцельный — противовоздушная оборона, видимо, еще не была налажена как следует.
Пока Аркатов, положив бомбардировщик на крыло, описывал невдалеке от станции круг, Семен считал эшелоны: один, два, три, четыре, пять... Внизу, среди вагонов, полыхнул первый разрыв. И загудела, заплясала огненными смерчами земля...
— Выводи на прямую, командир, — скомандовал штурман. — Так держать!
В бомболюках их самолета висело еще десять соток. Теперь-то Семен сразу бросать их не станет — каждую в цель. И он выводил бомбардировщик вдоль составов, тщательно прицеливался, сбрасывал по одной, по две бомбы в самые уязвимые места — по цистернам, по платформам с пушками и машинами, по паровозам...
Когда отходили от станции, она была сплошь залита морем огня.
Утром на аэродром прилетел на своем У-2 командир дивизии полковник Лебедев. Высокий, в новенькой поскрипывающей кожей куртке, он прошелся перед строем с высоко поднятой головой, остановился посередине.
— Молодцы, ребята! — сказал просто, не как подчиненным, а как своим самым близким друзьям. — Всех, кто принимал участие в сегодняшнем ночном боевом вылете, представляю к наградам. Здорово мы всыпали немцам. И пока они не опомнились, не подтянули зенитки для прикрытия станции, надо всыпать им еще! Сколько, командир, можешь послать экипажей днем? — повернулся Лебедев к Омельченко.
— Днем посылать нельзя, — возразил Омельченко. — В Минводах сидят немецкие истребители, это ж рядом...
— Днем они нас не ждут. — В голосе Лебедева зазвучали повелительные нотки: — Зайдете с севера, сбросите бомбы и домой. По данным разведки, на станцию прибыли новые эшелоны...
В полку Лебедев и ранее бывал нередко, и все знали, [89] что возражать ему бесполезно. Да и какие могут быть возражения старшему командиру. К тому же приказ наверное
исходил не от него, а от высшего командования. Хотя иногда Лебедев любил и сам блеснуть перед подчиненными «стратегическим» планом.
— Надо бы все-таки подождать ночи, — осторожно посоветовал майор Омельченко.
— Решение окончательное, — настоял на своем полковник Лебедев. — Вылет в двенадцать ноль-ноль.
Омельченко послал на задание три экипажа во главе с командиром эскадрильи капитаном Шанаевым, опытным летчиком, смелым, но рассудительным человеком.
Семен Золотарев, не предполагая, что ему придется через несколько часов принять участие в судьбе этого экипажа, напутствовал штурмана, каким маршрутом лучше следовать к цели, с какой стороны выйти на боевой курс, с какой высоты произвести бомбометание.
В начале первого тройка бомбардировщиков взлетела и взяла курс на запад.
Георгиевскую Шанаев увидел издалека: она продолжала дымить — горели вагоны с военным имуществом, пристанционные постройки. А со стороны Минеральных Вод, на товарной станции под парами находилось еще два эшелона. Капитан повел бомбардировщики туда.
Только встали на боевой курс, стрелок-радист младший лейтенант Акулов тревожно доложил:
— «Мессеры», со стороны солнца!
Но не в характере Шанаева было сворачивать с боевого курса.
— Отражайте атаки! — приказал он. — Штурман, целься лучше, чтобы с первого захода.
— Постараюсь, командир.
Застучал пулемет Акулова. Потом справа сверкнула трасса: стрелок-радист все-таки упредил фашистского летчика и тот промахнулся. А замыкающему тройки Шанаева не повезло: его самолет задымил.
— Сброс! — наконец передал штурман, и Шанаев рванул бомбардировщик ввысь. «Мессершмитты», преследовавшие его, проскочили мимо.
Уходя ввысь, Шанаев преследовал две цели: снизя скорость, дать возможность подтянуться замыкающему и обмануть фашистских летчиков — в подобных ситуации преследуемые обычно интуитивно увеличивают скорость чтобы оторваться от противника, и это ведет их к [90] гибели — разница скоростей уменьшается и преследователям легче целиться. Именно так произошло со вторым ведомым: он после сброса бомб хотел уйти со снижением, «мессершмитт» догнал его и сбил.
Шанаев остался один. Один против четырех. Как комэск ни бросал из стороны в сторону машину, огненные трассы, словно молнии, сверкали то слева, то справа, били в крылья, хвост, фюзеляж. Каким-то чудом бомбардировщик увертывался и избегал попаданий в жизненно важные центры.
Одного «мессершмитта» Акулову все-таки удалось завалить: при выходе из атаки он подставил брюхо, и стрелок-радист распорол его длинной очередью от носа до хвоста.
Истребитель вспыхнул и кометой понесся вниз. И почти в тот же миг по фюзеляжу хлестнула очередная трасса.
— Уходи, командир, я ранен, — успел крикнуть Акулов. По тому, как ослаб его голос в конце и оборвался, нетрудно было догадаться, что ранен он тяжело. А самолет без стрелка-радиста, что мишень...
Фашистские летчики тоже вскоре поняли, что со стрелком неладно: отстреливался он редко и трассы были неровны, бесприцельны. Они стали атаковать еще яростнее, и одна из очередей угодила в правый мотор. Бомбардировщик задымил, в кабине запахло горелым. Шанаев отработанным до автоматизма движением перекрыл доступ бензина в правый мотор, включил противопожарную систему. Дымок, к счастью, исчез. Но маневрировать на одном моторе было почти невозможно: скорость упала и самолет плохо слушался рулей, при малейшей неточности в пилотировании он мог сорваться в штопор. А «мессершмиты» наседали, кружили, как осы вокруг шмеля. И лишь только потому, что их было много и они боялись в атаке поразить друг друга, огонь из пушек и пулеметов был не точен бомбардировщик, неуклюже разворачиваясь то влево, то вправо, со снижением тянул на восток.
Говорят, если очень захотеть, желание обязательно сбудется. Шанаев хотел в эти минуты одного: чтобы появились облака. И они увиделись ему нежданно-негаданно, белоснежные, с небольшими проталинами, слоисто-кучевые Уходящие за самый горизонт.
Летчик толкнул от себя штурвал, разгоняя скорость и резче ломая линию полета; минута, вторая, и пушистая дымка бережно и ласково окутала его. Но и в облаках Шанаев [91] продолжал маневрировать на случай, если они кончатся, чтобы не встретиться вновь с истребителями.
Экипаж пробыл в облаках немного, минут семь, а когда Ил-4 вывалился из них, «мессершмиттов» уже не было.
Второй мотор тоже стал давать перебои, грозя совсем остановиться. А справа по шоссе двигалась вражеская техника: автомашины, танки, тягачи с орудиями. Слева, за неширокой лесополосой, место, наиболее подходящее для посадки, — ровное, с небольшими стожками скошенного недавно сена. Еще левее — холмы, овраги, неширокая речушка. Судя по утренним сообщениям и по тому, что там никого не видно, территория немцами еще не занята...
Мотор, надрывно закашляв, заглох совсем.
— Идем на вынужденную, — предупредил Шанаев членов экипажа. — Проверить пристяжные ремни и приготовить оружие...
Высота быстро падала. Заметили ли немцы снижающийся слева самолет? Несомненно заметили. И если догадаются, в чем дело, непременно пожалуют туда... А может, и не догадаются: винты крутятся как ни в чем не бывало, моторы не горят... На всякий случай надо взять левее, а уже перед приземлением подвернуть ближе к месту посадки.
Так и сделал. Разогнал побольше скорость, и когда за деревьями исчезли клубы пыли, пошел на бреющем туда, где поровнее. И хотя поле было ровное, приземлить машину
следовало как можно мягче — воздушный стрелок-радист тяжело ранен, бензомаслопровода видимо перебиты, а моторы еще горячие, и если бензин плеснет на них, вспыхнут, как порох...
Шанаев мобилизовал все свое хладнокровие и мастерство и вел бомбардировщик у самой земли до тех пор, пока он не потерял скорость. Летчик услышал, как чиркнуло хвостовое колесо по стерне, полностью добрал на себя штурвал, создавая максимальный посадочный угол, и бомбардировщик послушно, как укрощенный зверь, опустился на землю. Винты полоснули по зеленому ковру, прочертили черные борозды, и самолет остановился.
Шанаев и штурман одновременно выскочили из кабины и кинулись к стрелку-радисту.
Акулов лежал без сознания, залитый кровью. Воздушный стрелок уже сделал ему перевязку — осколок снаряда попал в челюсть, — но бинт держался слабо, набух к и густые ее капли падали на комбинезон. [92]
— Давайте еще бинт, — скомандовал Шанаев.
Малейшее прикосновение причиняло Акулову боль, он вздрагивал и стонал. Но когда рану удалось перевязать, стрелок-радист пришел в себя, осмотрелся вокруг и взглядам указал на радиостанцию. Говорить он не мог, но и без слов стало ясно, что он советует связаться по радио со своим аэродромом. Но как? Ни командир, ни штурман, ни стрелок азбукой Морзе не владели. А надо еще все закодировать.
Акулов потянулся рукой к своему планшету. Шанаев достал ему бумагу, код. Превозмогая страшную боль, младший лейтенант сослужил экипажу последнюю службу: помог составить и закодировать радиограмму: «Сел на вынужденную районе Моздок — Наурская, неисправны моторы. Срочно шлите техпомощь». И передал ее в эфир.
17
Омельченко доложили о радиограмме в начале четвертого, когда он поджидал на аэродроме возвращения экипажей. Сердце словно чувствовало беду, и он не находил себе места. И вот сообщение. Значит, бомбардировщик Шанаева подбит. А где остальные?.. Экипаж капитана Шанаева — слетанный, опытный, чего о его ведомых не скажешь. Значит... Но в худшее не хотелось верить, и он, надеясь, что они еще объявятся, дал команду дежурному по аэродрому разыскать инженера полка.
Николай Дмитриевич Тимошков явился тут же, крупные руки в мазуте, по загорелому испачканному лицу катятся струйки пота; под глазами — синие разводья. Сколько дней и ночей он не спит? Почернел, похудел, но ни разу не сказал, что ему тяжело, что он забыл, когда отдыхал в постели. И какие дела делает! Ремонтирует такие самолеты, которые на заводе не взялись бы.
— Слушаю, Александр Михайлович, — козырнул он бодро.
Омельченко протянул ему радиограмму. Тимошков прочитал, тяжело вздохнул.
— Что ж, надо готовить.
— Чего готовить? — Откровенно говоря, Омельченко не знал, чем и как помочь экипажу. Раньше подобные случаи, когда экипажи садились на вынужденную, бывали, и к тому месту снаряжались автомашины с необходимыми [93] запасными частями. Но то было недалеко. А до Моздока более двухсот километров. Пока туда машина доберете немцы займут территорию.
— Понятно чего — самолет, — ответил Тимошков. — А я дам команду Реве и Цыганкову, чтобы подобрали запчасти и инструмент.
— Неисправны оба мотора, — напомнил Омельченко.
— Да, дело сложное, — согласился Тимошков. — Но надо спасать экипаж и самолет. Пошлем еще двух специалистов...
18
Семен Золотарев вместе с экипажем готовился к ночному боевому вылету. В палатку вошел дежурный по аэродрому и передал приказ командира полка срочно явиться экипажу на командный пункт.
— Карты при себе? — остановив знаком Аркатова, собравшегося доложить о прибытии, спросил Омельченко.
— Так точно.
— Вот и хорошо. Доставайте.
И командир объяснил задачу: выйти на участок Наурская — Моздок, разыскать самолет Шанаева, сесть около него и, если можно, отремонтировать его к утру, если нет — сжечь, а экипаж забрать.
— Горючего залейте полные баки, — посоветовал Омельченко. — Скорее всего, придется поделиться с экипажем Шанаева. Вылет — вечером, как только начнет темнеть.
— Как же мы в сумерках найдем самолет? — удивился Золотарев. — Участок Наурская — Моздок — не какая-то точка.
— Потому тебя, лучшего штурмана полка, и посылаю, — ответил Омельченко. — Должен найти. Зато в сумерках фашистская авиация мешать не будет.
В бомболюки загрузили лопасти винтов, дюриты, шланги, лопаты, необходимый для ремонта инструмент. Там уселись инженеры Василий Рева и Георгий Цыганков, механики Григорий Гайдамакин и Николай Сазонов. Аркатов повел машину на взлет.
На траверс Наурская — Моздок вышли еще солнце едва коснулось горизонта. Чтобы не привлекать мания немцев, летели на малой высоте, чуть ли не бреющим, [94] правее дороги и лесозащитной полосы. Семен внимательно просматривал опушку — Шанаев мог закатить самолет под кроны деревьев, чтобы скрыть от немецких истребителей, — редкие стожки сена, но вот по времени пролетели до самого Моздока, а никакого бомбардировщика не обнаружили.
Повернули обратно. Взяли несколько левее. Солнце опустилось за горизонт и начало быстро темнеть. Аркатов делал змейку, отворачивая то влево, то вправо — тщетно. «Уж не захватили ли его немцы? — закралось тревожное сомнение. — Их разведчики непрерывно
барражируют вдоль линии фронта, боясь, как бы советские войска не ударили во фланг. Могли увидеть одинокий самолет и сообщить о нем своим наземным войскам».
Прошли еще раз до Наурской. Никаких признаков. Аркатов развернул самолет на запад и приказал стрелку-радисту попробовать вызвать экипаж Шанаева на связь. Но «Сорок пятый» — такой был позывной экипажа — молчал.
— Запроси наш КП, может, там что-нибудь стало известно, — сказал Аркатов.
С КП ответили:
— Других сведений об экипаже не поступало. Продолжайте поиски.
Лишь на третьем заходе, когда прошли половину пути от Наурской до Моздока, стрелок-радист сержант Старых вдруг крикнул:
— Позади взметнулась ракета. Похоже, наши отозвались.
Аркатов развернул бомбардировщик, и Золотарев увидел впереди, внизу у стожка сена, знакомый силуэт Ил-4. Трое, одетых в летние комбинезоны, призывно махали экипажу снятыми шлемофонами.
— Шанаев! — узнал Золотарев в высокой сухопарой фигуре командира эскадрильи, указывающего руками направление посадки.
Аркатов довернул машину и мастерски приземлил ее. Зарулил к безжизненно распластанному у стожка бомбардировщику. Выключил моторы.
Когда рулили, Семен обратил внимание, что среди членов экипажа нет начальника связи эскадрильи младшего лейтенанта Акулова, а вылезая, увидел невдалеке чернел свежевскопанный холмик.
— Не удалось спасти, — грустно сказал Шанаев, перехватив [95] вопросительный взгляд Аркатова. — Рана была смертельной...
Гайдамакин, когда отсоединили погнутую лопасть винта самолета Шанаева, воткнул ее у могилы, чтобы позже перезахоронить товарища.
Неисправности обнаружили быстро. Перебитыми оказались бензо — и маслопроводы. Но нужно было еще проверить шасси — не деформировались ли они при посадке и удастся ли их выпустить. А потом уже менять винты, трубопроводы. Но как без подъемников поднять такую махину?..
Рева вытащил из бомболюка прилетевшего на помощь самолета лопаты. Вручил Золотареву, Старых, Сазонову и Гайдамакину.
— Давно не рыли окопы? — спросил с усмешкой. — Вот и потренируйтесь. Проройте под колеса траншеи, с уклоном, чтоб можно было, когда выпустим шасси, выкатить самолет...
Вот как, оказывается, можно решить проблему. Золотарев позавидовал смекалке инженера.
Дружно взялись за работу. И хотя темнота укрыла экипажи, опасность быть обнаруженными немцами не спадала: их танки и машины шли рядом — слышался гул моторов, — то там, то здесь в небо взмывали ракеты, освещая все вокруг. А незадолго до
рассвета пролетел даже над ними вражеский разведчик и невдалеке сбросил светящую авиабомбу.
— Он еще днем нас засек, — пояснил Шанаев. — Потому и пришлось нам укрывать самолет сеном. А когда вы появились и мы убедились, что это свои, стали разбрасывать стожок, ваш след простыл. Хорошо, что вернулись...
Разведчик, видимо, обнаружил самолеты: спустя ми-пут двадцать пять откуда-то ударила артиллерия. Снаряды прошумели над головами авиаторов и разорвались метрах в пятистах.
— Поторапливайтесь, ребятки, поторапливайтесь, — подбадривал инженер.
Но не так-то просто было на ощупь отворачивать гайки, менять одни трубки на другие, подсоединять их к питающей моторы бензомаслосистеме.
К счастью, шасси оказались неповрежденными, выпустились и стали на замки. Оба экипажа подналегли на крылья и с трудом выкатили самолет из траншей.
Не заметили, как начало светать. А нужно было [96] заменить лопасти винтов, заправить самолет бензином — из перебитых бензопроводов он вытек до капли.
Рева предусмотрел и это — взял ведра.
Заправкой бомбардировщика бензином занялся сам Шанаев. Вместе со штурманом и воздушным стрелком он сливал из отстойника бензобаков самолета Аркатова бензин в ведра и носил его на свой. Золотарев, стоя на крыле, принимал у них и заливал в горловину.
К восходу солнца ремонт был закончен. Экипажи заняли места в кабинах, Шанаев и Аркатов запустили моторы, и бомбардировщики один за другим пошли на взлет.
19
Лето 42-го выдалось не менее трудным и напряженным, чем 41-го.
На прикрытие своих наземных войск гитлеровское командование перебрасывает на аэродромы Кубани и Восточной Украины лучшие истребительные и бомбардировочные эскадрильи, тысячи зенитных батарей, оснащенных мощными прожекторами. Почти ни один боевой вылет не проходит без жестоких воздушных дуэлей, без схваток с зенитной артиллерией, с прожекторами. И несмотря на то, что наши летные экипажи приобрели большой опыт по борьбе с истребителями и ПВО противника, потери наших экипажей продолжались. При налете на Белореченский аэродром не вернулся с боевого задания экипаж капитана Сероконяна, в воздушном бою погибли майор Алексеев, лейтенант Кулешов, сержанты Ручан, Кириленко...
Золотарев видел — потеря боевых друзей вызывает не только переживания у однополчан, но и действует на некоторых удручающе, вселяет неуверенность. Особенно у молодых. И на нем, недавно назначенном штурмане эскадрильи, лежала ответственность подготовки молодых штурманов к боевой работе, закалка их характеров, выучка мастерству самолетовождения и бомбометания, отражения атак истребителей. Майор Омельченко считал Золотарева не только снайпером бомбометания, но и смелым человеком и нередко поручал ему самые ответственные задания. Однажды на исходе ночи, когда Семен вернулся
с третьего боевого вылета на Батайскую железнодорожную станцию, Омельченко встретил его на стоянке и, поздравив с успешным боевым вылетом, попросил: [97]
— Семен Павлович, что-то не ладится у нового штурмана в экипаже Маркина. То с недолетом бомбы сбрасывает, то с перелетом. В общем, надо слетать, подучить парня...
Лейтенант Сергей Маркин прибыл в полк осенью сорок первого из соседней бомбардировочной части. Ниже среднего роста, щупленький. Штурман лейтенант Петр Мазунов, был ему под стать — такого же недюжинного телосложения, скромный, застенчивый. На земле, как шутили однополчане, их не видно и не слышно. Но в небе, вскоре убедились все, это были асы. Еще в прежнем полку экипаж Маркина не раз отличался на бомбежках вражеских танковых колонн и в воздушных боях, на его счету было уже три сбитых «мессершмитта», пять уничтоженных эшелонов, десятки автомашин и танков, два раза бомбардировщик Маркина возвращался на свой аэродром изрешеченный снарядами на одном работающем моторе; в последнем вылете зенитный снаряд так разворотил крыло, что оно еле держалось, и летчик, накренив машину под сорок градусов, летел, по существу, на одном крыле и на одном моторе — едва самолет коснулся земли, крыло отвалилось. За тот полет лейтенанта Сергея Степановича Маркина командир представил к награде.
С Петром Мазуновым Маркин совершил немало успешных боевых вылетов и в полку Омельченко, но недавно штурмана ранило и Сергею Степановичу дали нового, молодого...
Золотарев чувствовал себя усталым: три боевых вылета на железнодорожную станцию, прикрытую десятком зенитных батарей среднего и крупного калибра — не прогулка при луне. И просьба командира полка ему была понятна: молодые штурманы смотрят на Золотарева, награжденного тремя орденами Красного Знамени, с восторгом, уважают его и ловят каждое слово. Кому же, как не ему учить их мастерству и мужеству личным примером.
— Что ж, надо, значит полетим, — только и сказал он.
Задание было обычное: разведать железнодорожную станцию Георгиевская,
сфотографировать находящиеся на путях эшелоны.
Золотарев приказал вооруженцам кроме ФОТАБ подвесить и четыре ФАБ-100.
На станцию вышли, когда начало уже светать. Зенитчики будто поджидали бомбардировщик, открыли по нему интенсивный огонь. И сразу же вскрылась ошибка молодого [98] штурмана: он засуетился, хватал в руки то ветрочет, то навигационную линейку, следил за вспышками снарядов, забыв про прицел.
— Спокойнее, спокойнее, — положил ему на плечо руку Золотарев. — Смотри вниз, за целью, а снаряды — эка невидаль. Мы не из пугливого десятка... Обрати внимание правее... Видишь в отблесках огня рельсы?
— Вижу, — ответил штурман.
— А эшелоны?
— Эшелоны?.. Нет, незаметно.
— Сейчас увидишь. Дай команду летчику довернуть десять влево.
— Есть...
— Приготовиться к сбросу ФОТАБ.
— Приготовился...
— Сброс!
В ослепительной вспышке Золотарев и сам ничего не увидел, но знал — фотопленка зафиксировала не менее четырех эшелонов — это он определил по провалам отблесков на железнодорожных путях.
Надо было разворачиваться и уходить домой, везти командованию снимки. А какой урок из этого полета получит молодой штурман?.. И Золотарев попросил командира экипажа пройти над целью еще раз, а воздушному стрелку приготовиться к сбросу САБ — светящей авиабомбы.
Огонь зенитных снарядов, казалось, встал на пути бомбардировщика сплошной стеной, и Золотарев заметил, как штурман снова весь съежился, вобрал голову в плечи, окаменел от страха.
— Вниз, вниз смотри, — подсказал ему Золотарев, заставляя склониться к прицелу. — То, что творится в небе — забота командира да стрелков, а твоя — земля, цель. — В это время как раз загорелась САБ. — Теперь видишь эшелоны?
— Вижу, вижу! — оживился штурман.
Впереди по курсу самолета действительно хорошо виделись вагоны, платформы, крытые брезентом, — боевая техника.
— Вот и целься по ним. Бросай серией...
И когда на земле полыхнули взрывы, Золотарев похвалил штурмана.
— Молодец! Видишь, как все просто, когда держишь себя в руках? А теперь — домой.
Лишь к вечеру молодой штурман отошел от пережитого. [99] Золотарев видел его
состояние и все хорошо понимал — сам не так давно испытал подобное, — заговорил с ним доверительно:
— Не выспался? Перед глазами, наверное, все вспышки мерещатся? Так у всех поначалу бывает. Привыкнешь
Молодой штурман отрицательно покачал головой:
— Я — вряд ли привыкну... Скажите, Семен Павлович а вам страшно там?..
— Конечно, страшновато, — улыбнулся Золотарев. — Думаю, людей, которые не боялись бы смерти, нет. И, думаю, герой не тот, кто не боится потерять жизнь; герой тот, кто боится потерять свою честь...
Пройдет немного более года и когда Семену Золотареву будут вручать Звезду Героя, а его подопечному — орден Красного Знамени, ученик с благодарностью скажет своему учителю:
— Спасибо, Семен Павлович, за науку. В трудную и опасную минуту я всегда вспоминал ваши слова.
Осенью наступление фашистских войск на Кавказе было приостановлено. Потеряв надежду завладеть бакинской и грозненской нефтью, гитлеровское командование приняло решение нанести бомбовый удар по Баку и Грозному, чтобы лишить советскую технику горюче-смазочных материалов. Для этой цели на аэродромы Северного Кавказа стали перебрасываться бомбардировочные эскадры.
26 октября, возвращаясь с боевого задания, Золотарев обнаружил на Армавирском аэродроме более сотни вражеских самолетов. Доложил Аркатову.
— Плохо дело, — высказал предположение командир экипажа. — Не иначе, фрицы что-то затевают...
А вечером в полк прилетел представитель дальнебомбардировочной авиации и командир дивизии с приказом нанести упреждающий удар по Армавирскому аэродрому. Экипаж Аркатова получил задачу лететь осветителем цели. Едва начало темнеть, взлетел разведчик погоды. Он пошел по отвлекающему маршруту, а за ним, спустя десять минут, на взлетную полосу вырулил бомбардировщик Аркатова. Не впервые Золотареву поручалось лететь осветителем. Осветителем — значит, первым. А для первого — и весь огонь батарей, и все прожекторы, и все истребители в [100] первую очередь. И хотя опыт у штурмана был большой, а машину вел один из лучших летчиков полка, Золотарев напряжение испытывал сильное — такое количество самолетов фашисты конечно же охраняют усиленно.
В минутном интервале за осветителем следовало еще двадцать шесть экипажей, можно сказать, весь полк. Потому-то и надо было особенно точно выдерживать режим, глядеть в оба, чтобы не столкнуться со своими.
Здесь, на юге, замечал Золотарев, ночи особенно темные, а эта была вообще непроглядная, словно все вокруг залили смолой — ни звезд на небе, ни огонька на земле, глазу не за что зацепиться. А требовалось рассчитать угол сноса, вести ориентировку, следить, чтобы не подошел незамеченно вражеский истребитель.
Аркатов молчал. Правда, он и на земле не отличался разговорчивостью, а в небе из него и вовсе слова не вытянешь. Да оно и понятно. Ему, штурману, можно хоть головой покрутить, в кресле поерзать, а летчику глаз от приборной доски нельзя оторвать: надо точно выдерживать курс, скорость, высоту, не потерять пространственного положения. И чем ближе подлетали к цели, тем сильнее возрастало напряжение. Хорошо еще, что истребители не беспокоили.
Через два часа впереди показалось зарево — линия фронта. Пролетели еще пятнадцать минут и, круто развернувшись, взяли курс на цель, чтобы сбить с толку посты воздушного наблюдения, оповещения и связи — ВНОС — пусть думают, что это свои летят на задание.
Пора было уточнить направление и скорость ветра, местонахождение; к радости Золотарева, на небе появились просветы: светлячками замигали одиночные звезды.
Штурман сделал промер, рассчитал ветер, внес поправку в угол прицеливания. Не успел он оторвать взгляд от карты, как в наушниках раздался голос командира:
— Штурман, видишь?
Золотарев посмотрел вперед и увидел вдали огни взлетно-посадочной полосы — вражеский аэродром. Фашисты не ждали советских бомбардировщиков и летали, как в далеком тылу, — с полностью освещенным стартом.
Подлетая ближе, Золотарев различил внизу два огонька: красный и зеленый — аэронавигационные огни самолета. Он шел по кругу. Сделал четвертый разворот, и от его в сторону старта полетели желтая, потом зеленая ракета. В ту же секунду на земле вспыхнул прожектор. [101]
Фашисты явно пренебрегали самыми элементарными мерами предосторожности.
— Командир, а ведь мы вполне можем сойти для них за своих, — подсказал Золотарев по СНУ Аркатову. — Может, тоже включим аэронавигационные огни да снизимся, чтобы получше рассмотреть, что где, да поточнее прицелиться?
Аркатов не торопился с ответом.
— Зенитки молчат, значит, за своих приняли, — поддержал штурмана стрелок-радист старшина Валентин Старых, опытный воздушный боец, имеющий уже на счету четыре сбитых «мессершмитта». — Я и ракеты на всякий случай прихватил. Кстати, есть и желтые, и зеленые.
— Уговорили, — согласился Аркатов. — Перевожу самолет на снижение. В районе четвертого разворота пустишь две ракеты.
— Понял, командир. Будет сделано! — бодро отчеканил Старых.
Бомбардировщик вышел на боевой курс, и штурман дал команду стрелку приготовиться к сбросу САБов.
В самолете сразу почувствовалась приподнятая атмосфера. Даже немногословный Аркатов пророкотал:
— Пора, давно пора с фрицами за первый день войны рассчитаться.
Командир, как и штурман, не мог забыть того рокового воскресного утра, когда фашистские самолеты налетели на наши аэродромы и бомбили, жгли пулеметными трассами зачехленные бомбардировщики, истребители, ангары, мастерские...
На этот раз экипажу везло: небо, как по заказу, очистилось от облаков, и землю осветила полная и яркая луна — будто над аэродромом повесили громадный плафон. Левее взлетно-посадочной полосы Золотарев различил темные предметы — видимо, аэродромные сооружения, а возможно, и самолеты.
Старых пустил желтую и зеленую ракеты. Длинный луч прожектора лег вдоль взлетно-посадочной полосы, приглашая экипаж на посадку. Замысел удался!
Аркатов снизил машину до восьмисот метров и перевел ее в горизонтальный полет.
— Двадцать влево! — скомандовал штурман. Аркатов развернул бомбардировщик как раз туда, где виднелось наибольшее скопление самолетов.
— САБ! — крикнул штурман. [102]
— Есть, САБ! — отозвался Старых. И вскоре аэродром осветило, словно тысячью лампами. Стало светло, как днем. Недалеко от стартовой командной будки Золотарев увидел строй летчиков: фрицы, должно быть, получали последние указания. «Сейчас мы внесем
поправку», — подумал Золотарев и, как только самолет, сделав «восьмерку», снова развернулся на боевой курс, нажал на кнопку сброса бомб внешней подвески.
Фашисты настолько были ошеломлены, что поначалу даже не тронулись с места, наверное подумали — ошибка, и лишь когда стрелок полоснул по ним из пулемета, бросились врассыпную.
Вскоре основная группа внесла ясность: вражеский аэродром заклокотал, как от вулканического извержения. Спохватились, было, зенитки, но специально выделенная для подавления огня группа капитана Маркина быстро заставила их замолчать.
Когда экипаж в третий раз вышел на боевой курс, освещать цель уже не требовалось: чья-то бомба угодила в бензохранилище, и огненный — в полнеба — факел освещал далеко все вокруг. Горели самолеты, бензо — и маслозаправщики, аэродромные сооружения. Сквозь клубы огня и дыма наблюдались бесконечные взрывы — рвались бомбы в бомболюках, подготовленных к полету немецких бомбардировщиков.
На другой день с помощью аэрофотосъемки и по разведывательным данным экипаж узнал о результатах налета — на вражеском аэродроме уничтожены 61 самолет, бензохранилище, бомбосклад, три зенитные батареи и множество всевозможной наземной техники.
За успешное выполнение задания Главнокомандующий ВВС всем экипажам, принимавшим участие в полете, объявил благодарность.
21
Зима 1942-1943 годов выдалась на юге непогожей, слякотной, и полк на боевые задания летал редко. Появись возможность отремонтировать изрядно подносившуюся израненную технику, подготовить как следует на земле молодых стрелков-радистов, штурманов, летчиков, прибывших на пополнение. И с заводов стали чаще присылать новые бомбардировщики. Командный состав серьезно [103] занялся обучением летного состава тактическому мастерству. И весну, когда началось решительное сражение за господство в воздухе, полк встретил с новыми силами.
Гитлеровское командование, стремясь во что бы то ни стало удержать районы Донбасса, Украины и Крыма, по-прежнему на южном крыле держало лучшие авиационные эскадры. В небе и на земле между советскими и фашистскими самолетами разгорелись ожесточенные бои. Паши дальние бомбардировщики, используя опыт удара по аэродрому Армавир, произвели массированные налеты на Сакский и Сарабузский аэродромы, уничтожив на первом 70, а на втором около 100 самолетов. В небе успешно действовали, наши истребители. К началу битвы на Курской дуге господство в воздухе советской авиацией было завоевано всюду и бесповоротно.
И чем мощнее становились удары наших войск, тем яростнее сопротивлялись фашисты. На Таманском полуострове они создали многополосный оборонительный рубеж — «Голубую линию», протяженностью по фронту в 113 км, глубиной 20-25 км, — оборудованный долговременными оборонительными сооружениями. «Голубая линия»
являлась, по мнению гитлеровских генералов, неприступным бастионом на пути к Крыму. Через Керченский пролив шло непрерывное пополнение фашистских войск техникой, оружием, боеприпасами, питанием.
Ранним утром 1 июля, возвращаясь из разведывательного полета, Семен Золотарев обнаружил у косы Чушка приткнувшиеся к берегу баржи. С них на берег съезжали машины, солдаты носили ящики, тюки.
Командование, узнав о прибывшем подкреплении, приняло решение нанести в ночь на 2 июля бомбовый удар по гитлеровским войскам на косе Чушка. На этот раз экипаж Аркатова должен был возглавить ударную группу: штурман сбрасывал рассеивающий контейнер с зажигательными бомбами для обозначения площади бомбометания. Первым осветителем цели летел экипаж капитана Маркина. За два года войны этот экипаж совершил более сотни успешных боевых вылетов и его члены зарекомендовали себя слетанным дружным коллективом, который мог в самых трудных условиях выполнять любые боевые задачи.
День выдался жарким, и хотя экипажи пришли на аэродром в шестом часу вечера, зной почти не спал. Раскаленный воздух неподвижно висел над аэродромом, и [104] авиаспециалисты трудились у самолетов, обливаясь потом. Летчики и штурманы готовились к полету молча, без прежних острот и шуток. И Семен Золотарев понял, что дело не только в зное: коса Чушка — артерия снабжения «Голубой линии» и фашисты охраняют ее несколькими десятками зенитных батарей с целой системой прожекторных полей. Риск здесь был очень большой.
— Разрешите, товарищ командир, мне несколько слов сказать, — повернулся к Омельченко заместитель по политической части капитан Казаринов.
— Скажи, комиссар, скажи, — одобрил его решение командир.
— Товарищи! — обратился к строю замполит. — До нас дошли слухи, что Гитлер отдал приказ держать Таманский полуостров до последнего солдата, не оставлять «Голубую линию». Недавно, как вам известно, экипажу лейтенанта Хрущева удалось разыскать и разбомбить головной склад боеприпасов гитлеровцев на Тамани. Фашистское командование спешит восполнить потери: из Керчи на косу Чушка срочно доставляются кораблями и баржами боеприпасы, боевая техника, горюче-смазочные материалы. Надо сделать так, чтобы эти боеприпасы и техника не дошли ни до складов, ни до «Голубой линии». И верю, мы сделаем. — Казаринов повернулся к Омельченко: — Прошу, товарищ командир, доверить мне лететь первым, осветителем цели...
И хотя замполит просился на боевое задание не впервые — он летал в сорок первом на бомбежку танковых колонн и переправ, в сорок втором в составе флагманского экипажа подавлял ПВО противника, производил разведку в его глубоком тылу, — Золотарев был несколько удивлен Решением Казаринова. Ведь совсем недавно замполит попал под бомбежку, контузило его, правда, легко, но голова стала побаливать частенько и врачи не рекомендовали ему летать. Да и на земле у него было забот невпроворот: прибывало
молодое пополнение и за политическую и психологическую подготовку ответственность нес он, замполит...
Омельченко раздумывал, пристально и, как показалось Золотареву, недоверчиво глядя в глаза капитана. Потом перевел взгляд на строй. Золотарев тоже посмотрел на лица своих однополчан и к своей радости отметил, что прежней вялости или скованности на них будто не бывало. То ли речь замполита, а главным образом его решение [105] лететь подняли настроение однополчан, вселили в них уверенность за успешный исход полета. Командир тоже понял это и сказал с одобрением: — Доверяю, Филипп Пантелеевич. Летите первым!
22
Экипаж Аркатова взлетел три минуты спустя после экипажа Артемьева, в котором путь к цели прокладывал замполит капитан Казаринов. На западе небо еще не померкло, у горизонта нежно розовела полоска зари. Золотарев сделал промер ветра и посматривал вниз, где в предвечерних сумерках еще различались темные пятна лесных массивов, светлые полоски шоссейных дорог и извилистые ленты рек. Ни одного огонька не светилось окрест. Пустынной и безжизненной казалась земля.
Впереди показалась береговая черта — неровный берег Азовского моря. Дальше простиралась однотонная черная гладь, незаметно сливающаяся с темно-голубым небом. Закат погас. Высоко над головой мерцали холодные далекие звезды.
«И все же зря полетел замполит, — подумалось Золотареву. — Тут со здоровой головой все идет кругом, особенно когда лупят зенитки, вокруг шныряют истребители, а с больной и вовсе соображать трудно. А от его расчетов, точного выхода на цель и ее освещения зависит результат работы всей группы».
— Командир, вышли на траверс линии фронта, — напомнил штурман Аркатову, отгоняя невеселые мысли.
— Стрелкам усилить осмотрительность! — приказал Аркатов сержантам Валентину Старых и Ивану Горбенко.
— Глядим в оба, — отозвался Старых.
Ночь была светлая и истребители наверняка рыскают в небе.
Бомбардировщик некоторое время шел над морем, затем развернулся влево на девяносто градусов и взял курс на Керченский пролив. Вскоре впереди закачались длинные лучи прожекторов. Они наклонялись из стороны в сторону, опускались к горизонту, шаря по небу. И вдруг вспыхнул еще один, самый длинный, самый мощный голубой луч. К нему метнулись другие, скрестились в одной точке. Вокруг заполыхали разрывы. «Поймали, — подумал с горечью Золотарев, не сомневаясь, что в лучах прожектора [106] самолет Артемьева с замполитом на борту. — Удастся ли летчику вырваться из этих опасных щупалец?»
Бомбардировщика видно не было, но судя по тому, что лучок скрещенных лучей спускался и снаряды рвались ниже, самолет снижался. «Почему он не бросает САБ? — волновался Семен. — Пора бы... Неужели что-то с самолетом? Или с экипажем?»
Надо было готовиться к бомбометанию, а Золотарев не мог оторвать от пучка прожекторов глаз: «Что с самолетом-осветителем?! Почему до сих пор нет САБ?»
Золотарев на всякий случай приказал стрелку-радисту взять в свою кабину парочку светящих авиабомб.
— Горбенко, приготовь «лампаду», — крикнул он по СПУ. — Будем действовать самостоятельно!
И в это время впереди загорелась САБ, осветив внизу приткнувшиеся к берегу баржи, съезжающие с них машины и танки.
— Пятнадцать вправо!.. Так держать! — крикнул Золотарев, открывая бомболюки. — Еще пять.
Светящая бомба висела чуть в стороне от косы, ветром ее относило как раз к центру, где шла разгрузка барж.
— Сброс!.. Разворот вправо...
Уходя от цели, Семен еще раз взглянул в перекрестие лучей, и ему показалось, что он видит в них падающий самолет. Он закрыл глаза и отвернулся. К горлу подкатил горький комок...
И как же он был рад, когда, приземлившись на своем аэродроме, на первый вопрос технику вернулся ли экипаж Артемьева, услышал: «Да, вернулся, вернулся он, товарищ капитан!»
Потом он узнал, что было с экипажем...
Артемьев, ведя бомбардировщик к цели, испытывал вину перед замполитом: хотя капитан сам вызвался лететь, надо было его отговорить: все-таки слаб он еще был, не отошел от контузии.
Беспокоило и другое: как штурман поведет себя над целью? Раньше он был хладнокровным, смелым человеком, но контузия могла повлиять на психику: Артемьев знал случаи, когда летчики после аварии или ранения становились нервными, боялись при посадке удара о землю, в сложной обстановке терялись...
Однако, чем дальше летел самолет, тем больше Артемьев [107] убеждался в необоснованности своей тревоги. Казаринов вел себя так, будто только вчера вернулся с боевого задания.
— Снижаюсь, — сказал Артемьев и убрал газ.
Рев моторов утих, лишь слышался свист вращающихся лопастей винтов.
— Командир, впереди берег. Доверни пять градусов вправо, — попросил штурман. Артемьев накренил машину. Слева, совсем рядом, проползла полоса прожектора. Справа вспыхнул еще один луч, потом другой, третий.
Так держать, открываю люки. — Казаринов сосредоточил внимание на береговой черте. Он различил черные точки у самого уреза воды, определил, что они движутся, — вражеская техника. Кое-где светляками вспыхивали огоньки — водители включали подфарники.
— Сброс! Разворот вправо! — скомандовал штурман. Взревели моторы. Самолет, круто забирая вправо, устремился от берега. В бледно-желтом трепещущем свете сразу появились земля и море. Светящая бомба повисла чуть в. стороне от косы Чушка. Ветром ее несло к цели. Сотни лучей взметнулись вверх. Но было поздно. Бомбардировщик удалялся в сторону моря.
Казаринов наблюдал за обстановкой. В воздухе вспыхивали разрывы снарядов. Зенитки открыли ураганный огонь. Лучи прожекторов метались по небу. А внизу штурман рассмотрел приткнувшиеся к берегу баржи, длинную колонну машин и танков.
Зенитки продолжали ожесточенно вести огонь. Некоторые из них били но светящей бомбе, стараясь погасить ее.
«Быстрее бы группа выходила на цель, — мысленно торопил Казаринов однополчан. — Самый удобный момент для удара». Однако взрывов на земле пока не было видно. Штурман с тревогой посматривал на светящую бомбу. Около нее все ближе и ближе рвались снаряды.
Наконец среди барж взметнулся огненный султан, а затем взрывы заполыхали по всему побережью. Фашисты заметались по берегу, их танки поползли в стороны, но бомбы безжалостно крушили их.
Казаринову хотелось немедленно развернуть самолет и обрушить на гитлеровцев висящие в бомболюках бомбы. Но надо было выждать...
Некоторое время штурман держал курс на север, затем дал команду летчику развернуться на сто восемьдесят [108] градусов. Самолет направился к полыхавшей пламенем цели. Впереди преграждали путь лучи прожекторов. Иногда в них мотыльками мелькали самолеты; сразу же несколько лучей скрещивалось там...
— Командир, видишь баржи? — спросил Казаринов.
— Вижу.
— Держи на них.
Вдруг яркий свет ударил по кабине.
— Так держать! — крикнул Казаринов, прикрывая глаза ладонью.
«Еще немного, еще немного», — мысленно повторял он, боясь, как бы летчик не стал выходить из лучей прожекторов.
Но Артемьев и не думал выходить из них. Опустив на глаза светозащитные очки, он не отрывался от приборов. Он знал, что самолет на боевом курсе, что до цели осталось несколько секунд, что ее нужно уничтожить.
Кругом взметались огненные вспышки, шум моторов заглушали разрывы снарядов. Осколки гремели по обшивке. Самолет трясло и бросало, словно он попал в грозовое облако.
— Так держать! — упрямо повторял замполит, следя за целью.
Слева со звоном что-то треснуло, в кабину ворвался поток воздуха.
— Так держать! — крикнул Казаринов, нажимая кнопку сброса бомб.
Облегченный самолет подбросило ввысь, и было похоже, что от взрывной волны.
Артемьев накренил машину и энергично толкнул штурвал от себя. Бомбардировщик скользнул вниз. Стрелка указателя скорости быстро пошла по окружности -скорость росла. Еще мгновение — и самолет окунулся в темноту. Вскоре глаза освоились с темнотой, и Казаринов Увидел объятую огнем косу. Пылала и баржа, по которой он целился. От нее во все стороны летели огненные брызги, по-видимому, там рвались снаряды.
Артемьев перевел бомбардировщик в горизонтальный полет. И тут же снова их ослепило. Летчик бросил машину в пикирование, крутнул штурвал в одну сторону, в другую.
Однако на этот раз прожекторы крепко держали самолет.
Снова рядом грохнули разрывы. [109]
— Курс девяносто пять! — крикнул Казаринов.
Сильный удар оборвал его голос. Бомбардировщики вздрогнул всем корпусом. Его швырнуло в сторону и выбросило из режущего глаза потока света.
Артемьев почувствовал недоброе, окинул взглядом приборную доску, едва различая зеленоватые стрелки. Потянул штурвал на себя. Но он не подался.
«Неужели заклинило управление?!» Летчик напряг силы. Тщетно. Он почувствовал, как по лицу и спине покатились холодные ручейки. Неужели конец?.. Самолет по-прежнему не подчинялся воле пилота, стремительно несся к земле. Стрелка высотомера угрожающе отсчитывала оставшиеся метры: 700, 600, 500... «Прыгать!»
Артемьев взглянул вниз. Цель осталась позади. Впереди — наша территория. Попутный ветер отнесет к своим...
— Товарищ капитан, — позвал он.
Ответа не последовало. «Потерял сознание...»
— Стрелки, прыгайте! — приказал Артемьев.
— Не могу, командир, ранен, — отозвался стрелок-радист.
Свист воздуха все нарастал, усиливалась вибрация. Выдержит ли самолет? Стрелка указателя скорости уже прошла красную запретную черту. До земли оставалось метров триста. Еще немного и прыгать будет поздно.
«Прыгай, прыгай!» — словно кто-то противным голосом зашептал в ухо.
«А экипаж? Бросить его?»
«Но ты имеешь на это право. У тебя нет другого выхода».
«Имею право? А замполит разве не имел права не лететь? Но он полетел. И теперь бросить его? Бросить экипаж?..»
Летчик убрал газ и поочередно нажал на педали. Нос самолета заходил из стороны в сторону. Руль поворота работал. Это приободрило Артемьева, и он снова потянул штурвал. За его колонкой зловеще светилась стрелка высотомера. 250, 200, 150 — безжалостно пробегала она цифры. Летчику казалось, что он уже ощущает холодное дыхание земли.
И вдруг Артемьев услышал тихий, но твердый голос Казаринова.[110]
— Спокойнее, спокойнее, держись, друг!.. Попробуй триммером...
Летчик схватился за маховик триммера и стал быстро вращать его. Почувствовав упор, Артемьев, собрав последние силы, рванул штурвал на себя. Невидимая сила придавила
его к сиденью. Самолет дрожал от перегрузки, медленно выходя из пикирования. Стрелка высотомера замедлила бег и наконец застыла. Летчик плавно толкнул сектора газа. Моторы, набрав обороты, потянули самолет ввысь...
Осень выдалась для Золотарева более щедрой и удачливой. Судьба будто бы расплачивалась с ним за его утраты и переживания, дарила ему новые успехи, новых друзей, новые награды.
В октябре его вызвал командир корпуса, тепло поздоровался и сказал:
— Хорошо воюете, Семен Павлович. И от командиров ваших большое вам спасибо, и от ваших земляков. Хоть и трудно им там, в тылу, а вот собрали денег и купили вам личный самолет. Поезжайте с экипажем на аэродром, забирайте и желаю вам новых побед...
Дорогие земляки! Немного их проживает в селе Баженово, всего 86 семей, а на фронтах погибло уже 88 человек; в некоторых семьях не вернется домой по два, три человека. А люди не пали духом, отдают последнее, лишь бы одолеть ненавистного врага, завоевать победу. И он, Семен Золотарев, тоже ничего не пожалеет.
Самолет земляков словно был заговоренный, его не брали ни истребители, ни зенитки. Он первым выходил на цель, освещал ее и фотографировал, а когда группа, нанеся удар, брала обратный курс, появлялся снова и фиксировал результат бомбометания.
Не раз самолет попадал в лучи прожекторов, не раз его атаковали истребители, опытные фашистские ночные летчики, но и у Семена теперь за плечами было около трехсот боевых вылетов, более двух лет войны: знал он, Как выскользнуть из лучей прожекторов, как сбить спесь с ночных истребителей-охотников.
В ночь на 5 сентября Золотарев обнаруживает на станции Волноваха скопление эшелонов. Нетрудно было догадаться, для какой цели они там сосредоточены: наступление наших войск на Украине вынудило фашистское командование срочно провести перегруппировку своих войск, усилить южное крыло и обеспечить его оружием [111] и боеприпасами. Полк почти в полном составе вылетает на бомбежку этой станции. Благодаря умелой организации, взаимодействия экипажей в первом же вылете удалось подавить средства ПВО противника и уничтожить 6 эшелонов с боеприпасами и горючим, вывести станцию из строя на несколько суток.
7 сентября Золотарев разведал еще большее скопление эшелонов на станции Пологи. Снова боевой вылет полка. Экипажи берут по две тонны бомб, совершают по два боевых вылета. Результат бомбометания — уничтожено 18 эшелонов с войсками, боеприпасами и горючим. Станция была охвачена морем огня, который экипажи наблюдали за 150 километров.
Потеря Донбасса аукнулась гитлеровцам и в Крыму: перегруппировка сил началась и там. Особенно интенсивно задействованы магистрали Владиславовка, Джанкой, Симферополь. Фашисты пытаются укрепить северное направление, в то же время вывезти все возможное и ценное из Крыма. На железнодорожной станции Джанкой круглосуточно сосредоточивается множество эшелонов. А чтобы отвлечь внимание советской авиации, фашисты создают ложную станцию. Но опытного разведчика Золотарева провести им не
удается: он привозит фотоснимки обеих станций, и бомбардировщики летят не на ложную, а на действующую.
В ночь на 19 сентября экипаж Аркатова совершает на станцию два боевых вылета. Во втором вылете Золотарев обнаруживает невдалеке от станции нефтяной склад и поджигает его. Экипаж возвращается на свой аэродром уже на рассвете. Штурмана удивило то, что на их самолетной стоянке собралось много народу, чуть ли не весь наземный состав полка.
«Что-то случилось», — Золотарев по лицам техников пытается понять, с хорошими или плохими вестями пожаловали к их экипажу однополчане. Улыбаются, о чем-то весело разговаривают. Похоже, с хорошими. И все равно с волнением отстегивает привязные ремни и с нетерпением ждет, когда командир зарулит на стоянку и выключит моторы. Едва обрывается гул, штурман открывает люк, ступает на лесенку и... попадает в руки товарищей. Его подхватывают, относят в сторону и начинают подкидывать вверх. Один раз, другой, третий. Он хочет вырваться, но руки друзей сильны и крепки. Смех, радостные возгласы. [112]
Омельченко подходит к Золотареву, обнимает его и тискает своими богатырскими ручищами.
— Поздравляю, Семен Павлович. От души поздравляю! Только что по радио передали: тебе присвоено звание Героя Советского Союза!
23
На войне год засчитывался за три. В сорок первом Семену Золотареву было двадцать семь. Значит, теперь, в сорок четвертом, — тридцать шесть. Старик! Нет, внешне он выглядел по-прежнему молодцом: высокий, стройный. Не одна девушка заглядывалась на него. А их по мере освобождения занятой фашистами нашей территории встречалось все больше. Напряжение с боевыми вылетами несколько спало, и у авиаторов появилось время заглянуть иногда на танцы, погулять по парку часок, другой. Жизнь брала свое: многие молодые однополчане завели знакомых, бегали к ним на свидание, а у Семена сердце словно окаменело, красавицы его не волновали, любовные вздохи казались ему кощунством — какая там любовь, когда льется рекой кровь, когда гибнут друзья, родные. Из села Баженове Семену сообщили: на братьев Михаила и Нила получены похоронки — погибли на Курской дуге, а старший, Георгий, сложил голову в самом начале войны в Карелии. Не забывалась ему и Анюта. И Семен, несмотря на то, что стал теперь заместителем главного штурмана корпуса и мог на боевые задания летать реже, наоборот, не пропускал ни одного вылета, напрашивался на самые трудные задания. Бить, уничтожать фашистов было единственным его желанием, и в груди кипела только ненависть, только жажда мщения. Командование, учитывая его большой боевой опыт, доверяло ему роль флагманского штурмана в составе лидирующего экипажа корпусной группы, а то и всего корпуса. Бомбардировщики наносят массированные бомбовые удары по Укреплениям и порту Севастополя, по железнодорожным Узлам, питающим фашистские войска техникой и боеприпасами, по аэродромам и военным объектам глубокого тыла.
В сентябре, в годовщину освобождения города Сталино от немецко-фашистских захватчиков, группу воинов, принимавших участие в боях за город, в число которых попал [113] и Семен Золотарев, местные власти пригласили в торжественное собрание.
Семен тщательно отутюжил китель и бриджи, начистил Звезду Героя, долго стоял перед зеркалом, водя лезвием по выбритому до синевы лицу, и удивился — готовится как на свадьбу. Давно такого с ним не было. И на душе у него как-то потеплело, сладко защемило, словно в ожидании чего-то необычного, долгожданного, волнующего.
В президиуме было несколько генералов, офицеров, солдат и женщин в основном пожилого возраста. Семен оказался рядом с симпатичной темноволосой женщиной лет тридцати пяти. В перерыве между собранием и концертом разговорились. Женщина назвалась Прасковьей Никитичной Ангелиной.
— Так это вы та самая знаменитая трактористка, Паша Ангелина, о которой передавали по радио и писали в газетах? — радостно удивился Семен. — Простите, портрет ваш не раз видел, а вот не узнал...
— О вас я тоже читала и слышала, — с улыбкой ответила Прасковья Никитична. — И хотя портретов ваших не видела, но примерно таким вас и представляла.
В ней было что-то доверительно располагающее, обаятельное, и вскоре Семен чувствовал себя с ней, как со старой знакомой. Они смотрели концерт и тихонько переговаривались: она расспрашивала о делах на фронте, он — о колхозе.
— Приезжайте к нам в Старо-Бешево, — пригласила Прасковья Никитична, — сами увидите, какой мы урожай вырастили за год и чего добились.
Семен пообещал.
После концерта знаменитая трактористка уехала — ее ждала машина. А на следующий день освободителям города решено было показать окрестные села. По просьбе Семена группу авиаторов повезли в Старо-Бешево.
Что его туда тянуло, он и сам не понимал. Милая, приятная женщина, разумеется замужняя, добрая, чем-то напоминающая его тетю, у которой он жил мальчишкой. И пригласила она наверное ради приличия, а он и друзей уговорил. В душе он раскаивался за свой поступок, и все равно ему очень хотелось побывать на родине знаменитой женщины, еще раз увидеть ее, поговорить с ней.
Авиаторов встретили, как самых близких и дорогих гостей: во двор к Прасковье Никитичне собралось чуть не [114] все село, и каждый нес что-то для угощения освободителей. Прямо во дворе расставили столы, стали накрывать их.
Семен с грустью и восторгом смотрел на сельчан: исхудалые, загорелые, с потрескавшимися от непосильных работ руками, одеты в выгоревшие и латаные-перелатаные платьица, а лица светятся жизнерадостностью, оптимизмом, будто все невзгоды уже позади.
Когда приготовление к пиршеству завершилось, Семен увидел вошедшую во двор девушку. Они встретились взглядами, и ее глаза, черные, затененные длинными смоляными ресницами, робкие и любопытные, будто заворожили его, и он не мог ни сдвинуться с места,
ни произнести слова. В голове молнией мелькнула мысль: «Вот почему тебя тянуло так сюда».
Его выручила Прасковья Никитична. Она тоже увидела девушку, которая уже намеревалась повернуться и уйти, позвала ее:
— Проходи, Марксина. Чего ты напугалась?
Ее веселый тон вывел Семена из оцепенения.
— Это такие трактористки в вашей бригаде? — спросил он первое, что пришло на ум, лишь бы не молчать.
— Да, — гордо ответила женщина. — Марксина, моя племянница, была в моей бригаде. Одна из лучших трактористок. Теперь — студентка Алма-Атинского института. На каникулы приехала. Познакомьтесь.
Молодой майор протянул руку девушке.
— Семен. Золотарев.
Потом они сидели рядом за столом, Семен ухаживал за девушкой, что-то ей говорил. Впрочем, какую-то чепуху, ибо мысли его разбежались, и он никак не мог сосредоточиться, млел, как мальчишка. Необыкновенная красота Марксины, ее изящная фигура, чистый, как звон хрустального колокольчика, голос пьянили его больше, чем вино, он волновался, хотел сказать что-нибудь умное, значительное, но все слова улетучились из головы. Хорошо еще, что сама девушка взяла нить разговора, то о чем-то расспрашивала, то что-то рассказывала, он зачаровано слушал, все более восхищаясь ее знаниями. И все больше удивляясь: «Вот тебе и простая деревенская девушка!»
Вечером они втроем — за Марксиной пришел брат, они бродили по селу; Марксина рассказывала, как они здесь жили до войны, как эвакуировались в Ташкент, обрабатывали [115] там поля, и как она хотела обогнать в работе свою тетю Прасковью Никитичну.
На прощанье Семен пообещал Марксине, как только выпадет свободное время, приехать в село еще. Но встретиться им удастся лишь после войны — уже был получен приказ на перебазирование их штаба корпуса на другой аэродром.
Жизнь с того сентябрьского дня 1944 года у Семена стала будто бы иной. Он словно очнулся от какого-то тяжкого кошмарного видения. Нет, фашисты при одном упоминании по-прежнему вызывали у него гнев и ненависть, и он по-прежнему летал на боевые задания и громил их где только мог. И все-таки жизнь стала иной. Если раньше он ничего, кроме войны, вокруг не замечал, то теперь его волновали и краски осени, и томики стихов, чудом доставаемые товарищами, и мелодии аккордеона старшины Королева, который в свободные минуты играл для однополчан.
Семен писал Марксине часто, хотя раньше считал это занятием людей сентиментальных, любящих поворошить душу воспоминаниями; теперь же просиживал за посланиями все свободное время. Но старался писать сдержанно, корректно, подавляя рвущиеся на бумагу слова любви, очарования ее красотой, ее нежностью и... недоступностью.
А война, не утихая, гудела и катилась на запад, теперь уже туда, откуда она пришла. Семен Золотарев снова летал, водил полки и дивизии на бомбежку вражеских аэродромов, скопления войск и техники, железнодорожных узлов и морских портов.
24
Весна сорок пятого в Восточной Пруссии выдалась исключительно непогожей и слякотной: шел уже апрель, а дожди и снегопады не прекращались. Холодные северные циклоны сменялись теплыми южными, несущими туманы. Аэродромы раскисли и не то, чтобы взлететь самолетам, пройти по ним было трудно. А на пути наши войск встала неприступная доселе крепость Кенигсберг с непробиваемыми снарядами кирпичными башнями, с бетонированными подземными казематами, заводами, с глубокими ходами сообщения, соединяющими районы города [110] Аорты, каменные здания, оборонительные сооружения.
5 апреля командир корпуса пригласил Золотарева и поехал с ним в полк Омельченко.
— Завтра паши войска начинают штурм крепости Кенигсберг, — сказал генерал выстроившимся на стоянке летчикам. — Вы знаете, что это такое, и не мне объяснять вам, какие будут потери, если мы не поддержим наши наземные войска с воздуха. Вижу ваши недоуменные взгляды: как взлететь. Да, положение чрезвычайно трудное, аэродром раскис. Но надо, товарищи, взлететь.
— Надо, значит, надо, — Омельченко расправил свои богатырские плечи, давая понять, что он готов хоть сейчас выполнить боевой приказ. — И погодка идет нам навстречу — похолодало. К утру, надо полагать, подморозит, взлететь будет легче.
Генерал и многие летчики посмотрели на небо. Еще утром оно было хмурым, затянутым низкими рваными облаками, из которых сыпал временами снег с дождем. Теперь облака поднялись, посветлели, и в них то там, то здесь появлялись разрывы.
— Взлететь, может, и взлетим, а как сесть? — раздался чей-то вопрос.
— Сесть легче, — уверенно и с улыбкой ответил Омельченко. — Бомбы сбросим, горючее выработаем — самолет станет легче.
— Убедительно, — кивнул генерал. — Как говорят в таких случаях, ни пуха ни пера...
Генерал уехал. Семен Золотарев остался в полку — его самолет находился здесь, и
штурман решил принять участие в боевом вылете.
— Зря ты, Александр Михайлович, на мороз надеешься, — возразил командиру полка инженер. — Это тебе не весна в России. Вон даже штурмовики и те не рискуют...
— Это их дело, — нахмурился Омельченко. — А мы полетим, даже если Вселенная разверзнется. — Он сказал это таким непреклонным тоном, что Семен не усомнился подполковник выполнит приказ во что бы то ни стало. Но инженер не унимался:
— Вселенная-то не разверзнется, а вот шею себе кое-кто сломать может.
— Ну что ж, — махнул рукой Омельченко, — тогда я попробую первым. Думаю, она стоит не дороже тех, кто может погибнуть при штурме крепости, если мы их не поддержим... [117]
Утром 6 апреля действительно подморозило, но так слабо, что даже ноги продавливали ледяную корку. А на самолетах одних бомб собирались подвесить по полторы тонны.
Омельченко приказал подвесить на свой бомбардир0в. шик шесть ФАБ-250 и две сотки. Без взрывателей. Осмотрел самолет и полез в кабину. Штурмана и стрелков не взял, чтобы не рисковать ими...
Летчики с затаенным дыханием наблюдали, как тяжело, словно бы неохотно тронулся бомбардировщик со стоянки. Золотареву раньше не раз доводилось летать с Омельченко. Это был настоящий ас. В полк он пришел в первые дни войны и летал на самые ответственные задания — на разведку тылов противника, на уничтожение переправ, на бомбежку сильно прикрытых объектов: в какие перипетии он только ни попадал, но не зря он был до войны заводским летчиком-испытателем, и он всегда выходил из них с честью и приводил свой самолет на аэродром. Однополчане любили его за мастерство и мужество, за хладнокровие и смекалку, переживали за него больше, чем за себя.
Инженер полка стоял рядом с Золотаревым и молча кусал губы. Каждая жилка на его лице, каждая черточка выдавали внутреннее волнение, тревогу за летчика и за самолет.
Бомбардировщик надрывался моторами. Рев стоял такой, что земля дрожала под ногами. Колеса зарывались в вязкое месиво и, выворачивая темно-бурые пласты, оставляли за собой глубокие неровные борозды.
— Загубит машину! — вырвалось, как стон, у инженера полка.
До линии старта, откуда обычно начинали разбег самолеты, было метров двести, но бомбардировщик никак не мог преодолеть это расстояние. Его куда-то вело в сторону, колеса ползли юзом.
Внезапно самолет изменил направление, порулил не к линии старта, а на небольшой бугорок, что возвышался на краю аэродрома. Там земля по всей вероятности была потверже и взлететь будет легче. Действительно, самолет перестало заносить, и он порулил энергичнее. Лишь когда на самой вершине холмика моторы приутихли, словно делая передышку перед стартом, инженер тяжело выдохнул из груди воздух.
Но вот новый еще более мощный рев сотряс все вокруг. [118] Бомбардировщик двинулся с места и тяжело и медленно стал набирать скорость. Бежал он долго и упорно, Золотарев увидел, как снова напряглись лица однополчан. Давно надо было поднять хвост машины, чтобы уменьшить лобовое сопротивление, а Омельченко почему-то не делал этого — то ли боялся, что самолет скапотирует; то ли специально создавал больший угол атаки для увеличения подъемной силы и уменьшения нагрузки на колеса.
До конца аэродромного поля оставалось метров триста, там начиналось более вязкое место; скорость самолета достигла критического момента — ее не хватало для отрыва и вполне было достаточно, чтобы при малейшей оплошности летчика бомбардировщик перевернулся. А с таким грузом уцелеть летчику шансов было слишком мало.
Инженер полка смотрел за самолетом широко открытыми немигающими глазами и лицо его бледнело и покрывалось испариной.
Оставалось до конца летного поля 200, 100 метров. Инженер не выдержал и опустил голову. Золотарев тоже почувствовал, как и его голова клонится долу — видеть, как гибнет лучший летчик полка, командир, было выше его сил.
Вдруг вздох облегчения вырвался у кого-то, из груди. Золотарев поднял голову и чуть не вскрикнул от восторга: бомбардировщик парил над землей, медленно, но уверенно набирая скорость и высоту.
— По самолетам! Готовиться к вылету! — подал команду заместитель командира полка по политической части майор Казаринов.
Пока Омельченко летал по кругу, вырабатывая топливо, экипажи подготовили свои самолеты, проверили оборудование, подвесили бомбы; и как только командир сел, — а сделал он это тоже мастерски, — полку дали команду на вылет.
Взлет был неимоверно трудным, но все отобранные Омельченко 17 экипажей сделали, казалось, невозможное, и удар по крепости был таким сокрушающим, что наши наземные войска в первый же день штурма завладели окраинами города.
На второй день командир корпуса, поздравляя экипажи полка с успешным вылетом, спросил у Золотарева: Как, товарищ подполковник, хорошо рассмотрел город сверху? [119]
— Старался, товарищ генерал. Во всяком случае третью позицию по старой городской черте и коридор, соединяющий гарнизон Кенигсберга с войсками на Земландском полуострове рассмотрел.
— Молодцом! — похвалил генерал. — А сооружения откуда противник ведет огонь но нашим войскам?
— С большой высоты их не так просто увидеть, товарищ генерал...
— Вот и я так думаю, — кивнул командир корпуса, — А посему, слушай новый приказ. Пойдешь с пехотой, она уже оседлала окраину. Заберешься на крышу одного из домов и будешь наводить наши самолеты на наиболее важные цели, корректировать их бомбометание. Радиста с радиостанцией тебе уже подобрали...
25
Небо было черным и холодным. Звезды светили как-то по-особому, пронзительноярко, и их свет, отражаясь от островерхих черепичных крыш, казалось, холодит само сердце.
Семен Золотарев и радист обосновались у самой чердачной двери и, пока авиация бездействовала, по переменке уходили на чердак и согревались физзарядкой. А на углу дома — там крыша была немного покатее — расположились артиллеристы — капитан и радист.
Хотя стояло относительное затишье — и наши, и немцы набирались сил, чтобы с рассветом снова обрушить друг на друга шквал огня и тонны смертоносного металла, — Семен с нетерпением ждал утра: и холод его донимал, и хотелось быстрее сокрушить эту преградившую путь нашим войскам крепость.
То там, то здесь вспыхивали ракеты, освещая островерхие крыши, узенькие проемы улиц, — и наши, и немцы следили друг за другом, — раздавались короткие автоматные и пулеметные очереди.
Семен прислонился к дверному косяку, задумался. Как немцы ни упорствуют, а конец войны уже виден. Освобождены Венгрия и Польша, наши войска подошли к Вене, до Берлина осталось 60 километров. Доживет ли он, Семен Золотарев до Победы?.. Должен дожить. Ведь у него есть Марксина. Она пишет, что желает ему быть здоровым и невредимым, ждет его... Если бы она знала, [120] как он мечтает о встрече! Ее прекрасное лицо с удивительно тонкими совершенными чертами, густые, цвета вороньего крыла волосы, антрацитовый блеск глаз всплывает в воображении каждый раз, едва выдается свободная минута. Вспоминается ее ласковая теплая улыбка, чистый, земного напевный голос, нежное пожатие красивых, сильных, не боящихся труда рук. Интересно, что сейчас она делает? Наверное спит. А может, готовится к экзаменам. После их встречи она перевелась учиться в Москву. И видно он ей небезразличен — зачем бы ей тратить время на переписку. А письма ее теплые, душевные... Да, как хотелось бы дожить до победы. Разумеется, за чужие спины прятаться он не будет, но и без нужды подставлять фрицам голову тоже не стоит. Как вон те артиллеристы. Уже светать начало, а они разгуливают по крыше, как по собственной квартире, хотят до начала атаки все рассмотреть. А немцы тоже не слепые...
— Вам что, жить надоело? — решил приструнить их Золотарев.
— Не боись, авиация, — усмехнулся капитан. — Нам не впервые по крышам лазить. Фрицам сейчас не до нас...
Их разговор прервал вызов по радио:
— «Галерка», я «Харлы», как меня слышите?
«Харлы» — позывной командного пункта корпуса.
Этот же позывной, вспомнилось Семену, был перед войной на летно-тактических учениях. Тогда экипажи готовились к полетам, как на большой праздник. Теперь тоже в полках настроение приподнятое, все чувствуют близкий конец войны...
— «Галерка» хорошо вас слышит, — ответил радист.
— Готовьтесь к приему гостей. Через полчаса. Укажите столики.
— Вас поняли...
Разговор по радио словно послужил сигналом для артподготовки. С обеих сторон ударили орудия, минометы, пулеметы. Над головами корректировщиков засвистели снаряды. Столбы огня и дыма взметнулись совсем рядом. В нос ударил запах тротила.
Артиллеристы примостились на уголке крыши и стали давать команды своим батареям. Близкий грохот разрывов, вой снарядов и стрекот пулеметов заглушали команды. Семен, чтобы лучше видеть, куда будут падать снаряды, подполз к трубе и махнул своему радисту. Как ни осторожны они были, а их, видно, засекли: один снаряд [121] разорвался чуть пониже крыши, второй перелетел ее. Штурман и сержант невольно прижались к трубе.
— Что, авиация, на земле страшнее, чем на небе? — крикнул, улыбаясь, капитан-артиллерист. Семен хотел ему ответить, но не успел: там, на углу, где только что стоял
капитан, взметнулся огненный клубок, и ни капитана, ни его помощника не стало. Семен почувствовал, как на голове стянуло кожу и по лицу скатились холодные капли. И впрямь, здесь, на земле, а вернее на крыше, страшнее чем в небе...
Крепость уже клокотала, как вулкан. Наша артиллерия ударила так плотно и часто, что некоторые огневые точки врага сразу замолчали. Пошла и авиация.
— «Галерка», гости на подходе, укажите квадрат, — более конкретно запросил КП.
Золотарев окинул взглядом крепость. Солнце еще не взошло, и огненные смерчи ярко
озаряли каменные стены с черными проемами окон, откуда велась стрельба из пулеметов, автоматов и даже из легких пушек. Наиболее интенсивно враг оборонял западную окраину. И Семен передал:
— «Харлы», я «Галерка», ваша цель квадрат номер шесть. Квадрат номер шесть.
— Поняли, «Галерка».
И вот вскоре они появились над городом-крепостью. Шли клиньями по девять самолетов, строй за строем, крыло к крылу, как на параде. Семен, забыв об опасности, с восторгом смотрел на своих боевых товарищей. Красиво шли, грозно и бесстрашно. Зенитки открыли огонь, но строй не дрогнул, все также величественно приближался к городу.
Навстречу им с вышины мелькнули истребители. Семен нажал кнопку микрофона, чтобы предупредить друзей об опасности, как увидел несущихся наперерез «мессершмиттам» наших стремительных «Яковлевых». Небо распороли трассы, и вот уже чистую предутреннюю синеву вдоль и поперек измазали черные дымные полосы.
На высоте кипел бой, а ниже истребителей волна за волной шли бомбардировщики, штурмовики, земля клокотала, содрогалась, стонала, клубы дыма, гари и пыли поднимались ввысь, застилали небо, и взошедшее солнце не в силах было пробиться сквозь эту мглу.
Вражеский огонь заметно ослабевал, сужался и откатывался [122] к центру города, наши танки и пехота всюду виднелись на улицах.
Поздно вечером вернулся Семен в штаб корпуса и, доложив о выполнении задания, в первом же попавшемся домике, где обосновались летчики его родного полка, лег спать.
9 апреля «неприступный» форпост гитлеровцев Кенигсберг пал. Но до победы был еще целый месяц. Тридцать дней и ночей непрерывных жестоких боев на земле и в небе. Фашистские войска, отступая к последней своей цитадели и боясь мести советских воинов за прошлые злодейства, дрались с отчаянием обреченных. Но ничто уже не могло остановить советских воинов.
10 апреля Семен Золотарев на своем самолете в составе большой группы бомбардировщиков наносит бомбовый удар по Штеттину, 12 — по Штральзунду, 13 — по Эберсвальде, а с 16 апреля по 24 — по Берлину. 25 апреля Золотарев в составе дивизии вылетел в Пиллау, чтобы оттуда нанести бомбовый удар по прижатым к Балтийскому морю фашистским группировкам. Но удара уже не потребовалось; гитлеровцы начали сдаваться.
...Ранним утром 9 мая Семена разбудили непонятные возгласы и стрельба за окном. Он никак не мог разобрать явь это или сон, а вылезать в холодное полуразрушенное
помещение из-под меховой куртки никак не хотелось. И лишь когда хлопнула дверь, он поднял голову. В помещение вбежал дежурный и громовым голосом крикнул:
— Ура, товарищи! Победа!..
Победа! Почти четыре года советские люди, и не только советские — большинство людей планеты, — ждали этого дня. Сколько отдано жизней, сколько потеряно соотечественников, друзей, родных. Семен тоже не надеялся, что останется жив. Нет, ему, как и сотням его однополчан еще не верилось в это...
Победа! Мир!.. Неужто не будут больше за ним гоняться вражеские истребители, стрелять в него зенитки, пулеметы?
Он торопливо одевался. В комнату ввалилось уже более десятка боевых друзей. Они обнимали друг друга, целовались; у многих из них текли слезы. И Семен чувствовал, как соленая капля, скатившись со щеки, попала ему в уголки губ.
Он знал себя, знал, что не сентиментален — не плакал даже тогда, когда тяжело ранило командира экипажа и [123] друга Ваню Серебряникова, а потом в одном из воздушных боев «мессершмитты» расстреляли его подбитый бомбардировщик, и он рухнул вниз. Семен до земли провожал взглядом горящий самолет и видел, что никто из него не выпрыгнул. Сдержал он слезы и тогда, когда узнал о гибели братьев. И много было всяких случаев, когда сердце обливалось кровью, но Семен крепился, не плакал. А теперь... Теперь можно расслабиться, не сдерживать слез — ведь это слезы радости.
Победа! Победа!..
Марксине наверное и во сне не снится, что они скоро встретятся. Милая, чудесная!..
26
В Москву он приехал уже летом, солнечным июньским днем. Марксина жила с подругой у немолодой женщины, строгой и не очень-то доверчивой. Девушек дома не было, и женщина, внимательно осмотрев высокого летчика со Звездой Героя Советского Союза, полюбопытствовала:
— А кто же она вам будет, наша Марксиночка?
Семен смутился. Вопрос был так категоричен, что ответь он: «просто знакомы», женщина может закрыть перед ним дверь. И он ответил с улыбкой:
— Вот этот вопрос я и приехал выяснить из Германии.
— Вы — Семен Золотарев? — Потеплело лицо женщины.
— Да, — кивнул он, чувствуя, как волну сомнения л недоверия сменяет волна надежды и радости — Марксина рассказывала о нем даже хозяйке! Это кое-что значит.
Женщина пригласила его в комнату.
— Вы, наверное, устали с дороги. Девушки из Университета вернутся часа через два, не раньше; я приготовлю вам постель и вы отдохнете.
— Нет, нет, — остановил хозяйку Семен. — Я хорошо отдохнул в самолете — впервые летел за пассажира. Вы занимайтесь своим делом, а я поброжу по Москве. Зайду к вам, — он посмотрел на часы, — ровно в семнадцать.
— К пяти вечера девушки обязательно будут дола, — заверила его женщина.
Он не знал Москву — дважды бывал до войны в столице по несколько часов и дальше Красной площади не [124] ходил, — потому пошел пешком до метро, хотя до него было километра полтора, разглядывая многоэтажные дома, чистые улицы, ухоженные зеленые скверы. Ходили слухи, что немцы сильно бомбили Москву, но ни единого следа бомбежки Семен не увидел. Значит, наши летчики хорошо защищали свою столицу. А вот Берлину, этому логову, где замышлялись зверские планы, досталось по всем статьям, справедливой оказалась пословица: кто сеет ветер, пожинает бурю...
Потом он поехал на Красную площадь. Она показалась ему особенно красивой, величественной и незыблемой: брусчатка сталью отливала в солнечных лучах, кремлевская стена с зубчатым верхом неприступно заслоняла собой взметнувшиеся ввысь башни с рубиновыми звездами. И небо в этот день было чистое, ярко-голубое, с редкими белоснежными облачками, подчеркивающими ослепительную голубизну: будто и природа радовалась вместе с людьми и обеспечивала им проведение через два дня Парада Победы.
На квартиру к Марксине Семен вернулся, как и рассчитал, через три часа. Девушки действительно были уже дома и приготовились к встрече с ним — обе принаряженные, сосредоточенно-взволнованные.
Марксина стояла будто окаменевшая, чуть подавшись вперед, смущенно улыбаясь. Подруга и хозяйка стояли чуть в стороне, с интересом наблюдая за ними.
Семену так хотелось обнять подругу, сказать ей самые хорошие слова... Но он лишь протянул руку, сказал просто:
— Здравствуй!
— Здравствуй, Сеня, — ответила она, облегченно вздохнув, будто он снял с ее плеч непосильную тяжесть. — Что же ты не предупредил заранее? — посетовала она. — Мы не ждали... Сегодня вот билеты в театр взяли. — Она взглянула на часы. Шел шестой час, и он понял, что им
надо скоро уходить. Ради него, конечно, могла бы и пожертвовать театром... А что они будут делать, куда отправятся?..
— Что вы решили посмотреть?
— «Анну Каренину», во МХАТе.
— Возьмите меня с собой.
— С удовольствием, но, — Марксина замялась, — у нас только два билета, а достать перед спектаклем в Москве не так-то просто. [125]
— Ничего, попробуем...
Спектакль они смотрели вместе. Потом, проводив подругу домой, бродили по улицам, вспоминали Старо-Бешево, знакомство, говорили об учебе, о ближайших планах Марксина мечтала после окончания университета поехать в родное село и учить малышей.
— А какая мечта у тебя? — спросила она. Действительно, какая? До сегодняшнего дня он не задумывался об этом. Когда воевали, мечтал об одном — быстрее разбить фашистов и зажить мирной жизнью, отоспаться, отдохнуть. И вот он мир. А оказывается, теперь этого
мало... Марксина мечтает окончить университет, учить и воспитывать мальчишек и девчонок. Он еще перед войной окончил училище, является заместителем главного штурмана корпуса, инструктором по радионавигации. Тоже будет учить и воспитывать молодых воздушных воинов... И все-таки этого мало. Надо думать о будущем. И он ответил:
— У меня мечта — окончить воздушную академию. Это, так сказать, минимум. А потом... — Он остановился и привлек ее к себе.
27
Говорят, нет крепче дружбы, закаленной в огне боев, проверенной испытаниями, когда на весах судьбы лежали честь и бесславие, жизнь и смерть...
После войны и службы в армии судьба разбросала боевых друзей в разные концы нашей страны, но почти каждый год они встречаются либо в Москве, в Центральном Доме Советской Армии, либо в родном полку. Их осталось не так много и наверное потому эти встречи особенно дороги. В полку давно уже нет ветеранов войны, и самолеты не те, и многое другое изменилось неузнаваемо, и все равно осталось что-то родное, близкое, незабываемое — ведь здесь, несмотря на трудности, прошли лучшие их жизни — молодость...
В 1980 году, полк отмечал 40-летний юбилей. На праздник были приглашены ветераны. Приехали бывший командир полка полковник в отставке А. М. Омельченко, его заместитель по политической части Ф. П. Казаринов, дважды Герой Советского Союза генерал-лейтенант авиации в отставке П. А. Таран, Герои Советского Союза [126] Ф.Ф. Дудник, Я. И. Штанев, Ф. П. Артемьев, А.Ф. Фролов, бывший инженер полка Н. Д. Тимошков, инженеры эскадрилий Е. В. Пономаренко, В. И. Штилевский, Г. С. Цыганков. С некоторыми однополчанами Семен Золотарев не виделся с тех пор, как был откомандирован из полка с должности начальника штаба в распоряжение главного штаба Ракетных войск стратегического назначения. Мечты его осуществились: он окончил Военно-Воздушную академию, женился на Марксине. Служил до 1966 года, теперь тоже в отставке...
Заметно, очень заметно постарели ветераны — поредели и инеем покрылись волосы, лица избороздили морщины. Время! Зато какими молодцами на их фоне выглядели преемники, нынешние защитники воздушных рубежей нашей Родины, продолжатели славных боевых традиций. Стройные, подтянутые, в новеньких парадных мундирах. Говорят, по внешнему виду судят и о содержании. Правду говорят. Многие авиаторы полка имеют высшее образование, их высокое летное мастерство подтверждают знаки воинской доблести — 1 и 2 класс! Полк на протяжении ряда лет является в округе передовым.
Побывали ветераны в казармах, в ленинских комнатах, в столовых. Всюду — образцовый порядок, идеальная чистота.
Сильное впечатление произвел на ветеранов полковой Музей боевой славы. Свято чтят наследники память о героях, отдавших жизнь за счастье Отчизны. На стенах — портреты, фотографии, выписки из документов. Местные художники даже создали небольшую диораму о подвиге экипажа младшего лейтенанта И. Т. Вдовенко... Довелось
ветеранам побывать и на полетах. Стремительно, с громовым раскатом уносились в ночное небо сверхзвуковые ракетоносцы и буквально в считанные секунды скрывались в темноте. Таких не просто истребителю перехватить, и ракете догнать...
Уезжали из полка гвардейцы-фронтовики довольные: наследники их ратной славы надежные!
Комэск
Майор Кочетов, выключив моторы самолета, вышел из кабины и нелегкой походкой направился к взлетно-посадочной полосе, на ходу доставая трубку. [127]
«Опять недоволен», — штурман капитан Смолин озадаченным взглядом провожал длинную, сутуловатую фигуру командира эскадрильи.
Кочетов остановился, прикурил, не выпуская трубки из тонких, плотно сжатых губ, не мигая уставился в одну точку. На посадку шел самолет. Он быстро приближался. Смолин по почерку узнал своего друга Петра Нечитайло, самого отчаянного в эскадрилье летчика.
Самолет снизился далеко от взлетно-посадочной полосы и пошел над аэродромным полем на высоте не более одного метра, поднимая за собой клубы пыли. У посадочного «Т» гул внезапно оборвался, колеса коснулись черной выбитой дорожки.
Кочетов выпустил густой клуб дыма, глаза его снова устремились к четвертому развороту, где на посадку заходил еще один самолет.
Смолин так и не понял — доволен комэск «оригинальной» посадкой Нечитайло или нет. Лицо его не выражало ни восторга, ни огорчения.
Майор Кочетов прибыл в эскадрилью всего две недели назад, но и за это время все в эскадрилье успели почувствовать его характер. А характер этот предопределяли некоторые особенности. Во-первых, Кочетов прибыл из школы, где обучал курсантов, и наверняка не имел ни одного боевого вылета, тогда как его подчиненные совершили их уже не по одному десятку. Во-вторых, что более всего огорчило летчиков, стал наводить в боевой эскадрилье школьные порядки: заставил командиров экипажей в жару сидеть в классах и изучать район полета, конструкцию самолета, проводил розыгрыши и разборы полетов, и в-третьих, что больше всего возмущало летчиков, не считался с их заслугами: для него были все одинаковы — и воевавшие уже два года, и только прибывшие из школ.
Когда последний самолет зарулил на стоянку, Кочетов приказал своему заместителю построить экипажи.
Он прошелся перед строем, заложив руки за спину глядя в землю, отчего казался еще сутулее.
— Плохо. Очень плохо. — Голос его сухой, хрипловатый. — Если так будем собираться, перестраиваться, посбивают, как ворон. — Он, не поднимая головы, вдоль строя, медленно переставляя обтянутые узкими бриджами ноги. На правом фланге напротив Смолина Кочетов остановился.
— Где ваш бортжурнал? [128]
Смолин протянул желтоватый лист.
Кочетов бегло просмотрел записи.
— Почему не все записано? Во сколько мы отошли от Покровского? — Строгие глаза комэска смотрели холодно, непреклонно.
Смолин молчал.
— Плохо, очень плохо. — И пошел дальше. — Штурману эскадрильи и не знать район полета! Через пять дней буду принимать зачеты... У всех.
— Да что у нас — школа, что ли? — вырвался недовольный голос Нечитайло.
Кочетов не поднял головы, дошел до конца строя, повернулся и пошел обратно.
Напротив Петра он остановился.
— Кстати, кто вас учил снижаться на моторах?.. Без «газа» рассчитать не можете? Завтра дам провозные. А за осуждение действий командира на первый раз объявляю выговор. Ясно?
— Ясно. — Нечитайло с нескрываемым неудовольствием смотрел ему в глаза.
— Когда мы на фронт полетим? — раздался еще чей-то голос.
— Когда? — Кочетов почесал свой мефистофельский подбородок. — Когда летать по-настоящему научимся, — он взглянул на часы. — В пятнадцать ноль-ноль всем явиться на разбор полетов. Все свободны.
После месяца кочетовской «академии» эскадрилья прибыла на фронт, приступила к боевым действиям.
В тот день небо словно поблекло от жары. Вверху оно было бледно-голубым, а к горизонту спускалось пепельной дымкой. На земле — пи клочка зелени: всюду — серые, желтые, черные квадраты, будто все выжжено войной. Несмотря на то, что самолет летел на 3 тысячах метрах, духота чувствовалась и здесь. В кабине пахло резиной и эмалевой краской. У Смолина разболелась голова, ломило в надглазных пазухах. Давала знать рана, полученная полгода назад. Смолин прислонился к борту кабины, но прохлада не приносила облегчения. Металл, казалось был таким же горячим, как и лоб штурмана. При подходе к цели в воздухе все чаще вспыхивали разрывы, но Смолин не обращал на них внимания. Хотелось закрыть глаза и забыться, но командир ни на минуту не оставлял [129] его в покое: он спрашивал то о населенных пунктах, которые пролетали, то о скорости и направлении ветра, то заставлял считать, сколько на станции эшелонов.
«Екает сердечко, — подумал о Кочетове Смолин. — Это тебе не школа!»
Штурман не мог простить командиру того случая, когда Кочетов при всех отчитал его. Правда, с тех пор стычек между ними не повторялось, Кочетов даже стал называть своего штурмана по имени и отчеству, но Смолин знал, что стоит ему в чем-либо допустить оплошность то вместо «Юрий Петрович» он услышит негромкое, но до предела отчетливое: «капитан Смолин»...
— Юрий Петрович, — раздалось в наушниках, — посмотри-ка вниз. Не кажется тебе, что для такой маленькой станции слишком много эшелонов? Отметь у себя на карте.
Смолин посмотрел вниз. Почти все железнодорожные линии были заняты длинными составами вагонов. У некоторых дымили паровозы.
«Дать бы по ним, — подумал Смолин, — да с таким педантом разве договоришься. Наверняка, скажет, что у нас другое задание...»
— Дальность до цели? — спросил Кочетов.
— Восемьдесят километров, — без промедления ответил штурман.
— Повнимательнее следите за воздухом!
Смолин окинул небо взглядом. Слева и справа, за тройкой Кочетова, летели звенья Мельникова и Лаптева. Вся эскадрилья была в воздухе. Бомбардировщики шли плотным строем.
«Как на параде», — не без удовольствия отметил Смолин. На душе полегчало, даже боль в голове будто ослабла.
— Командир, сзади двенадцать «мессершмиттов», — доложил стрелок-радист, — дальность три километра. Идут на сближение.
— Перестроиться в правый пеленг! — коротко приказал Кочетов.
— Может, сбросим бомбы на станцию? — предложил Смолин. — Все же их двенадцать...
— На станцию бомбы не бросать! — властно скомандовал Кочетов. — У нас другое задание.
Левая тройка бомбардировщиков скользнула вправо [130] и через минуту Смолин увидел ее позади тройки Лаптева. Все десять самолетов шли теперь в плотном пеленге.
— «Мессеры» заходят в атаку! — продолжал докладывать стрелок-радист.
— Левый круг! — голос Кочетова был таким же: сухим, властным и спокойным.
Застучал пулемет, отдаваясь мелкой дрожью на обшивке. Через секунду справа
брызнула тонкая бледно-желтая струйка — теперь стрелял фашист. Вскоре Смолин увидел и его: тонкое осиное брюхо с распластанными крыльями мелькнуло в нескольких метрах. Отчетливо были видны черные кресты, желтые концы крыльев.
За первым фашистом проскочил второй, третий. «Мессершмитты» отворачивали для повторного захода.
Круг бомбардировщиков к тому времени замкнулся. Фашистские истребители метались со всех сторон, пытаясь разорвать его, выбить хотя бы одно звено этой образовавшейся стальной цепи. Но не так легко было поймать в перекрестие все время меняющую направление цель, тем более в кольце не было мертвого пространства, откуда можно было бы зайти: бомбардировщики удачно поддерживали друг друга огнем. На глазах у Смолина задымил один «мессершмитт» и пошел к земле.
Только теперь штурман оценил все преимущество такого строя и умение быстро перестраиваться. Не зря комэск добивался этого.
Девятка между тем описывала круги ближе и ближе к цели. Смолин посматривал на часы. Скоро у истребителей кончится горючее и они вынуждены будут уйти.
Пара «мессершмиттов», размалеванная черепами, все яростнее бросалась в атаку, и как понял Смолин, цель ее была — самолет Кочетова. При очередном выходе из атаки штурман пустил ей вслед длинную очередь.
— Юрий Петрович, поспокойнее, — посоветовал Кочетов — Очереди делай покороче.
Смолин смахнул с лица пот. В лобной части головы боли усиливались, глаза застилала
желтая пелена.
«Мессершмитты» снова мелькнули рядом. Выйдя чуть вперед, стали разворачиваться. Смолин прильнул к пулемету. Он не чувствовал, когда нажал на спусковой крючок: боль в голове и злоба к обнаглевшим фашистским летчикам взвинтили его до исступления. Опомнился он когда увидел падающий размалеванный «мессершмитт». Но [131] Смолин не знал, кто его сбил: с других самолетов стреляли тоже.
— Хорошо, Юрий Петрович! — похвалил майор Кочетов.
Ведущий истребитель развернулся влево и, обнаружив, что ведомый сбит, понесся на самолет Кочетова в лобовую. Смолину делиться мешало солнце, резало глаза. Превозмогая усилившуюся от яркого света боль, Смолин все же поймал в прицел силуэт истребителя и нажал на спуск. Но знакомой дроби не услышал. «Кончились патроны», — понял штурман.
А истребитель приближался. Казалось, сама смерть неслась навстречу. Стремительно, неотвратимо. Смолин не отрывал глаз от распластанных быстро растущих крыльев, он чувствовал, как наливаются кровью зрачки, на лбу выступила испарина. Вдруг крылья стали
блекнуть в желтом, а затем в сером свете. Мгновение — л все вокруг стало черным... «Это конец», — промелькнула молнией мысль.
Но почему слышен гул моторов, короткие очереди?.. Смолин ощупал себя: руки, грудь, лицо. Все было на месте, реальным. Боли в голове были по-прежнему нестерпимы.
— Командир, уходят! — радостно крикнул стрелок-радист.
— Юрий Петрович, курс!
Знакомый резкий голос майора Кочетова... Значит, жив. Смолин стал тереть глаза. Но кроме черноты ничего не увидел.
— Командир, ничего не вижу. Что-то с глазами. Ты ранен? — тревожно спросил Кочетов.
— Нет. Это старое. Терпеть можешь?
— Могу. Но бомбить...
— Знаю, — прервал Кочетов. — Справлюсь сам... Смолин сидел неподвижно, вслушиваясь в монотонный гул моторов. Временами доносились глухие удары, где-?0 рядом рвались снаряды. Мучительно было ничего не видеть и не знать, где находишься, что происходит вокруг. Смолин попытался мысленно восстановить ориентировку-
Истребители атаковали их у села Жлобинка. Бой длился около пятнадцати минут. За это время они пролетели более двадцати пяти километров. Минуты четыре прошло с момента потери зрения. Теперь уже летели по прямой еще плюс двадцать километров. Под самолетом должна быть...
— Командир, излучину реки видите?
— Вижу. Прямо по курсу.
— Через четыре минуты откроете бомболюки.
— Ладно, не волнуйся, все будет в порядке. ...Зрение возвращалось к Смолину медленно. Месяц он лежал с повязкой на глазах, потом повязку сняли, и первое, что увидел Смолин, было солнце. Оно висело в окне, близкое и яркое. Таким Смолин видел его еще мальчишкой сквозь закопченное стекло. Все остальное: оконная рама, цветы на подоконнике просвечивались словно через черную вуаль.
— К тебе пришли товарищи, — сказал доктор. — Сегодня им можно пройти сюда. Хочешь с ними поговорить?
— Товарищи? Спасибо, доктор!
Военврач кивнул, и женщина в белом халате вышла.
Через минуту палата наполнилась тонким запахом эмалевой краски, свежего ветра и полевых цветов. Такой запах Смолин всегда ощущал в кабине самолета.
Летчиков было шестеро. Они окружили Смолина и трясли ему руку, расспрашивали о здоровье. Но Смолин их не слушал. Глаза его рассеянно блуждали по сторонам. Было похоже, что он не видит, а если и видит, то настолько плохо, что никого не узнает.
Летчики тревожно переглянулись.
— Здорово, дружище, — Нечипайло протянул Смолину букет полевых цветов. — Не узнаешь, друг? Это я — Петька!
— Узнаю, узнаю, — забирая цветы, негромко ответил Смолин, впервые за две недели щедро улыбаясь, — А где... командир?
— Майор Кочетов? Ты о нем спрашиваешь? Не беспокойся, жив и невредим наш комэск. Привет тебе передавал, сказал, что зайдет после полета: он срочно полетел на Разведку.
В груди Смолина расплылась приятная теплота.
— Спасибо вам, друзья, за добрые вести.
Последний полет
Самолет падал, и Алексей слышал, как сквозь пробоины истошно свистит ветер. [133]
Да, надо прыгать. Каждая секунда промедления может стать роковой: пушки «мессера», видно, перебили управление — что Алексей ни предпринимал, не помогало. Истребитель стремительно несся к земле, Алексея бросало из стороны в сторону.
Надо сбросить фонарь кабины. Поднять руку и потянуть рычаг замка. Потом перевалиться через борт, на внешнюю сторону, как учил инструктор. Надо спешить!
Алексей поднял руку и вскрикнул от боли.
— Ты чего это? — толкнул его в бок сосед по нарам лейтенант Петрик.
— Сон страшный приснился. — Алексей тряхнул головой...
— Вижу. — усмехнулся Петрик. — Зачем ты казнишь себя? Кому нужно твое рыцарство? Вылечись, а потом летай сколько угодно.
— Я не больной.
— А корсет для стройности фигуры носишь? Или боишься — на тебя войны не хватит? Фашисты вон сколько сил сосредоточили под Курском! Реванш за Сталинград хотят взять.
— За Сталинград у меня с ними особый счет.
— Много от тебя проку с твоей засупоненной спиной.
— Ну это еще посмотрим.
— И смотреть нечего. Утром доложу командиру. Хватит голову морочить: «Я чувствую себя отлично!» А ночью от боли зубами скрипит.
Заворочался еще один летчик, и Петрик замолчал. Его решительный тон обеспокоил Алексея. Петрик давно грозился доложить командиру, что по ночам он не спит — болят раны. Но раньше Петрик просто припугивал, а теперь предупреждал серьезно.
— Командир и без тебя отправляет в госпиталь на комиссию, — примирительно шепнул Алексей. — Сегодня — последний полет.
— Не сегодня, а вчера был, — отозвался Петрик.
— Послушай, Петря. Ты понимаешь — последний? Может быть, навсегда. Нашим эскулапам была б причина...
Петрик молчал.
— И потом — все, лечиться, — заверил Алексей. — Согласен?
Петрик не ответил. Значит, все в порядке. [134] Алексей сделал вид, что засыпает. А спина по-прежнему ныла. Да, больше ему летать не дадут. Командир полка подполковник Стародубов относился к Алексею с особой симпатией и вниманием, но и он, видно, догадывался о его недуге. Да и как не догадаться — Алексей на скелет стал похож. Вчера Стародубов предупредил, что в последний раз берет его на боевое задание.
Последний полет. Если бы командир знал, что значат эти полеты для Алексея! Если бы не летать, Алексей, наверное, не поднялся бы с постели. Только там, в небе, он забывал о боли.
После полетов Алексей иногда доставал кисти и краски и рисовал.
Ему часто вспоминался отец, высокий, широкоплечий, бесстрашный. Мать, провожая его в полеты, не раз говорила:
— Ты у меня самый сильный, самый лучший.
Лишь однажды она промолчала, провожая его в длительную командировку. Она долго смотрела в глаза отца, и лицо ее было печально. Поцеловала мужа долгим прощальным
поцелуем и подозвала Алексея. Отец старался быть веселым, но в глазах его тоже таилась грусть. Он хлопнул Алексея по плечу и сказал серьезно:
— Вернусь я, наверное, нескоро. Ты уже взрослый и будь умницей. Слушайся мать, учись старательно. Занимайся спортом.
Алексей и предположить не мог, что ото был их последний разговор. Разве мог он подумать, что его отца может кто-то победить в небе. На воздушном параде в Москве он крутил такие фигуры высшего пилотажа, которые не всем даже опытным летчикам были по плечу. Алексей во всем хотел быть похожим на отца.
В то памятное утро он встал после двухнедельного приступа малярии. Чувствовал себя лучше и взялся за краски. В изостудии был объявлен конкурс. Алексей решил написать картину уборки урожая. Недалеко от гарнизона, в соседнем селе, колхозники косили рожь. Алексей ходил в поле и делал наброски.
До открытия выставки оставалось пять дней. Соперники у Алексея были опытные, но руководитель изостудии Петр Ионыч хорошо отзывался о его картине.
Алексей заканчивал картину, когда в прихожей прозвучал звонок. Мать открыла дверь. Вошел военный. [135] Алексей знал всех летчиков из части, где служил отец, но этого раньше не видел.
Лицо матери сразу изменилось. Военный посматривал то на нее, то на Алексея, теребил в руках пилотку. Наконец мать немного успокоилась и предложила ему стул. Летчик сел. Не торопясь он стал рассказывать, что был вместе с отцом Алексея, Андреем Вербой, в последней командировке.
— Что с Андреем? — охрипшим голосом спросила мать.
Военный опустил глаза:
— Погиб Андрей.
Мать не заплакала, не схватилась за сердце или за голову, как делают многие в подобных случаях, она словно окаменела, сидела неподвижно, отрешенно глядя на человека, принесшего в дом тяжелое известие.
— Он был настоящим летчиком, — после небольшой паузы сказал военный. — Герой. Нас было трое. А их около тринадцати. Четырех мы сбили. Двух из них Андрей. Потом загорелся его самолет. Он выпрыгнул. Внизу были фашисты. Андрей отстреливался до последнего патрона. Живым в руки не дался. Об этом мы узнали от республиканцев и от пленного фашистского офицера.
Летчик рассказывал еще что-то, но Алексей понимал плохо. «Так вот куда уехал отец, — думал он. — Он сражался в Испании, а мы ничего не знали».
Когда летчик смолк, мать встала и пошла, шатаясь, в свою комнату. Лицо ее, молодое и красивое, осунулось в один миг.
Военный поднялся, достал из кармана гимнастерки конверт и протянул Алексею.
— Возьми. Это от отца.
Алексей разорвал конверт: там лежали фотографии матери и его и орден Красного Знамени.
Алексею казалось, что он видит страшный сон — незнакомого летчика, разом постаревшую мать, фотокарточки, орден... Разве так бывает в жизни?! Но орден был твердым и холодным, пальцы отчетливо ощущали его. Явь. Страшная, жестокая явь. Нет больше отца, самого любимого, самого дорогого человека...
Военный ушел. Мать лежала, уткнувшись лицом в подушку, не подавая признаков жизни. И Алексею стало жутко. Он стоял посередине комнаты, не зная, что делать. [136] Мать застонала. Алексей подошел к ней и обхватил за плечи.
— Не надо, мама, — попросил он умоляюще. — Никто даже не видел, как папа погиб...
Мать подняла голову, в ее глазах было такое отчаяние, что Алексей чуть но
разрыдался.
— Не надо, мама. Мы им отомстим. Я стану летчиком...
Мать покачала головой.
— Нет, — сказала она тихо, но непоколебимо. — Никогда!
И Алексей даже не подумал возразить.
Картину он в тот же день положил в чулан. Он злился на себя: не нашел ничего лучшего — рожь, лошадки, синее небо. А там, в этом синем небе, шла битва не на жизнь, а на смерть. Отец уехал в Испанию добровольно. Поехал бороться за свободу и счастье людей. Вот тема...
На другой день он снова взялся за кисти. Сюжет был продуман: в мутном от жары и гари небе кипит воздушный бой между краснозвездными и фашистскими самолетами. А на земле, приподняв голову и устремив взгляд в небо, лежал истекающий кровью русский летчик.
Алексей покажет летчика крупным планом, чтобы видны были потрескавшиеся от жажды губы, опаленное огнем лицо. Но главное глаза. В них люди должны прочитать и любовь к небу, и ненависть к врагам, и жажду победы...
...Поясница ныла нестерпимо, временами Алексей чуть ли не терял сознание. Он старался заглушить боль воспоминаниями.
...Небо еще не очистилось от звезд. Алексей, поеживаясь от утренней прохлады, стоит на дороге, поджидая автомашину. До аэроклубовского аэродрома более двадцати километров, и курсантов возят туда на машине. Обратно — сегодня Алексей летит первым и рано закончит полеты — он рассчитывает уехать на попутной. Надо готовиться к экзаменам. Последний год учебы и в художественном училище и в аэроклубе. Мать не знает, что он занялся этим рискованным делом. Зачем тревожить ее напрасно.
...Воскресенье. Улицы пустынны и тихи. Люди спят, сегодня им некуда торопиться. Подходит машина с крытым [137] кузовом. Доносятся веселые голоса. Алексея подхватывают несколько сильных рук. Курсанты шутят и смеются, не зная, какое горькое известие ожидает их на аэродроме.
Полеты в тот день не состоялись, хотя машины были расчехлены, моторы опробованы. Командир первого отряда капитан Сиволоб, низкорослый крепыш, построил весь летный и технический состав и отдал рапорт начальнику аэроклуба майору Ивашкину.
Товарищи, — глухо заговорил майор, — сегодня на рассвете на нашу страну напала Германия...
Война.
Фонтаны разрывов, пожары, люди с перекошенными от страха лицами, затянутое дымом небо, пикирующие самолеты с крестами на крыльях... «Год 1941». Так назвал он свою первую картину о войне.
...Аэродром. Чистое небо. Замерли в строю курсанты. Перед ними — высокий человек в темно-синей гимнастерке и таких же бриджах. Курсанты повторяют за командиром слова клятвы. «Клятва на верность Родине».
...Черное небо, иссеченное лучами прожекторов. В перекрестии — силуэт самолета и рядом разрывы. «Конец стервятника».
...Широкая река с длинной лентой понтонного моста, по которому, как черные жуки, ползут машины, танки, самоходки с крестами. А над ними — два краснозвездных самолета в крутом пике. Еще миг — и участь фашистов решена. «По переправе».
...Багряное небо. Один за другим, будто стая ворон перед ненастьем, кружатся самолеты. Желтые трассы тянутся от одного к другому. Один крестоносец уже закончил бой и с черным шлейфом несется к земле. «Схватка»...
Картины, картины, картины. Все, что Алексею доводилось видеть, он запечатлевал на полотне. Небо, самолеты. Самолеты, небо. Где бы Алексей ни был, он не расставался с кистью, рисовал и рисовал. Рисовал, когда после окончания аэроклуба вместе с товарищами учился в военном летном училище. Рисовал, когда летом 1942 года попал на фронт под Сталинград. Трудное было это время. Армады фашистских стервятников днем и ночью бомбили город, передний край наших войск. Советским истребителям приходилось делать по пять-шесть боевых вылетов в сутки. [138]
Молодых летчиков на задания пока не посылали, обучали их искусству боя над своим аэродромом. Алексей выкраивал свободные минуты и рисовал. Его картины висели в столовой, в штабе, в землянках. Командир полка майор Стародубов, служивший ранее под началом отца Алексея, благоволил к сыну командира, юному и застенчивому сержанту, способному художнику. Он создавал ему благоприятные условия для творчества и старался как можно меньше загружать служебными, кроме полетов, делами. А когда настало время лететь на боевое задание молодым, майор включил Алексея в резерв. Алексей запротестовал.
— Сержант Верба, в армии приказ командира не обсуждают, — отрезал майор.
— Но я в настоящее время военный летчик, а не художник. И в таком случае с сегодняшнего дня не возьму кисть в руки.
Стародубов понял, что характер у этого юноши отцовский. И он изменил тактику.
— Пойми, мне нужны резервные летчики. Успеешь, навоюешься еще.
— Что толку рисовать картины воздушных боев, надо самому участвовать в боях! — не сдавался Алексей.
Майор промолчал.
— Хорошо. Я сам проверю, чему ты научился в небе, и тогда приму решение...
Первым взлетел Алексей. Набрал высоту над аэродромом и увидел, как начал разбег
самолет командира. Алексею была дана полная инициатива атаковать из любого положения и на любом этапе, даже на взлете. Но сержант не пошел на это, решил драться на равных. С земли за ними наблюдали все, кто находился на аэродроме, и желание победить еще больше овладело Алексеем. Он выждал, когда истребитель командира достиг равной с ним высоты и пошел в атаку, в лобовую. Но Стародубов энергичным маневром уклонился и боевым разворотом продолжал набирать высоту. Алексей погнался за ним. Небольшой доворот, и хвост истребителя командира показался в прицеле. Но не успел Алексей поймать его в перекрестие, как самолет, сверкнув на солнце, перевернулся. И камнем понесся вниз.
Алексей был готов и к этому — он знал, что командир мастер на неожиданные маневры, и неотрывно следил за его самолетом.
Они носились друг за другом, то выписывая петли и [139] полупетли, то переходя на виражи и боевые развороты. От перегрузки у Алексея потемнело в глазах, но он еще настойчивее бросался в атаки, от которых Стародубов каждый раз уходил и атаковал сам. И тоже безуспешно.
Затем командир покачал крыльями. Бой закончен. Алексей еле сдерживал радость, когда шел получать замечания.
Лицо Стародубова было суровым, но блеск глаз выдавал, что он доволен.
— В общем, ничего. Готовься к заданию. Полетишь моим ведомым...
Они взлетели на рассвете двумя нарами — Стародубов с Алексеем и командир первой эскадрильи капитан Пронюшкин с лейтенантом Тенадзе. Все, кроме Алексея, опытные фронтовые летчики, имеющие боевой счет. Алексею было и страшно, и любопытно. Каким будет этот его первый, а может, и последний бой? Майор Стародубов любивший пошутить перед вылетом, в то утро был хмур и молчалив. Лишь перед тем, как сесть в кабину истребителя, подошел к Алексею и сказал с улыбкой:
— Ну вот, летим... за сюжетами для картин. Смотри, не отрывайся от меня.
Внизу показалась Волга, а за ней — затянутый дымом Сталинград. Издали он походил на извергающийся вулкан: то там, то здесь тянулись к небу клубы дыма с языками пламени и долго не гаснущими искрами. На высоте дым растекался и, перемешиваясь, образовывал грязные облака. Город горел, обстреливаемый и бомбардируемый днем и ночью.
Едва перелетели реку, Алексей заметил над облаками самолеты. Стародубов качнул крыльями и, продолжая набирать высоту, повел четверку к заходящим на бомбежку «юнкерсам». Их было много, около сотни. Шли плотным строем. Вокруг них вспыхивали шапки разрывов, по самолеты продолжали идти ровно, как на параде. и разрывы снарядов не причиняли им никакого вреда.
Расстояние между четверкой истребителей и «юнкерсами» быстро сокращалось. Алексей чувствовал, как напряглись нервы и замерло сердце.
Фашисты открыли огонь по истребителям. Но то ли было уже поздно, то ли Стародубов умело выбрал маневр, ни одна трасса не угодила в цель.
Вот уже отчетливо видны желтые концы крыльев вражеских самолетов, головы стрелков и летчиков. Стародубов [110] нацелился на ведущего группы. Алексей решил атаковать его правого ведомого и поймал силуэт в перекрестие. Уже можно было открывать огонь, но пулеметы командира молчали, и Алексей, держа палец на гашетке, ждал сигнала. Вдруг откуда-то сверху ударила очередь. Алексей мгновенно метнул туда взгляд и увидел несущегося наперерез командиру «мессершмитта». Он рванул на себя ручку управления, истребитель круто взмыл вверх. «Мессершмитт» шарахнулся в сторону. Но мимо Алексея пронесся второй фашист, и Алексей бросился за ним, чтобы не дать ему возможности атаковать командира.
Ведущий «юнкере» уже горел, а Стародубов боевым разворотом заходил на повторную атаку. «Мессершмитт» не отставал, выжидая удачного момента. Надо было помешать ему. Алексей поймал силуэт в перекрестие прицела. В это мгновение справа и слева сверкнули трассы. Сзади враг. Ручка управления от себя — и истребитель выйдет из-под удара. Но тогда впереди летящий «мессершмитт» откроет огонь по командиру. И Алексей нажал на
гашетку. Он видел, как кучно и точно пошли трассы его пулеметов, но что стало с фашистом, досмотреть не успел. Спину и ногу обожгло, в глазах поплыли желтые круги. Истребитель падал, переворачиваясь с крыла на крыло, будто ввинчиваясь в грязные облака, набегающие слой за слоем. Мотор работал с перебоями, то захлебываясь, то завывая от натуги.
Алексей отклонил ручку управления и педали против вращения. Истребитель стал медленно выравниваться. Мотор заработал ритмичнее. «Курс девяносто градусов, — словно сквозь сон неслись мысли. — Строго на восток. Перетянуть через Волгу, а там свои».
Мотор снова поперхнулся. Чтобы не потерять пространственное положение, Алексей стал пилотировать по приборам и только тут обнаружил, что многие из них не работают.
Грязные облака оборвались, и Алексей увидел внизу поле, вспаханное снарядами и бомбами. Город остался в стороне. Надо довернуть вправо. Каждое движение причиняло нестерпимую боль, сознание туманилось, глаза застилала темная пелена. Мотор окончательно заглох, и истребитель понесся к земле. В траншеях виднелись люди.
Свои или фашисты? Правый берег Волги пока еще наш...
Если бы заработал мотор. [141]
Но мотор молчал. Свистели лопасти, раскручиваемые встречным потоком, будто самолет испускал последнее дыхание. Силы у Алексея таяли, он отчетливо сознавал это. Хватит ли их, чтобы посадить самолет? Не потерять бы сознание. Надо сесть во что бы то ни стало. Впереди виднеется Волга. Тут должны быть наши. Только не расслабляться. Вот она, земля. Выключить зажигание, чтобы не вспыхнул самолет от удара. Ручку на себя. Еще, еще чуть-чуть. Конец...
Алексей не чувствовал и не слышал, как ударился истребитель о землю, как, разрезая винтом стерню и ломая крылья о брошенные отступившими войсками разбитые орудия, зарылся носом в бруствер разрушенной траншеи.
Сознание вернулось к нему спустя три часа, когда к истребителю, приземлившемуся на ничейной, простреливаемой с обеих сторон полосе, подошли наши танки. Усатый танкист открыл с трудом ломиком фонарь кабины, приложил к потрескавшимся губам Алексея флягу.
Алексей открыл глаза и долго не мог понять, где он и что с ним.
— Живой! — радостно крикнул усатый, и это слово дошло до сознания Алексея. Ему вспомнился тонкий силуэт «мессершмитта», желтые сверкнувшие как молнии трассы. Все стало ясно. «Живой!» Он хотел подняться, выйти из кабины, но не мог пошевелиться; не чувствовал ни рук, ни ног. Их словно не было.
Танкист отстегнул привязные ремни, лямки парашюта и поднял его. В глазах у Алексея все закачалось и поплыло, унося его в черную бездну.
Очнулся Алексей в полевом госпитале. Рядом стонал тяжело раненный солдат. Слышалась канонада. Поблизости гремел бой. Между кроватями сновала молодая девушка в белом халате.
— Пить, — попросил Алексей и не узнал своего голоса. Девушка подошла к нему.
— Ну вот, — сказала она ласково, — все хорошо.
Она приподняла голову Алексея и влила в рот из чайной ложечки какую-то ароматную жидкость. И вновь затишье.
Алексея разбудили негромкие знакомые голоса.
— Да, да, это он, Алеша Верба, мой замечательный мальчик, — взволнованно говорил Стародубов. — Живой. [142] А я-то посчитал... Когда утром позвонили, не поверил, что жив. Ну как он?
— Раны тяжелые, — ответила медицинская сестра. — Задет позвоночник, раздроблена кость ноги.
— Надо немедленно отправить его в тыл. — Стародубов вдруг увидел, что Алексей открыл глаза, и рванулся к нему:
— Алеша!
— Я предупреждала вас, — медсестра подошла к майору. — Ему нельзя разговаривать.
— Хорошо, хорошо. Только два слова, — упрашивал Стародубов. — Поправляйся, Алеша!
Сестра бесцеремонно взяла майора за руку и повела к выходу.
— Сегодня же надо отправить его в тыл! — сказал Стародубов.
Ночью раненых, в том числе и Алексея, доставили на баржу. Небольшой буксир потянул баржу к левому берегу. Ночь была по-осеннему прохладная и темная, небо густо усеяно звездами.
Баржа была уже на середине реки, когда послышался гул самолета. Раненые, уложенные плотно друг к другу, заволновались, а те, кто мог двигаться, подняли головы.
Алексей провел рукой по груди и наткнулся на гипс, обручем сковывающий тело. Правая нога тоже была в гипсе. Поверху бинт. Запеленован, как новорожденный.
Гул самолета приближался. А когда загорелась светящая бомба, раненые поползли к бортам. На месте остались лишь те, кто не мог двигаться.
С берега и с кораблей ударили зенитки. Светящая бомба висела над самой баржей.
Первый фонтан воды вздыбился правее баржи, обдав раненых градом брызг и осколков. Несколько человек, находившихся у борта, свалились в пучину.
Алексей скатился со своей постели в воду и уцепился за какое-то бревно руками. В ушах гудело. Рев самолета, разрывы бомб, стрельба зениток, крики утопающих все слилось в один адский, сводящий с ума гул.
...Утром его подобрали на берегу бойцы. Судьба уготовила ему жестокое испытание. Алексей почти полгода пролежал неподвижно в госпитальной палате. Врачи сделали все возможное, чтобы поднять его на ноги. Вначале он ходил на костылях, затем с палочкой, а потом забросил и ее. Правда, поясницу теперь вместо гипса стягивал [143] корсет. Но он надеялся, что вскоре избавится и от него Алексей просил быстрее выписать его из госпиталя. Врачи же после тщательного осмотра направили его на курортно-санаторное лечение в Пятигорск.
...Весеннее солнце, воздух напоен лопающимися почками тополей.
Он пробыл у матери два дня. Эти дни остались у него в памяти навсегда.
Мать отпросилась с завода и ни на час не оставляла его. Они бродили по улицам города, смотрели кино. Алексей видел, с какой пристальностью мать наблюдает за ним, как по ночам прислушивается к его дыханию. Он делал вид, что чувствует себя отлично, спит спокойно, хотя рана в пояснице давала о себе знать, особенно по ночам.
Но как ни старались они оттянуть разговор, избежать его было невозможно, и на третий день, когда мать должна была идти на работу, Алексей сказал:
— Я должен уехать, мама.
Лицо ее побледнело. Она подошла к сыну и, как бывало в детстве, прислонилась губами ко лбу: — Ты ночью стонал...
— Сон приснился.
— А как... раны? — Она с трудом выдавила из себя это слово и замерла.
Алексей никогда не говорил матери неправды, а сейчас молчал, не зная, что ответить.
— А это, — мать прикоснулась рукой к корсету, — долго еще носить?
Он всячески скрывал от нее, а она, оказывается, знала.
— Надо лечиться, — сказал Алексей. — Мне дали направление в санаторий. Ты не расстраивайся, я чувствую себя хорошо.
Мать погладила его ежик и улыбнулась:
— Я не расстраиваюсь. Я рада, что ты поедешь лечиться.
Мать не плакала, провожая сына, смотрела ему в лицо с улыбкой, а глаза были грустные, как в тот день, когда провожала отца. Такой и запомнилась она ему — худенькой, уставшей от переживаний, седоволосой.
Пятигорск встретил Алексея жарким солнцем, благоухающими деревьями и все тем же специфическим запахом лекарств. Всюду на улицах были раненые. Одни ходили [144] на костылях, других возили на колясках, третьих носили на носилках. Алексей по сравнению с ними выглядел хорошо, и ему, молодому, было стыдно сидеть рядом с инвалидами. На третий день он пришел к лечащему врачу и попросил выписать его.
И вот он снова в своей родной части. Подполковник Стародубов — его повысили в звании — искренне обрадовался Алексею и обнял его громадными ручищами. Потом отстранил, осмотрел с ног до головы, пробасил удовлетворенно:
— Молодцом. Вовремя прибыл. Погоны эти сними, тебе присвоено офицерское звание. Младший лейтенант. А еще... Мы тут такие самолеты получаем!..
Полк переучивался на новые прекрасные истребители Ла-5, и Алексей вместе со всеми стал изучать конструкцию самолета, двигателя.
Не забывал Алексей и живопись. Летчики сохранили все его картины, краски, кисти, а Петя Петрик припас большие куски перкаля, которые Алексей использовал вместо холста. Он делал наброски, этюды. Но сесть за большое полотно мешала спина.
На фронте стояло затишье. Затишье перед грозой. Стародубов снова зачислил Алексея своим ведомым, однако, когда получил задачу разведать фашистский аэродром, сказал ему:
— Пока не получу на тебя документы, на боевое задание посылать не имею права.
— Не доверяете?
— Чепуху несешь, — рассердился Стародубов. — Ты что, порядка не знаешь?
— Я помню первый боевой вылет.
Командир помолчал.
— Хорошо, на разведку возьму. Только на разведку...
Они летели бреющим над зелеными, заросшими бурьяном и пыреем полями, над изумрудным лесом. Дорог и городов на пути встречалось мало — так был выбран маршрут, — и обстреливали их редко. Но там, где попадались Дороги и населенные пункты, виднелись колонны машин, танков, войска. Фашисты сосредоточивали на курском направлении свои силы. Нередко выше их на встречных курсах пролетали группы вражеских бомбардировщиков в сопровождении истребителей.
Через полчаса разведчики повернули на юг и стали набирать высоту. Прошло еще десять минут, Алексей поднял [145] планшет. Под ними должен быть аэродром. Но никаких признаков. Большое ровное поле, окаймленное с двух сторон лесом, а посередине — озеро. То там, то здесь виднеются прошлогодние стога. И ни единой души.
Алексей сличил карту с местностью. На карте никакого озера не значилось. Когда оно успело здесь появиться? Может быть, упустили топографы или озеро сооружено перед войной до съемки карт? Какое-то оно слишком голубое и спокойное. Небо тоже голубое и чистое. И все же озеро чем-то Алексею не нравилось.
Стародубов отвернул влево, затем вправо и со снижением пошел над опушкой леса. Но за густой листвой ничего не было видно.
— По всем данным должен быть здесь, — сказал он по радио.
— Озеро подозрительное, — ответил Алексей. Командир вдруг круто развернул истребитель и спикировал на озеро. Сверкнула трасса и потонула в зеркальной глади. И ни малейшего всплеска, ни единого белого бурунчика, словно командир стрелял холостыми.
— Ах, гады! — выругался Стародубов. — Здорово запрятали. Внимательнее просматривай лес.
Не успел он досказать, как ударили зенитки, и в небе густо повисли шапки разрывов. Подполковник, энергично маневрируя, повел Алексея вдоль опушки:
— Включай аппарат.
Они еще раз прошли над озером, фотографируя замаскированный аэродром, а когда взяли курс домой, Алексей увидел взлетающих «мессершмиттов». Фашисты решили, видимо, не дать им уйти с цепными сведениями.
— Командир, преследуют. Четыре.
— Жаль нет времени пригвоздить их, — весело ответил Стародубов. — Но ничего, мы еще встретимся.
Они взяли курс напрямую к линии фронта, и теперь им чаще попадались фашистские войска и техника, чаще и интенсивнее их обстреливали. Алексей делал пометки на карте, засекая все, что представляло интерес для командования.
Внезапно впереди показалась группа фашистских истребителей. Алексей насчитал восемь. «Мессершмитты» новой модификации. Видимо, их подняли с близлежащего аэродрома, чтобы не упустить разведчиков.
Восемь против двух. «Мессершмитты» имели преимущество по высоте. Их, по всей вероятности, наводили с [146] земли. Избежать боя было невозможно: фашисты уже рассредоточились и устремились в атаку.
— Не отрывайся от меня, — коротко приказал Стародубов и понесся «мессершмиттам» навстречу. Расстояние между самолетами стремительно сокращалось. Шли лоб в лоб.
Фашисты первыми открыли огонь, с большой дистанции, и трассы прошли мимо. Первая пара тут же сделала отворот, давая возможность атаковать второй. Фашистские летчики были не новички в бою, и Алексей понял, что отделаться от них будет не так-то просто.
Он не ошибся. На фюзеляже разворачивающегося «мессершмитта» он увидел измалеванного дракона. Эмблема, которую имели асы.
Алексей до отказа послал рычаг газа вперед, подтягиваясь к командиру, чтобы ударить вместе. Но истребитель Стародубова еще круче пошел в набор высоты. Теперь командир сам уклонялся от лобовой атаки со второй парой. Что он задумал? Алексей не ожидал этого, хотя был готов к любому неожиданному маневру командира. Тем более не ожидали такого трюка фашистские летчики.
Истребитель Стародубова задирал нос. Вот он лег на спину, Алексеи не отставал. Еще секунда, и «лавочкины», сделав полупереворот в верхней точке, оказались в хвосте у первой пары «мессершмиттов». Командир рванулся к ведущему. «Дракона» предупредили, и он скользнул вниз вправо. Алексей был тут как тут. Дробно застучали пушки. От «дракона» тут же пыхнул дымок, как от прикуренной папиросы, и «мессершмитт» рухнул на землю. Алексей не верил своим глазам: все произошло так просто.
— Сзади! — крикнул Стародубов, и Алексей среагировал мгновенно, резко послав рули управления влево. Рядом прочертила длинная бледно-желтая трасса.
Стародубов снова повел Алексея на вертикаль. Фашистские летчики явно проигрывали в этом маневре. Потеряв командира, они беспорядочно закружили. Лишь одна пара попыталась было преследовать «лавочкиных», но вскоре отстала и тоже перешла на горизонталь.
Теперь можно было уходить. Но Стародубов скомандовал: «Петля!» — и направил истребитель к ближайшей паре, которая преследовала их и находилась выше других и ближе. Защитить ее было некому. Фашисты поняли это, поспешили под защиту своих, но оказалось слишком поздно. [147]
Стародубов и Алексей нагнали их и ударили из всех пушек. Еще два факела потянулись к земле. Советские летчики вышли из атаки и взяли курс на восток. Больше их не преследовали.
На аэродроме Стародубов обнял Алексея.
— Молодец!
— А вы не хотели брать.
— Не хотел, — согласился подполковник и категорически подтвердил: — И больше не возьму. Поедешь в дивизию, на комиссию. Пусть врачи заключение дадут.
Но отправлять Алексея он по торопился, видимо, догадываясь, какой приговор вынесут врачи. Он понимал, что ото для летчика значит. Он уступил просьбам Алексея и во второй раз, и в третий. Правда, брал его на менее опасные задания.
Однажды они вылетели встречать командующего армией, направлявшегося к ним на аэродром на своем тихоходном По-2. Пристроились к нему и стали петлять и хвосте, гася скорость. Недалеко от аэродрома они увидели, как наш «лавочкин» отбивался от четырех «фокке-вульфов», размалеванных всевозможными устрашающими знаками. На хвосте одного был пиковый туз. Алексей уже слышал о них: это фашистские асы, переброшенные с Запада.
Стародубов и Алексей поспешили товарищу на помощь. Бой был скоротечен. Два «фокке-вульфа» вошли в пике и не вышли, два других пустились наутек.
На аэродроме они узнали, что «фокке-вульфы» напали на пару «лавочкиных», возвращавшихся с задания, и «пиковый туз» сбил капитана Селезенкина, командира эскадрильи.
А на другой день «пиковый туз» подстерег лейтенанта Мишкина.
...Команда «Подъем». Летчики быстро соскакивали с нар, одевались и подшучивали друг над другом, словно собирались не в бой, а на свидание.
— Ну и как? — спросил у Алексея Петрик, испытующе заглядывая ему в глаза.
— Полный порядок, — Алексей для убедительности поднял большой палец.
— Ну-ну, — неопределенно заключил неприятный разговор Петрик. [148]
В столовую они шли вместе. Боль не утихала, и Алексей чувствовал себя разбитым и измученным. Голова была тяжелой, хотелось спать. А спина ныла и ныла. Скорее бы в небо!
Алексей насильно жевал котлету, чтобы не дать нового повода Петрику для душеспасительного разговора, глотал через силу и ждал с нетерпением вылета. Там, в небе, боль утихнет...
Их построили, едва на востоке обозначился рассвет.
— Товарищи! — сказал Стародубов сурово и торжественно. — Сегодня начинается еще одно крупнейшее сражение...
После построения Стародубов подозвал Алексея.
— Вид мне твой не нравится. Худеешь, будто не кормят. Не пора ль на медкомиссию?
— Еще один, товарищ подполковник, — умоляюще попросил Алексей. — Сегодня такой день!
— Ловлю на слове — еще один. Последний. Завтра — в госпиталь. Без напоминаний.
Ясно?
— Так точно!
Первыми поднялись штурмовики. Им предстояло нанести удар по наступающим фашистским войскам. За ними — истребители. Для охранения. Два полка. А с соседнего аэродрома взлетели еще два. Алексей впервые видел столько своих самолетов в небе, и на душе у него стало легко и радостно, боль в пояснице унялась.
Чем ближе подлетали к фронту, тем теснее становилось в небе. На разных высотах шли на запад штурмовики и истребители, бомбардировщики и транспортные самолеты.
А земля казалась кишащим муравейником, и трудно было разобраться, где кончаются наши позиции и начинаются фашистские. Все двигалось, дымилось, рушилось...
В небе заполыхали разрывы. Штурмовики круто пошли вниз. Алексей посмотрел вперед и сквозь мутную пелену различил колонну танков. Разрывов бомб он не успел увидеть.
В наушниках шлемофона прозвучало:
— Приготовиться к атаке!
Навстречу им неслись тонкие куцехвостые «мессершмитты». Их тоже было много. Слева и справа, вверху и внизу. Одна группа «мессершмиттов» заметила штурмовиков и устремилась к ним. Стародубов бросился наперерез. А верхний клин стервятников уже пикировал на «лавочкиных». [149]
И закружились самолеты в смертельной карусели, гоняясь друг за другом, пронзая друг друга молниями очередей. Там задымил «мессершмитт», тут вспыхнул «ильюшин», там упал «юнкере», тут не вышел из пике «лавочкин». Небо гудело и стонало от взрывов, раскалывалось вдоль и поперек огненными молниями.
Алексей внимательно следил за машиной командира и отгонял огнем рвущихся к ней «мессершмиттов» и «фокке-вульфов». Стародубов атаковывал стремительно,
неожиданными дерзкими приемами. Два стервятника уже догорали на курской земле от его метких очередей.
Алексей не торопился нажимать на гашетку, пока не убеждался, что прицелился точно, стрелял короткими очередями, экономя снаряды, и удивлялся своему спокойствию.
Бой закончился внезапно командой Стародубова: «Пристраивайтесь в правый пеленг!» Алексей посмотрел вокруг и не увидел ни одного «мессера». Лишь выше плотным красивым строем шли на запад двухмоторные двухкилевые «петляковы», сопровождаемые «Яковлевыми». А внизу, став в круг, собирались «ильюшины».
Под ними над землей стлался дым. Словно там зажжены тысячи костров. Горели танки, машины, штурмовые орудия...
Алексей смотрел широко открытыми глазами: сколько раз он бывал в подобных воздушных схватках, наблюдал нечто похожее, но совсем не такое. Особенно необычным было небо — суровым, величественным, наполнявшим все его существо силой и торжеством, боевым вдохновением. «Чтобы изобразить предмет во всей его прелести, надо познать его. Познать глубоко, основательно», — вспомнились слова старого учителя живописи Петра Ионыча. Да, учитель был прав. Вот она та картина, которую Алексей столько искал.
ШЕВРЕТОВЫЕ ПЕРЧАТКИ
Подполковник Кедров составлял плановую таблицу предстоящих полетов. В это время в кабинет вошел лейтенант Виноградский и доложил, что прибыл в его распоряжение для дальнейшего прохождения службы. Комэск отложил [150] таблицу и пристальным взглядом окинул с ног до головы своего нового второго пилота.
Лейтенант стоял навытяжку, высокий и тонкий, с худощавым, бледным лицом; костюм без единой морщинки, на руках шевретовые перчатки.
Кедров недовольно поморщился и мысленно ругнул себя за ту минутную слабость, когда согласился взять в экипаж этого белоручку. Сам он был широкоплеч и кряжист, несмотря на свои сорок пять лет, крутил на турнике «солнце», занимался рыбалкой, собирал грибы, охотился и отпуск зачастую проводил в походах. И людей он любил сильных и здоровых. А перед ним стоял бледнолицый голубоглазый пижон в перчатках да еще с длинной гривой.
— Значит, ко мне в экипаж. — Подполковник помолчал. — Что ж, полетаем. Только в эскадрилье у меня военные летчики и порядок военный. — Он снова помолчал. — Прошу привести себя в надлежащий вид. Без всяких этих... средневековых причесок. Ясно?
Лицо лейтенанта вспыхнуло, он потупил взгляд и глухо выдавил:
— Разрешите идти?
— Идите.
Впервые лейтенанта Виноградского Кедров увидел год назад во второй эскадрилье, куда подполковник пришел потренироваться на тренажере. В кабине сидел вот этот лейтенант, включал и выключал тумблеры. На руках у него были перчатки.
— Что это? — спросил Кедров у майора Петрова, командира второй, в экипаж которого попал вначале Виноградский.
— А ну его, — махнул рукой Петров. — Нежность кожи бережет.
— А ты возьми его с нами в поход, — посоветовал Кедров. — «Шелуха» быстро с него слетит.
В первый же выходной Петров пригласил Виноградского в дальний поход. Лейтенант, не подозревая подвоха, сразу согласился.
Они вышли втроем на рассвете. Воздух за ночь почти не остыл, было душно и парило, как перед грозой. Петров нагрузил своего помощника тяжелым рюкзаком, а сам шел налегке, перекладывая с плеча на плечо двустволку. Виноградский быстро вспотел, на тонкой длинной шее учащенно запульсировала напрягшаяся вена... [151]
Потом Петров таскал за собой Впноградского повсюду: и на охоту, и на рыбалку. Но, как командиры ни старались, «шелуха» сидела в подчиненном крепко: Виноградский не расставался с перчатками, всегда носил в рюкзаке белоснежное полотенце, мыло и перед едой долго и тщательно мыл руки.
На последней рыбалке он просто поразил всех. Петров поймал большого сазана, так заглотившего крючок, что отцепить его пальцами было почти невозможно. Петров, не долго думая, достал нож и, засунув его в рот рыбе, располосовал жабры до самого крючка. Густая кровь, обильно хлынула по его руке и брюху рыбины. Виноградский вдруг побледнел и сказал с надрывом:
— Ну зачем же вы так! — Бросил удочки и пошел вдоль берега.
Петров вначале опешил, а потом сунул сазана в садок и сказал уверенно:
— Не выйдет из него военного летчика. На землю надо переводить, на КП как раз штурман требуется.
А спустя час, когда Кедров, набрав валежника для костра, вернулся к Петрову и Виноградскому, сразу понял: майор объявил лейтенанту о своем решении. Виноградский сидел сгорбленный, будто его чем-то придавило.
— Ты что, заболел? — спросил Кедров. Виноградский поднял на подполковника голубые затуманенные слезами глаза, и Кедров чуть не вздрогнул — такими знакомыми они показались ему в этот миг...
В мае сорок четвертого, когда наши войска готовились к освобождению Белоруссии, в одном из боевых вылетов бомбардировщик Кедрова был подбит. Летчик вел горящую машину к линии фронта сколько мог, пока не загорелась на нем одежда. Штурман и стрелок-радист выпрыгнули раньше, теперь настала его очередь. Приземлился Кедров в лесу и, когда освободился от лямок зависшего на дереве парашюта, при падении сломал ногу. Вначале у него хватало еще сил идти, потом он полз, а на другой день не мог даже пошевелиться: нога распухла и при малейшем движении причиняла страшную боль. Три дня пролежал он под деревом, теряя сознание и приходя в себя. На четвертый, потеряв всякую надежду на избавление от мук, он достал пистолет. И чудо свершилось: его окликнул звонкий мальчишеский голос. Это был Василек, партизанский разведчик.
В партизанском отряде Кедров пробыл около двух месяцев, [152] и, как только смог ходить, Василек повел его через линию фронта.
Худенький, с веснушками около задиристо вздернутого носа, паренек оказался исключительно смышленым и смелым. Он вел по ночам Кедрова тропинками и дорогами с такой уверенностью, будто ежедневно совершал здесь прогулки, а его голубые глаза пронзали темноту, как локаторы, и видели далеко окрест. Днем, когда Кедров отлеживался в
кустах, Василек уходил в разведку и приносил яз сел сведения о фашистах и что-нибудь поесть. Потом начинал донимать летчика вопросами о самолетах, о воздушных боях и обо всем, что касалось полетов.
Кедров понимал любопытство мальчика и не раз говорил ему:
— Подожди, вот кончится война, подрастешь и тоже станешь летчиком. А теперь —
спать.
Мальчик закрывал глаза и засыпал с мечтательной улыбкой на пухлых, совсем еще детских губах.
К исходу третьей ночи они преодолели последний самый трудный и самый опасный рубеж — неширокую речушку, простреливаемую с обеих сторон немецкими и нашими войсками. Вода была холодная, и у Кедрова сразу же застучали зубы. А Василек легко и бесшумно преодолевал быстрое течение, не обращая внимания на холод. Когда вспыхивали осветительные ракеты, они ныряли и были под водой, пока хватало сил.
Наконец достигли противоположного берега и залегли в глубокой воронке. У Кедрова от холода зуб на зуб не попадал.
— Надо ползти, согреемся, — шепнул он Васильку.
— Нельзя, — так же шепотом ответил Василек. — Тут мины. Скоро начнет светать...
Эти минуты показались Кедрову вечностью. Больную ногу сводила судорога, и он
скрипел от боли зубами.
Изредка то с нашей, то с немецкой стороны раздавались выстрелы. Огненные пунктиры прочерчивали над рекой дуги.
Звезды поблекли. Василек дернул Кедрова за рукав и пополз вперед. Берег был некрутой, но высокий, и они ползли долго. Когда добрались до кустарника, небо совсем посветлело.
— Теперь мы у своих, — сказал Василек и поднялся, с трудом распрямляя затекшие
ноги.
Где-то негромко, точно щелкнул кнут пастуха, раздался [153] одиночный выстрел. Василек схватился за грудь и стал оседать. Кедров машинально подхватил его, не желая верить в случившееся. Василек смотрел на него удивленными широко раскрытыми голубыми глазами, которые быстро застилал туман. Вдруг длинные ресницы вздрогнули и закрылись. Светлая слеза все же просочилась сквозь них и покатилась по бледной худой щеке.
Кедров увидел рану: кровавое пятно на груди быстро расплывалось по рубашке. Летчик опустил мальчика на землю, достал мокрый бинт и торопливо стал перевязывать рану. Василек не подавал признаков жизни. Кедров поднял его и, не думая ни о минах, ни о фашистском снайпере, понес в глубь кустов. Он сделал сотню шагов, его окрикнул властный голос:
— Стой, кто идет?!
Это были свои.
Василька сразу же отправили в лазарет. Потом, когда Кедров вернулся в часть и попытался справиться о здоровье Василька, из лазарета ему сообщили, что мальчика отправили в тыл, в госпиталь. В какой именно, не сказали, и куда потом Кедров не писал, отовсюду приходил неутешительный ответ, мальчик четырнадцати лет, по имени Вася
(фамилию Кедров не знал) в госпитале на излечении не находится. Видимо, он умер в дороге.
Воспоминание о Васильке разбередило душу Кедрова, и когда Виноградский снова поднял на него взгляд и тихо, умоляюще попросил взять к себе в экипаж (он знал, что правый летчик Кедрова уехал на учебу), подполковник сказал: «Хорошо».
Теперь Кедров раскаивался в своем решении. Он — командир эскадрильи, его экипаж должен быть примером для других, слаженным, как часы, сильным. Второй летчик... Ведь он в экипаже — заместитель командира, его правая рука. При необходимости он должен взять управление самолетом и экипажем на себя. А какой из Виноградского заместитель, летчик, когда он от рыбьей крови побледнел. Нет, видно, прав Петров, не каждому дано быть орлом: ведь дело вовсе не в умении пилотировать. Все дело в характере: какова в тебе военная закваска, сила воли?
«Ну что ж, — успокоил себя Кедров, — слетаю разок, другой, а там видно будет. Повод списать всегда найдется».
Виноградский вернулся через полчаса и доложил, что [154] приказание выполнил. Когда он снял фуражку, Кедров пожалел об отданном сгоряча приказании: вместо красивей волнистой прически на голове лейтенанта торчал короткий ежик, будто прошлогодняя стерня, отчего лицо казалось еще более худым и печальным.
— Хорошо, — сухо сказал подполковник. — Завтра пойдем по маршруту. Подготовьте карту. Задание штурман объяснит.
...Утро было погожее, чистое голубое небо. Лишь у горизонта, где собиралось взойти солнце, выстроились пурпурные облака. «Предвестники грозы, — отметил Кедров. — Болтанка будет». И ему снова, в который уже раз за это утро, вспомнился Виноградский. Его голубые глаза будто преследовали Кедрова, а испорченная прическа была укором совести.
Недалеко от командного пункта Кедрова нагнал майор Петров.
— Привет старой гвардии, — поздоровался он. — «Чем опечален, друг мой верный? Открой терзания свои», — продекламировал он и, не дожидаясь ответа, весело рассмеялся.
Кедров ничего не ответил и прибавил шаг.
На стоянке работа шла полным ходом. Самолеты были расчехлены, заправлены топливом. Виноградский помогал технику протирать стекла кабины. Увидев командира, он бросил тряпку и, приложив лихо руку к фуражке, отдал рапорт. В глаза Кедрову бросились не снятые с рук шевретовые перчатки. «А я еще пожалел его, — снова мысленно ругнул себя Кедров. — Нет, не та нынче молодежь пошла. Боится руки запачкать». И злость на себя еще больше взвинтила ему нервы, но он сдержался, дал команду «Вольно» и спросил строго:
— Осмотрели самолет?
— Так точно! Все в порядке, за исключением того, что в кабине лишний предмет. Что еще за предмет?
— Кислородный баллон.
— А-а, — вспомнил Кедров. Два дня назад он этот баллон взял на соседнем аэродроме со списанного самолета для акваланга. — Пусть лежит, после полета заберу. — И полез в кабину.
Виноградский пилотировал в перчатках, и они мозолили глаза Кедрову, не давая сосредоточить мысли на другом. [155]
— Вы бы сняли перчатки, — не выдержал Кедров, стараясь говорить как можно спокойнее. — Штурвал будете чувствовать лучше.
— Ничего, — ответил лейтенант. — Я привык. Ведь так по инструкции положено.
— Ну, ну, — усмехнулся Кедров и подумал: «Ко всему он еще и буквоед. Когда эта инструкция написана. Теперь ни один летчик не надевает перчаток: в кабине тепло и уютно — комфорт».
Вокруг самолета заклубились серые облака, и его стало бросать, как на ухабах. Началась болтанка. Кедров глянул на лейтенанта. Лицо Виноградского сосредоточилось, руки вцепились в штурвал так, что перчатки натянулись, как на барабане. Ему было нелегко, в облаках он почти не летал, но Кедров не взял штурвала: «Пусть учится, попыхтит, на то он и военный летчик».
Вскоре облака расступились, и бомбардировщик пошел между ними, как в ущелье, залитом солнцем. Слева они стояли белоснежной высокой стеной, а справа вздымались гигантскими башнями с круглыми, как церковные купола, вершинами. Кедров зачарованно смотрел на такую редкостную красоту: сколько не летай — но привыкнуть к ней невозможно.
— Командир, справа гроза, — доложил штурман. Кедров посмотрел на Виноградского. Лицо летчика показалось ему побледневшим, глаза поблескивали. «Да, пожалуй не из храброго десятка, — подумал подполковник. — И такой летчик у командира эскадрильи. А если завтра в бой?»
— Командир, гроза по курсу, — прервал мысли Кедрова штурман. — Дальность пятьдесят.
Кедров нажал на кнопку микрофона.
— «Волна», я сто третий, разрешите набрать высоту, болтает сильно.
— Сто третий, запрещаю менять эшелон, — ответив земля. — Выше вас идут самолеты.
Кедров думал. Возвращаться, не выполнив задание ему не хотелось. Но не лезть же в грозовое облако! Он ждал, наблюдая за лицом Виноградского. О чем думает лейтенант, хватит ли у него выдержки, чтобы не попросить разрешения развернуться обратно?.. Вот так держали курс летчики во время войны, когда впереди громыхали разрывы снарядов. Кедрову тогда было двадцать, как [156] теперь Виноградскому. А Васильку четырнадцать. Теперь бы ему было за тридцать...
— Дальность тридцать, — напомнил штурман.
— Будем обходить? — спросил, не поворачивая головы, летчик, и его спокойный голос понравился Кедрову.
— Да, — твердо сказал подполковник. — Возьми влево. «Это тебе будет экзамен, — неожиданно к нему пришло решение, — Ты выбрал его сам».
Бомбардировщик окутался облаками, и его стало швырять, как щепку в бурном потоке.
Не лучше ли вернуться? — предложил штурман.
— Вернуться? — насмешливо переспросил Кедров. — А как думает мой помощник?
Виноградский пожал плечами.
— Слово нехорошее «вернуться».
— Слышишь, штурман? Лейтенанту не правится это слово. Я тоже не люблю его. Смотри внимательнее на индикатор. Фронт не сплошной.
Болтанка усиливалась с каждой секундой. Ослепительно-белые облака превратились в непроглядно-сизые, в кабине потемнело. Штурман часто давал новый курс, но болтанка не прекращалась.
— Командир, надо вернуться, — более категорично потребовал штурман. — Грозы впереди повсюду.
Кедров еще раз глянул на Виноградского. Бледности на лице лейтенанта он не заметил, глаза, правда, поблескивали, но не тревожно, как показалось ему раньше, а азартно, как у молодого охотника, которого впервые взяли на хищного зверя. Вот так загорались глаза Василька, когда Кедров начинал рассказывать ему о воздушных боях.
Кедров сознавал, что испытывать судьбу дальше небезопасно и приказал летчику возвращаться.
Справа полыхнула молния. В наушниках так треснуло, будто рядом разорвался снаряд. Кедров на секунду ослеп и оглох. Он не видел ни Виноградского, ни приборную доску. Руки инстинктивно схватились за штурвал.
Первое, что прорезалось из темноты, это отблески на Приборной доске. «Пожар!» — мелькнула мысль. Взгляд метнулся в форточку, к двигателям, и от сердца отлегло: Вспышки давали наэлектризованные концы крыльев, с которых то и дело срывались огненные хвосты. [157] Кедров увеличил крен самолета, стараясь быстрее выбраться из этого облака.
Новая вспышка была еще сильнее, и бомбардировщик провалился вниз. Сзади что-то загремело. Кедров обернулся и увидел кислородный баллон. Он катался по кабине сзади сидений, угрожая приборам гидросистемы. Командир дал знак летчику, и Виноградский, отстегнув привязные ремни, полез к баллону. Самолет снова швырнуло. Не ожидавший этого Виноградский ударился головой о бронеспинку и рухнул в проходе. И Кедров ничем не мог ему помочь: штурвал нельзя было выпускать из рук ни на секунду.
Командир решил вызвать штурмана. Но Виноградский приподнялся и, взяв баллон, пополз в конец кабины. Прикрепил его куском провода к кронштейну и вернулся на свое место. Кедров глянул на лейтенанта и увидел на его лице кровь.
— Чепуха, — сказал Виноградский, опережая вопрос командира.
Достал платочек и засунул под шлемофон, где была рана. Бомбардировщик наконец вырвался из облаков. В кабине сразу посветлело, болтанка уменьшилась.
Кедров сажал самолет с особой осторожностью. Колеса почти неслышно коснулись бетонки. Едва они зарулили на стоянку, Кедров достал из бортовой аптечки бинт и стал бережно перевязывать еще более побледневшее лицо лейтенанта. Виноградский пытался было возражать, по Кедров властно прикрикнул:
— Сиди!
Бинтовал он долго и неумело, потом разорвал бинт и неразмотанный кусок протянул Виноградскому:
— Подержи!
Лейтенант подставил руку, но увидел, что перчатка в крови, быстро стянул ее. Взгляд Кедрова застыл на ладони правого летчика. Кожа на ней была тонкая, как папиросная бумага, исполосованная розоватыми рубцами. Кедров знал, отчего бывает такая кожа. Сильный ожог. Ему стало все ясно. И только теперь он вспомнил, где видел это лицо. Три
года назад в одной из газет был напечатан портрет курсанта и рассказ о мужестве будущего летчика, проявившего выдержку и находчивость в полет во время пожара в кабине самолета. Теперь только Кедров вспомнил: это был портрет Виноградского.
Кедров завязал узел и, опустившись на свое место, [158] стал смотреть вдаль, за аэродром, где начинался лес, о чем-то задумавшись. Потом повернулся к Виноградскому, сказал ласково:
— Василек ты мой, Василек!
Тайфун
Антонина Андреевна сквозь сон слышала какое-то странное рычание, сменяющееся воем, и никак не могла понять, что это за звуки. А когда проснулась, то сердце ее замерло от ужаса. Деревянный домик шатался и скрипел, будто кто бесновался в страшной злобе и пытался его опрокинуть. Даже под одеялом было холодно, шквальный ветер, казалось, проникал сквозь стены и свободно разгуливал по комнате. «Тайфун!» — точно молния мелькнула мысль.
У Антонины Андреевны пробежали по телу мурашки, гона хотела было разбудить мужа, но, вспомнив, что вчера он со службы пришел усталый до изнеможения, преодолела страх и бесшумно поднялась с постели. Накрыла вторым одеялом Аленку.
Вчера муж весь день работал на аэродроме, закреплял антенны, проверял систему радиолокационной посадки. Готовился к шторму. Он говорил ей, что ожидается сильный ветер. Значит, знал о приближении тайфуна, только назвал его более мягко.
Это страшное слово она услышала еще там, на Большой земле, вскоре после того, как мужу предложили поехать в этот расположенный, кажется, на краю света гарнизон. Всезнающие подружки заохали. Одни рассказывали страшные истории про тайфуны и про цунами, которые, словно корова языком, слизывают с островов все живое. Другие, наоборот, завидовали — небось, в тех краях люди живут интересно, кругом романтика.
Родные отговаривали: Аленка маленькая, с фруктами и овощами там трудно, климат сырой, сердце у тебя больное. Пойди к врачу и вместо мужа пошлют другого.
А Владимир повеселел, приосанился:
— Поедем, посмотрим на белый свет. Правда, служба там ответственная: морская граница. Но зато как интересно!
То, что мужа ценят и уважают, она знала. В приказах не раз называлась его фамилия среди лучших. Да и без [159] этого ей были хорошо известны черты характера и способности Владимира Ивановича, как уважительно называли его даже старшие по возрасту и званию авиаторы. Еще когда он был лейтенантом, скромным до застенчивости и скупым на слово, она сумела рассмотреть в нем человека большой души. Свидания он всегда назначал на позднее время, частенько приходил усталым, хотя в глазах его горели радостные огоньки. Она сразу обратила внимание на его большие, с жесткой, загрубелой кожей, руки, не раз замечала на них ссадины, понимала, что профессия у него нелегкая. Но по тому, как загорались искорки в ее глазах, когда заходил разговор о службе, всякий раз убеждалась, что он ни о чем не жалеет и влюблен в свою профессию до самозабвения.
Владимир до поздней ночи просиживал над учебниками, что-то мастерил, занимался с солдатами, молодыми авиаспециалистами.
И вот теперь его посылали в гарнизон у границы, где тайфуны и цунами устраивают опустошительные набеги, где почти круглый год основными продуктами являются консервы и сушеные овощи. А у нее на руках Аленка...
Поезд вез их через всю матушку-Россию долго и утомительно. Монотонный стук колес и скрип полок под конец стали раздражать, а тут снова рассказы об этих коварных тайфунах. И она стала бояться их, как дети, наслушавшись сказок, боятся нечистой силы.
Потом они плыли на пароходе. Океан был тихим и изумрудно-синим, как на неаполитанских картинах Айвазовского, с ослепительно золотой дорожкой. Вокруг играли дельфины, стаями проносились морские чирки и жирные бакланы. Даже маленькая Аленка смотрела на океан во все глаза, восхищенно и зачарованно.
Еще большее впечатление произвел на них дальний гарнизон. В голубое небо упирались величественные, покрытые у подножия вечнозелеными деревьями сопки. Вершины их были одеты белоснежными пуховыми облаками-шапками. Между сопок тянулась ровная, отшлифованная дождями и ветрами долина. Там приютились серые деревянные домики — жилища военнослужащих и их семей. Осень стояла тихая, солнечная, склоны сопок, лощины и овраги, заросшие бамбуком и аралией, оделись в яркие наряды, и не верилось, что ураганные ветры так часто наведываются сюда, месяцами льют проливные дожди. Об [160] этом напоминали лишь изогнутые, крученые в разные стороны стволы деревьев с короткими, сломанными ветвями, изъеденные сыростью стены построек.
Домик, где поселились Гришуткины, требовал ремонта, но заняться им Владимиру было некогда — целыми днями он пропадал на службе. Техника в наследство досталась ему в запущенном состоянии, и работы было не початый край. К тому же младшие авиаспециалисты прибыли молодые, практических навыков обслуживания техники почти не имели. А кто же еще мог их учить и воспитывать, как не он, капитан Гришуткин?!
Все надо было начинать сначала. Вот и пропадал он на службе до поздней ночи, передавая свой опыт подчиненным.
— Скоро наступит зима, — напоминал он своим помощникам, — поползут с океана туманы, закрутит пурга. А наши летчики должны взлетать и садиться в любую погоду. Потому техника наша должна работать, как часы.
В конце года на отчетно-выборном партийном собрании коммунисты избрали Владимира Ивановича членом партийного бюро. Работы прибавилось.
Однажды Антонина Андреевна не выдержала:
— Тебе больше всех надо, — сказала она раздраженно мужу. — Одни баклуши бьют, а другие за них вкалывают.
— Что бьют баклуши — это наша недоработка, — спокойно возразил Владимир Иванович.
Зима подкралась незаметно. Вначале подули ветры сырые, пронизывающие насквозь, затем хлынул дождь, не прекращавшийся целую неделю. Антонина Андреевна целыми днями вынуждена была сидеть с Аленкой дома и с тоской смотрела в окно на мутные, убегающие в низины ручьи. Мысли ее невольно возвращались в прежний гарнизон, на завод, где она работала. Погода и вынужденная бездеятельность действовали на нее угнетающе, боль в сердце стала ощутимее. Муж успокаивал ее.
— Крепись, — говорил он. — Человек сильнее всякой стихии, не надо свое настроение подстраивать под погоду. И ветер утихнет, и дождь прекратится. Вот, знаешь, раньше антенны наших радиолокационных станций не выдерживали шторма, приходилось иметь запасные и всякий 1раз менять их. Теперь мы такие антенны поставили, что выдержат любой шторм. А человек и подавно выдержит. [161] И Антонина Андреевна крепилась. Крепилась до этого тайфуна...
Ветер бесновался, стучал в стены, в окна, рвал доски и выл от злости. Казалось, домик не выдержит, развалится. У Антонины Андреевны сжималось от ужаса сердце, и она ругала себя за то, что согласилась поехать на край света. «Пусть бы ехали другие, — думала она. — Некоторым здесь нравится, остаются на второй срок. А нам и там было неплохо...»
В вое ветра ей слышалось одно-единственное слово: «Уезжайте». В нем были и призыв, и угроза, и просьба.
«Да, да, — соглашалась она, — надо уезжать. И чем быстрее, тем лучше... Как только прекратится тайфун, сразу пойду к врачу. Соберу справки и... никакие уговоры не удержат меня...»
Проснулся муж, прислушался к шуму за окном.
— Ого! — весело сказал он. — Кажется, тайфунчик к нам пожаловал. Интересно, каким именем его окрестили? Ишь как беснуется!
Он встал и оделся быстро, по-военному.
— Ты что, идти куда собрался? — удивленно спросила Антонина Андреевна.
Муж не ответил, подошел к окну. Уже светало. Серая пелена стремительно неслась мимо и, казалось, ничто не в силах выстоять перед такой лавиной. Было непонятным, как еще держится этот деревянный домик. В такую погоду не то что на объект, к соседу не попадешь. И Владимир Иванович заходил взад-вперед по комнате. Потом присел на кровать, положил руку на плечо жены, словно угадав ее настроение:
— Вот и с тайфуном познакомимся. Посмотрим, сумеет ли он одолеть нашу технику.
Говорил он весело, но Антонина Андреевна все же уловила в его голосе беспокойство.
Видимо, он не полностью уверен в своих антеннах и говорит так, чтобы успокоить ее. И она вспылила:
— Техника тебя волнует, а может быть, этот тайфун быстрее одолеет твоих жену и ребенка.
— Ну что ты, — усмехнулся Владимир Иванович. — Подумаешь, тайфун. Да мы с тобой и Аленкой не такие невзгоды выдержим.
Ты можешь выдерживать, а мы не собираемся. Хватит. Посмотрели океан, остров, а теперь и домой пора. [162]
— Но ты не забывай — я военный.
— Подумаешь — незаменимый человек!
Муж не ответил. Встал и снова заходил по комнате...
Ураган утих на второе утро. Но не утихло на душе у Антонины Андреевны. Когда муж ушел на службу, она одела Аленку и вышла с нею на улицу. Всюду лежал снег, ослепительно белый и пушистый. Небо очистилось от облаков, лишь вершина затухшего вулкана курилась легкой сизовато-пепельной дымкой. Гарнизон ожил, как улей после ненастья: у домов женщины расчищали дорожки, детвора играла в снежки. Лица у всех были радостные, словно вчера и не было никакого тайфуна. Из труб в небо неторопливо струился голубой
дымок. Отовсюду веяло тишиной и спокойствием. Но нетрудно было рассмотреть следы коварного тайфуна. На крышах некоторых домов не хватало досок, толя, черепицы, то там, то здесь валялись ветви деревьев.
«А сколько будет еще таких тайфунов!» — тяжко вздохнула Антонина Андреевна. — «Подумаешь, тайфун, — вспомнились слова мужа. — Да мы с тобой и Аленкой не такие невзгоды выдержим...»
«Может быть, он прав? Слишком поддаюсь я меланхолии? Ведь вон сколько здесь женщин, разве им легче?»
Будто отвечая на ее вопрос, к ней подошла соседка, жена летчика. Поздоровавшись, спросила, не приходил ли Владимир Иванович, не говорил ли: готов аэродром к приему самолетов или нет?
— Муж должен вернуться из командировки, — пояснила она.
— Нет, еще не приходил, — ответила Антонина Андреевна и подумала о том, какую на первый взгляд незаметную, но важную роль играет ее муж в жизни гарнизона. Ее охватило беспокойство: не причинил ли действительно тайфун какого-либо вреда технике, которую муж так старательно готовил?
Владимир Иванович пришел к обеду возбужденный и счастливый. Заглянул в глаза жене, ласково потрепал ее по щеке и сказал с улыбкой:
— Выдержали, мать, тайфун. Выдержали. Все станции работают, как часы. Да и любые невзгоды выдержим. Правда?
— Правда! — радостно воскликнула за мать Аленка и бросилась отцу на шею. [163]
Познание неба
На самолетную стоянку зарулила последняя вернувшаяся из полета машина, и на аэродром легли ранние зимние сумерки. У командно-диспетчерского пункта собрались летчики. Так уж повелось здесь, что нередко они уходят с аэродрома вместе с командиром. А сегодня их собралось особенно много.
Виктор Георгиевич Романов, коренастый полковник, неторопливо спустился с «вышки» и окинул собравшихся испытующим взглядом. «Неужели узнали?» — мелькнула у него мысль.
— Курс на квартиры? — спросил он весело, словно ничего не случилось.
Летчики не спеша пошли за командиром.
— Слышали, уходите от нас? — начал без обиняков разговор майор Соколов, заместитель начальника штаба.
Командир помолчал. Да, только что ему позвонил генерал. А подчиненные уже знают. Не зря говорят, земля слухом полнится. И хотя перевод к новому месту службы был желанным, Виктору Георгиевичу жаль было расставаться с этими, ставшими ему близкими, людьми, с которыми он летал, делил поровну радости и печали. Вот собрались все. Сами, без вызова. А было время...
Он взглянул на шагавших с ним рядом капитанов Кузнецова и Лукина, молодых, подтянутых и стройных, и ему невольно вспомнилась первая встреча и знакомство с «особым» пополнением.
...На гарнизонном стадионе шла жаркая схватка футбольных команд. Летчики теснили своих гостей-вертолетчиков и забивали в их ворота гол за голом. Внезапно, в самый разгар сражения, на поле выскочил молоденький солдат с красной повязкой на рукаве и, остановившись около центрального нападающего, приложил руку к пилотке:
— Товарищ подполковник, пополнение прибыло. Командир полка за вами послал.
— Пинчуков, принимай команду, — бросил подполковник Романов на ходу и выбежал с поля к скамейке, где лежало обмундирование.
В кабинете командира полка сидели молодые офицеры.
— Знакомьтесь, мой заместитель по летной подготовке, — представил Виктора Георгиевича командир.
Лейтенанты встали и, пожимая протянутую им руку, [164] называли свои фамилии. Виктор Георгиевич обратил внимание на выделявшихся среди прибывших формой одежды и внешним видом двух летчиков. Один худощавый, симпатичный, со смешинкой в карих глазах, в узких брюках-дудочках, из-под которых виднелись ярко-пестрые носки; второй — приземистый крепыш, смотрел исподлобья, словно ожидал, что подполковник тут же при всех возьмет и отрежет его длинные волосы, которые он так бережно растил.
Командирская интуиция подсказывала Романову, что с этими двумя офицерами ему предстоит поработать особо. Но Виктор Георгиевич тут же отогнал эту мысль: интуиция интуицией, а преждевременно настраивать себя нельзя, не всегда первое впечатление бывает верным. И когда командир полка оставил его с вновь прибывшими одного, поручив ознакомить молодых офицеров с порядком в части, подполковник не стал делать замечания ни за яркие носки, ни за прическу. Лишь в заключение беседы сказал:
— С завтрашнего дня у вас начинаются занятия. Прошу не забывать о внешнем виде, строго соблюдать форму одежды.
На следующее утро подполковник увидел, что требования его выполнили далеко не все. В строю выделялись все те же лейтенанты — один в брюках дудочках и ярких носках, второй — с перманентной прической.
Виктор Георгиевич остановился посередине строя и, глянув на часы, строго сказал:
— Занятия начнем на час позже. А этот час даю вам еще раз на то, чтобы привести себя в порядок. Разойдись!
Лейтенант с перманентом нехотя направился к парикмахерской. Однако никуда не собирался уходить любитель модного стиля. Он закурил и весело болтал с товарищами, словно приказание его не касалось.
— А вы что, персонального приказа ждете? — спросил у него подполковник.
Лейтенант невозмутимо снял фуражку и пригладил редкие коротко остриженные
волосы.
— У меня все в порядке.
— А носки, брюки?
— Носки, брюки? — наивно удивился лейтенант. — Так это ж теперь модно носить такие. Моду будете соблюдать после службы, когда штатский[1б5] костюм наденете. А сейчас прошу не задерживать занятия...
Однако навести порядок с формой одежды было пустяковым делом по сравнению с другими вставшими перед командирами проблемами. Молодые летчики прибыли к часть из разных городов, с разным жизненным опытом. с разными гражданскими профессиями.
Война наложила и на их характер свой отпечаток: многие воспитывались без отцов, с ранних лет вступили на самостоятельный жизненный путь и понятия армейский коллектив, боевое содружество, офицерская честь для них мало что тогда значили. Один начал копить деньги, кое в чем отказывая себе. Другой, наоборот, вырвавшись в город, пускал получку налево и направо. Третий вообще жил отшельником, не желая знаться с окружающими.
Виктор Георгиевич с огорчением смотрел, как после окончания рабочего дня молодые офицеры торопливо расходились в разные стороны. Трудно было заставить их в свободное время сидеть в учебных классах, еще труднее собрать на беседу или на вечер.
Практика полетов была невелика, а тактику истребителей-бомбардировщиков они знали слабо, и все надо было начинать с азов, с чего обычно начинают курсанты летных училищ. Но в училище приходят юноши с еще не сложившимся характером, податливые и восприимчивые. Здесь же были люди, познавшие самостоятельную жизнь, имеющие свои взгляды, свои суждения.
Человек, говорят, начинается с коллектива: важно. как он относится к людям, волнуют ли его радости и огорчения других, готов ли он прийти на помощь попавшему в беду товарищу.
Виктору Георгиевичу еще с курсантских лет запомнился рассказ инструктора, летчика-фронтовика. Во время войны был у него друг, настоящий ас. Четырнадцать фашистских самолетов сбил. А за пятнадцать уже представляли к званию Героя. И вот в очередном полете, желая во что бы то ни стало добиться пятнадцатой победы. он допустил оплошность и самого чуть не сбили.
Этот рассказ на всю жизнь врезался в память Виктору Георгиевичу. Действительно, чего стоит человек, если ему нет дела до других, если он равнодушен к интересам коллектива. А среди молодых офицеров были и такие. Особенно отличались индивидуализмом те два лейтенанта, которые бросились в глаза подполковнику при первой [166] встрече: коренастый крепыш с цепким взглядом и худощавый шутник, любитель модного стиля. Сослуживцы называли их просто — Валерой и Петей. Но не такими простыми они были на самом деле, как казались. Валерий неплохо разбирался в теории, быстро схватывал и летную практику, однако свои знания от товарищей держал подальше. Внешностью и своими поступками он напоминал хитрого мужичка, умеющего все видеть и слышать, все брать от других и ничего не давать взамен. Как-то товарищ попросил у него конспект.
— Надо не спать на лекциях, а записывать, — отрубил Валерий.
В другой раз к нему обратились с просьбой одолжить денег.
— Я не больше вас получаю, — последовал короткий ответ.
Логика у него железная, и Виктор Георгиевич ломал, голову, как к нему подступиться, как приобщить его к коллективу.
Не менее тонкого подхода требовал и Петр. По характеру своему он был прямой противоположностью Валерия. Любил поболтать с приятелями, шутил, подтрунивал , над ними. С первого взгляда он казался этаким рубахой-парнем. А в сущности был таким же, как и Валерий — холодно-расчетливым, безразличным к судьбе товарищей. Учебные будни молодых летчиков были насыщены до предела — надо было быстрее ввести их в строй, — и Виктор Георгиевич на воспитательную работу выкраивал лишь минуты: рассказывал им что-то интересное и поучительное во время перерывов, приходил на самостоятельную
подготовку и просил наиболее разбирающегося в вопросах теории офицера разъяснить суть того или иного трудного вопроса.
Командир полка не без иронии замечал Виктору Георгиевичу:
— Хороший замполит из тебя получится. Только я уйду, наверное, скоро. Тебя думаю рекомендовать вместо себя. И хотелось бы, чтобы твои ведомые были отличными летчиками, на которых ты мог бы положиться в бою.
— Вот как раз этого-то я и добиваюсь, — с улыбкой отвечал Виктор Георгиевич.
Но приобщение молодых офицеров к коллективу давалось пока туго.
После окончания курса учебно-летной подготовки лейтенанты [167] поехали сдавать экзамены в училище. За технику пилотирования летчиков Виктор Георгиевич был спокоен — учили их лучшие инструкторы, и в небе каждый чувствовал себя уверенно. А вот за аэродинамику, наставления и инструкции, материальную часть самолета и двигателя побаивался. Ведь за короткий срок глубоко изучить такой обширный материал было непросто.
Виктор Георгиевич решил послать с лейтенантами в училище подполковника Медведева, грамотного, эрудированного в вопросах теории авиатора. Медведев и в дороге, л в гостинице, пока было время на подготовку, занимался с молодыми офицерами, разбирал наиболее сложные вопросы, объяснял непонятное. И летчики все до одного успешно сдали теорию. А потом и практику. На следующий день они должны были рано утром выехать и часть. После экзаменов предстояла встреча с начальником училища. Каждому хотелось привезти домой какой-то подарок. Было решено послать в город одного товарища. Жребий выпал на Петра. Офицеры собрали деньги и вручили ему. Петр уехал.
Начальник училища принял молодых офицеров, тепло поздравил их со сдачей экзаменов и пожелал успехов в летной службе.
С приподнятым настроением спешили лейтенанты в гостиницу, гадая, какие «сюрпризы» приобрел для них Петр. В гостинице их действительно ждал сюрприз. Петра не было ни в своем номере, ни в номерах товарищей, хотя по времени он должен был давно вернуться. Его ждали час, ждали два, ждали весь вечер. Петр вернулся поздно ночью. Без подарков и без денег.
Об этом случае Виктор Георгиевич узнал сразу же по возвращении молодых офицеров. И их дипломы его не обрадовали. Он был поражен: как можно пойти на столь бесчестный поступок по отношению к своим товарищам? Разве можно положиться на такого человека в трудную минуту?
На следующий день Виктор Георгиевич собрал молодых офицеров и привел в комнату боевой славы.
— Наш полк носит звание гвардейского, — сказал он, чувствуя, как дрожит голос. — Перед вами портреты старшего политрука Георгия Лобова и старшего лейтенанта Николая Молтенинова. Это они первого января сорок второго года, охраняя небо Ленинграда, вступили в бой с одиннадцатью «мессершмиттами», двух сбили, а остальных [108] обратили в бегство. Что им помогало одерживать победы над сильным врагом? Боевая дружба! А у вас, товарищи военные летчики, есть эта дружба? Закроете вы своей грудью товарища? Не бросите его в трудную минуту?
Виктор Георгиевич обвел взглядом офицеров. Петр сидел, понуро опустив голову...
Но Виктор Георгиевич понимал, что перевоспитать человека одними беседами — дело трудное. Слова забываются, а привычки остаются. Если же повторять одно и то ,же, сила воздействия слов сведется к нулю. Надо создать человеку такую обстановку, чтобы не было места проявлению его отрицательных черт.
Летчики, как правило, по натуре романтики. Им подавай интересное, новое, волнующее. Виктор Георгиевич с детства увлекался спортом, любил в выходной побродить с ружьишком, посидеть с удочкой у озера, а вечерком побеседовать с товарищами у костра. Ничто так не располагает к откровению, как тишина бескрайних просторов.
Виктор Георгиевич узнал, что и среди молодых летчиков есть любители футбола и баскетбола, рыбалки и охоты. Вот через них-то с помощью комсомольской организации он и решил приобщить подчиненных к коллективу.
Среди своих сверстников выделялся спортивным мастерством Виталий Березкин — энергичный, общительный лейтенант. Командир предложил избрать его секретарем комсомольской организации. Однако и у Березкииа оказалось не особенно-то развито чувство коллективизма. Он оставался равнодушен к судьбе товарищей, ничуть не волновался, когда своя команда проигрывала.
После одной из встреч футбольных команд Виктор Георгиевич подошел к Березкину.
— Хорошо играете, — похвалил он лейтенанта. — Но ведь один в поле не воин... Вот если бы и товарищи ваши так умели. А что если вам попробовать потренировать команду? А?
Березкин согласился. Доверие вызвало у него чувство ответственности за свой коллектив. Он стал передавать товарищам опыт, учить их взаимодействию, слаженности в игре. Это сплачивало летчиков, приучало к единству не только на футбольном поле, но и в более сложных ситуациях.
Много забот у заместителя командира. Еще больше их стало, когда Виктор Георгиевич принял полк. То на собрании [169] с докладом выступить, то лекцию по марксистсколенинской подготовке прочитать, то у кого-то из подчиненных дома побывать, посмотреть, есть ли условия для отдыха. Часть дел можно было бы возложить на заместителя по политической части, но тот сам в помощи нуждался: недавно прибыл в полк. Прежде всего ему надо было овладеть истребителем-бомбардировщиком — раньше он летал на истребителе.
Командир обучал замполита бомбометанию, стрельбам, летал с молодыми, отрабатывал сложные виды боевой подготовки сам. К концу полетов от усталости ломило в ногах и пояснице. Неплохо бы отдохнуть, но командир шел в штаб, обдумывал, как лучше решить поставленные жизнью проблемы. Один летчик неуверенно и скованно чувствует себя на малой высоте — и Виктор Георгиевич старался понять его психологию; второй, наоборот, переоценивает себя, считая, что все постиг, — надо как-то тонко и безболезненно развенчать его самоуверенность. Третий с дисциплиной не в ладах — какие меры применить к нему? Разные люди, разные недостатки, и по-разному надо подходить к ним. А потому думай, командир, думай! Думай, когда сидишь за инструктора в задней кабине самолета, думай, когда идешь с аэродрома в штаб или домой, думай, когда за плечо закинуто ружьишко и ничто не напоминает о твоей нелегкой службе.
Замкнут и скрытен стал лейтенант Пинчуков, прежде веселый и компанейский офицер, заядлый рыболов. Не видно его после полетов в кругу товарищей, не слышно его
побасенок в перерывах между занятиями. Курит, глубоко затягиваясь, взгляд сосредоточенный, грустный...
— Карась, говорят, здорово брать стал, — подошел к нему Виктор Георгиевич.
— Время клевое — черемуха зацвела, — неохотно отозвался лейтенант.
— Посидеть бы на зорьке. Не составишь компанию?
— Можно, — без особого энтузиазма согласился Пинчуков.
Компания подобралась немаленькая, еле в машину вместилась. Были здесь и Валерий с Петром. Командир пригласил их персонально. Петр было отнекивался, но потом согласился. Он сидел в уголке, притихший и незаметный — все еще стыдился своего проступка в командировке, хотя деньги давно всем вернул. Особенно он избегал Виктора Георгиевича, несмотря на то, что после беседы в комнате [170] боевой славы командир ни разу не напомнил о том случае: пусть сам все осмыслит и прочувствует — суд совести строже и справедливее внушений.
К месту рыбалки прибыли засветло. Успели посидеть на вечерней зорьке. Клев был, правда, так себе, но все же на уху наловить сумели. Виктор Георгиевич, засучив рукава, принялся чистить рыбу. Глядя на командира, в работу включились и остальные. Одни собирали валежник и разжигали костер, другие чистили картошку, лук, третьи мыли посуду. Когда уха сварилась, расселись в домике егеря за длинным деревянным столом. Виктор Георгиевич выложил из рюкзака на середину стола снедь. Вкусно запахло домашними пирогами.
— Угощайтесь, оцените кулинарные способности моей хозяйки!
Рядом с пирогами кто-то положил сало, яблоки, свежие парниковые огурцы. А через несколько минут стекла домика звенели от хохота. Виктор Георгиевич рассказывал такие охотничьи байки, от которых и бывалые люди за животы хватались.
Коротка майская ночь. Да и была ли она вообще? Правда, кое-кто успел вздремнуть, а любители природы вышли после горячей ухи подышать свежим воздухом, да так и остались под вышитым золотыми блестками небом, пока не обозначилась на востоке алая полоска у горизонта. Будто по команде, любители-рыболовы потянулись к озеру.
— Завтрак в десять ноль-ноль, — объявил Виктор Георгиевич. — Сбор на лужайке под дубом.
Неприметно гаснут звезды. Тишина. А деревья так благоухают, что голова кружится.
Виктор Георгиевич встал рядом с Пинчуковым. Размотали удочки. На зеркальной глади заплясали поплавки.
— Не зевай, пилот, — весело подмигнул Виктор Георгиевич и заметил, как мгновенно помрачнело лицо лейтенанта. Потом разговорились.
— Не получается у меня с техникой пилотирования, когда с командиром эскадрильи лечу, — сказал лейтенант. — Нервничаю, ошибки допускаю...
Тоже мне летчик, — улыбнулся Виктор Георгиевич, — А я-то его центральным нападающим оставлял за себя... Надо, брат, управлять своими нервами.
Но для себя Виктор Георгиевич мысленно завязал узелок на память, решив поговорить с командиром эскадрильи [171] и лично проверить технику пилотирования Пинчукова.
Около десяти часов у дуба стали собираться рыболовы. Снова запылал костер, заплясали на траве серебристые караси. Пришли все, за исключением Валерия и Петра.
Улов был неплохой, начались снова веселые разговоры, и к озеру больше никто не пошел.
Валерий и Петр вернулись к домику перед самым отъездом, неся полные садки рыбы. Когда у них спросили, что же они на уху не пришли, Валерий как ни в чем не бывало ответил:
Такой клев был, что и есть не хотелось.
Каждому заядлому рыбаку понятен спортивный азарт: трудно оторваться от удочки, когда рыба, как говорится, сама на крючок лезет. «Но только ли азарт руководил Валерием и Петром?», — размышлял Виктор Георгиевич. Внезапно пришла озорная мысль.
— Вот так новички-рыбачки, — весело сказал Виктор Георгиевич, — обставили признанных мастеров. А Пинчуков наш — ни хвоста, ни чешуи... Сбросились мы тут для него по парочке, чтоб жена в другой раз отпустила.
Валерий потянулся к садку.
— Напрасно, — сказал Петр. — На то и пословица: «Без труда не вынешь рыбку из пруда»... Ее тоже искать надо. Я столько отмерил по кочкам да по болотам.
Да, вот такими были тогда некоторые его ведомые. Правда, с того времени прошло почти пять лет, и Виктор Георгиевич приложил немало сил, чтобы приобщить некоторых единоличных лейтенантов к коллективу. Были и новые поездки на рыбалку, и беседы, и приглашения домой. и совместно проведенные вечера в Доме офицеров. Валерий и Петр заметно изменились. Стали участвовать в художественной самодеятельности, внимательнее и добрее относиться к товарищам. Однако не так легко перековать характер человека, избавить его от старых привычек. Одно дело, дать два карася или одолжить пятерку, и совсем другое — купить молодоженам гарнитур, который летчики решили подарить своему товарищу. Как отнесутся к этому Валерий и Петр? Можно, конечно, обойтись и без них, но это опять послужит поводом для разговора в коллективе, осложнит взаимоотношения. Нельзя было и идти против воли большинства.
Свадьба была шумной и веселой. Молодоженов пришли поздравить все. Сияющего от счастья старшего лейтенанта Петренко и его смущенно улыбающуюся невесту засыпали [172] цветами. Среди гостей были Валерий и Петр. Виктор Георгиевич уже знал — они одними из первых поддержали предложение купить в подарок мебельный гарнитур. А когда стали чествовать молодоженов, командир немало удивился — Петр, ко всему, вручил им и транзистор...
Люди, люди! Как сложны бывают они и непонятны в своих поступках и как неожиданно порой раскрываются в них замечательные человеческие качества... Неожиданно ли?! А сколько было передумано, переговорено, сколько потрачено сил и нервов? Сколько пролито пота, чтобы одним помочь найти себя, других удержать от падения, третьим просто вернуть веру в свои способности.
После откровения Пинчукова на рыбалке Виктор Георгиевич поговорил с его командиром эскадрильи.
— Не подходит он для истребителя-бомбардировщика, — уверял майор. — Не хватает у него дерзости и хладнокровия.
Полковник — это звание ему присвоили недавно — сам полетел с летчиком. Действительно, Пинчуков не блистал техникой пилотирования, особенно при выполнении
сложных фигур. Виктор Георгиевич показал ему одну фигуру, другую, а затем попросил повторить. Пинчуков выполнил неплохо.
— Еще разок, — сказал командир. — Для закрепления. И сразу на вторую переходи, более сложную...
С каждым разом летчик действовал увереннее и смелее.
На земле Виктор Георгиевич посоветовал командиру эскадрильи:
— Прежде чем требовать от летчика дерзости, надо научить его мастерству.
Через год Пинчуков стал превосходным летчиком и толковым командиром звена. А спустя некоторое время его, как отличника боевой и политической подготовки, послали учиться в академию...
Судьбы многих офицеров переплелись с судьбой их командира, Виктора Георгиевича Романова. Возмужала, стала зрелой молодежь.
Говорят, наиболее ярко человеческие качества проявляются в те моменты, когда на весах судьбы лежит и жизнь, и честь. Такие моменты не раз выпадали на долю Виктора Георгиевича и его подчиненных.
Однажды, возвращаясь с задания, полковник Романов [173] попал в исключительно сложную обстановку. Аэродром внезапно закрыло низкими облаками, из которых посыпал густой снег. Идти на запасной аэродром — не хватило бы топлива. Полковник стал заходить на посадку. С трудом пробил облака. Впереди сквозь серую пелену показались расплывчатые огни взлетно-посадочной полосы.
— Включите прожекторы! — приказал полковник. Вспыхнул яркий луч и ослепил летчика — прожекторист, измерявший до этого высоту облаков лучом прожектора, перепутал направление. А до земли — считанные метры. Малейшая ошибка или неточность и произойдет непоправимое. В подобной ситуации мешкать нельзя. И никто не осудит летчика за то, что он оставит машину. Жизнь человека дороже всего. Но Виктор Георгиевич даже не думал об этом. Все его мастерство, все силы и нервы были направлены на одно — посадить самолет. Требовалось исключительное хладнокровие, мужество и летное искусство. И они нашлись у командира. Он блестяще приземлил машину.
А спустя некоторое время экзамен держали многие: на учениях была поставлена трудная задача — поддерживать наступающие сухопутные войска с воздуха, подавлять и уничтожать на поле боя танки и артиллерию «противника».
Погода не благоприятствовала: над землей висели низкие облака, пряча вершины сопок. Снежное покрывало затянуло неровности, затрудняло определение высоты и ориентировку. Надо было обладать большим летным мастерством, чтобы выдержать жесткий режим полета: точно соблюдать место в строю, вести ориентировку, поиск целей и поражать их.
Перед самым вылетом обстановка еще более усложнилась. Начался снегопад. Старший начальник приказал поднять в небо пока лишь небольшую группу из наиболее подготовленных пилотов. Но Виктор Георгиевич видел, как рвутся в полет молодые. Не взять их, значило поколебать в них веру в собственные силы.
— Кто желает лететь со мной в первой группе? — спросил командир у выстроившихся летчиков.
Каждый из них понимал, какого напряжения и даже риска требует задание.
Будто по команде строй сделал шаг вперед: все до одного летчика. [174] Полковник включил в группу и молодых.
Истребители-бомбардировщики шли на малой высоте. Мелькали под крыльями приютившиеся в долине деревеньки, еще не скинувшие с себя предутреннюю дымку небольшие рощицы. Внезапно впереди горизонт расплылся и заплясал ярко-оранжевыми всполохами: началась артиллерийская подготовка наших войск. Огненный вал вздымался до самых облаков. Истребители-бомбардировщики стремительно приближались к цели. Было похоже, что через мгновение истребители ворвутся в огненное облако и огонь захлестнет машины. Не у каждого даже опытного летчика хватает при виде такого зрелища выдержки и мужества. Виктор Георгиевич был свидетелем, когда в подобной обстановке дрогнула рука у седовласого пилота, имеющего тысячу часов налета, и он преждевременно потянул ручку управления на себя. Истребитель-бомбардировщик взмыл ввысь раньше, чем требовалось для маневра, и бомбы легли далеко от цели. Не дрогнет ли рука теперь у его ведомых?
Огненный вал полыхнул уже, казалось, перед самолетами. Артиллеристы должны прекратить стрельбу, как только самолеты появятся над их позициями: не замешкаются ли?
Не замешкались. Огненный вал так же внезапно исчез, как и появился. Пора...
Удар группы истребителей-бомбардировщиков был внезапным и сокрушающим.
Старший начальник дал высокую оценку мастерству летчиков, ведомых полковника Романова.
...Ночью выпал пушистый снег, подровнял дорожки, подбелил крыши домов, на деревьях и проводах повис иней. Утром он огненными блестками сверкал в лучах восходящего солнца. Все вокруг выглядело празднично. И на душе у Виктора Георгиевича, шагавшего к штабу, тоже было празднично. Поздно вечером ему позвонил генерал и поздравил с высокой правительственной наградой — орденом Красного Знамени.
У штаба стояли офицеры. Увидев командира, они пошли навстречу, окружили его, они уже знали о награде и поздравляли полковника. Среди офицеров были и Валерий с Петром...
Виктор Георгиевич простился с полком. Но куда бы он ни уехал, за своих ведомых он спокоен — они справятся с любой задачей. [175]
Согласно инструкции...
Капитан Чекунов, назначенный летчиком-инструктором вместо старшего лейтенанта Новикова, курсантам не понравился. Прежний инструктор был веселый, энергичный, пилотировал отчаянно, с озорством, разборы полетов проводил с шутками и прибаутками. Чекунов же говорил мало, больше спрашивал, а уж когда говорил, то слова его надолго западали в память.
Особенно не понравился капитан курсанту Акимову. После первого с ним контрольного полета в зону, где Акимов перепутал порядок выполнения фигур пилотажа, капитан внушительно сказал.
— Летаете неплохо. Но если так будете путать, к самолету не подпущу.
А в твердости капитанского слова курсанты убедились в первые дни знакомства, когда один из них, предупрежденный Чекуновым за недисциплинированность при повторении проступка, был отчислен из училища.
Но одну хорошую черту его — непоколебимое спокойствие в воздухе отметили все. Капитан никогда не кричал, не вмешивался в управление, замечания делал в исключительных случаях; порою казалось, что в инструкторской кабине никого нет. Но на земле капитан вспоминал вес мелочи, и жалкий вид имел тот, кто допускал ошибки из-за халатности, незнания или самомнения. Капитан потом спрашивал с неудачника на каждой предполетной подготовке, «склонял» его на каждом разборе.
Больше всех страдал Акимов. Считавшийся при старшем лейтенанте Новикове хорошо подготовленным и способным курсантом, он теперь никак не мог смириться с тем, что его называли отстающим. Вот и сегодня, разбирая прошедшие полеты, Чекунов вспомнил даже давнюю ошибку Акимова.
«И чего он ко мне привязался? — думал курсант, — Была бы ошибка серьезная, а то — перепутал порядок. От перестановки слагаемых сумма не меняется. Сделал-то я все правильно».
Заканчивая разбор, капитан в который раз приказал:
— Повторите порядок и маршрут осмотра самолета. Капитан внимательным взглядом окинул класс. Его черные, с прищуром глаза, казалось, проникали в самую глубь души каждого.
— Курсант Назаров. [176]
Назаров, полный и неуклюжий, встал, начал поправлять под ремнем гимнастерку.
— Застегните пуговицу, — указал Чекунов на воротник.
«Вот буквоед, — мысленно возмутился Акимов. — Новиков в такую жару разрешал сидеть расстегнутыми».
Назаров застегнул пуговицу и стал тихим, тягучим голосом рассказывать порядок осмотра самолета. Полуденная июльская духота и монотонные интонации Назарова действовали на курсантов усыпляюще. Акимов видел, как клевал носом его сосед сержант Лаптев — серовато-синие зрачки его глаз смешно подкатывались под верхние веки, длинные белесые ресницы медленно опускались. Несколько секунд он сидел неподвижно, потом вздрагивал, встряхивался, а спустя некоторое время все начиналось сначала.
Назаров закончил. Чекунов разрешил ему сесть.
— Сержант Лаптев, — вызвал он, не поднимая глаз от журнала, в котором делал запись.
Лаптев вскочил и вытянулся в струнку.
— Расскажите полет по «коробочке».
Лаптев, в противополжность Назарову, отвечал быстро и четко. Но когда он дошел до четвертого разворота, Чекунов остановил его.
— Какую ошибку допустил сержант Лаптев? — обратился он ко всем.
Назаров поднял руку.
— Пожалуйста.
— После третьего разворота Лаптев забыл убрать «газ».
— Правильно, — кивнул Чекунов.
— Так это само собой разумеется, — возразил Лаптев. «Новиков обязательно вставил бы острую шпильку и этим ограничился, — подумал Акимов, — а этот теперь еще недели две будет спрашивать о полете по «коробочке».
Чекунов взглянул на Акимова и словно прочитал его мысли.
— Медведь с попугаем тоже разумели, — ответил он Лаптеву, — а сесть не сумели. Слыхали такой анекдот?
Лаптев смущенно пожал плечами. Акимов насторожился: впервые в голосе капитана зазвучала веселая ирония.
— Тогда послушайте, — продолжил капитан. — Один чудак-циркач решил научить летать медведя. Стал ему [177] давать вывозные. Медведь быстро усваивал технику пилотирования, но беда была в том, что он забывал порядок действий в воздухе. Задумался циркач: как выпустить его самостоятельно? И придумал: научил попугая команды подавать. Стали летать: попугай команды подает, медведь пилотирует. Все шло хорошо. Но однажды попугай после третьего разворота пропустил вот это самое — «убрать газ» и сразу скомандовал: «Ручку от себя!» Медведь выполнил команду, однако самолет почти не снижался, скорость увеличивалась. «Четвертый», — крикнул попугай. Сделали четвертый. Аэродром приближался. Попугай, знай свое дело, командует: «Ручку на себя». Самолет полез вверх. «Добирай, добирай», — кричит попугай, а сам видит — земля вместо приближения удаляется. «Этак мы никогда не сядем», — сообразил попугай и сказал медведю: «Ты, Мишенька, садись, а я на второй круг пойду», — и выпорхнул из кабины.
Курсанты засмеялись. Сонливости на их лицах уже не было.
На востоке небо порозовело. Гасли звезды. Все ярче выступали очертания аэродромных построек, самолетов, суетящихся около них людей. Аэродром оживал. Курсанты расчехляли моторы, проверяли заправку топлива. Шла подготовка к полетам.
У самолета с номером «11» выстроилась группа капитана Чекунова. Инструктор придирчивым взглядом осмотрел курсантов.
— Как спали? — спросил он.
— Хорошо, — за всех ответил Лаптев.
— Самочувствие? Больных нет?
— Нет.
— Добре, — капитан остановился напротив Акимова. Он был почти на голову ниже курсанта, и его тяжелая, словно квадратная фигура, выглядела неуклюжей в сравнении со стройным, подтянутым юношей. Акимов стоял свободно, непринужденно. Чекунов несколько секунд смотрел на него молча, будто решая какой-то важный и сложный вопрос, потом сказал:
— Полетите первым. Контрольные нужны?
— Не-ет, — лицо Акимова загорелось. Он никак не ожидал, что капитан доверит ему открывать полеты.
— Не подведете? — Скуластое лицо капитана было [178] строгим, черные, вразлет от ястребиного носа глаза кололи пронзительным взглядом. Но Акимов выдержал этот строгий взгляд.
— Не подведу, — пообещал твердо.
Курсант торжествовал. Он легко взобрался в кабину, пристегнул парашют и, оглядев приборы, подал команду провернуть винт. Лаптев взялся за конец лопасти. Капитан Чекунов наблюдал молча.
— От винта! — крикнул Акимов.
— Контакт! — отбегая, ответил Лаптев.
Лопасти качнулись, сделали рывок, другой и, завертевшись, быстро превратились в дымчатый круг. Мотор работал ритмично и чисто, на ручку управления передавалось его мерное биение. Акимов опробовал мотор на всех режимах и поднял руку. Капитан что-то крикнул, указывая на левый борт кабины, но из-за гула мотора ничего не было слышно. «Спрашивает все ли я сделал», — решил Акимов и кивнул головой. Чекунов махнул в сторону старта. Лаптев приложил руку к фуражке, затем вытянул ее горизонтально, разрешая выруливать.
На исполнительном старте Акимов еще раз осмотрел приборы, поправил летные очки. Дежурный на старте махнул белым флажком. Самолет побежал по зеленому полю, быстро увеличивая скорость. Толчки учащались, ослабевали и вскоре исчезли совсем — оторвался от земли и пошел ввысь. Прохладный освежающий воздух внезапно сменился теплым, Акимову показалось, что он окунулся в парное молоко. Самолет плыл в спокойном неподвижном океане. Хотелось петь, смеяться и кричать во всю силу своих легких. Наконец-то инструктор оценил его, Акимова!
Стрелка высотомера прошла цифру 200. Курсант плавно ввел машину в левый разворот и похвалил себя за мастерство — стрелки приборов неподвижно стояли на заданных цифрах. Приятно было чувствовать силу и власть над этой крылатой машиной.
После второго разворота Акимов перевел самолет в горизонтальный полет и уменьшил обороты. Посмотрел на землю. Внизу проплывала небольшая деревушка. Серые квадраты домов, окруженные садами, казались отсюда особенно красивыми. За деревушкой тянулась неширокая полоса леса, а за ней — поле. На поле работали женщины. «Может среди них и Зоя?» — подумал Акимов и на мгновение ему представилась светловолосая кареглазая девушка. С ней он познакомился еще весной и теперь встречался [179] почти каждую субботу и воскресенье. «Смотрит, наверное, сейчас на самолет и не знает, что в нем я».
Акимов качнул ручку влево, вправо, самолет перевалился с крыла на крыло. Женщины замахали руками, белыми косынками. Акимов улыбнулся и качнул еще раз. И вдруг мотор, будто поперхнувшись, заглох. Курсант увидел, как стрелка указателя скорости поползла влево. Он отдал от себя ручку управления. Самолет клюнул носом, мотор заработал, но едва Акимов взял ручку на себя, как он замолк снова.
«В чем дело?» — недоумевал курсант. Однако размышлять о причинах неисправности не было времени. Высота падала, надо была искать площадку для посадки. Акимов посмотрел на землю. Полоса леса уплывала назад, на смену быстро надвигалось зеленое поле. Но оно не обрадовало его: лощины, холмы, канавы. Посадка на такую площадку невозможна. Быстро огляделся. У обрывистой реки виднелось маленькое плоское местечко. Акимов подвернул туда.
Земля быстро приближалась. Чем ниже самолет подлетал к площадке, тем отчетливее Акимов понимал, что она слишком мала для посадки. Но другое решение было принимать поздно. И вряд ли его можно было найти.
«Надо точно рассчитать и сесть на минимальной скорости в самом начале площадки». Акимов прикинул свои возможности. Выходило, что самолет сядет только посередине. На пробег оставалось не более ста метров. Этого явно не хватало. Курсант положил самолет на левое крыло и дал вправо педаль руля поворота. Машина со скольжением круто пошла вниз. На высоте около семи метров Акимов убрал крен, легким движением потянул на себя ручку. Навстречу ринулась высокая трава. Ручка управления дошла до упора, самолет занял трехточечное положение и мягко коснулся земли. Скорость уменьшалась, но быстрее ее уменьшалось расстояние до обрыва. Акимов почувствовал, что спина и грудь его покрылись потом. Он стиснул зубы и стал быстро толкать то одну, то вторую педаль, пытаясь рулем поворота погасить скорость, и подействовало — скорость заметно упала. А когда до обрыва осталось метров десять, Акимов резко послал до упора левую педаль и прижал ее. Правое крыло, опережая левое, метнулось над обрывом...
Стало тихо. Слышно было, как трещали в траве кузнечики, звенели в вышине жаворонки, Акимов облегченно [180] вздохнул и откинулся на спинку сиденья. Он глядел на голубое чистое небо, ни о чем не думая, ничего не замечая. Напряжение сменилось усталостью. Не хотелось отнимать голову от прохладного дерматина спинки сиденья.
Полузабытье нарушил приближающийся рокот мотора. Акимов повернул голову. К месту его посадки шел самолет. Снизившись, он пролетел метрах в двадцати от Акимова. По номеру самолета курсант узнал капитана Алешина, инструктора второй группы. «Сейчас доложит Чекунову, — подумал он. — А все же, что случилось с мотором?»
Акимов решил выяснить причину до приезда инструктора. Он отстегнул привязные ремни, лямки парашюта, снял шлем и, положив его на сиденье, собрался выйти из кабины. Внезапно взгляд его упал на топливный кран. Зеленый рычаг был в верхнем положении. В груди курсанта похолодело. «Так вот в чем причина! После запуска мотора забыл переключить кран с верхнего бачка на основные... выработал горючее».
Акимов в оцепенении смотрел на кран. Теперь стало ясно, о чем пытался напомнить инструктор, когда разрешал выруливание. Перед глазами появилось суровое, с ястребиным носом лицо капитана Чекунова. «Вот и отлетался, — на глаза Акимова навернулись слезы. — Что теперь делать? Что делать? — Он кусал губы. А что если... Ведь стоит только опустить кран вниз и все останется тайной. Пусть ищут в моторе». От этой мысли ему сделалось жарко... Акимов не смог сидеть больше в кабине.
Газик свернул с дороги и, не сбавляя скорости, помчался к самолету. Метрах в десяти шофер затормозил. Чекунов на ходу выпрыгнул из машины и широким шагом пошел навстречу Акимову. Курсант, не дойдя до него, остановился, вытянул руки по швам.
— Товарищ капитан, — голос Акимова дрожал, — произвел вынужденную посадку из-за... забыл переключить кран топлива, — он виновато опустил голову, готовый услышать самый суровый приговор.
Чекунов резко повернулся и, не говоря ни слова, быстро прошел к самолету. Одним рывком взобрался на плоскость, несколько секунд молча смотрел в кабину, потом, спускаясь на землю, мельком взглянул на Акимова. Этого было достаточно, чтобы увидеть полные негодования глаза капитана. Он обошел вокруг самолета и стал осматривать площадку. Над обрывом остановился, задумался, будто [181] подсчитывая сколько сантиметров отделяло Акимова от гибели. Потом поднял голову, посмотрел еще раз вдоль площадки, откуда самолет начал пробег, и повернулся к курсанту.
— В следующий раз придется с тобой сажать попугая, может, вдвоем не будете забывать. А с посадкой ты справился мастерски, — сказал он сухо, но в голосе уже не было прежней суровости.
Командирская наука
Лейтенант Анатолий Супрун тяжелыми шагами мерил самолетную стоянку, изредка бросая тоскливый и завистливый взгляд в небо, где, как молнии, проносились серебристые «миги», оставляя на голубой глади легкие белопенные полосы. Полк проверяла летная комиссия из вышестоящего штаба. А его, лейтенанта Супруна, в полеты не включили. Получается так, будто он, лейтенант Супрун, летает хуже других. Но ведь прошло уже больше года, как он прибыл из училища, недавно сдал зачеты на класс. И как сдал, на пятерку! Проверял сам генерал. Да и в училище одним из первых вылетел самостоятельно на учебном самолете, в числе первых приступил к полетам на боевом.
Технику пилотирования на выпускных экзаменах у Анатолия принимал сам начальник училища и поздравил крепким рукопожатием. Потом с ним в воздух поднялся Герой Советского Союза, прославленный летчик. Когда сели, он похлопал Анатолия по плечу и сказал: «Молодец! Добрый из тебя выйдет пилот, если и дальше будешь так стараться...»
«Добрый пилот»... Разве он не старался? И разве не был им доволен комэск второй майор Журавлев, под чье начало он попал служить после училища?
Обида клокотала в душе лейтенанта. Он никогда еще не чувствовал себя таким оскорбленным и униженным. Не зря говорят, не родись красивым, а родись счастливым. Анатолий Супрун родился красивым: кареглазым, темно-русым, тонким и стройным, как молодой тополь. А вот счастья... Товарищи летают, участвуют в летно-тактических учениях, а он ходит по самолетной стоянке...
Супрун считал, что ему крепко повезло. Самолеты [182] в полку были самые современные, летчики самые опытные, что же касается командира майора Журавлева, то это был подлинный ас, энергичный, собранный, как сжатая пружина. Он такие закручивал виражи, петли и полупетли, что, бывало, в ушах звенело.
Анатолий любил сложный пилотаж. Где еще испытаешь такие острые ощущения? Для военного летчика это основа основ. Благодаря отменному пилотажу не раз выходил победителем его однофамилец из боя с численно превосходящим противником — Анатолий перечитал все статьи и очерки о знаменитом асе Степане Супруне. В пилотаже оттачивается глаз, закаляется воля, крепнут мускулы. В пилотаже летчик познает машину, учится «чувствовать» ее, повелевать ею. Пилотаж сродни песне, музыке!
Супрун жадно схватывал все, чему комэск старался его научить. Мастерство летчика быстро росло, вместе с ним росла вера в свои силы, в свою незаурядность.
Однажды в полк приехал командующий, предельно строгий и требовательный молодой генерал. Его интересовала подготовка вновь прибывших летчиков. Командир запланировал с ним в полет лейтенанта Супруна.
Генерал был немногословен. Он не сделал замечания ни после виража, ни после боевого разворота, и Супрун, ободренный этим, с еще большим старанием крутил фигуру за фигурой.
На земле генерал тоже говорил мало, но по его чуть прищуренным в улыбке глазам лейтенант видел: генерал доволен.
В летной книжке у молодого пилота появилась еще одна пятерка, и после этого командир полка объявил, что из второй он переводится в первую эскадрилью к майору Белоглазову.
Да, на первую эскадрилью Анатолий возлагал большие надежды. И вот вместо больших высот ходит оп по самолетной стоянке и смотрит, как летают другие...
На заправку зарулила шестерка — номерной знак самолета командира звена старшего лейтенанта Лещенко. Вот кому повезло, с неприязнью подумал Супрун. Ни летным талантом не выделяется, ни твердостью характера, а — командир! Все старается поучать, хотя всего лишь на год раньше Анатолия училище закончил. Нет, не о таком командире звена мечтал Супрун: чтобы и возрастом был старше, и опытом, да и по внешнему виду посолиднее.[183]
А этот... Как мальчишка, бегает вокруг самолета. Заправлять топливом баки самолета сам стал, будто техника нет. Тоже мне, командир. И обида с новой силой защемила сердце.
С чего, собственно, все началось?.. С того самого первого полета с майором Белоглазовым. Комэск сидел в задней кабине и ничем не напоминал о своем присутствии. Небо! Оно было прекрасным: синее, с позолоченной каемкой у горизонта, чистое и безмятежное, как первый поцелуй любимой. И заиграла кровь у Супруна, запело сердце. Тело налилось энергией, мускулы силой. Толкнул он ручку управления от себя и стал в высоком темпе азартно крутить фигуру за фигурой. Машина, подпевая ему, послушно ложилась с крыла на крыло, описывая виражи, петли, перевороты. «Пусть знает майор, какой летчик пришел к нему в эскадрилью», — думал он.
На земле Анатолий подождал, пока первый выйдет из кабины командир, и, спустившись следом за ним, бодро доложил:
— Лейтенант Супрун задание выполнил. Разрешите получить замечания.
Он ждал, что командир улыбнется, и как генерал, хлопнет его по плечу или пожмет
руку.
Но майор не улыбнулся, не протянул руку. Неторопливо закурил и, глубоко затянувшись, о чем-то задумался. Супруну показалось, командир чем-то недоволен.
— Резко работаете управлением, — сказал, наконец, майор. — Рвете, как необъезженную лошадь. — И, затянувшись, заключил: — Слетаем еще раз.
В летной книжке появилась первая четверка. Четверка после стольких тренировок! Супрун недоумевал. Что это, случайность? Нет! Просто он пришелся командиру не по душе. Что значит, резко работаете управлением? Военный летчик он или возчик молока? Современный боевой самолет не телега, и в воздушном бою без стремительности, виртуозности победы не добиться. А он...
Через несколько дней командир снова поднялся с ним в воздух. И снова тот же результат.
— Торопитесь, — подчеркнул майор. — Нельзя так. Впереди у нас сложные виды боевой подготовки и чистота техники пилотирования — главное условия для овладения ими. Внимательнее читайте условия упражнения, больше тренируйтесь.
Такое никто еще не говорил Супруну. Даже в училище. [184] Причем тут чистота? Чистота нужна на взлете и посадке, а в воздухе самолет должен вертеться, как черт.
Супрун все больше убеждался, что майор Белоглазов питает к нему неприязнь. На каждой предварительной подготовке он донимал лейтенанта вопросами, перед полетами заставлял подолгу сидеть в кабине тренажера. Он уделял Супруну особое внимание как самому слабому, самому отстающему летчику, и в душе молодого офицера кипело негодование. Но он сдерживал себя и верил, что время его придет и он еще покажет себя. «Эх, если бы я участвовал в этих учениях! — сокрушался он. — Пусть бы комиссия оценила, кто лучше отстреляется на полигоне, кто быстрее найдет нужный объект и привезет лучшие разведданные».
Но его обошли. Правда, командир сказал, что, как только дадут отбой тревоги, в небо поднимутся молодые. Но вряд ли такое случится: комиссия начнет подводить результаты проверки, высказывать замечания, и командирам будет не до молодых.
С задания вернулся майор Белоглазов. Он побывал на командном пункте и вскоре появился на самолетной стоянке.
— Готовы к полету? — спросил он у Супруна.
— Так точно! — оживился лейтенант.
Майор посмотрел на часы.
— Будьте внимательны. Комиссия дала высокую оценку части. Не подкачайте. А сейчас — в кабину!
Не прошло и пяти минут после разговора с комэском, как сирена оповестила отбой тревоги. И тут же по радио прозвучала команда:
— Ноль сорок пятому взлет!
Супрун послал рычаг управления двигателем вперед, и самолет, присев по-птичьи, помчался по бетонке. Супрун знал, что за ним наблюдает командир, и старался не допустить ни малейшей ошибки.
Да, майор Белоглазов наблюдал. Пристально, неотрывно. Этот молодой лейтенант, несмотря на его напористость и в общем-то неплохую технику пилотирования, чем-то вызывал у майора тревогу. За свою командирскую практику Белоглазову приходилось иметь дело с разными летчиками, и он научился каким-то внутренним чутьем разгадывать людей. Супрун летал смело и уверенно, и, видимо, со временем из него выйдет неплохой пилот. Но задача командира не только в том, чтобы научить молодого человека [185] искусству управлять самолетом, метко стрелять, виртуозно крутить фигуры пилотажа. Воздушный боец — это мастерство плюс дисциплина, это смелость плюс чувство долга, это упорство плюс исполнительность.
Супрун обладал неплохими задатками: быстро схватывал все, чему его учили, имел отличную реакцию, пилотировал уверенно. Даже самоуверенно. Вот это-то и не нравилось Белоглазову. Лейтенант считал, что все постиг, на самом же деле он многое брал не мастерством, а своей силой и напористостью. А с этим мириться было нельзя: малейший просчет в чем-то и может случиться непоправимое.
Ко всему, молодой офицер оказался обидчив и своенравен. Когда майор поставил ему четверку за первый полет, в глазах лейтенанта вспыхнули недобрые огоньки. Белоглазов не подал вида, что заметил это.
Во втором полете Супрун пилотировал значительно лучше, и другому командир эскадрильи, может быть, и поставил бы пятерку для поднятия духа, Супруну же, наоборот, для пользы дела следовало сбить пыл, развенчать самоуверенность.
«Понял ли он свою ошибку?» — размышлял теперь Белоглазов, наблюдая за стремительно уносящейся ввысь машиной.
...Супрун чувствовал себя джинном, выпущенным из бутылки. Теперь-то он покажет, на что способен! Говорят, слабые люди выжидают обстоятельства, сильные создают их сами. Он, Анатолий Супрун, не будет ждать, пока командир признает его талант, он докажет это делом.
Мысли бежали стремительно, опережая самолет, и, когда он прилетел в зону, в голове был уже ясный план действий. По условиям задания полагалось вначале отработать горизонтальные фигуры, потом, когда запас топлива уменьшится и самолет станет легче, включить форсаж и перейти на вертикаль. Нет, он все будет делать по-своему. Горизонтальные фигуры — для младенцев, рассуждал он. А вот вертикальные — это посложнее. С них-то он и начнет пилотаж. И не с включенным форсажем, который пожирает топливо с громадным аппетитом. У двигателя достаточно сил и без форсажа делать любые эволюции.
Слева и справа проносились горы с величественными снежными вершинами. А между ними расстилалась зеленая, как ковер, долина. Самолет набирал скорость. Супрун твердо держал ручку управления. Энергия бурлила в нем, [186] а сознание своей силы и незаурядности пьянили голову. Он еще покажет, на что способен. Движение ручки на себя, и самолет, вздыбившись, как разгоряченный конь, взвился ввысь. Супруна вдавило в сиденье, от перегрузки на глаза набежал туман. Но лишь на мгновение. Синее небо вновь распростерло летчику свои объятия.
Но что это? Самолет быстро стал терять силы, задрожал и начал валиться на крыло. Супрун тут же попытался удержать его ручкой управления и педалями, но «миг» все же вывернулся. Он подчинил его своей воле лишь на выходе из фигуры.
«Врешь, я заставлю тебя повиноваться!» — упрямо стиснул зубы Супрун и снова повел машину на разгон скорости. Еще немного, еще... И снова мелькнули слева и справа зубчатые горы, долина, серая полоса у горизонта и синее небо. И снова в какой-то точке силы самолета стали таять. Но Супрун был уже готов к этому. Его рука и ноги среагировали мгновенно. Машина как будто успокоилась, продолжая задирать нос. Еще немного, еще. И вдруг она, вздрогнув, опрокинулась на спину и заштопорила к земле.
Супрун дал рули на вывод. Мелькнуло небо, горы, качнулся горизонт. Самолет не реагировал на рули. Летчик отпустил ручку, поставил ноги нейтрально — не помогало. Снова на вывод. Самолет заштопорил в другую сторону.
Теперь летчик видел только землю: то острые, как клыки, горы, то распластанную между ними долину. И все это неотвратимо и стремительно неслось навстречу.
Один виток, второй, третий... Тело лейтенанта покрылось холодной испариной. Земля, встречавшая его после каждого полета нежными объятиями, неслась теперь навстречу — неумолимая и беспощадная. Уже были видны ощетинившиеся неровными зубьями горы, темные, как могилы, ущелья между ними. Еще несколько секунд — и будет поздно. Надо предпринять последнее...
Все, что случилось потом, было неясным и обрывчатым. Лейтенант видел, как к нему бегут люди, мчится грузовая автомашина. Жив. Он почувствовал соленый привкус во рту. Прислонил руку: кровь. Все отбил внутри, и теперь ему не подняться, не пошевелиться. А небо синее-синее. И видит он его, наверное, в последний раз. Но он все же попробовал
приподняться. Сел. Острой боли нигде не почувствовал. И голова соображала нормально. [187]Только пощипывало губу. Так вот она откуда, кровь. Он прикусил губу.
Супрун встал. Подъехала машина, и водитель, усадив его с собой рядом, повез в ближайшее село. А через несколько минут туда прилетел вертолет, и Супруна отправили в госпиталь. Там его осматривали, ощупывали, прослушивали. У него ничто не болело, кроме души.
На следующий день к нему приехал генерал, тот самый суровый и немногословный генерал, который месяц назад проверял у него технику пилотирования.
Супрун рассказал все как было.
— Значит, без форсажа? — спросил генерал.
— Без форсажа, — глухо повторил Супрун.
— И сразу на петлю, не выработав топливо?
— Сразу...
Генерал помолчал, встал и уехал.
Да Супрун другого и не ожидал. Одного летчика генерал перевел на командный пункт лишь за то, что тот снизился на недозволенную высоту. Прощай, небо...
В часть Супрун ехал, как на страшный суд. Он знал, что его ожидает, и, как обреченный, смирился со своей участью. Лишь иногда проскальзывала мысль: «Если бы простили». Но он знал, не простят. За него и слова никто не замолвит: комэск относится к нему с предвзятостью, а командир звена старший лейтенант Лещенко тот и вовсе недолюбливает.
И, как нарочно, первым в штабе ему повстречался командир звена.
— А, прибыл, — неласково усмехнулся он. — Что нос повесил? Бери в библиотеке наставления и на гауптвахту отправляйся. Готовься к зачетам. Отстояли тебя. Правда, и мы с майором по взысканию схлопотали, да ладно, не в этом суть. А тебе — на всю жизнь паука.
Такой характер
В гарнизонном клубе было многолюдно. Из близлежащих сел пришли девушки, по-праздничному наряженные, возбужденные. Вокруг них сразу же захороводили молодые офицеры. Особенно вокруг стройной смуглянки.
Подполковник Анатолий Васильевич Иванкин, стоя в сторонке, с интересом наблюдал за подчиненными. Он любил вот так, в непринужденной обстановке, посмотреть [188] издали на тех, с кем приходится делить радости и трудности летной службы. И столько нового порой открывалось ему в людях.
К смуглолицей девушке подошел Владимир Тарасов, высокий, красивый летчик-инженер, что-то сказал веселое, и лицо девушки осветилось улыбкой. Да, Владимир умеет хорошо сказать. Его любят в полку за остроумие, веселый, открытый характер, уважают за пилотажное мастерство.
Анатолий Васильевич тоже испытывал к нему симпатию — что ни поручи офицеру, все ему по плечу. И политзанятия ведет, и командиру эскадрильи помогает, и для отдыха время находит. «Нет, не зря командиром звена назначили», — подумал подполковник.
Внимание девушки было всецело отдано Владимиру, и другим ничего не оставалось, как удалиться. Но вот около нее остановился старший лейтенант Хатунцев, тоже летчик-инженер.
«И этот туда же, — мысленно усмехнулся Иванкин. — Нет, брат, не по Сеньке шапка».
Невысокого роста, худощавый, Хатунцев рядом с атлетически сложенным Тарасовым выглядел прямо-таки невзрачно. Проигрывал он не только внешними данными. Красноречия особого за ним тоже не замечали. Тарасов смел, дерзок, ловок. Хатунцев же какой-то чрезмерно осторожный, даже, пожалуй, медлительный.
Но нравилась командиру в Хатунцеве настойчивость. Чем больше Иванкин делал ему замечаний, чем острее высказывал свое недовольство, тем упорнее брался летчик за дело. Он часами просиживал на тренажерах, в кабине истребителя. А сдвиги в технике пилотирования были весьма незначительные. «Нет, — не раз думал Иванкин, — не каждому дано быть асом. Летчиком, как и художником, надо родиться. Талант — не золотистая эмблема с крылышками, его к тужурке не приколешь».
Прозвенел звонок, и публика хлынула в открывшиеся двери зрительного зала. К удивлению Иванкина, Хатунцев прошел в зал вместе с Владимиром и девушкой.
Из клуба они тоже вышли втроем.
...Истребитель круто лез вверх. Выше и выше, где уже вычерчивал на голубой глади белые петли другой самолет — «противник», с которым Хатунцев должен померяться [189] силами. Воздушный бой. Иванкин больше всего любил это упражнение. И когда сам «крутил» боевые развороты, петли и полупетли, и когда это делали другие, а он сидел в задней кабине за инструктора и внимательно следил за действиями летчика.
Если характер человека наиболее ярко проявляется в минуты опасности, то качества летчика — в воздушном бою. Здесь он весь на виду, и не надо никакой регистрирующей аппаратуры, чтобы зафиксировать, как учащенно забилось его сердце от восторга или замерло от тревоги, как налились силой мускулы и заставили дрожать машину и повиноваться или как дрогнули сами...
Инструктор все видит, все чувствует по поведению истребителя.
Хатунцев должен атаковать первым. Его «противник» — командир эскадрильи, первоклассный летчик, мастер стремительных, неожиданных атак. Это в полку знают все. Знает и Хатунцев. Что он противопоставит командиру, какую тактическую сметку проявит в поединке? Правда, на предварительной подготовке к полетам, они все обговорили и расписали, где, кто и как атакует, но инициативу или пассивность, дерзость или чрезмерную осторожность планом не предусмотришь.
Хатунцев набрал заданную высоту и положил истребитель в разворот, следом за самолетом-целью. Началось сближение. «Противник» делал отвороты влево, вправо, «закручивал» спираль неторопливо, осторожно. А Хатунцев будто старался скопировать «почерк» командира, плелся в хвосте, как на поводке, плавно вводя истребитель из одной фигуры в другую.
Иванкин от нетерпения покусывал губы, им овладевал азарт, так хотелось взять ручку управления в свои руки и рвануться за целью! Но он сдерживал себя и молчал.
Наконец Хатунцев доложил, что атаку произвел, и сразу же цель круто и энергично
пошла влево.
— Берегитесь, теперь атакуют вас, — сказал командир. Но и «берегитесь», сказанное специально для встряски, мало повлияло на летчика: он пилотировал старательно, чисто, но вяло. И подполковник не выдержал.
— Смотрите, — сказал он, принимая на себя управление. — Истребитель должен чувствовать силу вашего характера и повиноваться моментально.
От перегрузки зарябило в глазах. Солнце молнией [190] сверкнуло в кабине, и пошел «закручивать» самолет тугую пружину, уходя от преследования.
Из кабины Хатунцев вышел мокрый от нота, а в глазах — восторженные огоньки. Он с благоговением смотрел на подполковника.
Подошел командир эскадрильи. Тоже вспотевший, возбужденный.
— Вот это да! — похвалил он Хатунцева. — Все соки из меня выжал.
Иванкин хитро улыбнулся и заговорщически подмигнул Хатунцеву:
— Молодец. Так вот и надо. Самолет, что горячий конь с норовом, признает только сильных.
Смуглолицую девушку Иванкин снова увидел в клубе и немало удивился. Она была с Хатунцевым. Судя по тому, как мило она ему улыбалась, положение старшего лейтенанта было, видимо, намного прочнее, чем ожидал командир. А когда стоявший рядом политработник сказал, что у Хатунцева скоро свадьба, подполковник даже не поверил:
— Не может быть.
Будто в подтверждение его слов появился Тарасов. Окинул фойе гордым, чуть насмешливым взглядом, увидел свою знакомую и издали поздоровался с ней кивком головы. «Сейчас подойдет к ней, и все изменится», — подумал Иванкин.
Но Тарасов остался с товарищами. Да, видно, позиции его на сердечном фронте сильно пошатнулись.
— Вот и пойми этих женщин, — Иванкину было обидно за своего любимца. — На кого такого орла променяла?
— Не такой уж Тарасов орел, — возразил политработник и закончил с сожалением: — Мало мы психологией занимаемся, Анатолий Васильевич.
— Моя психология — полет. Там лучше всего характер проявляется. Кто в небе не дрогнет, тот и на земле не подведет.
К ним подошел капитан Тарасов:
— Здравия желаю.
Иванкин поздоровался с подчиненным за руку и уловил запах спиртного:
— Уж не с расстройства ль? [191]
— Что вы? — усмехнулся Тарасов, поняв намек. — Наоборот, с радости. Рад за товарища.
Но это прозвучало фальшиво.
— Вы что, забыли, что завтра полеты? — уже официально спросил подполковник.
— Нет, не забыл, — ответил Тарасов. — Я выпил самую малость. До завтра и духу не останется.
— Дело не в духе, а в дисциплине. Летать завтра не будете.
Тарасов было нахмурился, но тут же улыбнулся своей добродушной невинной улыбкой:
Точка, товарищ подполковник. Такое больше по повторится.
На следующий день была объявлена тревога. Едва смолк вой сирены, а аэродром уже кишел, как муравейник перед ненастьем: авиаспециалисты расчехляли самолеты,
подвозили боезапасы, летчики тут же, у самолетов, прокладывали маршрут на картах. Прибывшие из вышестоящего штаба проверяющие во главе с немолодым полковником педантично записывали все в свои блокноты.
Подполковник Иванкин все чаще посматривал на часы. Нет, он не беспокоился, что подчиненные не уложатся вовремя. Тут полный порядок. Уже начали поступать доклады о готовности к вылету. Но где капитан Тарасов? Чем объяснить, что звено без командира? Проспал или куда уехал?
Подполковник решил были идти звонить в гостиницу, где жил Тарасов, по в это время увидел вынырнувшую из-за поворота знакомую высокую фигуру.
Тарасов прибежал красный, запыхавшийся. Под глазами синие круги, видимо, от беспутно проведенной ночи.
— Ваш? — удивленно спросил председатель комиссии.
— Да, капитан Тарасов, командир звена, — не зная куда деться от стыда, ответил Иванкин.
— Какой же это командир? — еще больше удивился полковник. — Шум устраивает в гостинице, отдыхать другим мешает.
Иванкин от этих слов готов был провалиться сквозь землю. Не ожидал он такого от Тарасова. Вот тебе и отличный летчик. Слово дал. А чего стоит его слово? Сегодня опоздал на полеты, завтра опоздает в бой. Нет, такому человеку нельзя доверить ответственное дело.
Раздумья командира прервал голос полковника:
— А теперь слушайте задачу... [192]
Истребители стремительно один за другим уносились ввысь и растворялись в дымчатом мареве. Солнце уже поднялось над горизонтом, но наплывающие с запада облака закрывали его. Небо было неприветливо, грязно-серого цвета.
На душе у Иванкина было муторно. Даже не радовали, как обычно, эти отливающие сталью остроносые, похожие на крылатых дельфинов истребители, содрогающие грохотом турбин землю и небо.
— Командир, на взлете у одного истребителя, кажется, оторвалось колесо, — доложил наблюдающий.
«Этого еще не хватало», — подумал подполковник и дал команду взлетевшей четверке пройти над стартом с выпущенными шасси.
У первого все в порядке, у второго... А у третьего стойка колеса торчала, как костыль.
— Сто третий, — назвал свой позывной летчик. «Хатунцев!» — Подполковника будто окатили ледяной водой. Судьба явно издевалась над ним в это утро. А недалеко, мозоля ему глаза, расхаживал капитан Тарасов, отстраненный от полетов.
Но не о нем теперь думалось, а о молодом летчике, что в небе. Как посадить такую машину? Скорость большая, этот костыль сразу же при касании бетонки создаст вращательный момент, и самолет перевернется.
Сажать с убранным шасси? На взлетно-посадочную полосу нельзя. Бетонка высечет сноп искр, и пожар неизбежен. На грунт?.. Тоже нужно высокое искусство. Малейшая
неточность, и истребитель скапотирует. К тому же подвешены ракеты. А летчик ждет команду, самолет уже на первом развороте.
— Уберите шасси и идите на полигон, — как можно спокойнее сказал Иванкин. — Выполняйте задание по плану.
На командном пункте тишина. Томительно тянется время.
— Сто третий задание выполнил, — наконец доложил Хатунцев. Голос его спокоен. Это хорошо. Но одного спокойствия мало. Думай, командир, думай. Летчик возвращается на аэродром.
Конечно, можно и не ломать голову. Приказать покинуть самолет — и делу конец. Никто командира не осудит: летчик молодой. Но разве будет молчать собственная совесть, разве не спросит она, а все ли он продумал, предусмотрел? [193] Истребитель — не детская игрушка. Сколько вложено в него народного труда, средств. Спасти его есть возможность...
Иванкин нажал кнопку микрофона:
— Сто третий, будете садиться на грунт с убранным шасси.
— Понял, командир, посажу.
— А я и не сомневаюсь, — сказал подполковник. — Действуйте хладнокровно, уверенно.
Он действительно не сомневался. Хатунцев, конечно, посадит самолет. Но просто посадить — этого в данной ситуации мало. Самолет без шасси. Его надо «притереть»: малейший крен при выводе из угла планирования — и поломки не избежать. Нужно искусство ювелира, выдержка и хладнокровие спартанца. Много летал Иванкин с Хатунцевым, выковывая в нем эти качества. И многого, казалось, достиг офицер. Но обрел ли то чутье, без которого нет настоящего летчика? Многие пишут стихи, но немногие становятся поэтами. Каждого можно научить летать, но стать асом...
Подполковник неотрывно следит за снижающимся самолетом. Истребитель заходит на посадку ровно, и непохоже, что с ним что-то произошло. Иванкин держит микрофон наготове. Ждет.
Самолет проносится над границей аэродрома, поднимает нос. Гаснет скорость. Хвост опускается, касается земли. Истребитель плавно ложится на брюхо и, пробороздив немного по травяному покрову, останавливается.
Иванкин вздохнул облегченно, будто сбросил с плеч глыбу, и, отдав микрофон помощнику, вышел на балкон. Он видел, как Хатунцев вылез из кабины и неторопливо пошел навстречу подъезжающему «газику».
«Каков орел! — с восторгом думал командир о Хатунцеве. — Нет, не зря выбрала его девушка. Характер проявляется не только в небе».
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Генерал Одинцов закончил последние указания и спросил, будут ли вопросы. После небольшой паузы поднялся невысокий, плотно скроенный командир авиасоединения, которого Михаил Петрович знал еще со времен войны. Пополнел, посолиднел комдив, залысины поднялись чуть [194] ли не до макушки, и седин в волосах прибавилось, а вид все тот же — бравый, осанистый.
— Разрешите, товарищ командующий? — забасил он, молодецки расправляя плечи. — Правда, у меня не вопрос, а предложение.
Тем лучше, — улыбнулся Одинцов. — Слушаем вас. Комдив взял под мышку большой альбом и направился через весь зал, заполненный командирами и начальниками, к Одинцову.
— Задача, которую нам предстоит решать, нелегкая, — начал комдив твердо и скорее торжественно, чем озабоченно. — Но мы готовились к этому и кое-что придумали. — И он открыл обложку альбома.
С белого ватманского листа на Одинцова будто дохнуло весенней зеленью и синим бездонным небом, в котором выписывали замысловатые фигуры стремительные «миги» и «су», оставляя позади красные и синие полосы. Схемы атак истребителей и истребителей-бомбардировщиков по переднему краю «противника» были нарисованы рукой умелого художника, и когда комдив приподнял альбом и повернул к присутствующим, по залу прокатился восторженный гул. Комдив горделиво приподнял голову.
Одинцов перелистал альбом.
— Впечатляюще, — сказал он. — И при осуществлении вашего замысла это будет эффектное зрелище. Но какую роль в таком случае вы отводите артиллерии? Ведь обработка переднего края — ее прямая задача. Это, во-первых. Во-вторых, учитывая мощь современного оружия и скорость наших самолетов, такое сосредоточение авиации на узком участке ничем не оправдано. И, в-третьих, когда же вы думаете отрабатывать такие упражнения, как поиск и уничтожение объектов в тылу противника?
— Но мы подыгрываем сухопутным войскам, — возразил комдив.
— Не надо «подыгрывать», — Михаил Петрович сделал паузу. — Конечно, иные начальники считают, что чел! больше самолетов над головой и чем красивее они выписывают различные фигуры, тем и эффективность авиации выше. Но мы-то с вами не для воздушных гастролей готовим летчиков.
Зазвонил телефон. Одинцов взял трубку. Из вышестоящего штаба поступило распоряжение: срочно перебросить истребители-бомбардировщики на один из дальних аэродромов [195] и оттуда наносить удары по объектам «противника», расположенным в глубине его обороны.
— Вот видите, — повернулся Одинцов к комдиву, — как раз то, о чем мы с вами говорили. Вам и решать эту задачу.
— Но... У меня только одно подразделение осталось незадействованным. И вы сами знаете, каково там положение.
Да, Одинцов знал: много молодых летчиков, недавно назначен новый командир. И самое главное, что беспокоило, видимо, комдива, прошлогодние летно-тактические учения...
Подразделению предстояло тогда нанести удар по аэродрому «противника». Едва СУ-седьмые вышли на цель, как их атаковали истребители. И кое у кого из молодых летчиков нервы не выдержали, строй дрогнул, рассыпался. А перед очередным вылетом нашелся летчик, который вдруг заболел, хотя никаких признаков плохого самочувствия врач у него не обнаружил.
На последний факт никто особого внимания не обратил — мало ль как у человека обстоятельства сложились? А Михаилу Петровичу он объяснил многое: нет, не молодость
повинна в том, что летчики дрогнули в «бою». Все дело в их недостаточной психологической подготовке.
Говорят, у каждого человека есть своя история, а в истории свои критические моменты. И о человеке можно безошибочно судить только смотря по тому, как он действовал и каким являлся в эти моменты, когда на весах судьбы лежала его жизнь и его честь.
Все это так. Но Михаил Петрович постиг и другую истину: в каждом человеке заложены все человеческие свойства — смелость и боязнь, благородство и тщеславие, упорство и безволие. Иногда эти свойства проявляются совсем неожиданно, не только в зависимости от обстановки, но и от того, каков моральный дух человека.
...В самый разгар битвы под Курском Одинцов, тогда еще старший лейтенант, командир эскадрильи, заметил, что один из лучших его командиров звеньев, гроза фашистских летчиков, вдруг стал нервничать в бою, нарушать строй, стрелял мимо, когда цель была перед самым носом. [196] Как-то после одного из боевых вылетов Одинцов вызвал летчика на откровенность и с трудом поверил услышанному: тот почувствовал
неуверенность в себе. Вот тогда-то Михаил Петрович и задумался о человеческой психике. Он понял: нервная система командира звена истощилась, ему нужен отдых. И, несмотря на самый разгар боев, когда каждый человек был на счету, Одинцов освободил его от боевых заданий на три дня. А потом командир звена снова сражался в небе, стал Героем Советского Союза, служит и поныне на ответственной должности.
Да, психологическое состояние человека — тонкое и сложное дело, которое надо изучать да изучать.
Когда Одинцов поднял этот вопрос на Военном совете, нашлись у него сторонники и противники. Но как бы там ни было, а психологической подготовкой с тех пор стали заниматься и командиры, и методические советы, и партийные организации. Больше читается лекций, шире пропагандируются подвиги и мужество летчиков, содержательнее стали встречи с героями и ветеранами. Бывая в частях, Одинцов особенно интересовался, как и что делается в этом направлении. К сожалению, не все относились еще к психологической подготовке с должной серьезностью. Не понял Одинцова и стоявший теперь рядом комдив, посчитавший нововведение командующего данью моде.
— А я психологией в небе занимаюсь, — шутливо-иронически отвечал он. — Там лучше всего характер проявляется.
Казалось бы, верно: где, как не в полете, закаляется воля, выковывается характер. Но комдив упускал из виду такие факторы, как физическое состояние летчика, его моральный настрой. Будь пилот богатырем, асом, но если он расслабится или захандрит, мало чего будет стоить в бою. В этом Одинцов убеждался не раз в огне боев.
После битвы под Курском лучшим летчикам-истребителям из соседней части вручали правительственные награды. На торжества был приглашен и Михаил Петрович. Поздравив товарищей, он собрался уходить. Его не пускали: подумаешь, не доспишь час, другой. Но Одинцов настоял на своем.
А рано утром две группы — штурмовики и [197] истребители — вылетели на боевое задание. Первую вел Одинцов, а прикрывали его вчерашние именинники. При подходе к цели Одинцов заметил выше себя «мессершмитта» и предупредил об этом истребителей. Однако не развеявшееся еще со вчерашнего вечера благодушное настроение, притупленная
спиртным реакция не позволили им своевременно среагировать на сигнал. Фашист атаковал и с одного захода подбил два наших истребителя.
В бою часто, очень часто приходится решать прежде всего психологические задачи. В одном из налетов на вражеский аэродром не успели штурмовики отбомбиться и отойти от цели, как на них навалились «фокке-вульфы». Нашим истребителям удалось сковать фашистов. А с другого аэродрома поднималась еще группа «мессершмиттов», грозя зайти в хвост по существу безоружным «илам» — снаряды все уже были израсходованы.
Решение к Одинцову приходит мгновенно — отвлечь этих истребителей на себя. Он разворачивается и устремляется наперерез фашистским самолетам.
Замысел удался: рассчитывая на легкую добычу, вражеские летчики кинулись за самолетом-одиночкой. Одинцов бросал машину из одной фигуры в другую, делал возможные и невозможные в обычных условиях эволюции, не давая поймать себя в прицел. И вышел из боя победителем. Помогли физическая сила, мастерство, мгновенная реакция и конечно же общий настрой — не поддаться врагу.
А ныне техника еще сложнее, тактика разнообразнее, перегрузки многократнее. И требования к летчикам выше. Потому Михаил Петрович морально-психологическую подготовку неразрывно связывал с физической закалкой, и воплощение идеи начал со строительства в частях спортивных баз, оборудования их специальной тренировочной аппаратурой.
Психологическая подготовка летного состава — всего лишь один вопрос, который командующему удалось сдвинуть с места. А сколько их стояло перед ним: теория и тактика, летная и огневая подготовка, дисциплина и боеготовность. И все это не только надо глубоко знать, но и совершенствовать, развивать.
Много внимания Одинцов уделял «ославившемуся» на прошлогодних учениях подразделению, лично интересовался [108] ходом учебы. И хотя год — срок невелик, видел: подтянулись летчики в физическом отношении, инициативнее действуют в полетах. Но достигли ли они тон боевой зрелости, которая необходима для решения задач в обстановке, приближенной к реальной? Комдив явно против включения подразделения в учения. А ведь он ближе к личному составу и должен лучше знать его возможности. И все же надо было посмотреть летчиков в деле, проверить, насколько помогают им нововведения в росте боевого мастерства.
— Подготовьте эскадрилье распоряжение, — сказал Одинцов.
Комдив пожал плечами.
— Что ж, вместе будем краснеть...
Тревогу объявили ночью. Погода была явно не на стороне летчиков: по-весеннему тяжелые облака, набухшие влагой, провисали чуть ли не до самой земли; казалось, даже свет фар мечущихся но рулежным дорожкам машин достает до них. Требовалось срочно покинуть аэродром, пройти в этих непроглядных облаках строем по дальнему маршруту, сесть на незнакомой точке и начать оттуда действовать но тылам «противника».
Задачу летчикам ставил подполковник Фоломеев. Одинцов внимательно наблюдал за ним, слушал его спокойный ровный голос, в котором чувствовалась твердость и уверенность, и видел, как эта уверенность передавалась подчиненным. В глазах молодых летчиков горел задор, неуемное желание подняться в небо. Вот русоволосый голубоглазый старший лейтенант. Лицо спокойное, волевое. Рядом с ним — смуглолицый брюнет с
характерным для восточных людей разрезом глаз, в черных зрачках его так и светятся огоньки, будто он нажимает уже на кнопку пуска ракет. За соседним столом — чернобровый украинец и широкоскулый казах. Все они собраны, сосредоточены — хоть сейчас в бой. Одинцов переводил взгляд с одного пилота на другого, и в этих молодых, но мужественных лицах ему виделась его молодость, его фронтовые товарищи, готовые в любой момент пойти на смерть и на подвиг.
Лица летчиков выражали волю и решительность; лишь комдив, присутствующий здесь же, не замечал этого и был хмур, как сегодняшнее пасмурное небо. [199]
На рассвете на командном пункте, где находился Одинцов, зазвонил телефон. Подполковник Фоломеев докладывал: все экипажи в точно назначенное время произвели посадку. А немного спустя истребители-бомбардировщики вылетели на задание.
Михаил Петрович неотлучно находился на КП, следя за обстановкой, вслушиваясь в переговоры по радио. Фоломеев молчал: он вел своих питомцев в тыл «противника», где их подстерегали и чуткие всевидящие радары, и самонаводящиеся ракеты, и всепогодные перехватчики. Сумеют ли они пробиться сквозь такой плотный и грозный заслон, найти замаскированные цели?
Рядом с Одинцовым стоял комдив. Он курил, глубоко затягиваясь. Наконец начальник КП положил перед командующим радиограмму. В ней было коротко: «В 17-00 истребители-бомбардировщики нанесли удар...»
Перед разбором учений к комдиву подошел полковник из войск противовоздушной обороны.
— Задали ваши летчики нам работенки, — посетовал он, но заключил с восторгом: — Молодцы! Отлично действовали!
— Это вот товарищ командующий постарался, — улыбнулся тепло комдив, и по его голосу нетрудно было понять: наконец-то он оценил значение психологической подготовки летчиков.
Старый знакомый
Наш экипаж готовился к вылету. В Соединенных Штатах мы пробыли десять дней, но и за это время изрядно стосковались по Родине.
Вылет был назначен на завтра. Утром я съездил на аэродром, осмотрел самолет, дал указания бортовому инженеру, сколько заправить топлива в баки, а после обеда зашел к своему давнему приятелю, работавшему в советском консульстве. Пробыл я в консульстве около часа, вернувшись в гостиницу, в вестибюле у окна увидел высокого мужчину в потертой кожаной куртке. Он смотрел на улицу, лица его не было видно. То ли потому, что на нем была куртка американского летчика, то ли по другим причинам, но я задержал на нем взгляд. Когда поравнялся [200] с ним, он повернул голову. Чуть не вскрикнув от удивления, я остановился. Передо мной стоял старый знакомый, американский летчик Алексей Раполенко.
Познакомились мы с ним в 1944 году. Однажды, возвращаясь с задания, уже недалеко от нашего аэродрома, я заметил впереди «Летающую крепость». Меня не удивило, что американский самолет над нашей территорией: союзники тогда осуществляли «челночные»
операции. Их самолеты ежедневно садились на нашем аэродроме, заправлялись топливом и бомбами и снова улетали на задание теперь уже с посадкой на другом аэродроме. Однако я удивился тому, что самолет один, обычно «Летающие крепости» ходили группами. Он медленно снижался. Чутье летчика подсказало мне, что с самолетом неладно. Я увеличил «газ» моторам и, чуть отдав от себя штурвал, стал догонять американца.
Предположения мои подтвердились — «Боинг» летел с одним выключенным мотором, лопасти винта были неподвижны. Это удивило меня еще больше. Я не раз видел американские самолеты после вынужденной посадки. На таких самолетах наши летчики полетели бы, не задумываясь, на полный радиус действия. Американцы же частенько при малейшей неисправности либо садились на вынужденную, либо покидали самолет. Им было выгодно сидеть без самолета: тыл не фронт, а когда еще дядя Сэм пришлет новый! Да и дядя Сэм не особенно торопился...
А этот летел. Летел, накренившись на одно крыло, будто взвалив на него второе, где неподвижно торчали лопасти винта.
Едва я поравнялся с ним, как стрелок мой доложил:
— Вверху два «мессершмитта», идут на сближение. Это были фашистские «охотники». Я понимал, что боя не избежать. Надо было предупредить союзников. Вышел немного вперед «Боинга» и приказал стрелку дать вверх пару коротких очередей. Американцы меня поняли: самолет качнул крыльями. Я взял на себя штурвал, — самолет мой взмыл вверх, — и уменьшил обороты. Теперь мы шли с небольшим превышением, плотным правым пеленгом.
— Вася, отражай атаки, — приказал я стрелку, — отворачивать не будем, надо прикрыть союзников.
Фашистские летчики, воспользовавшись нашей неманевренностыо, зашли со стороны солнца и атаковали нас. [201] Я оказался раненным в ногу, а на «Боинге» задымил второй мотор, — хорошо, что на нем их было четыре, — теперь он летел еще медленнее, снижаясь круче. Но и фашисты не остались безнаказанными. Когда они вышли из-под прикрытия солнца, стрелки обрушили на них огонь всех пушек. За ведущим потянулась черная косичка, которая быстро росла. «Мессершмитт» клюнул носом и пошел к земле. Второй фашист атаковать больше не решился.
На «Боинге» мотор вскоре дымить перестал — летчикам, по-видимому, удалось потушить пожар. Кое-как долетели до аэродрома и сели. Меня сразу увезли в госпиталь. Туда же привезли и американского летчика, раненного в правую руку. Это был совсем еще юный красивый блондин с большими серыми глазами, в которых постоянно светился живой огонек. Наши койки стояли рядом, американец, оказалось, хорошо владел русским языком, мы разговорились в первый же день нашего пребывания в госпитале. Узнав, что я с того самолета, который пришел ему на помощь, летчик стал благодарить меня.
— Не стоит, — ответил я. — Это наш долг — ведь мы союзники.
Юноша грустно улыбнулся:
— Так-то оно так, но... иногда этот долг не выполняют даже свои...
Я понял, что он имел в виду. Его самолет подбили еще над целью, командир экипажа был убит; и вот он, второй летчик, повел неисправный самолет к назначенному аэродрому. Скорость уменьшалась, но никто из экипажей, идущих в строю, не убавил обороты, не пошел с ним рядом, чтобы защитить его в случае нападения истребителей противника...
Юноша с уважением относился ко мне и к товарищам по палате, мне он понравился, и мы с ним подружились. Я узнал, что он сын эмигранта, отец у него украинец, мать русская, уехали они в Америку в 1912 году.
Алексей расспрашивал меня об Украине, о ее природе, климате; я рассказал ему, какой она была до войны. Слушал он меня с интересом, а однажды мечтательно сказал:
— Может быть, еще удастся побывать там.
— Так поезжайте, — вырвалось у меня. — Сейчас это легко сделать.
— Нет, — он задумался. — Мы нужны на фронте. Как-нибудь после войны. [202] Выписался он из госпиталя раньше меня. Мы простились с ним тепло и душевно...
И вот теперь он стоял передо мной.
Нет, это был уже не тот стройный человек с веселым блеском в глазах. Плечи его — широкие и красивые прежде — опустились, сделав фигуру сутулой; летная куртка свисала с них, словно была с чужого плеча. В глазах, хотя они смотрели удивленно, я заметил тоску. Лицо похудело, на лбу и в уголках губ легли складки морщин.
Алексей, пораженный неожиданной встречей, неподвижно смотрел на меня.
Я шагнул к нему.
— Василий Иванович? — он схватил мою руку и, стиснув своими сухими крепкими пальцами, стал трясти ее.
— Алеша...
— Как вы попали сюда? — после минутного рукопожатия спросил он.
— Привозил к вам нашу делегацию.
Но он не слушал; его глаза, казалось, ощупывали меня с ног до головы.
— Значит, вы теперь гражданский летчик?
— Как видите...
— На ил-шестьдесят два.
— Да.
— Слыхал об этом лайнере... Командиром?
Я кивнул головой.
— Да, далеко шагнули...
— А как вы поживаете?
— Хвалиться нечем, — он глубоко вздохнул. — Все идет совсем не так, как хотелось бы. Я нередко завидую вам. Сейчас у нас много говорят о России. И я часто думаю, что мог бы родиться на Украине и жить с вами, летать, — он замолчал, и морщины у его глаз обозначились еще четче. Он выглядел намного старше своих лет.
— Как сложилась ваша жизнь после войны? — невольно вырвалось у меня.
— Как? — Алексей взглянул на часы. — Вы не спешите?
— Нет. Я закончил все свои дела.
Тогда слушайте. — Мы отошли к столу, устроились поудобнее в креслах, и Алексей начал свой грустный рассказ: — В 1948 году мне предложили работать летчиком [203] при Центральном разведывательном управлении. Я понимал, что это значит, и отказался. В 1950 году после вторичного отказа меня, как неблагонадежного, уволили из армии. Полгода я скитался без работы, а потом, наконец, устроился в фирму «Найк», близкую к военному ведомству, так называемым личным летчиком. Платили мне неплохо, но работа была
особенная. Я летал на таких самолетах, которые выработали полный ресурс и не подлежали никакому ремонту. Это старье куда-то надо было девать, и глава фирмы нашел ему применение. Он скупал старые самолеты по дешевке, как утиль, и испытывал на них новое оружие — ракетные снаряды «земля-воздух».
Я взлетал, набирал заданную высоту, настраивал автопилот и при подходе к зоне стрельб покидал самолет. Четыре года все шло хорошо, а на пятый случилось то, что и следовало ожидать.
Глава фирмы закупил несколько «Боингов» послевоенного выпуска. Эти самолеты летчики прозвали мышеловками и отказывались на них летать. Они поистине походили на мышеловки: если в воздухе что-либо случалось, то покинуть самолет удавалось не каждому...
Подлетая к зоне стрельб, я, как всегда, настроил автопилот, передал об этом на командный пункт стартовых площадок и приготовился к прыжку. Нажал на кнопку открытия люка. Загорелась красная лампочка — люк открылся. Я встал с сиденья. В это время самолет накренился и стал уходить с курса. Барахлил автопилот. Я выключил его и стал настраивать сначала. Надо было торопиться, ибо через шесть минут по самолету произведут выстрел.
Как назло, с настройкой не ладилось. Пока крутил ручки «чувствительности», лампочка погасла — люк закрылся. Наконец самолет пошел устойчиво, я нажал на кнопку, но лампочка не загорелась. «Перегорел предохранитель», — догадался я и кинулся к багажнику, где хранились запасные. Но там ни одного не оказалось: экономные хозяева лишним не разбрасывались. Кинулся к нише, к гнезду предохранителя. На ходу отрезал от наушников кусок провода, зачистил концы и вставил их в гнезда.
Не знаю, сколько возился я, но мне казалось — не больше минуты. Бросаюсь снова в кабину. Нажимаю на кнопку — та же история: люк не открывается. «Может, перегорела лампочка?» — подумал я и в два прыжка очутился [204] в отсеке, где был люк. Нет, желанного отверстия я не увидел...
Но сдаваться не хотелось. Опять кидаюсь в нишу. То ли впопыхах я вставил в гнездо только один конец, то ли он выскочил, но цепь оказалась разомкнутой. Быстро устранил неисправность. В кабине мельком взглянул на часы, спасительные шесть минут уже истекли, но я не поверил этому. Гляжу вниз на землю, ищу знакомое зеленое поле, куда не раз спускался на парашюте. Напрасно... Подо мной была изрезанная оврагами местность, самолет находился в зоне стрельб.
Тогда по телу у меня пробежал озноб, по лицу покатился холодный пот. Меня охватил страх. Впервые я подумал о смерти, а ведь о ней я не думал даже тогда, когда на наши с вами самолеты напали «мессершмитты».
Вдруг чуть впереди я увидел искрящуюся полоску, стремительно идущую наперерез «Боингу». Солнце, которое однажды было нашим противником, теперь явилось моим союзником. Оно помогло мне увидеть ракету. Но от этого легче не стало. Я знал, что снаряд самонаводящийся. Еще несколько секунд и произойдет роковая встреча...
Не знаю, что в тот момент владело мною: страх ли, любовь ли к жизни, или инстинкт самозащиты, но сила моя вся собралась в комок и ударила в нужные точки: руки рванули на себя штурвал и крутнули «баранку» против часовой стрелки, а левая нога до отказа послала
вперед педаль. Самолет вздыбился, будто остановленный на всем скаку конь, а потом, сорвавшись на левое крыло, полетел вниз.
В этом было мое спасение. Ракета не смогла так резко развернуться, хотя рули и сделали свое дело, она по инерции продолжала некоторое время двигаться в прежнем направлении: а когда она развернулась, самолет был уже ниже ее и вышел из зоны облучения самонаводящейся головки. Ракета пролетела некоторое расстояние по горизонту и упала. Найк выгнал меня. Но понимаете, что мне и самому не хотелось еще раз испытывать судьбу.
Теперь я все чаще думаю о России. Ее я полюбил еще мальчишкой по рассказам матери, а после госпиталя мне каждую ночь снилось, что я среди русских. Отец недавно умер, а мать рвется на родину. Ведь там у нее осталась дочь — моя сестра. Случай с ракетой еще более убедил мать, что для русского человека родина там, в России... Да и для меня совсем иначе бы сложилась жизнь... [205]
Алексей снова вздохнул и посмотрел на часы.
— Надо идти, — сказал он. — Вы долго будете в Штатах?
— Нет, завтра утром улетаем.
— Ну, что ж, до встречи... Я крепко пожал ему руку:
— До встречи... — И подумал: «Придется ли еще увидеться? Ведь и эта встреча была случайной».
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg



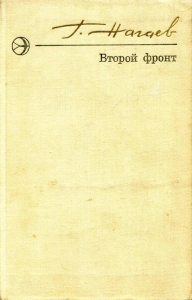


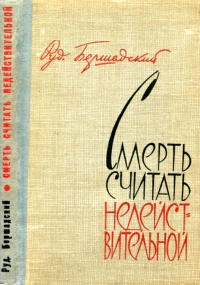


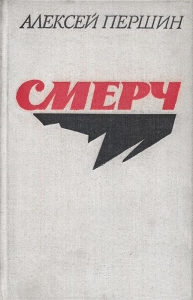
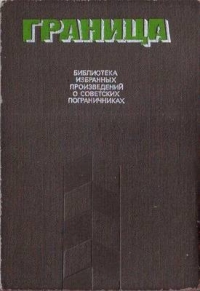
Комментарии к книге «Ночные бомбардировщики», Иван Васильевич Черных
Всего 0 комментариев