Алексей Киреев ФАКЕЛ
Повесть, рассказы
Воениздат, Москва, 1966 СУДЬБА КАПИТАНА
Повесть
Героям Советского Союза Захару Сорокину и Михаилу Девятаеву посвящаю
В середине дня пошел снег. Причудливые звездочки-снежинки, кружась в беспорядочном хороводе, мягко опускались на крыши домов, асфальтированную мостовую, на прихваченную первыми заморозками землю и тут же таяли, оставляя мокрые пятнышки-оспинки.
Было довольно холодно. Прохожие, одетые еще в демисезонные пальто, спешили, и лишь один человек, никого не замечая, стоял на набережной. Опершись спиной о гранитный парапет, он подставлял разгоряченное лицо падавшим снежинкам. Растаяв, они ручейками текли по его щекам, попадали в уголки глаз и рта. Время от времени человек смахивал носовым платком холодные ручейки и опять упрямо подставлял лицо навстречу освежающим снежинкам…
Павел Мальцев всего лишь час назад вышел из большого с колоннами дома, что находится на одной из центральных улиц города, и, тяжело опираясь на крепкую дубовую палку с резиновым набалдашником, направился сюда, на набережную, где он любил бывать в хорошие и горькие для себя минуты наедине о собой.
Павел стоял и затуманенными от слез главами смотрел на свою крупную широкую ладонь, в выемке которой покоилась золотая пятиконечная звездочка. На сверкающие грани звездочки медленно падали снежинки, делая ее еще трогательнее и нежнее, еще ближе и дороже сердцу.
- Ну вот и победила правда, вот и восторжествовала… - шептал Павел, глядя на свою награду. - Только малость поблекла, кажется, потускнела.
Поднес звездочку ко рту, дохнул на нее, осторожно потер рукавом пальто и опять зашептал:
- Нет. Это глаза мои потускнели. А она как была, так и есть - настоящий светлячок. Ишь, как играет!
Павел стал перекладывать звездочку с ладони на ладонь, любуясь, как она искрится при свете внезапно вспыхнувшего уличного электрического фонаря.
И в это время в отражении золотых лучиков звездочки, сверкающей то на правой, то на левой ладони, перед Павлом в одно мгновение, год за годом, промелькнула вся его жизнь - не короткая и не долгая, но сложная и трудная, будто горная дорога - с тяжелыми подъемами и стремительными спусками, с крутыми разворотами-виражами.
Глава первая
…Было это в октябре 1941 года. Молодой лейтенант Павел Мальцев вместе с Димой Соловьевым прибыли с Черного моря в Заполярье. На Юге они уже прошли боевое крещение - несколько раз схватывались с немецкими летчиками, прочувствовали, как в солнечном небе пахнет порох, как гремят пушки и стрекочут пулеметы. А здесь, на Севере, летчиков неприветливо встретила заполярная зима ядреными морозами, крутыми снежными зарядами и дикими норд-остами.
- Ну, кажется, влипли мы, Дима, - сказал Павел, высаживаясь из вагона на небольшой северной станции. - Загорать придется, а не воевать. Тут небось фронтом-то и не пахнет.
- Поживем - увидим, - бросил в ответ Дима, настроенный, как всегда, оптимистически. - Глядишь, и залетит какой-нибудь шалопай.
- А над Черным морем жарко, ребята дерутся день и ночь, а мы за «шалопаем» вдесятером гоняться будем, - с сожалением вздохнул Павел, забрасывая вещевой мешок за спину.
- Не ной раньше времени, - возразил Дима.
Они зашагали в сторону небольших домиков и землянок, примостившихся словно ласточкины гнезда на склоне горы.
Шли споро, молча, посматривали по сторонам, и оба думали о Крыме. Там, на Южном побережье, еще тепло. Павел вспомнил, как он несколько месяцев назад купался в Евпатории - изумрудная вода приятно освежала тело, он, фыркая от удовольствия, заплывал далеко в море и, распластавшись на воде, глядел в синь неба.
- Да, Дима, здесь, конечно, не Крым, - нарушил молчание Павел. - Березки-карлики да мох на склонах гор. Глаз остановить не на чем.
- Привыкнешь - расставаться не захочется, - ответил Соловьев.
- Нет, ты только вспомни, Дима, какие там, ну, скажем, сосны. Крымские сосны. Стоят, смотришь, где-нибудь на самой вершине горы, пустили свои могучие корни в земную твердь - и никакой ветер их не берет, ничто их не страшит. Горделивые и величавые. А секвойи. Да это же гиганты! Тысячелетия живут…
- Может, убавишь немного, - усмехнулся Соловьев. - Ведь я тебя знаю: ты любишь «заливать».
- Тысячелетия! В горах Сьерра-Невада есть секвойи высотой около ста пятидесяти метров, а толщина - ну прямо на коне вокруг не обскачешь. Двадцать метров. Каково? А живут они, товарищ Соловьев, хоть верь, хоть не верь, до пяти тысяч лет!
- Так это в Сьерра-Неваде, - не унимался Дима, - а в Крыму секвойи - вот как эти березки-карлики.
- Не скажи, товарищ Соловьев. Ты был в Никитском ботаническом саду?
- А что?
- Ну был, я спрашиваю?
- Был.
- И что же ты там увидел?
- Меня больше… бесстыдница занимала.
- Кто-кто?
- Бесстыдница, говорю.
- И как она, ничего? - Павел расхохотался.
- Оригинальна.
- Блондинка или брюнетка? - Мальцев перекинул вещевой мешок с одного плеча на другое.
- Шатенка.
- Стройна, изящна и бела?
- Да ты не ехидничай. Нежная такая. Я ее даже… погладил. Кожица у нее глянцем отливает, а толщиной - с папиросную бумагу…
- И она не отвернулась, когда ты ее того… гладил-то? - вновь засмеялся Павел.
- Чего же ей отворачиваться? Ведь она… бесстыдница.
Павел остановился.
- Нет, ты что, шутишь или в самом деле?
- Разве только ты умеешь «заливать»? - неопределенно ответил Соловьев.
- Насчет секвойи? Так это же правда, Дима.
- А я разве вру? Ведь ты был в Никитском ботаническом?
- Конечно.
- Вино там пил, по усам текло, а в рот не попадало?
- Ей-ей был.
- Секвойю ты заметил, а бесстыдницу нет. Значит, ты еще нравственно непорочный малый, - съязвил Дима и вдруг насторожил ухо. - Постой, постой, никак, «мессеры»?
Мальцев тоже прислушался.
- Нет, это тебе показалось.
- Да постой же ты! - крикнул Дима.
- Кажется, точно, они так гудят, - подтвердил Павел,
Когда Мальцев и Соловьев подбегали к городку, воздух разрезал леденящий вой сирены. Группа вражеских самолетов, выскочив из-за сопки, атаковала аэродром. И хотя советские самолеты, барражировавшие в районе аэродрома, и те, которые поднялись в воздух по тревоге, связали боем немцев, все же один «мессер» прошел низко над землей и дал несколько очередей по нашим машинам. Павел и Дима, сначала с интересом наблюдавшие за воздушным боем, бросились в капонир, упали в прикатанный снег и так лежали там, прижавшись друг к другу, пока не кончился бой.
- Оказывается, здесь серьезно, - сказал Павел, вставая и отряхивая снег с меховой куртки.
- А ты говори-ил… - протянул Дима, подбирая вещевые мешки. - Хорошо, если никто не заметил, как мы с тобой…
Павел пошутил:
- Сиганули-то? Весь полк наблюдал, как ты сидор свой бросил.
Полк не полк, а командир полка действительно видел: два каких-то летчика во время обстрела метнулись в капонир, хотя можно было укрыться и поближе, за невысокой каменной стеной. И как только Павел и Дима представились Борисову, он с улыбкой спросил:
- Ну что, неласково встречаем? А? Ничего, здесь хоть и холодно, но бывает жарче, чем в Крыму. Наглеет немец. Превосходство пока за ним. Мы стараемся перехитрить умением. Вам придется с азов начинать. Тут ведь не юг, где ни облачка, тут все время сложняк, и, конечно, чтобы умело бить врага, надо быть асом.
- С чего начнем, товарищ командир? - спросил Павел.
- С провозных, - ответил Борисов и зашагал по землянке. Невысокого роста, плотный, словно спрессованный из стальных слитков, командир полка ходил взад-вперед, как маятник, и горячо говорил: - Да, да, с провозных, как школяров, вас будем учить. Прочувствуете машину, ее поведение при маневре, присмотритесь к местности, научитесь маскироваться. Заметили, наши самолеты похожи на тигров. Это камуфляж. Очень хорошо помогает прятаться на фоне сопок и бить врага внезапно, наверняка… - Он сел за стол, закурил, - Ребята у нас хорошие, летают смело, дерутся отважно, не пожалеете, что попали в нашу семью. Качинское окончили? - спросил Борисов Павла.
- Оба оттуда, - улыбнулся Мальцев.
- Хорошее училище, - заметил Борисов. - А потом у Загубисало в эскадрилье были?
- Да, у капитана Загубисало.
- Знаю Кирилла, вместе учились, вместе летали.
- Смелый, - вставил Павел.
- Смелости у него хоть отбавляй, да и с гордецой он. - Борисов взглянул на летчиков, как бы спрашивая: «Разве я не прав?»
Павел и Дима промолчали.
- Итак, друзья, - Борисов встал, - зачисляю вас в первую эскадрилью. Желаю успеха. Подвернется случай - представлю полку.
Мальцев и Соловьев вышли из землянки. В лица ударил морозный воздух.
Павел сказал:
- Вот и начинается наша жизнь сызнова. Слыхал: «Как школяров…»
- А ты что, сразу в бой захотел? - возразил Дима. - Тут ведь Север.
Друзья принялись за дело. Имея уже небольшой фронтовой опыт и совершив здесь несколько контрольных полетов, они вскоре были готовы выполнить и более сложные задания.
Как- то несли боевое дежурство. Дул холодный норд-ост. В ноябре в этих краях хозяйничает полярная ночь. Лишь в середине дня ненадолго она уступает свои права мутноватому рассвету.
Мальцев и Соловьев сидели в самолетах в боевой готовности: машины - с прогретыми моторами, рации включены на прием, колпаки кабин закрыты.
И вот приказ - дежурной паре подняться в воздух; с запада идет группа вражеских самолетов, ее нужно перехватить на дальних рубежах и атаковать.
Взревели моторы, и вскоре два наших самолета скрылись за сопками. Летели на небольшой высоте, маскируясь рельефом местности.
Павел был ведущим. Они, шли почти крыло в крыло. Крупная, затянутая в шлемофон голова Павла послушно поворачивалась то в одну, то в другую сторону: так летчик может держать под наблюдением все сферы предстоящего боя, иначе противник атакует внезапно.
Летели долго. Маневрировали по высоте, делали пологие виражи, чтобы лучше осмотреть местность. Но противника не было видно. Павел уже подумал: не ложная ли тревога, не пора ли просить разрешения возвратиться на аэродром - как вдруг заметил впереди две приближающиеся точки.
- Дима, будь внимателен! - предупредил Павел.- Впереди «мессеры». Слушай, как будем атаковать. Сейчас за мной набирай высоту, зайдем над «мессами», ударим сверху. Ну, действуй!
Соловьев точно выполнил маневр. Машины с ревом круто полезли в бездонное небо. Пробили один, второй ярус облаков. Осмотрелись. «Мессершмитты» как ни в чем не бывало продолжали лететь на восток.
- Прикрой меня, Дима! - скомандовал Мальцев, и его «ястребок» кинулся на ведущий самолет врага. Соловьев пошел на другой. В суровом небе Заполярья разразился жаркий воздушный бой. Самолеты, будто ошалелые, носились над сопками, резко взмывали вверх, с надрывным воем ложились в глубокие виражи. Пулеметные очереди то и дело прошивали воздух сверкающими трассами. Пули, словно разъяренные пчелы, впивались в обшивку фюзеляжей и гасли в них.
Вот Павел вобрал в прицел немца, нажал на гашетку и дал длинную очередь. Трасса пришлась по кабине летчика. «Мессер» задымил, начал терять высоту. Но тут на какой-то миг Дима Соловьев выпустил из поля зрения второго фашиста, и тот, пристроившись в хвост самолета Павла, нанес по нему удар. Мальцев почувствовал, как тупая, обжигающая боль резанула бедро и что-то теплое, липкое засочилось в унту.
- Дима, Дима, где ты? Атакуй «мессера», атакуй! - крикнул Павел и резко подал ручку от себя.
Машина пошла на снижение. Соловьев накинулся на немца, но тот, увернувшись из-под удара, набрал высоту и скрылся в облаках.
Самолет Павла, как раненая птица, кружась и покачивая крыльями, опускался все ниже и ниже. Дима заметил это и стал прикрывать его посадку. Несколько раз пронесся над самолетом Павла, показывая знаками, куда лучше сесть. Мальцев выбрал для посадки озеро, покрытое снегом. Машина проползла несколько десятков метров на брюхе и замерла.
Павел с силой открыл колпак. Свежий ветер ворвался в кабину, а вместе с ветром налетел снежный вихрь. Колпак пришлось закрыть.
Мальцев осмотрел ногу. Попытался подвигать ею, переставить с места на место. Нога не слушалась. Лишь боль пронизывала, казалось, все тело, жгла сердце. Павел достал пакет, кое-как перевязал рану. Боль немного стихла.
Вьюга угомонилась через час. «Можно, наверное, открыть колпак и сориентироваться. Что же с Димой? - гадал Павел.- Ну, конечно же, улетел на аэродром. Сейчас докладывает Борисову, а тот - настоящий батя - пришлет По-2, и вытащат меня отсюда».
Павел хотел было перевалиться через кабину на плоскость крыла, как вдруг услышал громкий собачий лай. В одно мгновение перед Мальцевым выросла клыкастая морда здоровенного дога. Собака с яростью бросилась на фюзеляж самолета и, скользнув по его обшивке, с воем грохнулась на снег. Тотчас же вскочив, дог немного отпрянул назад и снова неистово налетел на приподнявшегося в кабине Павла.
- Прочь! - крикнул Мальцев и выстрелил из пистолета в пасть дога. Тот ткнулся мордой в снег.
«Вот чудо, - подумал Павел, держа пистолет наизготовку. - Откуда взялась тут собака? Может, рядом жилье? Кстати, где я нахожусь? На своей земле или на финской?»
Павел хотел было открыть планшет, чтобы вытащить карту, но морозный воздух разорвал выстрел. Пуля прошла совсем близко, щелкнув об обшивку самолета. Павел взвел пистолет, осмотрелся: метрах в ста, за валуном, мелькнула человеческая фигура. Снова грянул выстрел. Мимо. Павел, собрав силы, рывком перевалился через борт самолета, укрылся за мотором. «Кто же это может быть?» - подумал он, наблюдая, как черная фигура короткими перебежками продвигается к его самолету. Павел выглянул, и. опять блеснула оранжевая вспышка. «Вон оно что, - осенила догадка Павла. - Это же летчик со сбитого мной самолета. Точно. Немцы иногда берут с собой в полеты собак. Так вот он откуда, этот клыкастый дог?»
Мальцев был прав. Действительно, невдалеке виднелся немецкий самолет, уткнувшийся носом в снег. «Ну погоди же, гад, ты у меня сейчас получишь»,- подумал Павел о немце и, выбрав момент, выстрелил. Промах. Еще выстрелил. Фашист продолжал приближаться,- значит, не попал. «Что за черт! - пронеслось в голове.- Надо выждать. Пусть подойдет ближе, и тогда буду бить наверняка».
Чтобы обмануть немца, Павел положил на колпак кабины перчатку. И тут же пуля свистнула над головой. Еще раз высунул перчатку - немец молчал. Павел осторожно поправил перчатку. Фашист «клюнул» на приманку, не выдержал, выстрелил: перчатку будто ветром снесло.
Считая, очевидно, что русский ранен или убит, немец крикнул:
- Эй, Иван, сдавайт!
Павел молчал.
Немец повторил:
- Эй, эй, рус, сдавайт!
Павел притаился. Прошло несколько томительных минут. И вдруг услышал, как зашуршал под ногами немца снег. Второй, третий шаг… Слышно прерывистое, тяжелое дыхание. «Ну, Павел, держись! - Гулко стучит сердце.- Миг, еще миг - и вот он, фашист, перед тобой. Смотри, он уже пригнулся, пролезает под плоскостью самолета… Распрямляется, остервенело дышит почти в лицо тебе… Чего же ты медлишь, Павел?!»
И Мальцев нажимает на крючок пистолета. Осечка!
- Не вышло, рус, не вышло! - захрипел немец и сильно ударил по пистолету Павла. Пистолет отлетел на несколько метров в снег.
Завязалась схватка. В руках немца сверкнуло лезвие финки. Взмах, удар в лицо. Павел падает навзничь. Немец по-кошачьи бросается на Мальцева. Он ловок. Его толстые, как сардельки, пальцы тянутся к шее Павла. Вот он уже крепко сдавил горло, сдавил так, что, кажется, хрустнули хрящи. «Неужели поддашься, Павел? А ну, собери силы и наддай, наддай ему, иначе смерть. Позорная, бесславная…»
Павел согнул здоровую ногу в колене и с силой ударил ею немца в пах. Будто мяч отлетел фашист. Павел тут же метнулся к пистолету, выбросил давший осечку патрон, дослал в ствол новый.
- Получай, гадина! - прохрипел Павел.
Пуля угодила в грудь фашиста. Немец хотел было шагнуть и, неловко развернувшись, мешком осел в снег.
- Вот так-то,- выдохнул Павел и тыльной стороной дрожащей ладони вытер кровь на лице.
Сколько длился этот поединок с немцем, Павел не знал. В схватке он потерял много крови и, как только увидел, что фашист повергнут и недвижно растянулся на снегу, почувствовал: по телу разлилась страшная усталость. Кружилась голова, перед глазами плыли багровые круги. Тошнило. Хотелось спать.
Павел сунул пистолет за пазуху, схватился руками за край кабины, хотел было подняться, чтобы забраться в нее и там поспать, но не смог - обледенелые перчатки скользнули по фюзеляжу, он бессильно сполз на снег. Уткнувшись лицом в воротник реглана, поджав под себя ноги, он тут и уснул.
Проснулся Павел от сильной боли в ноге, от озноба. Открыл глаза и долго не мог сообразить, где он, что с ним случилось. Но постепенно пришел в себя, поднялся. Превозмогая боль, походил вокруг самолета, немного согрелся. Вскарабкался в кабину, взял доппаек, сунул в рот кусочек шоколада, рассовал по карманам галеты.
Взглянул на часы. Они стояли. В схватке пострадал и компас - потерялась стрелка. Подумал: «Ищут или не ищут? Ведь Дима доложил». Посмотрел на самолет: нельзя ли что-нибудь сделать, чтобы вдохнуть в него жизнь? Нет, невозможно. Немец угодил прямо в бензобак. Еще хорошо, что не вспыхнул, но бензин вытек. Да и когда садился, самолет сильно повредил. Конечно, не взлететь.
Прошло несколько утомительных часов. Над сопками снова повисли снежные облака, И вот уже налетел порывистый ветер, и снег посыпал будто из прорвы. Разыгралась свирепая пурга.
Мальцев сидел в кабине и ждал, когда метель перестанет, чтобы могли за ним прилететь и вызволить из этой ловушки. Как было знать ему, что Борисов, хотя и организовал несколько поисковых групп, но из-за плохой погоды они не могли вылететь. Лишь наземные партии вышли на розыски Мальцева.
А время шло и шло. Ожидания уже казались напрасными. Что делать? Павел решил идти на восток, идти по безлюдной снежной пустыне.
…Павел шел и верил, что идет туда, куда надо. Временами останавливался, ориентировался и опять шагал на восток, к своим. Раненный, полуголодный, он выбирал наиболее отлогие скаты высот, чтобы легче было на них взбираться. Путь был невыносимо тяжел и долог. Десятки часов он находился один на один с белой безбрежностью, а конца пути все не было.
Съел последнюю галету, последнюю дольку шоколада. Внутри горело, словно разожгли там костер. Нестерпимо хотелось пить. Павел глотал снег, чтобы утолить жажду. Не помогало. Впереди, кажется, блеснул ручеек. А может, мираж? Кружится голова. Еле-еле шагают ноги. Стоит присесть на долю секунды - и все, замерзнешь, останешься навечно в снегах Заполярья. Нет, нельзя останавливаться, нельзя садиться…
Павел добрался до ручья, снял перчатки, зачерпнул пригоршню ледяной воды, попил, обмыл лицо, вытер шерстяным шарфом.
«Неужели не ищут? Неужели не ищут?» - в сотый раз терзал себя Павел. И ему тотчас послышался шум самолета. Да, да. Вот он приветливо машет крыльями: крепись, мол, Павел, сейчас сяду. Ну давай же, давай садись… Павел хотел было помахать самолету руками, но пошатнулся, поскользнулся и угодил но пояс в воду. Течение чуть было не подхватило его. К счастью, Павел успел уцепиться за кустарник. С трудом выбрался на берег. Самолет или пролетел, или его совсем и не было. Обозленный на все на свете, Павел поворчал, потом снял унты, вылил воду, разорвал на две части шерстяной шарф, обернул ступни, снова напялил унты.
Что же еще ждет его впереди? Сколько ему еще шагать по тундре? Хоть бы чуточку обогреться…
Опять с отчаянием пробивался в снежной коловерти вперед. Окончательно изнемог и в отчаянном бреду, в горячке, упал у подножия безымянной сопки. «Вот и все, Пашка», - были его последние слова…
Очнулся Павел в госпитале и с ужасом понял, что у него вместо ступней культи. Слезы брызнули из глаз, из груди вырвался истошный вопль:
- Ноги!… Верните мне ноги!…
Рядом сидел человек в белом халате и белом чепчике. Мягко сказал:
- Успокойтесь. Мы сделали все, что могли…
Это был хирург полевого госпиталя Петр Петрович Дмитриев. Он после операции - ампутировал ступни - несколько дней не отходил от Павла.
- «Все, что могли… все, что могли», - с горечью повторял Мальцев. - А найти не могли?… Там… на озере…
- Искали, Павел Сергеевич, искали… Да вот, кажется, и командиры твои заглянули.
Павел открыл воспаленные глаза. Перед ним, возле его ног, стояли командир полка Борисов и парторг Хохлов. Павел попытался улыбнуться, но улыбка не получилась: от сильной боли, полоснувшей лицо, он поморщился.
Борисов взял руку Павла, пожал.
- Спасибо, Павел Сергеевич, за храбрость, за мужество,- тихо сказал он.- Мне все доложил Соловьев. Мы тебя представили к ордену…
- Ребята привет передают,- добавил Хохлов,- желают скорее поправиться.
- Чтобы снова быть вместе и как можно быстрее,- продолжал Борисов.- Как дола-то, неплохо идут у нашего Павла? А, доктор?
- Раз начал бранить докторов,- пошутил Петр Петрович,- значит, скоро потребует выписать или, на худой конец, убежит из госпиталя…
Слушая этот разговор, Павел думал: «Хороший вы народ, друзья мои, но я-то калека».
Борисов и Хохлов на прощанье пожали Павлу руку, поцеловали его в марлевую повязку, опеленавшую изуродованное лицо, и медленно вышли из палаты. Павел грустно посмотрел им вслед. Глаза наполнились слезами: когда он снова увидит этих хороших людей? И увидит ли?…
Нет, напрасно так думал Павел. Пришлось ему встретиться и с Борисовым, и с Хохловым, и с Димой Соловьевым. Встреча эта произошла на том же аэродроме, зажатом с трех сторон каменистыми сопками. Представился гвардии старший лейтенант Мальцев командиру, тот обнял его, расцеловал. А когда оба поуспокоились, Борисов прямо, без обиняков спросил:
- Ну что делать будем, Павел Сергеевич, на капе посидим или?…
Павел зажал под мышкой палку и, вынув из кармана пачку документов, перебирал дрожащими пальцами - искал что-то.
- Ты садись, Павел Сергеевич, садись - удобнее будет и легче,- предложил командир.
Но Павел как будто не слышал Борисова. Он с еще большей сосредоточенностью перелистывал документы и затем, найдя нужную бумагу, протянул командиру.
- И вам надо познакомиться, Иван Филиппович,- сказал Павел Хохлову и присел на краешек самодельной табуретки.
Борисов долго и внимательно читал бумагу. Его лохматые брови то приподнимались от удивления, то хмурились. Наконец с посветлевшим лицом протянул документ Хохлову:
- Прочитай-ка, прочитай, Филиппыч.- Сам резко встал, распростер руки и обхватил Павла. - Узнаю североморца, узнаю! Значит, будешь летать, Павел Сергеевич, будешь! И самолет тебе сделаем - ковер-самолет!… Ну, каков он, наш Мальцев-то, Филиппыч? А? - обратился Борисов к Хохлову и, не дождавшись ответа, воскликнул: - Молодчина ведь!… Свистать всех свободных людей наверх. Сейчас представлять будем Павла Сергеевича. Пусть все знают, каков он, наш Павел Мальцев! А ты, Филиппыч, эту бумагу зачитаешь. Добро?…
Летчики собрались быстро. Многие летали еще вместе с Павлом, учились овладевать сложняком. Среди них был и Дима Соловьев. Он не подошел, а подбежал к Павлу, схватил его за плечи, подтянулся на цыпочках, чмокнул в губы.
- Вернулся, значит. Ну и того… хорошо, значит…- Этими невразумительными словами и кончилось все его красноречие.
Павел заметил, что у Димы нервно задергалась щека.
- Как видишь, Дима, вернулся,- сказал Мальцев и притянул к себе друга.
Вошел командир. Все встали. Борисов шагнул к Павлу, легонько подтолкнул его вперед.
- Бы знаете, кто это? - спросил он у собравшихся.
- Знаем!… - раздалось в ответ.
- Нет, вы не знаете, кто это.
- Ну как же… Да это же Павел… Павел Мальцев…
- Павел, да не тот, - проговорил Борисов. - Перед нами совершенно необыкновенный человек. Он не хочет идти на покой, не хочет даже посидеть на капе, а подавай ему небо. А ну, прочитайте, пожалуйста, Иван Филиппович, документ, чтобы все знали, кто такой Павел Мальцев.
Хохлов вышел на небольшой подмосток, служивший сценой, откашлялся в ладонь, начал читать:
- «Павел Сергеевич Мальцев обратился с рапортом к Председателю Государственного Комитета Обороны товарищу Сталину, в котором просил разрешить ему летать на боевом самолете и уничтожать фашистов в воздухе. Учитывая патриотическое стремление товарища Мальцева сражаться с немецко-фашистскими захватчиками, Председатель ГКО удовлетворил его просьбу, а военно-медицинская комиссия в порядке индивидуальной оценки признала П.С. Мальцева годным к летной работе на всех типах самолетов, имеющих тормозной рычаг на ручке управления. Направить товарища Мальцева в полк североморских летчиков, в котором он начал боевой путь…»
Летчики, слушая парторга, поглядывали друг на друга, на Павла. Да, это, конечно, здорово: человек без ног - и готов летать.
- В какую эскадрилью тебя зачислить? - спросил Борисов Павла.
- Если можно, в первую, в родную.
- Будь по-твоему,- сказал Борисов.- Командир первой эскадрильи, поставьте на все виды довольствия…
Павел и Дима вечером долго сидели вдвоем в землянке. Говорили и говорили. Дима рассказал, как он тогда прилетел, доложил командиру и тот организовал поиски Павла, как его все же нашли без сознания у подножия одной сопки, как друзья воевали без него, кто убит, кто ранен, кого наградили и кого наказали. А Павел рассказал, как он скитался но госпиталям, тренировался, чтобы встать на ноги, как обивал пороги отдела кадров и медицинской комиссии… И вот получил то, что зачитал Хохлов.
- Если бы не Петр Петрович,- задумчиво сказал Павел,- не летать бы мне.
- А кто это Петр Петрович? - спросил Дима.
- Врач, хирург. Замечательный человек. Оттяпал мне ступни и говорит, что так и было,- Павел невесело улыбнулся.- Вот посмотри,- Он поднял штанины, и Дима увидел два желтых протеза.
Мальцев наклонился, расшнуровал один ботинок, попросил Диму снять. Соловьев осторожно потянул за ботинок. Показалась подернутая красной нежной кожицей культя. Дима зажмурился.
- Павка, да разве ты можешь!… Пожалей себя…- Дима опустился на койку рядом с Павлом, посмотрел на его ногу, лежавшую на заячьей шубке-коврике.- Согласись на капе, Паша. Там легче. А летать… Ну ты же понимаешь, что это значит…
- Брось ныть, Димка! - резко сказал Павел.- Я думал, одобришь, поддержишь, ведь ты считался у нас оптимистом, а ты… Тоже мне друг…
- Паша…
- Ты не первый… Замолчи лучше…
Павел обул ботинок, прошелся по землянке, стукнул палкой по дощатому столу:
- Вот Петр Петрович - молодчина. Не горюй, говорит. Будешь летать. Я тебе сделал надежные ноги. Еще не одного фрица ухлопаешь.- Павел подошел к Диме. - И буду летать! Обязательно!
Опять зашагал по землянке, подошел к окну, взглянул на летное поле. «Ястребки», прижавшись друг к другу, стояли в боевом строю. Они были готовы взмыть в небо.
Павел смотрел в окно и думал, что на одном из таких истребителей скоро взлетит и он, опять почувствует безбрежность неба, которое зовет, манит его, вновь почувствует себя человеком.
- Дима, скажи, а эта, курносенькая, все еще тут? - вдруг спросил Павел, повернувшись к Соловьеву.
- Ты про кого? - озадаченно уставился Дима.
- Будто не знаешь. Ну эта, как ее… блондиночка, курносенькая такая…
- Здесь блондинок и курносеньких много. Недавно опять пополнение прибыло.
- Брось ты, Димка,- хитрить. Такая только одна была. Помнишь, когда мы приехали, она нас встретила? Пигалицей ты ее еще назвал… А я пуговицей…
- Вот и пойми тебя: курносенькая, пигалица, пуговица… Ну имя-то у нее есть или нет? - Дима расхохотался,- Тонька Пожарская, что ли? Здесь, забияка. Ни одного хлопца не подпускает на пушечный выстрел. На каких только к ней виражах не подходили - твердит свое: «Выключи контакт!» Павел улыбнулся:
- А меня подпустит?
- Это тебе виднее. Раз о ней завел разговор, значит, неспроста.
Павел подсел к Диме, обнял его за плечи.
- Знаешь, Шплинт,- вдруг вспомнил он прозвище друга, прилипшее к нему за малый рост,- она хорошая дивчина. Ничего она мне пока доброго не сделала, да а видел я ее всего лишь несколько раз, а вот, поди ж ты, запала тут,- кивнул на свою грудь.- Когда я шел по холодной тундре, почему-то она была рядом со мной. С медицинской сумкой наперевес. В своих кирзовых сапогах, в дубленом полушубке, прыгала с камня на камень и звала меня за собой… И я шел… Когда лежал в госпитале и у меня были тяжелые минуты, она, казалось, садилась на мою кровать, клала руку мне на лоб, успокаивала ласковыми словами, и я засыпал, чтобы назавтра, проснувшись, быть радостным и бодрым… Уже ехал сюда в набитом битком поезде и опять вспомнил эту курносенькую блондинку… Тоню… Скажи, почему бы это? А?
Дима заглянул Павлу в глаза:
- По-моему, Паша, это любовь.
- Ты шутишь или всерьез, Шплинт?
- На полном серьезе.
- Тогда я пошел…
- Куда?
- Хотя пойдем-ка вместе.
- Куда?
- Ты знаешь, где она живет?
- Пожарская?
- Да.
- Все в той же землянке.
- Проводи.
- Сегодня уже поздно. Давай-ка лучше, брат, поспим немного. Неровен час, сыграют тревогу. Хоть несколько дней и не беспокоят фриц, погода видишь какая, но чем черт не шутит!
Павел сдался. Они по-солдатски быстро разделись. Дима помог Павлу снять протезы, заботливо укрыл его одеялом и, сказав: «Спокойной ночи», сам юркнул в постель.
В землянке наступила тишина. Лишь будильник на столике четко отсчитывал секунды, да за окном гудел, посвистывал холодный ветер.
Павел и Дима не спали. Каждый думал о своем. Павел мечтал о том, как он через месяц, а может и меньше, подойдет к истребителю, похлопает его ладонью, сядет в кабину, опробует мотор и… взмоет в воздух. А она, Тоня, белокурая, стройная, улыбнется ему, помашет рукой, пошлет воздушный поцелуй и шепнет: «Возвращайся с победой, и скорее!»
А Дима в это время думал: «Какой же ты непутевый, Пашка. Летать захотел. Ну, посмотрел бы еще раз на свои ноги - обрубки ведь, Мороз по коже пробегает. В самый раз сидеть бы на капе… А Пожарская, видать, глубоко в твое сердце вошла. Не знаю, что ты в ней хорошего нашел… Нет, она, кажется, ничего…»
- Ты говоришь, это любовь, Шплинт? - раздался вдруг в тишине голос Павла, и кровать жалобно заскрипела под его могучим телом.
- А ты все еще не спишь, чертяка? - послышалось в ответ. Дима высунул голову из-под одеяла, приподнялся на локте.
- Нет, сплю, сплю, Шплинт…
И, еще раз повернувшись с боку на бок, Павел захрапел на всю землянку.
Глава вторая
Наступил день, когда после длительных тренировок Павлу разрешили боевой вылет. И не обычный, а редкий: небольшая группа наших летчиков должна была сражаться против нескольких десятков немецких самолетов-бомбардировщиков, прикрываемых истребителями.
Погода по-прежнему не особенно балована североморцев. Лишь изредка между «окнами», как называли летчики непродолжительные просветы в погоде, случалась боевая работа. Так было и в этот раз. Подул сильный ветер, разогнал низкие, висящие над шапками сопок тучи, а дело закипело.
Ракеты прочертили воздух. На старт вырулили несколько самолетов, которые возглавлял сам Борисов. Среди них были истребители Мальцева и Соловьева.
Взлетели один за другим. Собрались в строй над аэродромом, качнули крыльями и взяли курс на запад.
- «Кобра», «Кобра»,- как себя чувствуешь? - запросил Борисов Павла, и тот ответил:
- «Сокол», «Сокол», чувствую себя превосходно, чувствую превосходно.
- Так держать!
Летели невысоко, над самыми сопками. Это был излюбленный прием Борисова - прикрыться местностью, а потом внезапно вынырнуть перед самым носом противника и расстрелять его в упор.
- «Сокол», «Сокол», вижу группу немецких самолетов, - радировал Павел.
- Добро,- ответил Борисов. - Внимательно слушайте план атаки. По силуэтам предполагаю - впереди «юнкерсы». Истребители, возможно, где-то на подходе или над ними. Все за мной. Набираем высоту, тройка атакует бомбардировщиков, четверка прикрывает нас. Если нет истребителей сопровождения, брать на себя и по бомбардировщику. Я атакую ведущего, Мальцев - замыкающего, Соловьев выбирает цель в середине строя. За мной!
Самолеты нырнули в облака. Машины повиновались опытным мастерам, казалось, ими управляли не разные люди, а один человек.
Павел летел за командиром, неотрывно следил за его маневром, боясь пропустить какой-нибудь сигнал. Ведь сегодня - испытание, первое испытание на прочность, которое должно раз и навсегда ответить на затаившиеся где-то в глубине сердца вопросы: «А все же сможешь ли ты, Павел, быть настоящим летчиком, можешь ли ты стоять вровень по мастерству, отваге, выдержке с теми, кто пойдет с тобой в атаку, вынесешь ли тяжесть боя?»
И сейчас он отвечал себе: «Ты должен выстоять, Павел, обязательно должен выстоять. Иначе… Иначе пропали все утомительные и мучительные тренировки в госпитале, иначе были напрасными все хлопоты в Москве, да совсем другими глазами будет смотреть, наверное, на тебя и твоя Тоня… Да, да, твоя…»
Павел на минуту представил, как он вскоре после возвращения в полк встретил Тоню возле капонира, где техники и авиамеханики переоборудовали ему самолет, как она, раскрасневшаяся от мороза, вдруг побежала навстречу ему, а он, опираясь на палку, зашагал к ней, как она, никого не стесняясь, подпрыгнула, обхватила гибкими руками его шею и звонко поцеловала в щеку.
- С возвращением вас, Павел Сергеевич, - уже отстранившись, как-то важно и официально сказала она.
- Спасибо, Тонечка. - Павел улыбнулся.
- Как ваше здоровье? - спросила Тоня.
- Не жалуюсь,- ответил Павел. - Стометровку бегать не собираюсь, а если хорошую девушку увижу, пожалуй, и больше пробегу.
- Не забывайте наведываться в санчасть, Павел Сергеевич. Я вас взяла на персональный учет.
- Спасибо, спасибо. Хоть с сегодняшнего дня. Вот только освобожусь - обязательно загляну.
Уже на ходу крикнула:
- Буду ждать!
- Ждите, Тонечка! - Павел поднял руку, помахал ею и зашагал к самолету…
- «Кобра», «Кобра»,- раздалось в наушниках.- Будьте внимательны, будьте внимательны. Сейчас атакуем. Напоминаю: я - ведущего, вы - замыкающего,- Неожиданно ворвавшийся голос Борисова прервал пьянящие сердце воспоминания.
- Есть, замыкающего! Выбрал, вижу, - ответил Павел.
- Вперед! Всем прикрывать нас! - скомандовал Борисов и бросил самолет на бомбардировщик врага. Павел, дав полный газ,- тоже устремился к цели. Его истребитель, словно молния, сближался с «юнкерсом». Павел ловит его в перекрестие прицела, стиснув зубы, жмет на гашетку пулемета. Яркий сноп огня вырастает перед носом самолета. Трасса, оставив несколько десятков пунктирчиков в воздухе, пришлась по бомбардировщику. Еще очередь - и «юнкерс», неуклюже клюнув носом, задымил, тяжело завалился на крыло, пошел вниз, на сопки.
- Ура-а-а! - закричал ошалело Павел. И тут же услышал строгий голос Борисова:
- «Кобра», «Кобра», не провороньте справа!…
Тройка Борисова, прикрываемая четырьмя другими истребителями, сбила три «юнкерса», разбила строй бомбардировщиков, заставила их повернуть вспять. Но тотчас же, словно воронье, на нашу семерку набросились вражеские «мессершмитты». Они свалились откуда-то с высоты и чуть было не застали врасплох. Спасла бдительность Борисова.
- Встать в круг! - скомандовал он,- Вести бой на горизонталях. Прикрыться облачностью.
Юркие истребители мгновенно стали каждый в затылок соседу - так они могли надежно прикрывать друг друга - и по команде Борисова атаковали наиболее уязвимые цели.
Бой закипел с новой силой. Даже доли секунды вносили изменения в обстановку.
Атаку начал сам Борисов. Он удачно выбрал цель и сбил ее с первого захода. Из-под удара такого мастера воздушного боя вряд ли увернешься!
За Борисовым ввязался в бой Соловьев. Он долго гонялся за «мессером», пока тот не подставил ему хвост. Самолет врага был сбит. Но когда Дима выходил из боя, недалеко от него неожиданно выскочил новый «мессер». Это заметил Павел. Быстрым и точным маневром он вышел на перехват вражеской машины и первой же очередью поджег ее.
- «Кобра», «Кобра», а теперь атакуйте того, что под вами. Да смелее! - посоветовал Борисов.- Поэнергичнее на виражах…
Павел, найдя взглядом вражеский истребитель, камнем пошел на него. «Ну, держись, гад!» - прошептал Мальцев и выпустил очередь по «мессеру». Мимо. Прицелился тщательнее, нажал на гашетки. «Мессер» вздрогнул. Мальцев отдал педаль, ушел на вираж. Посмотрел вниз: вражеская машина, объятая пламенем, мчалась к земле.
Наши летчики вышли из этой смертоносной карусели с победой. Они без потерь вернулись на свой аэродром.
Павел еле вылез из кабины. Он страшно устал. Техник помог ему отстегнуть парашют.
- Кажется, лихо дрались, Павел Сергеевич? - не то спросил, не то отметил техник, подавая ему палку.
- Спасибо за машину,- тихо сказал Павел и пошел к командирской землянке, где должен был состояться разбор боя.
Вошел и тут же, не ожидая разрешения, тяжело опустился на скамейку. Пот градом катился по лицу. Ноги мучительно ныли…
Борисов начал разбор. Он говорил коротко и ясно, как и полагается командиру. Несколькими штрихами нарисовал общую обстановку, напомнил о плане боя, рассказал, кто как действовал.
- Особо хочу сказать о Павле Сергеевиче,- заметил Борисов.- Дрался ты, Павел, как настоящий ас. - Борисов, чтобы не быть официальным, перешел на «ты». - Троих свалил, паразитов. Дай я тебя расцелую, дорогой! - Широко шагнул к Павлу. Летчики зааплодировали.- Вижу, Павел, тяжело тебе пришлось. Но выдержал ты, дружище, экзамен. На пятерку с плюсом выдержал. Теперь на тебя, как на себя, надеюсь. Поздравьте, друзья, Павла Сергеевича с новым боевым крещением!
Летчики наперебой подходили к Павлу, желали новых побед. А он, растроганный теплым участием, беспрестанно вытирал пот с лица и односложно, будто заученно, твердил:
- Спасибо за доверие, друзья, спасибо.
Последним подошел Дима, тихо сказал:
- Пойдем отдыхать.
- Пойдем.
Они шли по заснеженным улочкам военного земляночного городка медленно и молча. Павел думал сейчас о ней, о Тоне, которая вот уже несколько недель назад взяла его «на персональный учет» и каждый вечер делает ногам примочки. И пока ноги греются в теплых уютных ванночках, Павел о многом успевает поговорить с Топей: получает ли она письма из дому, не тяжело ли ей тут, на Севере, не тоскует ли по родным. А она сидит против него на стульчике и отвечает: не беспокойтесь, мол, Павел Сергеевич, дома все в порядке, к Северу привыкла и тоска не гложет, недаром толстеть начала, аж неудобно - война…
Павел говорил с Тоней - полушутя, полусерьезно - и о том, любила ли она кого-нибудь. Ведь не могла же она никого не любить такая сердечная, отзывчивая. И Тоня - тоже в тон ему, шутливо-серьезно - отвечала, что полюбить она еще никого не успела, окончила медицинский техникум - и на войну. Ну а нравилась ли ребятам - это надо у них спросить. Тоня смеялась, смеялся Павел, и им обоим было хорошо в этой небольшой процедурной комнате, при неярком мигании еле заметной электрической, лампочки под самым потолком.
Павел спросил как-то Тоню, не любит ли она сейчас кого-нибудь, и, наблюдая незаметно за ней, с замиранием сердца ждал ответа. А она, проказница, выпорхнула из процедурки, а когда вошла, как ни в нем не бывало спросила:
- Ну, как у нас дела, Павел Сергеевич?
- Дела, как сажа бела, - отшутился Павел и опять со своим вопросом: - Скажи, Тонечка: а все же ты любишь кого-нибудь?
На этот раз она не убежала, зарделась, тихо сказала:
- Есть один парень на примете. Только не знаю, догадывается ли.
- Далеко этот парень?
- Да как вам сказать. Бывает далеко, бывает и близко, а бывает и совсем рядышком.
- Кто же это такой, Тонечка, скажи, если не секрет?
Тоня перебирала белье в шкафу, не обернулась, ответила:
- От вас не скрою. Это вы, Павел Сергеевич.
- Я? Да?! Тонечка! - крикнул Павел и прямо на культях, спотыкаясь и чуть не падая, пошел к Тоне.
- Да вы с ума сошли! - крикнула Тоня и бросилась Павлу навстречу. Она подхватила его, усадила на скамейку, и так сидели они молча несколько минут. Павел гладил ее светлые, по-мальчишечьи постриженные волосы, о чем-то хорошем-хорошем думал и не знал о чем…
А теперь, проходя с Димой Соловьевым мимо санчасти, попросил его:
- Зайдем к Тонечке. Пусть вместе с нами порадуется нашей победе.
Дима остановился.
- Ты зайди, а я загляну в столовую. Что-то проголодался.
- Ну ладно, Шплинт, иди. - Павел улыбнулся лукавой хитрости друга.- Примочки ногам сделаю. Ноют, Дима.
Тоня встретила Павла шумно:
- Слыхала, Павлуша, как ты отличился!
- Откуда, Тонечка? - пророкотал Павел басом и поцеловал ее в щеку.
- Забегал тут один технарь. Палец молотком пришиб. Пока перевязывала, рассказал.
- Это - тебе подарок, Тонечка. Трех сегодня на сопки спустил.
- Ой как здорово, Павел!
- Твои примочки помогают. Они, как эликсир, действуют и на ноги, и на сердце. Ноги крепче становятся, а сердце…- Павел сделал паузу.- А сердце любвеобильнее! - выпалил он.
- Это как же так? - Тоня сделала круглые глаза.- Значит, кого-нибудь оно еще уже в себя вместило? Эх, Павел Сергеевич! - Она погрозила пальцем.
- Да что ты, Тонечка,- посерьезнел Павел,- как можно! Оно принадлежит только тебе, моя пуговица, только тебе, моя кнопка.
Тоня подбежала к Павлу, взяла его за пяечя, скомандовала:
- Садись, товарищ гвардия старший лейтенант. После выдающегося боя наш могучий коллектив, состоящий из медицинской сестры Пожарской и ее боевых коллег, преподносит тебе, дорогой Павел Сергеевич, сто граммов чистейшего спиртуса. Выпьем за наше здоровье. Ура!
Павел принял из руки Тони мензурку.
- А за это тебе не влетит? - спросил он и залпом выпил спирт.
- Теперь уже нет! - засмеялась Пожарская, глядя в пустую мензурку.- Сухо, как после сильнейшего зноя. Ноги в ванночки - марш!
Павел осторожно опустил культи в теплый раствор. По всему телу разлилась приятная истома, на сердце стало хорошо, радостно, В эти минуты ему хотелось сказать Тоне что-то задушевное, чтобы она запомнила его слова на всю жизнь;
- Посиди со мной, Тонечка,- показал Павел на скамейку.- Не замерзла? Тебе в Крыму бы побывать. Не была? Как там хорошо летом! Вот освободим Юг, обязательно тебя свожу.
- Это как же свозишь? - лукаво спросила Пожарская.
- Возьму, выкраду тебя, как выкрали красавицу Арзы, и уведу в Крым.
- Это что еще за красавица?
- Легенда есть такая. Рассказать?
- Расскажи:
- Когда-то, в далекие-далекие времена, в горах Крыма жил старец. У него была красивая внучка Арзы. Поведет бровью, глянет своими огромными черными глазами на юношу, и тот не может отвести от нее своих глаз. Все парни посходили с ума от красавицы Арзы. Предлагали ей руку и сердце. Но гордая Арзы даже слушать не хотела об их предложениях. Дед часто посылал свою внучку к самому Черному морю, чтобы набрать в золотой кувшин холодной ключевой воды, что бьет из родника, Пойдет Арзы за водой по тропинке, серебром переливаются ее косы на южном солнце, извивается ее гибкий, стройный стан. И это еще больше ранило сердца юных молодцев.
Прослышал о красавице Арзы богатый заморский хан Али-баба, прислал к бедному старцу сватов, чтобы уговорить его выдать Арзы за себя замуж. Но и ему отказала гордая Арзы. Тогда злой хан нанял разбойников и приказал силой взять Арзы. Пошла Арзы однажды к роднику, ничего не подозревая худого, а на нее из засады зорко смотрели разбойничьи глаза. Одним мигом выскочили разбойники на тропу, схватили, притащили на корабль, подняли паруса - и айда за сине море. Привезли Арзы к хану Али-баба. Тот продал ее на рынке в султанский дворец. Долго плакала и рыдала Арзы о своем деде, тосковала по родной земле. Потом родился у Арзы прекрасный, как и она сама, сын. Выходила Арзы с сыном гулять на обрыв крепости. И как-то, думая, гадая, решилась она на такой дерзкий шаг: «Не хочу я, злой старый султан, быть твоей наложницей. Лучше смерть, чем неволя». И кинулась вместе с сыном с крутого обрыва крепости в Босфор. И только видели ее, красавицу, и ее сына волны черноморские да пучина морская. Говорят, приплыла Арзы с сыном к родным берегам, да так и превратились они в каменную статую, которая и сейчас, может, стоит в море, недалеко от берега. А в день трагической гибели Арзы и ее сына из родника, сказывают, забил фонтан холодной, светлой, как слезинка, воды, напоминая людям о красавице Арзы и ее мальчике…
Тоня, не перебивая, слушала Павла, а когда он закончил, вздохнула:
- Жаль их.
А Павел просиял:
- Хорошая моя! Я-то ведь не жадный старый Али-баба, а один из тех юношей, которые предлагали Арзы свое сердце. Неужели и ты мне откажешь, если я предложу тебе стать моей женой?
Тоня на мгновение оцепенела.
- И ты это всерьез, Павлуша?
- Да, Тонечка. Дай мне руку и скажи: «Я твоя».
Тоня пристально посмотрела в глаза Павла, молча вложила свою руку в его широкую ладонь, прижалась хрупким плечиком к его плечу.
- Пусть будет по-твоему,- прошептала она побледневшими губами.
Павел порывисто наклонился к Тоне и поцеловал ее.
Летчики собрались в тесном клубе-землянке. Сразу стало душно. Пришлось открыть в коридоре окно. С улицы ворвались клубы морозного воздуха. Заполярная ранняя зима уже давала о себе знать. Там, за стенами землянки, она хозяйничала вовсю - несколько дней в котловане, где приютился аэродром, лютовала вьюга.
В землянку, широко распахнув дверь, пошли Борисов и Хохлов, Сбили снег с унтов, сняли регланы. Летчики шумно встали: загремели скамейки, заскрипели расшатавшиеся от времени стулья.
- Прошу садиться,- громко произнес Борисов и поднялся на сцену. За ним прошел Хохлов.
- Вы, очевидно, догадываетесь, по какому случаю мы собрались,- начал Борисов, широко улыбаясь.- Прошу всех встать! - повелительно, но с усмешкой в глазах скомандовал он.- Пригласите виновников торжества!
В землянку вошли Павел Мальцев и Тоня Пожарская. Шквал аплодисментов обрушился им навстречу.
- Ну, друзья, подойдите ко мне поближе, - добродушно произнес Борисов и, подхватив Тоню сильными руками, будто пушинку, приподнял ее на сцену. - А ты на своих четверых пройдешь, Павел. Ведь в тебе, как ни гадай, пудиков пять будет. Подними такого буйвола - век страдать будешь.
Борисов положил руку на поясницу и, согнувшись в три погибели, шутливо заковылял к столу. Летчики расхохотались.
Павел, легко поднявшись на сцену, подошел к Борисову и отрапортовал:
- Дорогой батя, но вашему приказанию молодожены Мальцевы прибыли!
Борисов улыбнулся Павлу:
- Садись поближе к Антонине… Ну как, товарищи, можно доверять ему нашу Тонечку? - спросил он зал и сам же ответил: - Думаю, вполне. Будет хорошая, добрая семья. Фронтовая семья. А что может быть крепче семьи, рожденной под огнем, в пылу сражений! Пожелаем же нашим друзьям полный короб счастья, радостной и светлой победы над лютыми фашистами, в которую внесли свой вклад и наш боевой летчик Павел Мальцев и его красавица жинка Антонина Мальцева.
Встал парторг Иван Филиппович Хохлов. Он подошел к Тоне и, взяв ее под руку, подвел к краю сцены. Обращаясь к залу, сказал:
- Тут командир о Павле Сергеевиче говорил: добрые слова. Я целиком и полностью их разделяю. Павел летает прямо-таки здорово. Да и многие из вас отважно воюют. Посмотрите, как светло в нашей скромной землянке. Это Звезды Героев, боевые ордена сияют на ваших кителях. А сказать я хочу о нашей Тонечке, о таких, как она, скромных девушках, которые создают нам уют, кормят и поят нас, врачуют наши раны, берегут здоровье. Что бы мы делали без них? Трудненько нам пришлось бы. Вот почему я низко кланяюсь тебе, Антонина-Тонечка, всем нашим боевым подругам и от всего сердца говорю: спасибо вам, дорогие, спасибо!…
Тоня стояла перед своими товарищами, и в ее глазах сияла гордость. «Да, верно говорит Иван Филиппович, очень справедливо. Какие хорошие у вас женщины, девушки. И горе, и радость - все пополам делят с мужчинами. Война требует… Вон какие они жизнерадостные! Пришли в самых «шикарных» костюмах - хлопчатобумажных гимнастерках и юбках, в унтах, что у летчиков. На гимнастерках медали горят».
В это время Хохлов как раз и говорил о наградах. Он указал на медаль на груди Тони:
- У нее пока только одна правительственная награда. Но и она очень дорога для нее. В этой медали - тревожные боевые ночи и дни. Дорогая Тонечка, будь счастлива, будь хорошим другом своему нареченному Павлу Сергеевичу Мальцеву. Это - настоящий человек.
Хохлов усадил Тоню на место, подошел к Павлу:
- Ну а тебе что сказать, орел?
Павел встал, выпрямился.
- Тебе пожелаю побольше собранности, внутренней организованности и самодисциплины. Ты извини, что в такой час говорю об этом и так прямо. Лучше сказать правду и при всем честном народе. Мы твои подвиги и заслуги знаем. Держи себя в руках, теперь ты не один - и за жену в ответе…
Конечно, все, кто сидел в клубе, знали его, Павла. Вернулся он из госпиталя в полк. Приняли хорошо. Летает наравне с ребятами. Сколько уже вылетов за плечами, сколько боев. Девять обитых фашистов на счету. Звезда Героя украсила его грудь. Вот она и сейчас приятно ласкает взгляд. А вручал ее сам командующий. Прицепил к кителю, задержал в своей руке руку Павла, сказал тихо: «Воюешь лихо, браток, это хорошо. А вот лишнего себе позволяешь в воздухе - негоже. Говорят, начальство эскадрильное не почитаешь. Брось, ты уже самостоятельный парень. Как-никак - командир звена».
«Вот тебе раз! - думал тогда Павел.- Пришел Золотую Звезду получать, хорошие слова услышать, а генерал по самому больному месту - хлоп, хлоп. Точно березовым прутом, да по ягодицам, да по ягодицам, как отец в детстве. Хотя поделом. Ишь, зарвался! Мне, мол, все нипочем».
Сколько томительных ночей потом провел Павел - знал об этом лишь он сам и, может быть, его Тонечка. Он, бывало, спрашивал ее:
- Скажи, что обо мне толкуют в народе? Ведь у тебя в санчасти всегда люди. Говори, не таясь, прямо в глаза.
И она говорила:
- Разное судачат. Одни хвалят за ухарство, другие - ухмыляются: нарвется-де на опытного фашиста - не соберет костей в сопках. Конечно, многие любят тебя за самостоятельность в воздухе, в бою. Сам Борисов как-то при мне отчитывал комэска, почему он инициативу из твоих рук выбивает…- И Тоня советовала: - Береги себя, Паша. Зачем зря рисковать?
А Павел отвечал:
- Вот об ухарстве это ты дельно заметила. Надо немного поостыть. Но, черт возьми, разве можно быть холодным, равнодушным, когда в жилах кипит кровь, когда видишь, как на тебя прется такая нахальная прусская морда! Скажи, русак может уступить пруссаку?! Ну и давай карусель, да такую, что сердце вот-вот вырвется из груди. А впрочем, ты права, Тонечка. Надо поостыть. Но что касается инициативы - тут уж, извините, я не уступлю. Кому виднее немец - мне или тем, что с земли подают команды? В воздухе виднее. А раз это так, то и действую сам. Я и своим ребятам приказываю бить фашиста откуда ловчее, сподручнее. Инициатива - это полпобеды.
Хохлов вот сейчас снова уколол. Он наверняка имел в виду один из последних полетов. Оставил комэска без прикрытия, как мальчишка,- погнался за «мессером». И это чуть было не кончилось для обоих трагически. Но, дорогой парторг, милый Иван Филиппович, не он ли, не Мальцев ли, краснел, стоя перед своими товарищами, когда вы с Борисовым давали ему «шприца»? Ведь он уже пережил все это. Хотя повторение - мать учения, даже в такой день, как… свадьба.
Свадебное пиршество было недолгим. Друзья наполняли из фляг фронтовые чарки, пили за здоровье молодых супругов Мальцевых, произносили тосты, добрые пожелания, кричали: «Горько!» Павел целовал Тоню и хмелел от счастья…
Они остались одни. Павел обнял Тоню за плечи.
- Ну вот мы и вместе, вместе навсегда, на всю жизнь. Скажи, рада ты?
- Зачем спрашиваешь? Разве не видишь? - Тоня погладила руку Павла. - Дорогой ты мой, Павлушка. Ты-то счастлив? Раз, два, три… Три родинки у тебя на лице. Нет, кажется, человек бывает счастливым, когда родинок чет. А у тебя - нечет…
- Пустое дело эти родинки, Тонечка, - нежно возразил Павел,- Давай лучше поговорим, как мы будем с тобой жить-поживать. В нашей обители, в землянке, видишь, Димка оставил свою кровать. Добрый человек этот Шплинт. Уходил, сказал: «Не поминай лихом. И чтобы дружба наша не нарушилась. А то я знаю вас, женатиков: за юбку ухватитесь - и ни до кого дела нет».
- Что же это он так, в сердцах, что ли?
- Нет, от всей души.
- Да пусть заходит. Всегда рады будем. Глядишь, по нашему примеру и сам женится. Ведь есть у него Галочка Храмова-то. Ну вот и поладят небось.
- Скорее бы кончилась война,- хлопнул ладонью по столу Павел. - Увез бы я тебя не в Крым, как говорил, а в наш Краснослободск. Ты знаешь такой город? Нет? Это старинный русский городок, весь в зелени, в садах. Домики как на подбор - небольшие, уютненькие, с резными наличниками на окнах, с петушками на коньках крыш. А рядом под кручей течет речка, такая свежая, умытая! Мокшей зовется.
- Ну а я, как ты знаешь, таежница, уралочка. У нас лучше, Паша. Представь себе маленькое село с добротными бревенчатыми домами - крепкими, плотными. А кругом горы, красивые горы, и тайга, насколько хватит глаз - тайга. Зимой на лыжи - и айда в горы. Впереди отец с ружьишком за плечами. «Не отставай, дочурка!» - крикнет, а сам как прибавит ходу - только его и видела. И вот - одна среди этого чудеснейшего царства. «Ау-у!» - крикнешь отцу. «Ау-у» - откликнется твой же голос где-то в горах. И тебе радостно, тепло. Вдруг откуда-то, с самой верхушки ели,- хлоп: свалится на голову ком снегу. Поглядишь - белка-шалунья, перескочив с ветки на ветку, сидит на сучочке и лапками мордочку себе моет, И кажется, улыбается, проказница.
- Я до Урала не доехал,- сказал Павел.- Под Кировом был, в госпитале.
- Ты говоришь, увезешь меня домой. Это что, насовсем мы туда?
- Зачем же, глупышка! Разве я могу оставить службу, авиацию? Ведь я к ней прирос. Всем сердцем прирос. Знаешь, как в той песне поется: «Первым делом, первым делом самолеты, ну а девушки, а девушки потом…»
- Я внесу в эту песню поправку, Паша: «Первым делом, первым делом самолеты, а про девушек, про девушек забудь».
Павел рассмеялся:
- Ого, ты, оказывается, не только медик, а и поэт-собственник!
- Это почему же «собственник»?
- Целиком и полностью завладела мной.
- А ты думал - наполовину? Целиком, Паша, целиком. - Тоня встала, обняла Павла, поцеловала в щеку, на которой пламенел шрам. Павел поднял Тоню и закружил. На улице полыхало северное сияние. Пробиваясь сквозь разукрашенное морозом оконце, оно заиграло и в землянке. А им уже не было никакого дела ни до северного сияния, ни до чего другого на свете…
- Ну, Тонечка, поздравь! - крикнул Павел еще с порога и тяжело опустился на стул.- Главного сегодня срезали… самого главного гада срубили.
- Гитлеру, что ли, башку снесли? - обрадовалась Тоня.- Нашлись наконец-то храбрые люди…
Павел громко засмеялся:
- До Гитлера еще далеко, роднуля, хотя и до него доберемся. А вот того, кто нам здесь, на Севере, кровь портил, смахнули.
Мальцев встал, прошел на место, где он принимал обычно ванночки, снял протезы, похлопал по ним ладонями, поставил рядом с собой.
- А не подвели ножки Петра Петровича, сам «король неба» у этих ног.- Павел сунул культи в ванночки, немного поморщился от внезапно наступившей боли, прикусил губу.
- О ком ты говоришь? Не пойму я тебя, Паша.
- Да хватит, тебе суетиться-то. Присядь, расскажу.
Тоня снова выбежала из процедурной, затем вернулась с какими-то пробирками, опустилась рядом с Павлом.
- Фу, в пот бросило, - протараторила она и вытерла халатом разгоряченное лицо,- Ну, рассказывай.
- Умаялась?
- А ты разве нет?
- Надо, Тонечка, война… Еще немного, и мы заживем с тобой другой жиэиью… Вот срубил я же сегодня одного важного гада и до берлинского главаря доберемся. Обязательно дошагаем.
- Ну, рассказывай же, кто он, этот «король неба»,- торопила Тоня.
- Сейчас расскажу.- Павел поправил ванночки, сел поудобнее, попросил разрешения закурить.
- Кури, только дым вон в тот угол пускай, там продувает немножко.
Тоня глядела на Павла - приготовилась слушать, а он, собираясь с мыслями, несколько раз глубоко затянулся, погасил окурок, смял его в своих крепких пальцах, завернул в клочок газеты, положил в карман.
…Это был тяжелый бой. Звено истребителей, возглавляемое Павлом, барражировало над портом. Вдруг с земли передали радиограмму: в воздухе самолеты противника, следует принять бой.
Развернулись, взяли курс навстречу врагу.
Вскоре Павел увидел: наперерез нажим самолетам идут четыре вражеских «фокке-вульфа». Они летели против солнца и, ослепленные его лучами, очевидно, прозевали наших истребителей.
Поднявшись на предельную высоту, Павел с ведомым спустился, как говорят летчики, на первый этаж, чтобы немедленно вступить в бой, а Петр Боков остался на втором этаже, чтобы не дать прорваться «фокке-вульфам» вверх.
Павел выбрал цель, набрал скорость, впился в прицел. Но что это? На борту вражеской машины нарисован бубновый туз. «Неужели это он? А ну, посмотрим, какой ты на самом деле есть?»
Мальцев стремительно развернул истребитель, сделал маневр и пристроился в хвост вражеской машине. Фашист, почувствовав опасность, сделал неожиданный разворот и ускользнул из-под удара.
Павел нажал на гашетки пулемета, но было поздно, нули прошли мимо цели.
Фашист нырнул в облака, Павел - за ним. Гитлеровец прикрылся кромкой и занял выжидающую позицию; авось, мол, наш истребитель сам нарвется - тут он его и прикончит. Такая тактика много раз выручала фашиста. Он нападал на наши самолеты или из засады, или на подходе к аэродрому.
Теперь же он встретился с Мальцевым, как говорится, лицом к лицу. Павел разгадал его уловку и тоже начал курсировать, прикрываясь нижней кромкой другого слоя облаков. Летал долго. Там, в вышине, гремел бой. Это, очевидно, Боков сражался с «фокке-вульфами».
Павел нервничал. «Может быть, ускользнула из-под носа эта хитрая лиса»,- билась мысль.
Павел сделал разворот, чтобы выйти из облаков. Нервы немца, наверное, сдали: «фокке-вульф» с бубновым тузом на фюзеляже промелькнул впереди. «Не уйдешь, паразит!» - крикнул Мальцев и бросил машину вдогонку. Мгновение - и очередь направлена к цели. Но фашист снова ушел из-под пуль и сам, в свою очередь, оказался под «брюхом» самолета Павла. Тут пришлось проявлять мастерство Мальцеву, чтобы спастись от огненных смерчей. Удалось. К тому же Павел, сманеврировав, зашел в хвост немцу. Тщательно прицелился, и пули настигли вражескую машину. «Фокке-вульф» задымил и пошел к земле.
После такого длительного и утомительного боя Павел решил разобраться в обстановке. Его ведомый летчик Борис Федорович неплохо действовал в этом бою. Он прикрывал Павла от других «фокке-вульфов».
- Молодец, Борис! - похвалил его Павел.- Теперь за мной, вниз!
Спустившись на несколько сот метров, Мальцев заметил, как по сбитому им, по еще падавшему «фоккеру» дал несколько очередей Петр Боков, который в круговороте боя незаметно опустился почти до бреющего полета.
- «Кобра», «Кобра»,- запросили с земли.- Как успехи, как успехи, доложите?
- Успех хороший,- радировал Павел и попросил разрешения вернуться на аэродром.
Прилетели домой торжествующие, радостные. Над аэродромом до традиции дали салют. И как только приземлились, Павел доложил Борисову:
- Товарищ командир, в воздушном бою сбито два самолета противника. Один уничтожен Петром Боковым, второй - мной. На борту сбитого самолета - бубновый туз: В бою отличился и Борис Федорович.
- Ты не ошибся, Павел Сергеевич, в самом деле на самолете бубновый туз? - спросил Борисов, берясь за трубку телефона.
- Точно, товарищ командир! - подтвердил Павел. - Перед самыми глазами кувыркнулся.
Борисов поднял трубку, отдал распоряжение:
- Немедленно обследуйте обитые самолеты, летчиков доставьте на аэродром.
И, положив трубку, шагнул к Павлу.
- Да знаешь ли ты, кого срубил? А? - Командир улыбнулся.
- Понимаете, товарищ командир… Я подумал, что это…
- Тут и думать нечего, - перебил Борисов. - Да это же сам Келлер. «Король неба»!
- Келлер?
- Он, конечно, Павел Сергеевич, он. Нарвался наконец, собака.
- По этому самолету и Боков стрелял, товарищ командир,- доложил Павел.- Вот и Федорович может подтвердить.
- Боков? Это интересно, это, пожалуй, даже хорошо.
- А что, товарищ командир?
- Значит, у него сегодня можно считать два сбитых самолета.
- А как же со мной, ведь это все же Келлер?
- Куда тебе их, Павел Сергеевич, солить, что ли?…
Командир подошел к Мальцеву, потрогал Золотую Звезду на его груди.
- Ты же знаешь нашу традицию. У тебя уже есть, а вот у Бокова как раз не хватает одной машины. А парень он тоже отменный. Заслужил. Ну а тебе - орден. И Федоровича отметим.
Павел в душе не хотел идти на сделку с совестью. Если бы он сбил какого-нибудь рядового немца, еще куда ни шло - можно выручить товарища. Но ведь это сам Келлер!
И Павел вслух повторил:
- Но ведь это же Келлер!
Борисов примирительно сказал:
- Ну ладно, Павел Сергеевич, дело покажет. Вот привезут, посмотрим. Может быть, это и не Келлер.
Павел вышел из землянки и тяжелой походкой направился в дежурку. Уже в прихожей услышал, как Петр Боков темпераментно рассказывал о только что прошедшем бое, о том, как он увидел снижавшуюся подбитую машину с бубновым тузом на борту, пристроился к ней и дал несколько очередей.
Павел шагнул в переднюю.
- Ну, ну, договаривай, Петр, как ты этого туза рубанул? - кивнул он Бокову.
Боков встал, подошел к Мальцеву.
- Чего там рубанул! Он уже готовенький был. И как на блюдечке - на, мол, меня кушай, Пека. Летчики засмеялись.
- Так вот, ребята, этот самолет мы вместе с Петром срубили. Я начал, а он прикончил. И знайте еще, ребята, пусть запишут этот самолет Пеке. Ему до Звезды одного не хватает. Так я доложил и Борисову.
Боков от неожиданности раскрыл рот и не знал, что сказать. Он развел руки, словно слепой шагнул к Павлу, как-то неловко ткнулся ему в широкую грудь, тихо вымолвил, глядя снизу вверх в глаза:
- Всю жизнь не забуду, Павел, всю жизнь…
- Это по-братски, Пека, по-братски.- Павел улыбнулся, присел на скрипучую табуретку.
Начались расспросы. Павел охотно рассказал о бое.
- А знаете, кто это был, с тузом на борту? - спросил Павел и сам же ответил: - Борисов предполагает, что это… Келлер.
- Келлер?!
- Попалась хитрая лиса!
Тонечка слушала Павла, затаив дыхание. И, когда Павел прервал рассказ, чтобы закурить, спросила:
- А кто же он, Келлер-то?
- Страшный, очень страшный фашист, Тонечка,- ответил Павел, пуская струйки дыма в угол, «где немножко продувало».- Недаром наши его прозвали хитрым лисом. Видишь ли, он похоронил не одного нашего летчика. Все хитростью брал. И самый главный его прием - это неожиданность. Вот возвращаются наши на аэродром, он пристраивается к ним и на самом подходе, а то и на посадке бац одного - и наутек. Ну а когда бой кипит, он не лезет. Он со стороны наблюдает. А как увидит, что кто-то зазевался или увлекся, он тут как тут. И опять победа. Вот так и сшибал наших. И звание потому у немцев такое получил - «король неба».-Павел подымил самокруткой и продолжал: - А вот сегодня он сам стал добычей. Я его же тактикой действовал. И он попался на удочку -=. напоролся на пулеметы,
- Ты думаешь, он мертв? - спросила Тоня.- А может же он с парашютом выброситься или… Ну бывают же случаи…
- Жив он, паразит.
- Да?
- Он прыгнул с парашютом. И с лыжами. Оказывается, и приземлился хорошо. Опытный, черт. А потом на лыжи - и к границе. Ходок он, видать, отменный. Несколько километров отмахал, пока схватили.
- Ну и что же?
- Привезли в полк. Командир созвал всех свободных летчиков полюбоваться на эту птицу.
- И это в самом деле был Келлер?
- А что, эрзац, что ли? - засмеялся Павел.- Правда, у них там, говорят, и эрзац-Гитлеры есть. Но этот настоящий. Крупный такой, зверюга. Долго разговаривать не хотел. Белками крутит - и только. Того и гляди, кинется на тебя.
- Вот какую щуку ты поймал,- похвалила Тоня мужа.- Такую, видать, еще никто не лавливал.
Павел незаметно улыбнулся:
- Борисов спросил Келлера: кто его сбил? Показали Бокова. Немец покачал головой, сказал: «Такой молодой не мог меня сбить». Тогда Борисов попросил выйти вперед меня и опять спросил Келлера: «Может быть, этот?» Келлер сначала покачал головой, но потом внимательно посмотрел и попросил назвать мой бортовой номер. Я назвал. Тогда Келлер, вскочив, закричал: «Да, да. Но неужели этот молокосос так перехитрил меня, старого аса, «короля неба»!» Борисов ему спокойно ответил: «Он у нас и не таких рубал, да так, что перья летели. Ну-ка, Павел Сергеевич, подойди поближе да покажи этому «королю», как ты и на чем летаешь!» Я шагнул к столу, но дал знак Борисову, что, мол, неудобно демонстрировать. А Борисов еще громче крикнул: «Покажи, покажи, Павел, пусть знают силу русского человека, пусть знают, сволочи!» Я снял фетровые бурки и оказался перед немцем на… протезах. Келлер так и остолбенел. Стоял несколько секунд с выпученными, как у совы, глазами и, кажется, ничего не понимал. А когда до него дошло, он схватился за голову, рухнул.
Тоня встала, обняла Павла, поцеловала в губы:
- Молодец ты у меня, просто молодец!
Павел, смутясь, ответил:
- У нас, как ты знаешь, все такие.
- Но ты особенный.
- Для тебя?
- Да.
Тоня подняла из ванночек йоги Павла, протерла их мягким махровым полотенцем, помогла надеть протезы. В эту минуту Павел подумал: хорошего, доброго друга встретил он на фронтовой дороге, друга на всю жизнь.
Глава третья
День Победы застал Павла в Крыму, куда он был переведен в последние месяцы войны. И как ни грустно ему было расставаться с однополчанами, как ни уговаривал он командира оставить его а полку, Борисов был неумолим: Крым есть Крым а Заполярье - Заполярье. В Крыму летать легче, а это как раз и необходимо Павлу.
- Потрудился на славу, большое спасибо тебе,- сказал Борисов.- А теперь высшее начальство приказало,- да Юг. И я не имею права возражать.
Борисов выстроил полк, чтобы попрощаться с Павлом, у всех на виду крепко, по-мужски поцеловал его, сказал:
- Ну, Павел Сергеевич, счастливого пути! От всех ребят тебе земной поклон. Встречай победу в солнечном Крыму, она не за горами.
Павел прошелся вдоль строя, крепко пожал руки своим боевым друзьям, дольше других задержался возле Димы Соловьева, притянул его к себе.
- Ну, будь здоров, Шплинт,
- Встретимся, Павел! - горячо прошептал Дима.
До победы над немцами действительно оставалось немного, и Павлу уже не пришлось участвовать в боях с фашистами в Крыму. Немцам было не до Крыма. Они отступали в глубь своей территории и заботились лишь о том, как бы уберечь шкуру от неминуемого возмездия.
И вот она, долгожданная победа, взметнулась над страной радужным фейерверком, объятиями, поцелуями, слезами!
Сообщение радио о победе Павел услышал дома. Он нарочно не выключал репродуктор в эти майские дни, с часу на час ждал известия. И точно - ранним утром торжественно прозвучал голос диктора, и весь дом заходил ходуном. Павел разбудил Тоню, схватил ее в охапку, поставил на ноги, начал целовать в губы, в щеки, в глаза. По его лицу текли слезы, руки дрожали, его колотил, словно в лихорадке, радостный озноб.
Тоня закричала:
- Павлик, Павлушка, буди всех! Победа! Всех, всех буди!
Павел носился по коридору, стучал в двери соседей, неистово орал:
- Радуйтесь, друзья, победа! Победа!
Люди в одном белье выбегали в коридор, бросались Павлу в объятия, целовались, плакали и сквозь слезы кричали «ура».
Этот майский день был торжественным и на аэродроме. Командир полка Загубисало поднял все самолеты в воздух, они прошли в строгом строю над летным полем, дали победный салют, а затем летчики доказывали фигуры высшего пилотажа.
Мальцев вел свой «ястребок» с какой-то особенной легкостью, с блеском. Авиаторы, находившиеся на аэродроме, невольно любовались его полетом.
Потом летчики отпраздновали победу за общим столом. Шумно произносили тосты, по очереди подходили к Загубисало, поздравляли с победой, хвалили его за личную храбрость, желали новых удач.
Подошел к Загубисало и Павел, сказал:
- Мой тост за славных воздушных бойцов, которые отважно защищали Родину на севере и юге.
В ответ Загубисало заметил:
- Спасибо, Павел Сергеевич, за добрые слова. Желаю скорее закончить службу, ведь тяжело тебе…
«Нашел что сказать в такой радостный час», - подумал Павел и, скрипя протезами, вернулся к своему столу, молча досидел до конца торжества.
Домой пришел расстроенный. Рассказал обо всем Тоне. А она улыбнулась, шепнула:
- Он, наверное, пошутил. Разве посмеет. Ведь мы уже не вдвоем…
Тоня прижалась к Павлу, заглянула ему в глаза.
- Не чувствуешь? Он уже бодается… наш малыш…
- Молодец ты у меня, Тонечка. Хорошо бы девочку.
- Не все ли равно кого? Ведь наш он, весь до кровинки наш.
- Оно, конечно. Но девочку - лучше. Тебе помощницу. Если второй вдруг…
Тоня легонько оттолкнула его от себя.
- Ишь, какие планы строит.
- А в наше время без плана никак нельзя, - отшутился Павел.
За полетами, за заботами Мальцев не заметил, как в его семье прибыло пополнение. Тоня, и верно, родила дочку, назвали ее Леночкой. Черноглазая, с носом-пуговкой, она, как утверждал Павел, была очень похожа на него, а Тоня перечила: отыскивала на едва расправившемся личике Леночки свои черточки. Так и жили Мальцевы, наслаждаясь радостью, пришедшей в их дом после войны.
Но однажды Павел вернулся домой сумрачный, злой. Еще с порога швырнул фуражку на кровать, грузно протопал в переднюю комнату, тяжело опустился на стул. Тоня, насторожившись, прошла следом за Павлом, тихо прикрыв за собой дверь. Он вскинул на нее усталые глаза:
- Ну вот, я, кажется, приземлился. - Павел заерзал на стуле, отвернулся к окну.
- Что-что? - переспросила Тоня.
- Сегодня вызвал и предложил подумать… Предложил подумать о пенсии, мать.
- Тебе предложили? Да ты что, не в себе, что ли? - вскрикнула Тоня и повернула к себе лицо Павла. В его глазах она увидела слезы. - Да кто же это посмел? А? Да как ему не стыдно!…
- Загубисало. Вызвал сегодня и говорит: заводи, Павел Сергеевич, пенсионную книжку, пробил час уходить па покой…
Мальцев встал, взял со стола папиросы, чиркнул спичкой так, что серная головка огненным шариком отлетела в сторону, закурил.
- Да как же это он… как же? - Тоня заплакала, Павел рассказал все по порядку. Оказывается, уже несколько дней Мальцева обхаживал командир звена Федорович, воевавший с Павлом раньше в Заполярье, а теперь переведенный на Юг. По поручению Загубисало он «готовил» Мальцева к разговору о его демобилизации. Издалека, намеками Федорович давал понять Павлу, что он, хорошо повоевав, имеет право на заслуженный отдых, что его заменит молодежь, а он будет помогать ей расти, как ветеран, как летчик-вояка, приходя в полк на досуге. Павел огрызался, говорил Федоровичу, что без неба у него никакой жизни не будет и пусть, мол, он заткнется со своей демобилизацией. Если в войну добился разрешения летать, специальный самолет для него сделали, так разве он не может служить в авиации в мирное время?
- Нет, ты мое сердце больше не береди, иначе худо будет! - сказал Павел сгоряча.
- Как это так, худо? - вскипел Федорович. - Угрожаешь? А еще командир!
- Да, командир, - спокойно ответил Павел. - Но ведь ты ерунду порешь, потому и говорю так.
- Как это «ерунду»? - еще больше ощетинился Федорович. - Да знаешь ли ты…
- И знать не хочу, - перебил его Павел. - Прошу больше не напоминать мне о запасе. Слышать не хочу.
- Ну что ж, товарищ Мальцев, - пригрозил Федорович. - До встречи у Загубисало. - Он резко повернулся и направился к штабу.
А через несколько минут запыхавшийся посыльный вызвал Мальцева к командиру.
Павел явился, доложил. Загубисало принял его не сразу. Он приказал обождать в приемной. В кабинете командира находились Федорович и замполит Бортов. Но вот дверь открылась, и Павлу разрешили войти.
Не пригласив сесть, Загубясало перешел в атаку:
- Что же это вы, Павел Сергеевич, подчиненному угрожаете?
- Не понимаю вас, товарищ командир, - сказал Павел.
- Что ж тут непонятного. Вот Федорович только что в присутствии Бортова доложил, что вы ему угрожали…
- Ничего подобного, - не удержался, перебил Павел.
- Товарищ Мальцев! - строго крикнул Загубисало, - вы что, старинку решили вспомнить?!
- То есть, товарищ командир? - насторожился Павел.
- Хоть вы и далеко были, Мальцев, но проказы ваши вот здесь все зафиксированы. - Загубисало потряс папкой. - Если забыли, я вам напомню, Мальцев.
- На память еще не обижаюсь, товарищ командир.
Загубисало обратился к Бортову и пренебрежительно сказал:
- Этот ас выкидывал на Севере такие штучки, только ахать приходится. Не так ли, Федорович, ведь вы там служили?
- Точно, товарищ подполковник.
- Ну, скажем, приехали как-то на Север артисты, один из них, не то Казин, не то Мазин, петь отказался, простудился, голос сел, - продолжал Загубисало. - Так знаете, что этот хлюст отчубучил? Явился в клуб, схватил этого артистика за шиворот, выволок на сцену и приказал петь. Да, да, приказал петь. Тот отказывался, возмущался, но все же запел. Правда, на первых же нотах петуха пустил, но пел…
- Был такой случай, - согласился Павел, глядя в пол, - А что ж он, гад несчастный, артачился? Ребята изголодались по песне, все бои да бои. А он приехал и… на бюллетень. Ну ребята и попросили меня поговорить с ним по душам. Пришел я к артисту, добром попросил повеселить ребят. А он хватается за горло, побаливает малость, говорит. Тогда я сбросил с себя ботинки, показал на протезы, повертел ими перед его носом и спросил: «А у меня не побаливает, думаешь, вот эта культяпка? Иди и пой, говорю ему. Война требует жертв, а сердце - песню». Пошел. За шиворот его я, конечно, не брал, товарищ Загубисало, это кто-то присочинил, но дал понять… И он запел, чертяка, не петухом, а соловьем запел, да еще и приплясывать стал, помните, как Макс - растратчик ресторана из картины «Заключенные».
Федорович и Бортов рассмеялись. Загубисало нахмурился еще больше, недовольный ходом разговора. Повернувшись к окну, он сказал:
- Ну и схватили за это десять суток «губы».
- Правда ваша, товарищ командир, отсидел. А генерал Головкин до срока выпустил, посмеялся и говорит: «Бросайте ваши глупые шутки. Не то рассержусь и на полную катушку врежу».
- Так вот, очевидно, Мальцев, вы и вспомнили про эту старинку. Ведь вам Федорович о деле говорил, а вы с угрозой…
- Никто ему не угрожал, товарищ командир. А что касается его разговоров, то это напрасно он. Это не его ума дело.
- Как не его? - возразил Загубисало. - Он по моему поручению действовал. Пробил час, товарищ Мальцев, надо идти на покой. Ведь даже здоровых, полноценных людей увольняем.
- Это мне на покой? - тихо спросил Павел и тут же добавил: - Да вы шутите, Кирилл Прокофьевич!
- Это почему же я должен шутить? Что я вам мальчик или командир?
- Я в запас не хочу. Вы знаете…
- Но приказ…
- Он не для меня. Я в войну добился отмены всех приказов и стал летать. И сейчас добьюсь, если вы поставите вопрос…
- Но ведь это делается для того, чтобы лучше было тебе… вам, - переходя на более умеренный тон, проговорил Загубисало. - Ведь вам надо сохранять здоровье. А летное дело, сами знаете, тяжелое. Тут ж здоровому трудно справляться. А вы будете загорать на пляже, любоваться красотами природы, удить рыбку. Ну чем не жизнь?
- Что ни говорите, Кирилл Прокофьевич, а запас не для меня. Я рожден летать и буду летать. Греть животик на пляже - дело будущего. А рыбки я наловлю и в выходной день. Так что очень прошу не ставить вопрос о моем увольнении.
Павел заметил, как на скулах Загубисало заходили желваки. Он нервничал. Чувствовалось, что вот-вот сорвется и накричит, а то, может быть, в припадке гнева и выгонит из кабинета.
- Вот что, товарищ капитан, - сказал Загубисало, строго глядя на Павла. - Езжайте домой, посоветуйтесь с женой, хорошенько подумайте, а завтра доложите. Но помните, выхода нет.
Павел сжал палку, сжал так, что пальцы правой руки побелели. Выпрямился, щелкнул каблуками, отрапортовал:
- Есть, подумать, товарищ командир. Но завтра я скажу то же самое, что сказал теперь.
- Идите! - махнул рукой Загубисало.
- Слушаюсь! - Павел повернулся и вышел из кабинета. Пошатываясь, он направился к автомашине, стоявшей недалеко от штаба. Загубисало смотрел на широкую, немного сутулую спину Павла и думал: «Вот, черт упрямый, недаром он заставил того артистика петь». Повернулся к Федоровичу и Бортову.
- Видели, каков фрукт! Идите, Федорович. - И, помолчав немного, спросил Бортова: - Какое ваше мнение, Иван Сидорович?
- Этого приказом не возьмешь.
- Как это приказом не возьмешь? - возразил Загубисало.
- Очень просто, Кирилл Прокофьевич. Поставьте себя на его место - и вы сразу же другое заговорите. Он же - герой. Восемнадцать фашистских самолетов угробил. Звезду заслужил… И с женой у него что-то не ладится - после родов плохо себя чувствует. Надо повнимательнее отнестись.
- Посмотрим, - неопределенно буркнул Загубисало, дав понять, что разговор окончен.
Бортов вышел из кабинета и направился домой.
По настоянию майора Бортова Павла назначили штурманом наведения. Бортов уговорил его пойти на эту должность. Это было верное решение. Посадить такого летчика, как Мальцев, на пункт управления - полезное дело. Павел имел опыт, разбирался в тактике воздушных боев, хорошо чувствовал маневр. Такой штурман быстро найдет общий язык с летчиком, выполняющим задание, и сноровисто, с наиболее выгодного направления наведет его на цель. Какой командир не захочет иметь толкового летчика на командном пункте?
Загубисало представление о назначении Павла подписал неохотно, с оговоркой, что он идет навстречу комиссару - так он по старой привычке называл своего замполита Бортова, которого, кстати, немножко побаивался. «Бортов - человек крутой, стукнет в верха - и поминай, как звали», - сказал как-то Загубисало Федоровичу.
Но Бортов никуда и никогда «не стукал». Он был просто прямым и честным коммунистом, который ценил человека, вникал в его дела, радости и огорчения. Его сердце всегда было открыто для людей, какое бы положение они ни занимали. К Бортову шли днем и ночью, шли все, кому хотелось поделиться с ним радостью, излить свою печаль: пусть и об этой печали знает замполит, легче будет одолевать невзгоды.
Пришел к Бортову и Павел Мальцев. Вошел в кабинет без стука, как к своему, родному. Сел па диван, вынул папиросы, помолчал.
- Я знал, что ты заглянешь, - сказал Бортов, поднимаясь из-за стола. Подошел к Павлу, взял предложенную папиросу, щелкнул зажигалкой, дал прикурить Мальцеву, сам прикурил. - Трудно спалось? - спросил и выпустил куда-то в пол струйку дыма, разогнал ладонью.
- Признаться, глаз не сомкнул, Иван Сидорович, - выдохнул Павел.
- Понимаю. Я тоже мучался… Нелегкую задачу перед тобой поставил командир. - Бортов вернулся к столу, стряхнул пепел в пепельницу. - Ну и что же ты надумал, Павел? - спросил, не оборачиваясь.
- Служить решил, Иван Сидорович, вот и вся моя дума. Пришел к тебе поддержку искать. И Тоня просила, Иван Сндорович.
- Правильно, Павел, служить надо. - Шагнул к Мальцеву Бортов. - Но где? Летать?
- Только летать!
- Но только ли? Может быть, осядешь на капе? Чем черт не шутит - из тебя прекраснейший штурман наведения получится. А, Павел Сергеевич? Да и Антонине Степановне спокойнее будет. Хватит уж ей ночами-то не спать, глядеть в небо. Ведь она не железная. Пока шла война - туда-сюда, долг, все на фронт работали. Ну теперь-то дай ей, как говорится, вздохнуть. Прихварывает она у тебя, говорят.
Павел поднял на Бортова удавленные глаза:
- А это откуда тебе известно, Иван Сидорович?
- Э, батенька мой, что не известно замполиту? Какой же он будет замполит, если…
- Нет, в самом деле? - перебил Мальцев.
- Ну а это уж мое дело. Скажи, серьезно больна?
Павел тихо ответил:
- После родов чего-то расклеилась. На сердце жалуется.
- А что говорят врачи?
- Навещают, капли какие-то прописали.
- Как это «какие-то»?
- Поди разберись в них, каплях-то. В медицине я не силен, хотя по госпиталям навалялся. А Тонечка - сама медичка. Понимает, что к чему.
- Ты это дело не запускай. Помощь нужна - скажи.
- Страшного пока ничего нет, Иван Сидорович. Если что - загляну… Так как же, Иван Сидорович, посоветуешь? - вернулся Павел к началу разговора.
- Я же сказал - служить, Павел. Ты еще нужен авиации. Но где - вот вопрос?
- Летать хочу… Не могу без неба.
- А капе, по-твоему, паршивая лужа, что ли?
- Ну зачем же так, Иван Сидорович! - возразил Павел. - Разве я…
- Да знаешь ли ты, с капе дальше и выше видно. Перед тобой - весь воздушный океан, а в нем - молодые летчики, которых твоя уверенная рука выводит на цели.
Павел улыбнулся.
- Знаю, знаю, Иван Сидорович, ты мастер, так сказать, зажечь сердечко. Но ведь…
- Что ведь?
- И все же это земля-матушка.
Бортов взглянул на часы:
- Тебе во сколько к командиру?
- В двенадцать.
- Сейчас без четверти, решай!
Павел встал, оперся на палку, выпрямился:
- Вот что, Иван Сидорович, если командир намерен списать, пусть будет капе, а если повременит, тогда…
- Хорошо. Договорились. Пошли. - Бортов широко распахнул дверь, пропуская вперед Павла.
Загубисало встретил Мальцева официально. Окинул его взглядом, кивнул на стул. Павел сел, оперся на палку.
- Ну что надумали, товарищ капитан?
Павел встал, приложил руку к козырьку:
- Служить, товарищ командир!
- Садитесь и не паясничайте. Я серьезно спрашиваю.
В разговор вступил Бортов:
- Кирилл Прокофьевич, он в самом, деле решил служить.
- Как это понимать, Иван Сидорович? Товарищ капитан, - обратился Загубисало к Павлу, - выйдите, пожалуйста… Как это прикажете понимать? - повторил он вопрос, когда Мальцев вышел.
Бортов приблизился к столу, встал напротив Загубисало.
- Кирилл Прокофьевич, я долго беседовал с Мальцевым. Мне кажется, с увольнением следует повременить.
- То есть? - сердясь, спросил Загубисало.
- Нельзя одним махом это делать. Он нам еще нужен, опытный летчик, сердцем прирос к самолету, и, если оторвем его от машины, как говорится, с кровью, мы нанесем человеку непоправимую рану.
- А кто будет выполнять приказ об увольнении людей в запас, я или ты?
- Оба, Кирилл Прокофьевич, будем выполнять. Ты и я. Но ведь приказ-то надо выполнять не формально, а… по существу.
- Что ж, по-твоему, я формалист? Так, что ли? По-твоему, здорового, крепкого парня уволь, а инвалида оставь? Да? И это выполнение приказа по существу? А с кем, позволь тебя спросить, ты воевать будешь, если завтра сыграют вновь тревогу? С инвалидом?
- Кирилл Прокофьевич! - повысил голос Бортов. - Вы забываете, о ком говорите! Вы оскорбляете человека, который…
- Я уже сорок лет Кирилл Прокофьевич, - перешел на еще более высокую ноту Загубисало, - и никому не позволю командовать! Я командир и попрошу вас, товарищ майор, выслушать, что я скажу. - Загубисало перешел на «вы».
- Я повторю, Кирилл Прокофьевич, - твердо сказал Бортов, - вы можете принимать любое решение, но не имеете права говорить оскорбительно о человеке, перед которым мы должны снимать шапку…
- Ну и хватил, вот так хватил, комиссар. - Загубисало круто повернулся к Бортову. Глаза их встретились, схлестнулись. Несколько секунд они смотрели друг на друга сурово, не моргнув. Наконец Загубисало отвел взгляд в сторону, нервно запустил руку в карман, выхватил оттуда портсигар, закурил,- Кури, комиссар,- сунул он в руки Бортова портсигар и шумно опустился на стул.
Бортов закурил, положил портсигар на стол. Загубисало взял его и нервно сунул в карман.
Несколько минут курили молча.
- Так что же ты предлагаешь? - спросил Загубисало, успокоившись.
- Штурманом наведения назначить, - так же спокойно ответил Бортов,
Загубисало нажал кнопку, вызвал начальника штаба. Тот явился быстро, словно стоял за дверью:
- Слушаю вас.
- Напишите представление на Мальцева.
- На увольнение, как договорились?
Загубисало зло блеснул глазами:
- Поперед батьки не лезьте в пекло.
- Слушаюсь.
- Напишите представление о назначении его на должность штурмана наведения. В кадры я позвоню. Идите и позовите Мальцева.
Павел вошел в кабинет энергично, широко.
- Вот что, товарищ капитан, - сказал Загубисало. - Комиссар уговорил меня оставить тебя на капе наведенцем. Как ты на это смотришь?
- Положительно он смотрит, Кирилл Прокофьевич,- вставил Бортов.
- Положительно, товарищ командир, - подтвердил Мальцев.
- Тогда жди приказ. А теперь - будь здоров.
Павел, постояв немного в нерешительности, повернулся к Бортову, протянул ему свою широкую ладонь, сжал маленькую, но крепкую руку замполита, сказал:
- Спасибо, комиссар.
- Идите, Павел Сергеевич, - ответил Бортов и тихонько подтолкнул его в плечо. Павел, опираясь на палку, вышел из кабинета.
- Думаешь, справится? - спросил Загубисало, пуская в потолок дым.
- Уверен, - ответил Бортов, гася папиросу.
Они помолчали. Над аэродромом раздался гул самолета. Загубисало посмотрел в окно.
- Федорович идет. По почерку вижу.
- Да это он, - неопределенно заметил замполит,
- Хоть сейчас комэском ставь.
- Дело твое, но я бы воздержался.
Загубисало всем корпусом грузно повернулся к Бортову:
- Не любишь его?
- А при чем тут любовь?
- Но летает-то здорово!
- Летать еще мало.
- Нет, комиссар, ты определенно на него зол. - Загубисало посмотрел в глаза Бортова. - Не скажешь, почему?
- С чего это ты взял? Я не зол на него. Замполиту быть злым, как ты знаешь, просто запрещено. Да, да, запрещено. Но на Федоровича у меня свой взгляд. И раз ты спрашиваешь - отвечу. Он прямолинейный службист, а точнее… карьерист. Ты не улыбайся, Кирилл Прокофьевнч, он карьерист.
Загубисало прищурил глаза:
- Так чего ж ты его не лечишь, комиссар?
- Давай лечить вместе, Кирилл Прокофьевич.
- Но я этого самого карьеризма в нем не замечаю. Даже под лупой рассматривал - не нашел. Не путаешь ли ты хорошую службу с карьерой? А?
Бортов встал, зашагал по комнате.
- Очевидно, Кирилл Прокофьевич, мы по-разному понимаем, что такое хорошая служба.
- Отчего ж?
- Ты видишь в нем только летчика. А я хочу видеть и человека. Вместе, слитно.
- А разве на собраниях Федорович не выступает?
- Даже слишком часто.
- Так как же тебя понимать?
- Очень просто. Он выступает, но о чем? Он больше поучает других, чем анализирует положение в своем звене. У соседа и то не так и это не эдак, а у самого под носом черт знает что творится - этого он не замечает. А скажи - на любого набросится: «Придирки. Позорят лучшее звено». А как он строит взаимоотношения с подчиненными? «Вот вкачу тебе «арбуз» - ты у меня забегаешь», «Вот суну тебе «рябчика» четыре - запрыгаешь». И это так разговаривает опытный летчик, командир звена!
- А по-твоему, с ними лобызаться он обязан, - возразил Загубисало. - Он же командир, а не тряпка!
- Командир - это не солдафон, а воспитатель. Война прошла. Она, может быть, и прощала грубость. Но сейчас-то пора перестраиваться. Требовать нужно. Но как?
Загубисало не глядя нащупал спичечный коробок на столе, взял его в руку, секунду-другую поиграл им. Затем встал, оперся кулаками о крышку стола. Стол заскрипел.
- Ну, будет, комиссар, - сказал Загубисало. - Так немудрено и поругаться. Поедем-ка лучше на аэродром. Подышим воздухом, посмотрим, как наши орлята летают.
- Поехали! - поддержал Бортов
Загубисало поднял трубку телефона, гаркнул:
- Саня, заводи драндулет!
Кирилл Прокофьевич, надев фуражку, ребром ладони примерил, точно ли над переносицей находится «краб», шагнул из-за стола. Бортов, улыбаясь про себя, направился за ним. «Ты тоже службист будь здоров», - подумал он о Кирилле Прокофьевиче, садясь в машину.
Загубисало, поудобнее устроившись на сиденье, громко сказал:
- Саня, на аэродром!…
Глава четвертая
Утро, в которое Павел первый раз пришел на КП штурманом наведения, хмурилось. Моросил дождь, тучи плыли низко над землей, закрывая аэродром, взлетную полосу. Летчики готовились к полетам в сложных условиях.
На сердце Павла было неспокойно. Всего лишь несколько, дней назад он поднимался в воздух вот по этой бетонированной дороге, чувствовал себя властелином неба, а сегодня его приземлили, и приземлили, очевидно, навсегда. Вчера целый вечер толковал о новом назначении с Тоней. Она, конечно, успокаивает: «Тебе здесь лучше будет, Павел». А в душе, чувствуется, протестует: «Эх, Павлуша, Павлуша, ты, наверное, становишься ненужным тому делу, которому отдал себя: сегодня стал наведенцем, а завтра скажут…»
Когда ехал на аэродром, Павел увидел Бортова. Тот приветливо улыбнулся: «Не вешай голову, старина, будь мужчиной!»
Офицеры встретили Павла радушно, показали ему место работы. Мальцев сел на стул, примерился. Стул оказался низким, неудобным. Попросил заменить. Заменили. Покрутил рукоятки станции. Усмехнулся:
- То ли дело штурвал, а тут детские игрушки.
Подошел капитан Стриженов. Кивнул:
- Осваивать заново надо все. Хочешь, помогу?
- Обязательно. - Павел поднял серые глаза на Стриженова.- Хоть и знаком с аппаратурой, но тут надо тоже асом быть.
- Верно, Павел Сергеевич.
Несколько дней сидел Павел рядом со Стриженовым, наблюдал за его работой. А потом ему доверили самостоятельное дежурство.
Полеты в тот день были не очень интенсивными, погода стояла хорошая, и работать было легко. Павел быстро отыскивал, в небе нужный ему самолет и, четко подавая команды, наводил его на «противника». Мальцев проявлял при этом изобретательность. Ему вспоминались воздушные бои с гитлеровцами в Заполярье, и он теперь, применяя свою тактику внезапного удара, старался выводить подопечный ему самолет на «противника» с такого направления, которое было самым неожиданным.
Особенно запомнился Павлу «бой» молодого летчика Агафонова с Федоровичем. «Бой» развернулся над морем. Федорович, маневрируя, скрылся в облаках и, заняв, выжидательную позицию, барражировал над их верхней кромкой. Мальцев, наводивший на цель Агафонова, отыскал Федоровича, понял его замысел и применил контрманевр. Командами Павел вывел Агафонова в облака выше Федоровича, и оттуда его самолет атаковал «противника». Атака была внезапная и дерзкая. Федорович не сумел ей ничего противопоставить. Агафонов с близкого расстояния «расстрелял» из фотопулемета машину Федоровича я скрылся. Это была первая победа молодого летчика. И когда приземлялся, прибежал к Павлу, пожал ему руку.
- Стоит ли? Ведь это работа, - улыбнулся Мальцев.- Да, кстати, ты руку жмешь, а Федорович, наверное, злиться будет.
- Стоит, Павел Сергеевич, стоит, - поддержал Агафонова Стриженов. - Не часто летчики нас, наведенцев, вниманием жалуют.
- Ну тогда держи и мою руку. Сам был летчиком, признаться, забывал о чертях-наведенцах, - сказал Мальцев.
В обеденный перерыв Павел встретился с Федоровичем нос к носу возле столовой. Борис хотел было пройти мимо, но не устоял против иронической улыбки Мальцева, задержался.
- Улыбаешься? - произнес он вызывающе и добавил: - Мстишь?
- Нет, просто передаю свой опыт молодежи, - спокойно ответил Павел.
- На других ты почему-то не так наводишь?
- Те лучше летают.
- А я в тираж выхожу, что ли?
- Просто стал жирком обрастать.
- Это каким же? На что ты намекаешь?
- Конечно, не на «бачок», - Павел легонько хлопнул Бориса по животу. - Говорю, другие летают лучше, а ты…
Федорович перебил Павла:
- Но это еще бабушка надвое сказала. А на будущее запомни: если мстить будешь, я найду на тебя управу.
- Что ты заладил, как попугай! - обозлился Павел. - Мстить, мстить… Нужен ты мне… Беги к Загубисало, жалуйся.
- И пойду, если…
- Хоть сейчас! - Павел махнул рукой и вошел в столовую.
В столовой аппетитно пахло борщом, компотом. Летчики, усевшись за столами, громко разговаривали. Павел прошел за свой стол. Присел. Переложил ложку, которая, как ему показалось, была не на месте, взял ломоть хлеба, намазал горчицей, откусил. Долго, и старательно жевал кусочек ароматного ржаного хлеба, сдобренного терпкой горчицей, и о чем-то сосредоточенно думал
Павел, как сквозь марлевую сетку, увидел себя на Севере… Вот идет навстречу ему Дима Соловьев. Эге, кажется, вырос немного, Шплинт. Идет, улыбается. Обнял Павла, сказал: «Здорово ты этого Агафонова на Федоровича навел. Так ему и надо. А еще ведомым у тебя был… Живет лишь тем, что к Загубисало бегает. Выскочка! Летает-то неважненько. То, что ты ему дал, Павел, он уже растерял».
Павел отвечает Димке-Шплинту: «Ты, может быть, и прав, Дима. Но не по злобе я Агафонова на него хорошо навел. Хочется, чтобы молодые, как и мы, были крылатыми. Ведь мы не вечные. Списывают уже кое-кого. Вот меня-то приземлили…»
А Димка говорит Павлу: «Ты нашел себе место. Я тебе еще тогда говорил - иди на КП. Но тогда я, может, ошибался. Война. Ты был мастером, воздушным асом. И ты полезнее, очевидно, хотел быть. Но теперь-то…»
Павел отвечает Димке: «А я и не возражаю. Приземлился так приземлился…»
Мальцев очнулся от раздумий - за одним из столов летчики громко рассмеялись. Там сидел Агафонов. В дальнем углу усердно хлебал борщ Федорович. Он уткнулся в миску и никого, казалось, не замечал.
К Павлу подошла официантка Валя. Поставила борщ.
- Ешьте, Павел Сергеевич, - шепнула она и легко уплыла к раздаточной. А когда принесла второе, шепнула опять: - Ребята Агафонова поздравляют. Говорят, здорово он Федоровича обштопал. Потому и злится…
Мальцев сделал вид, что ничего не знает.
В столовую заглянул Бортов. Он ходил от столика к столику, перебрасывался шутками с летчиками, спрашивал, хорош ли харч.
Подошел к Федоровичу, присел. Борис нахмурился.
- Переживаешь? - спросил Бортов, принимая от Вали стакан чаю.
- А тебе радостно! - ощетинился Федорович.
- Это почему же?
- Хм… Еще спрашиваешь?
У Бортова мелькнула мысль: «Знает о нашем разговоре с Загубисало. Уже рассказал». Вслух произнес;
- Не ершись. Зря это.
- Мораль будешь читать?
- Со временем, может быть, придется.
- Своему протеже прочитай.
- Это кому же? - недоумевающе спросил Бортов,
- Тебе лучше знать.
- А-а, - протянул Бортов. - Понимаю. Ну зачем же ты, Федорович, так упрощаешь? Разве Мальцев виноват, что ты проиграл «бой»?
- А кто же?
- Не прикидывайся мальчишкой, Федорович! - резко сказал Бортов, вставая. - Искать причину нужно в себе. Отставать стал, братец, а отсталых, как известно, бьют.
- Я это уже слышал.
- От кого?
- От Мальцева.
- Значит, он прав.
- Поет с твоего голоса.
- Он говорит правду в глаза…
Бортов подошел к столу, за которым сидел Агафонов.
- Смотри, не зазнавайся. Нос задерешь - бит будешь.
- Что вы, товарищ майор. Это просто случай. Где мне до капитана Федоровича! У него четыре сбитых самолета на счету…
- То-то.
- Понимаю.
Павел не слышал разговора замполита с летчиками. Когда Валя принесла ему компот, он задержал ее и стал рассказывать о своей Леночке, о том, как она улыбается, когда он, Павел, рассказывает ей сказки.
Валя шутила:
- Вся в вас - умница, Павел Сергеевич.
И Павел шутил:
- А вот если еще парень, тот будет похож на тебя, Валюша.
Валя, смутившись, убежала к раздаточной и через минуту, как будто ничего не случилось, с важным видом вновь разносила компот летчикам.
После обеда все дружно высыпали в курилку. Лишь Федорович, нахлобучив фуражку на глаза, прошел мимо. Ему показалось, что кто-то тихо, но внятно сказал вслед: «Отставать стал, братец, а отсталых, как известно, бьют».
Летчики засмеялись. Это Павел Мальцев рассказал им анекдот.
«Смеется тот, кто смеется последним», - со злостью подумал Федорович.
Он торопливо свернул за угол.
Весть о чрезвычайном происшествии на полетах, о ЧП, как его коротко называют в армейском обиходе, мгновенно облетела весь авиационный гарнизон. О ЧП говорили на командном пункте, в штабе, столовой, ремонтных мастерских, в квартирах. Одни считали виновником происшествия Федоровича, другие Павла Мальцева, третьи относили его на счет обоих.
Происшествие было тяжелое, и в нем надо было, конечно, хорошо разобраться.
Прежде чем поручить расследование комиссии, Загубисало решил выявить главного виновника сам и начал со штурмана наведения капитана Мальцева. Для солидности он пригласил к себе замполита Бортова (пусть, мол, полюбуется на своего выдвиженца).
- Рассказывайте, Мальцев, как это все произошло, - приказал Загубисало Павлу, вошедшему в кабинет. Павел тяжело опустился па стул. Медленно оглядел присутствующих, про себя отметил: «Эх, Бортов, да ты, брат, постарел и осунулся за эти дни. Ну а ты, начштаба Налимов, как всегда, с застывшей, только тебе понятной улыбкой?»
- Разрешите закурить? - спросил Мальцев командира и полез было за папиросами.
- Рассказывайте, а курить будете потом, - нетерпеливо оборвал его Загубисало.
- Хорошо. Я расскажу, - вспыхнул Павел. - Я все расскажу. Но я… как это думают некоторые, я… не преступник, я был, есть а остаюсь честным человеком.
Павел достал платок, протер глаза, которые, как ему показалось, вдруг задернулись сеткой, машинально поправил орденские колодочки на кителе.
- Ребята работали классно, сердце радовалось, - продолжал Павел. - Думал, хорошая смена нам пришла. Ночью, темной южной ночью летают, словно ласточки, - чистенько, без сучка и задоринки. Да что там говорить! Посмотришь - и просто завидно становится. Федорович слетал дважды - тоже неплохо. А в третий - его словно черт попутал - колбасить стал. Вы знаете, наверное, почему. Опять с Агафоновым в небе схлестнулись. Хотел доказать, что он, Федорович, зря тогда был бит Агафоновым, и решил отыграться. Борис шел наперехват. На рубеж вышел нормально - и по времени и по высоте. Но Агафонов, очевидно, заметил его и увернулся…
- А вы где в это время были? - прервал Загубисало. - Вы же - наведенец! Будьте добры вывести своего подопечного на цель. Жаль меня не было на полетах.
- Я пытался, но…
- Вот именно пытался, - наступал Загубисало. - А надо было наводить. Причем наводить грамотно, по инструкции, а вы?
- Выслушайте, товарищ командир, - повысил голос Павел. - Я говорю, пытался, стал давать команды, но Федорович не исполнял их. Не верите, Стриженов может подтвердить.
- Стриженов, Стриженов… - перебил Загубисало. - Не в Стриженове дело, а в вас. Вы командовали и обязаны были добиться исполнения команд. А что получилось? Вместо того чтобы вывести Федоровича в хвост Агафонову, вывели его на встречный курс.
- Это неправда, Кирилл Прокофьевич, Неправда!
- Нет, Мальцев, правда! Если бы это было не так, то не было бы и происшествия, - жестко сказал Загубисало, вставая.
- Я еще раз заявляю, что это - ложь! - горячо возразил Павел. - Федорович пренебрег моими командами. Он даже прокричал мне: «Не мешай, я как-нибудь сам разберусь!» Ну и разобрался. Вывел самолет на встречный с Агафоновым курс и чуть было не рубанулся… Стриженов подтвердит, - тихо сказал Павел. - Я им обоим приказал оставить самолеты… Если бы не команда, может быть, было бы еще тяжелее и горше.
- Но Федорович утверждает, что вы давали ему противоречивые команды, и он вам не стал верить. Так было-то?
- Я сказал правду, - спокойно ответил на это Павел и встал.
- Да не только Федорович, но и Стриженов говорил то же самое.
- Стриженов этого сказать не мог.
- Я вызывал его, он подтвердил слова Федоровича: вы давали противоречивые команды, вводили его в заблуждение, и результат - почти столкновение в воздухе.
- Это неправда! Я повторяю, Стриженов не мог так сказать.
Загубисало кивнул Налимову. Тот вышел из кабинета, вернулся вместе с Федоровичем.
- Садитесь, Федорович, - приказал Загубисало. - Вот Мальцев отрицает свою вину. Говорит, что вы не исполняли его команд.
- Врет он, - сверкнул глазами Федорович. - И кстати, не впервой. Вы, наверное, читали, товарищ подполковник, статью «Конец Келлера - «короля неба» в «Крымской газете»? Так в ней все от начала и до конца выдумано. Больше того, Мальцев приписывает себе, что он, а не Петр Боков сбил Келлера…
- Постой, постой, - перебил Федоровича Загубисало. - О какой это статье вы говорите? Налимов, принесите газету. Я не читал.
- В статье все верно. Ничего я не придумал, - возразил Павел. - Келлер был сбит мной.
- Сейчас почитаем. - Загубисало развернул газету, пробежал глазами по столбцам, несколько раз прочитал подпись: Герой Советского Союза П. Мальцев.
- Келлер - это фигура! - воскликнул Загубисало.- И помнится, как писали в войну, его сбили в групповом бою. Не так ли, Федорович?
- Если хотите, я расскажу, товарищ подполковник, - криво улыбнулся Федорович: - Бой действительно был групповой. Но сбил Келлера Петр Боков. Во всех оперативных донесениях записано. А Мальцев просто примазывается к этому подвигу.
Павел не вытерпел:
- Ты лжец, Федорович. Ты был моим ведомым… Я и об этом пишу… И кто лучше знает, что именно я сбил Келлера? Тебе ж орден за это дали!
- Но документы, документы, товарищ Мальцев,- перешел на еще более официальный тон Федорович. - От них никуда не уйдешь.
- Мы разберемся, - примирительно сказал Бортов, подходя к Федоровичу. - Кстати, это не имеет прямого отношения к происшествию. Скажите, Федорович, почему вы не выполняли указаний Мальцева? Или вы их выполняли? - глаза Бортова впились в Бориса.
Федорович замялся. Ему было трудно выдержать испытующий взгляд замполита. Федорович знал: Бортов никогда не врал и даже не лукавил, и ему, Федоровичу, пожалуй, невозможно солгать Бортову. И чтобы как-то оправдать себя, он ухватился, как ому показалось, за спасительный якорь - обвинить Мальцева в недоверии к нему. И Федорович ответил:
- Мальцев хотел, чтобы я проиграл бой. И потому наводил меня с ошибками. Эти ошибки я считаю сознательными.
Павел брезгливо посмотрел на Федоровича. Борис сжался под его взглядом, втянул шею в воротник кителя, словно ждал удара.
- Подлец! - вырвалось у Павла.
- Молчать! - крикнул Загубисало. - Вы что, на ярмарке или в кабинете командира?!
- Извините, пожалуйста, - сказал Павел н добавил: - Не могу терпеть вралей. Ну скажи, в чем моя ошибка? - спросил он Федоровича. - В том, что я тебе все время давал курс, высоту, развороты? А ты послал меня к чертям и стал действовать самостоятельно. И напорол. Что посеял, то и пожал. Скажи честно, не виляя.
- Федорович, - обратился к Борису Загубисало,- вы больше ничего не добавите к сказанному?
- У меня все.
- Тогда вы свободны. Можете заняться делами. И вы, Мальцев, тоже свободны, - сказал Загубисало и закурил. Курил он долго, молча, глядя куда-то в угол. Потом, погасив папиросу, спросил: - Ну, Иван Сидорович, что будем делать с Мальцевым?
Бортов ответил вопросом на вопрос:
- Что будем делать с Федоровичем и Мальцевым, Кирилл Прокофьевич?
- О Федоровиче другой разговор. Я считаю, Мальцев всему вина. К тому же эта статейка… Может, стоит ею заняться, посмотреть. «Липой» попахивает от нее, мне кажется.
Бортов снова заступился:
- Мне статью Мальцев показывал, советовался, Я считаю, статья полезная, молодежь прочитает с интересом. И пусть Федорович не наводит тень на плетень. Мальцев - честный коммунист, и он не пойдет на авантюру - присваивать себе подвиг других.
- А вы уверены? - спросил Загубисало.
- Вполне.
- Но я попытаюсь убедить вас в обратном.
- Что вы имеете в виду?
- Ничего. Я просто хочу вам открыть глаза. Вы слишком рьяно его защищаете, Иван Сидорович. Хотя очень мало знаете. Мальцев - анархист. Он делал на Севере самостоятельные вылеты. Не выполнял указания старших в бою. Заставил плясать на столе артиста. Пил. Издевался над женой… И вот вам новый факт - приписывает себе славу других. - Загубисало крупными шагами заходил по кабинету. - Может быть, еще несколько фактов надо - найду, Иван Сидорович, найду.
- Довольно, Кирилл Прокофьевич, - твердо сказал Бортов. - Вижу, наскребли много «фактиков», но они требуют проверки и еще раз проверки…
Это резкое замечание, но всему было видно, задело Загубисало, но он промолчал.
- Я больше не нужен? - обратился Бортов к командиру.
- Идите отдыхать. - Загубисало не глядя подал руку Бортову. - Утро вечера мудреней…
Стояла осенняя крымская ночь. Небо вызвездило. На горизонте, далеко-далеко над морем, догорала полоска зари. Воздух был свеж и легок, со стороны жилого городка тянуло яблоневым ароматом.
Бортов несколько минут ходил по аллеям парка, сидел на скамейке, думал: «Загубит парня… Загубит».
Иван Сидорович вернулся домой поздно. Разделся, выпил стакан остывшего чая. Задумался. Как ему поступить? Ему, замполиту? Случилось ЧП. Жертв, к счастью, нет. Доложил начальнику политотдела. Надо привлекать виновных к ответственности. Загубисало жмет на Мальцева. Но ведь Мальцев-то не виноват? Может быть, виноват лишь в том, что не доложил сразу о самоуправстве Федоровича. Беседовал с очевидцем - Стриженовым - он подтвердил, что Федорович самовольничал, нарушал правила полета. Неужели Стриженов смалодушничал перед Загубисало и отказался от своих слов? А Федорович? Этот нагромождает одну нелепость на другую, чтобы опорочить Мальцева, выгородить себя. Нет, замполит, будь объективен. Не дрейфь, держись. Правда на твоей стороне. Пусть и ты несешь ответственность за ЧП, за то, что не добился еще настоящего порядка на аэродроме. Да, это так. Выговор тебе обеспечен. Ведь ЧП - результат отсутствия хорошо поставленной партийно-политической работы, как пишут почти во всех докладных об итогах расследования. Но надо найти и непосредственного виновника происшествия. А он - это установлено - не кто иной, как Федорович… Вот и борись теперь за правду, замполит. На душе было прескверно.
«Надо поговорить с начальником политотдела», - подумал Иван Сидорович.
Бортов потянулся к телефону, поднял трубку, услышал голос: «Третий слушает». Взглянул на часы: половина второго.
- А, дежурный. Не спите? Это проверка. - И опустил трубку на аппарат.
«Завтра доложу лично», - решил он и пошел к дивану, чтобы хоть немного соснуть.
Через несколько недель Павлу вручили приказ. В глаза бросились слова, набранные жирным шрифтом: уволить в запас. Они хлестнули словно грозовой разряд.
«За что? За что?!» - хотелось крикнуть в лицо Налимову, выглянувшему в маленькое окошечко.
- Распишитесь, Мальцев, - сказал он Павлу безразличным тоном и ткнул своим желтым от махорочного дыма пальцем в листок.
Павел присел на краешек стула, сердито макнул перо в чернильницу, размашисто написал: «Читал. Мальцев».
- А теперь - к финансисту. Он подобьет бабки и, как говорится, с богом, - сказал Налимов и захлопнул дверку перед самым носом Павла.
- Да ты что?! - невольно вырвалось у Мальцева. Дверца вновь открылась, и из окошка высунулась бритая голова Налимова.
- Кстати, Мальцев, получен еще один документик. С ним познакомитесь в горсовете. Сегодня звонили, чтобы зашел. Придется расстаться… - Налимов протянул из окна руку и ткнул в орденские планки Мальцева.
- Не смей прикасаться! - гневно крикнул Павел.
Налимов мгновенно отпрянул.
Павел выскочил во двор. В лицо ударил жаркий воздух. Павел рванул ворот кителя и, обессилевший, опустился на скамейку в курилке.
«Что же это такое? А?» Внезапно нахлынувшая обида сжала горло, и он, сам того не замечая, заплакал. Заплакал, как ребенок, никого не стесняясь.
Из штаба вышел Бортов, увидел Мальцева, присел рядом.
- Павел Сергеевич, - произнес он, - да успокойся ты!
Павел закрыл лицо руками и зарыдал. Его плечи билась словно в лихорадке, на виске часто-часто пульсировала синенькая жилка.
- Успокойся, Павел Сергеевич.
Павел взглянул на замполита, еле слышно спросил:
- И это верно, Иван Сидорович?
Бортов отвел глаза в сторону, поковырял носком сапога песок.
- К сожалению, да. Звонили, чтобы ты зашел… в горсовет. Есть решение лишить тебя звания Героя…
Павел вскочил. Широко раскинув руки, сделал несколько шагов и, споткнувшись о край железной бочки, врытой в землю, повалился. Фуражка, блеснув на солнце эмблемой, отлетела в сторону, на кустах акации повис костыль, покачиваясь, будто маятник, на металлической, отшлифованной рукоятке. Павел попытался подняться, но не смог…
Очнулся Мальцев в госпитале. Он не смог припомнить, как оказался здесь. Ощупал лицо. Кажется, в порядке. Потрогал правое плечо - болит. Позвал сестру.
- Я здесь, Павел Сергеевич, - услышал показавшийся знакомым голос.
- Валя, это вы? - спросил Мальцев.
- Да, это я, Павел Сергеевич.
- Как вы сюда попали?
- Лежите спокойно, вам нельзя волноваться, я потом объясню.
- А где Тонечка? Почему нет ее?
- Она была. Долго сидела. Устала. Попросила меня подменить.
- Когда… придет?
- Скоро, скоро, Павел Сергеевич.
- Скажите, что со мной произошло?
- Лежите, вам нельзя много говорить.
- А ордена целы, Валя?
- Какие ордена?
- Мои, конечно.
- Куда же они денутся, Павел Сергеевич? Тоня взяла… Успокойтесь. Вон идет доктор.
- Доктор?
- Да.
- Не Петр ли Петрович. Золотой человек. Нет, конечно, не Петрович. Он в Москве, в Склифосовского. Вот, чертяка, оттяпал мне обе ноги и говорит, что так и было. Чудак рыбак. А теперь лежи с этими обрубками, как прикованный. Валя, скажите, где мои протезы?
- Ого, кажется, наш больной заговорил? - весело сказал доктор и нащупал пульс. Вскинув взгляд на часы, он немного помолчал, подсчитывая удары, и, осторожно положив руку Павла на постель, заметил: - Богатырское у вас сердце, молодой человек.
- Не жалуюсь, доктор, - ответил Павел.
- Выл нервный шок. Сейчас главное - покой, крепкий сон и вот такая милая девушка. - Доктор показал на Валю. - Ее обворожительная улыбка вылечит любого. Вы кем товарищу летчику доводитесь? - спросил ее доктор.
- Я просто знакомая. Меня попросили посидеть.
- Ну, посидите, а я пойду пропишу лекарства. Главное же лекарство, молодой человек, покой. Да, да, покой…
- Все они такие чудные, - сказал Павел, когда врач удалился, и показал Вале на стул: - Присядьте. Хотя дайте, пожалуйста, попить. Во рту пересохло.
Валя принесла чайник с холодным кипятком, приподняла голову Павла, прикоснулась носком чайника к его губам. Павел жадно начал пить. На его мускулистой шее вниз-вверх забегал кадык.
«Хороший ты мой Пашка, - говорили большие голубые глаза Вали. - Если бы ты знал, в каком положении сейчас твоя добрая, славная Тонечка. Ведь она не вынесла удара и слегла от сердечного приступа в больницу. Выдюжит ли, перенесет ли? Не дай бог, как говорится, останешься ты, Пашка, боевой и славный Пашка Мальцев, один-одинешенек, будешь горе мыкать».
Бортов, отправив Павла в госпиталь, попросил Валю заехать к Тоне, осторожно сообщить ей о госпитализации мужа. Но Валя не успела переступить порог квартиры - сунулась мокрым лицом в плечо Тони, разревелась.
Тоня, как стояла посреди комнаты, так и окаменела. Только и успела произнести: «Что с ним? Ну, говори!» Побледнело лицо, посинели губы, на лбу выступил холодный пот.
В кроватке, стоявшей возле стенки, вдруг заплакала Леночка.
Валя пришла в себя, бросилась к ведру с водой, прыснула на лицо Тони. Соседка принесла валерьянки, несколько капель с силой влила в рот Тони, и та чуть приоткрыла глаза.
- Девушки, дорогие, где он? - сказала Тоня и опять забылась.
Соседка вызвала «скорую помощь», и Тоню отправили в больницу.
Павел немного подремал. Когда открыл глаза, увидел Валю, нахмурился.
- Вы еще здесь, Валя?
- Да, Павел Сергеевич.
- Почему вы не идете домой?
- Успею.
- А Тонечка не приходила?
- Наверное, она сегодня уже не придет. Сами знаете, утомилась, сутки сидела, и Леночка…
- А-а, Ленок. Приводите ее сюда. Пусть Тонечка приведет.
- Зачем еде, Павел Сергеевич, ребенок ведь…
- Ничего, она вся в меня, Валя.
- Это хорошо. Когда в отца, говорят, счастливая.
- То-то счастье отцу привалило, хоть лопатой греби.
- Разберутся, Павел Сергеевич.
- Кто? Загубисало? Жди.
- Зачем Загубисало? Повыше есть.
- Выйду, напишу. Самому высшему напишу. Если в войну помог, поможет и сейчас. Ведь я…
- Обязательно разберутся.
- Напишу, все напишу… - Помолчал и о другом: - Бортов не заходил, Валя?
- Иван Сидорович? Звонил.
- Ну и что?
- Спросил, как дела у вас. Я сказала: молодцом выглядит.
- А он?
- Я, говорит, так и знал, все обойдется,
- Хороший он человек, Иван Сидорович.
- Да, душевный.
Вошла палатная сестра. Строго посмотрела на Павла.
- Выпейте, больной, - сказала она и поставила на тумбочку лекарство. - А разговаривайте поменьше, вредно.
- Хорошо, сестричка, - ответил Павел и послушно проглотил лекарство, которое ему подала Валя.
- Ну, отдыхайте, Павел Сергеевич, - сказала Валя и поднялась со стула. - Я в коридоре посижу.
Валя вышла. Павла окутал глубокий сон.
Глава пятая
Мальцев сидел в маленьком полутемном подвале - пивной, уставившись помутневшими глазами в кружку…
У Павла сразу все пошло как-то вверх тормашками. Лишь успел встать на ноги, как его вызвали в горсовет, прочитали бумагу о лишении звания Героя, вежливо попросили Звезду. Павел, отупевший от всего, осторожно отцепил ее от кителя, поцеловал и отдал.
- Еще что вам отдать? - спросил Павел. - Вот это? - показал на протезы, резко нагнулся, схватился за ремни правого протеза, расстегнул их, сорвал желтый ботинок-протез с ноги. - На, бери! Бери же! - прохрипел он и шагнул на культе.
- Что вы с ним делаете?! - крикнула стенографистка и кинулась к Павлу. Она подхватила его под мышки и усадила на стул. - Разве можно так, Павел Сергеевич? - сказала она с легким укором.
Из руки Павла выскользнул протез на пол. Стенографистка взяла протез, повертела его своими маленькими руками, осторожно обула Павла. Освоившись с непривычным для нее делом, она застегнула ремни, взяла поводырь-палку с набалдашником и, вручив ее Павлу, сказала:
- Пойдемте, Павел Сергеевич.
Она подставила Павлу свое плечо. Мальцев, легонько опершись на него, вышел из здания.
Они прошли несколько десятков метров. И как ни уговаривала девушка довести его до дому, Павел настоял на своем: упросил оставить его на скамейке в сквере.
- Конечно, дело ваше, - сказала она, - но вам лучше было бы полежать в постели.
- Ничего, я побуду здесь, успокоюсь, - ответил Павел, присаживаясь на скамейку.
- Ну будьте мужчиной, - улыбнулась девушка и скрылась за кустом сирени.
- Спасибо! - крикнул вдогонку Павел.
«Эх, балда, - подумал он, передохнув. - Даже имя не узнал. А смелая! Ведь уволят ее за такую дерзость. Определенно уволят».
Павел просидел в сквере несколько часов. Уже солнце утонуло в море. Горизонт окрасила широкая полоса зари. На город быстро спустилась южная ночь. В чернильном небе замигали звезды. Пора было идти домой. Но куда он пойдет? Кто его ждет? Тонечка? Ах, милая, добрая, сердечная Тонечка! Если бы ты сейчас была рядом с Павлом, как бы он был счастлив! Ведь ты для него была всегда хорошим советчиком и нежным другом. Нет тебя, Тонечка, и никогда больше не будешь ты рядом…
Павел, опершись на палку, думал о Тоне, о своей дочурке Леночке. Как все же нелепо складывается жизнь! Была радость, была полнота жизни, ощущение того, что ты нужен людям. А теперь? Какая-то пустота вокруг, Лишний в этом городе. Может быть, тебя считают даже вредным для общества человеком, Была Тонечка - не стало Тонечки. А почему? Разве в такие молодые годы могла одолеть ее смерть, если бы так преступно не обошлись с ним? А она не выдержала этих невзгод, надломилось ее сердце, умерла…
Павел вспомнил, как это произошло. Когда он лежал в госпитале, стал догадываться: с Тоней творится что-то неладное. Уже несколько дней прошло, а она не навещает его. Спрашивал Валю, дежурившую у его постели. Отвечала: то Тоня чем-то занята, то немного прихворнула Леночка и за ней нужен присмотр. А когда стало невмоготу, Валя сказала Павлу, что Тоня заболела и лежит в больнице.
Павел уже выписался из госпиталя, а Тоня все еще хворала. Ходил к ней, сидел часами в ее палате, а она, бледная, похудевшая, с большущими глазами па восковом лице, лежала неподвижно: глубокий инфаркт приковал ее к койке. Павел понял, что Тоне больше не подняться. Уходя домой, с минуты на минуту ждал тревожного звонка. И он прозвенел. Случилось это ночью. Павел склонился над кроваткой Леночки, убаюкивал ее. И вот раздался этот роковой телефонный звонок. Павел встал, нерешительно подошел к телефону, дрожащей рукой взял трубку. «В час ночи скончалась», - услышал он то, что никак не хотел слышать…
Потом похороны. Тяжелые похороны. Павел рыдал над гробом. Женщины-соседки глядели на Павла заплаканными глазами, сокрушались: «Что он один теперь будет делать, калека, с грудным-то ребенком на руках?»
Из бывших сослуживцев на похороны Тони пришли Бортов, Стриженов, Агафонов. Не оставили в трудную минуту, не отвернулись, помогли. Павел знал: за его «дело» Бортов получил служебное несоответствие. Но, видать, не отступил, не сдался.
«Не дрейфь, Павел Сергеевич, - говорил ему Бортов после похорон. - Правда восторжествует».
На похоронах была и Валя. Она больше занималась Леночкой. Да и когда Тоня лежала в больнице, Валя то и дело прибегала к Павлу присмотреть за девочкой. И Павел был благодарен Вале.
После похорон и поминок они остались одни - Павел и Валя. Долго сидели молча. Валя тихо заговорила:
- Как жить будете, Павел Сергеевич?
- Пока не знаю, - со вздохом ответил он.
- Леночка-то - крошка.
- Да.
- Может быть, у меня побудет.
- Вы же работаете.
- У меня мама гостит. Присмотрит.
- Не знаю, ничего не знаю…
- Я думаю, так лучше будет.
- Чем как?
- Чем в Дом матери и ребенка,
- Не отдам. Ползать по полу буду, а не отдам.
- За самим глаз нужен. Тяжело вам.
Павел закурил, вперил взгляд в угол. Потом тряхнул головой. Посоветовал:
- Ложитесь, Валя, потом поговорим.
Валя встала, поправила волосы, подошла к кроватке, в которой посапывала Леночка. Открыла полог. «Спит, крошка, и ничего не знает, что творится в сердцах людей, которые с нею рядом», - подумала она и, закрыв полог, тихонько ушла в другую комнату.
А Павел решал, всю ночь до рассвета решал, как быть. И ничего другого не смог надумать, как оставить Леночку при себе. Об этом он и сказал наутро Вале. Она согласилась, но попросила разрешения хотя бы раза два в неделю бывать у Павла, чтобы помогать ему.
Так началась жизнь вдовца Павла Мальцева - одинокая, безрадостная, горькая. Оставаясь вечерами сам с собой, он много раздумывал о своей судьбе. Неужели он и в самом деле виноват, чтобы так жестоко обошлись с ним? Он честно служил. Не из-за славы пошел воевать без ног. Требовало сердце. Родине тогда было очень трудно. А Родина - это он, это - ты, это - все мы. Да разве можно было сидеть сложа руки и смотреть, как воюют другие?…
Павел решил обо всем, о чем он думал, написать в область. Писал он, мучительно подбирая слова. Отправил письмо и долго ждал ответа. Наконец ответ пришел. Распечатывал конверт дрожащими руками. Быстро пробежал текст. Не поверил. Еще раз прочитал - нет, правильно понял: все оставить без последствий - с маленькой пенсией, без орденов, с воинским званием гвардии капитана в отставке. «Вот и все», - сказал он вслух и разорвал письмо. Белые лепестки упали к протезам.
Павел взял костыль, вышел на улицу. «Вот и все», - снова сказал он себе и зашагал к пивной - в мрачный, прокуренный подвал…
Мальцев стал частым посетителем пивнушки, в которой толкались одни и те же опухшие от перепоя люди, справедливо и несправедливо выброшенные за борт жизни, всякого рода неудачники, безвольные и опустившиеся. Они бурно обсуждали свою жизнь, шумели и плакали, смеялись и обнимались.
Павел садился поближе к стойке буфетчицы тети Паши, брал кружку пенистого пива, украдкой открывал под столом четвертинку и выливал водку в пиво. Пил ерш крупными глотками, вытирал губы рукавом поношенного кителя и, повеселев, обводил подвал взглядом. К Павлу тотчас подсаживались дружки, которых он раньше и знать не знал, хвалили его за храбрость… Выбирался из подвала пьяный. Дружки, разумеется, оставляли его, и он еле добирался до дому.
Однажды среди дружков Павла оказался Михаил Викторович Курносов. Подсел он к Мальцеву шумно, с анекдотиком про то, как черти трудились в аду. Широкоплечий, плотный, с смеющимися голубыми глазами, он сразу привлек внимание обитателей пивной.
- Тетя Паша! - крикнул Павел. - Еще по кружечке на брата!
Тетя Паша нацедила пива, поставила кружки на стол.
- Может быть, хватит? - для приличия сказала она Павлу и чинно стала за стойку.
Павел пододвинул кружку новому знакомому:
- Пей, братишка, да вспоминай добрым словом Пашку Мальцева-евпаторийского.
Курносов поднял кружку со словами:
- Выпьем за его величество Павла-евпаторийского.
- Выпьем!
Выпили. Закусили воблой. Закурили. Посидели. Павел, посмотрев на Михаила Викторовича, как бы между прочим спросил:
- Откуда ты? Что-то впервой вижу…
- Наконец-то. Я думал сразу спросишь: кто, мол, такой в мою компанию затесался?
- А ты это здорово про чертей-то в аду загнул. Смешно. - Павел помолчал и снова с вопросом: - Так скажи все же, кто ты будешь? - Вгляделся внимательно, заволновался: - Постой, постой. Что-то знакомое в тебе есть. Не Михаил Викторович Курносов?
Собеседник улыбнулся:
- Он самый. Во весь рост, при всех положительных качествах и недостатках.
- Известнейший летчик! Дай я тебя поцелую, дорогой мой Михаил Викторович! - растрогался Павел. - Так вот ты какой, Михайло Курносов. А я-то гляжу - будто видел где-то этого человека. Догадался - на портретах видел. Молился на тебя, когда мальчишкой был. Думал - вот с кого надо брать пример. На Север, в пургу, в мороз не побоялся на драндулете летать. Снял со льдины бедствующих людей… Какими судьбами к нам? - немного утихнув, спросил Павел.
- Длинная история, - отмахнулся Михаил Викторович. - Давай рассчитаемся да пойдем на воздух. Сколько с нас? - спросил Курносов тетю Пашу.
- Не с вас, а с Павла Сергеевича, - ответила она и кинула на стол счет.
Курносов расплатился, взял за локоть Павла:
- Пошли, друг.
Присели на камнях на берегу моря. В воздухе - тишина. Море не шелохнется. Любуясь его голубизной, закурили.
- Какими же судьбами к нам? - нарушив молчание, повторил срой вопрос Павел.
Михаил Викторович сдунул с папиросы пепел.
- Я отдыхал в Ялте, в санатории Министерства обороны. Познакомился там с одним человеком, летчик с Дальнего Востока. Он и рассказал о тебе. А я, может, слыхал, пописываю немного. Вот и заглянул, чтобы посмотреть на тебя.
- И каким же ты меня нашел? - спросил Павел, насторожившись.
- Откровенно?
- Как летчик летчику.
- Не ожидал, что увижу таким.
- То есть?
- Вот таким… опустившимся, замурзанным, я бы сказал, от всего отрешенным.
- Неужели я так низко?…
- Очень. Даже трудно представить.
- Такова жизнь, любезнейший Михаил Викторович.
- Ерунда! Мне тот дальневосточник говорил, что Павел Мальцев не может пойти по наклонной. Я, говорит, видел его в самое отчаянное время, и он выглядел героем. А сейчас вот…
- Кто же такой?
- Дмитрий Соловьев. Подполковник, командир авиационного полка.
- Шплинт?! Неужели? И не показался, Шплинт, постеснялся увидеть меня таким.
- Зря ты так. Собирался вместе со мной, но его срочно отозвали. Вылетел самолетом.
- Хороший парень. Полком командует,… Поди ж ты, махнул!
- А что?
- Достоин.
- Обещал навестить. Да, кстати, просил отругать: пусть, мол, не падает духом…
- Да замолчите вы, Михаил! - вскипел Павел. - Все это у меня вот где сидит. - Он показал на сердце.
- Так в чем же дело? Брось все и займись чем-нибудь полезным.
- Хорошо сказать - займись, А чем может заняться профессиональный летчик-истребитель? Говори!
Михаил Викторович встал, прошелся по берегу, заложив руки за спину.
- Чем заняться? - спросил он и ответил: - Литературой. - Курносов посмотрел на Павла: как же он воспримет.
- Ты это серьезно или так, от нечего делать?
- Без шуток, - ответил Курносов. - У тебя интересная жизнь. Тебе есть о чем рассказать. Садись-ка, брат, за стол и пиши, пиши обо всем, что тебе приходилось видеть, переживать. Я повторяю, у тебя богатая и необычная жизнь. Ты даже па гауптвахте сидел… по-своему.
- Откуда это тебе известно? - удивился Павел.
- Ну что, я ведь правду сказал?
Павел повеселел:
- Был такой грех, и за него, может быть, расплачиваюсь до сих пор. - Мальцев пустил струйку дыма, задумался. - Да, был случай.
И рассказал, как это произошло.
…На Севере стоял холодный, вьюжный февраль. Полетов было сравнительно мало. Немцы не беспокоили. Лишь изредка где-нибудь на подступах к городу, который охраняли наши летчики, появлялся вражеский самолет. Однажды, обнаглев, один фашист прорвался к нашему аэродрому. Патрулировавшие над аэродромом самолеты прозевали его. Надо поднимать в воздух дежурное звено. Отдали команды на взлет, самолеты уже вырулили на старт, взяли разгон, оторвались от земли…
Но что это? В воздухе неожиданно замаячил наш юркий истребитель - зашел скрытно в хвост фашисту, сблизился, подлетел вплотную, и огненные трассы врезались в гитлеровца. И пошел кувырком на сопки фашист. Сбит! Сбит, проклятый! Даже, как говорится, моргнуть не успел, не только что пострелять по аэродрому. А наш истребитель сделал разворот, зашел па полосу, приземлился и зарулил на стоянку.
Только теперь разобрались, кто был в воздухе. Павел Мальцев!
- А как же ты в небе оказался? - спросил Мальцева, оживившись, Михаил Викторович.
- Очень просто. Мы с механиком возились возле самолета - дырки латали, - ответил Павел. - Глядим, фашист появился над нами. «Дай-ка, - говорю, - я его попугаю малость. Помоги забраться в кабину». Механик подсадил меня, и я в чем был, так и взлетел. Разумеется, и без парашюта.
- Что, со стоянки прямо? - удивился Михаил Викторович.
- Со стоянки.
- Неужели?
- А выруливать стал бы - труба была бы. Прямо со стоянки, поперек аэродрома и махнул. Не знаю, что делалось в дежурке, наверное, настоящий трамтарарам. Но я уже был в воздухе и с ходу рубанул фашиста.
- Самоуправство, да за это я бы… - деланно строго произнес Курносов и сжал в кулак свои длинные пальцы. - От полетов отстранил бы, под суд отдал.
- Ну а меня лишь на гауптвахту посадили, - улыбнулся Павел. - Борисов, командир наш, десять суток всучил. Тоже прямо со стоянки и отправил… Хороший был командир. Сбил его фашист перед самым концом войны. Жалко. Слыхал о Борисове, Михаил Викторович? - спросил Павел Курносова.
- Еще бы! Две Звезды имел.
- Не летчик, а мастер высшего класса. - Павел потряс костылем в воздухе. - А какой командир, какой командир! Батей мы его звали.
- Батя-то тебя на «губу» и упрятал. Молодец.
- Такое он не прощал. Хотя, может быть, в душе и радовался, что славные ребята у него.
Павел взял под руку Курносова, и они медленно пошли вдоль берега. Под ногами похрустывал песок, в воде неподвижно висели зонтики медуз.
- Так вот, - вернулся Мальцев к своему рассказу, - Борисов прибежал тогда прямо на стоянку, в расстегнутом реглане, яро накинулся: «Кто летал?» Отвечаю: «Я летал, товарищ командир. Разрешите доложить? Сбит один немецкий…» А он: «Десять суток ареста! Снимай ремень, на гауптвахту шагом марш!»
- Так и скомандовал?
- Огонь был человек. Пошел я. А он, остыв немного, крикнул вслед: «Постой!» Я остановился. «Ну зачем же ты так? Можно же было разрешение запросить». Я, конечно, молчал. А он мне: «То, что ты самолет сбил, Павел Сергеевич, это хорошо. Но все же трое суток отсиди». И обнял меня. - Павел улыбнулся. - И грех, и смех.
- Значит, вместо десяти - трое?
- Да, трое… Сижу. Сутки проходят. Сижу - вторые. Гауптвахта у нас была, прямо скажу, не комфорт: холодная землянка, нары, вода с сухарями. И вдруг слышу: «Мальцева к командиру». Вылезаю из норы. Свет - в глаза. На душе сразу повеселело. Прихожу, докладываю. Борисов улыбается: что, мол, хлебнул солдатского кулеша, не сладок он? Пригласил сесть. Подошел, руку положил на плечо, посмотрел в глаза: «Чертяка ты, Павел. Звонили сверху, из штаба. Приказали построить полк. По твоему случаю. Сейчас приедет генерал. Разбираться будет». Я усомнился: «Так уж и генерал? Больше ему делать, что ли, нечего». Борисов повторил: «Сам генерал приедет» - и опять улыбнулся. Приехал генерал Головкин. Невысокий, плотный. Молодецкий вид. Подошел к строю. Борисов с докладом к нему, а Головкин махнул рукой - и громко: «Ты мне не рапортуй, а показывай этого разгильдяя!» У меня сердце в пятки и ушло. Ну, думаю, пропал, Пашка. Все. Отстранят от полетов, спишут - и в тыл. Отлетался! «Да вон он, на правом фланге стоит»,- доложил Борисов и подвел Головкина ко мне. Я стою - ни жив ни мертв. Генерал остановился. Посмотрел на меня. Гляжу, лицо не суровое, улыбчивое такое. Эге, думаю, списать прикажет, да еще с улыбочкой. «Капитан Мальцев! - услышал я голос генерала. - Два шага вперед, марш!» Шагнул, неуверенно, нетвердо. «Повернитесь к строю».
Повернулся. Генерал подошел ко мне. Смотрю, в руках у него коробочка. Открывает. Осторожно берет в руки брызнувший радужными красками орден. Орден Красного Знамени… Что это, думаю, неужели мне? Да, генерал расправил ленточку ордена и приколол Красное Знамя мне на грудь, прямо к реглану. Сказал: «За храбрость, за находчивость, за честную службу Родине. Носи и гордись!» Ребята грохнули: «Ура!» А я стоял, растроганный, растерявшийся, и не знал, что делать. Шагнул к генералу, промямлил: «Служу Советскому Союзу!»
- С корабля - на бал? - усмехнулся Михаил Викторович.
- Представь. С корабля - на бал. Отошел я немного от шока и спрашиваю Борисова: «А как с гауптвахтой?» Отвечает: «Отсидишь. Двое отбухал, а сутки-то и сам бог велел». Вот тебе и на!
- Так и отсидел? - спросил Курносов.
- Не пришлось. Тут же подняли почти всех в воздух. Немцы над городом появились. Я вместе с Борисовым вылетел. И удачно. Срубили мы с ним еще по одному фашисту.
Павел подошел к воде, нагнулся, взял в пригоршню зонтик-медузу. Курносов наклонился рядом, тоже поймал белый зонтик.
- Сейчас, Михаил Викторович, за эту «губу» расплачиваться приходится. Хулиганство в воздухе пришили… И все же есть, браток, люди настоящие, и их большинство. Они и тогда, во время войны, понимали: да, человек нарушил дисциплину, допустил самоуправство. И за это его наказали. Правильно сделали. Но в то же время этот человек рисковал жизнью ради жизни других - он не дал фашисту обстрелять аэродром, принести нам вред, а может быть, и жертвы. И за это получил орден. Высший боевой орден. Так что же? Проступок надо вспоминать сейчас и вставлять при случае в строку, а про орден Красного Знамени забыть!
- Не кипятись, Павел, - успокоил его Курносов. - Ты писал?
- Писал.
- Кому?
- В область пока.
- Ну и что?
- Отказали.
- Не может этого быть. До него, наверное, не дошло.
- Как хочешь, так и думай.
- Эх, черт побери! Да как же это?
- Не знаю.
Павел, подержав в ладонях медузу, выбросил ее в море.
- Вот видишь, - обратился он к Михаилу Викторовичу, показывая руки.
- Что?
- Покажи свои ладони.
- Ну?
- Видишь, подержал ты совсем немного в руках медузу, и они уже покраснели. Почему? Медузы испускают яд. И обжигают. А на вид красивый безобидный зонтик. Бери, любуйся. Есть и у нас еще такие медузы. Сверху - розовенькие, синенькие, беленькие, а обжигают, и здорово, больно.
- Ну, это ты уж слишком, Павел, - возразил Михаил Викторович. - Разберутся, кто прав, кто виноват.
- Ты генерал?
- Да, в отставке.
- Тоже, значит, не у дел?
- Почему? Я не обижаюсь. Свое сделал. Теперь литературой занимаюсь.
- То-то и оно. Литературой. А мог бы ведь еще командовать. Командуют же твои одногодки. Миланин сидит в каком-то кресле?
- Сидит. Тот другой человек.
- Какой это «другой»?
- Как тебе сказать? Смирненький, что ли. Ну будет, пошли.
- Пойдем ко мне, - сказал Павел, вставая. - Переночуешь.
- Я не против.
Решили передохнуть в летнем кафе. Присели в плетеные кресла. Михаил Викторович заказал мороженое. Павел предложил по стопке коньяку. Курносов отказался.
- Не пьешь? - спросил Павел.
- Нет, понемногу употребляю. Но сейчас не хочу.
- Тогда я выпью.
- Не надо.
- Ладно, пусть будет по-твоему, - сдался Павел.
Поели мороженое. Освежились. Стадо даже легче дышать.
Михаил Викторович вынул бумажник, чтобы расплатиться, и из него будто нечаянно выпала фотокарточка. С нее на Павла взглянули знакомые глаза.
- Стой, стой! ~ Мальцев взял карточку. - Как она к тебе попала?!
- А почему она не может ко мне попасть? - удивился Курносов, пряча в бумажник снимок.
- Да это же…
- Валентина Кочеткова.
- А эта…
- Девчушка-то?
- Слушай. Я не понимаю.
- Что же тут непонятного?
- Миша, да это же моя… дочь… Леночка!
- Что? - деланно вытаращил глаза Курносов.
- Твоя дочь?
- Конечно, Леночка моя… Глазастая.
- Что за наваждение. Не может быть!
- Она, она. Видишь, как две капля похожа.
Михаил Викторович рассмеялся:
- Да, конечно же, Павел, это твоя Леночка. Как две капли воды - отец.
- Она, Викторович, она.
- Мне Валя прислала. Валя - моя племянница. Ты же знаешь, она работает здесь, на аэродроме. И о тебе она писала.
- Валя - твоя племянница?
- Ты думаешь, у меня не может быть таких симпатичных племянниц?
- Миша!
- Ого, забрало, знать, пилота.
- Миша! Пошли без оглядки…
Павел взял Курносова за руку и потащил к выходу.
- Постой, постой же, дай рассчитаться.
- Потом. Шурочка! - крикнул Павел официантке. - Мы рассчитаемся завтра. Нам некогда, Шурочка! Гуд бай! - созорничал Павел, и Шурочка улыбнулась им вслед.
Глава шестая
Михаил Викторович Курносов, с которым Павел провел в Евпатории несколько дней, предложил Мальцеву поехать с ним в Москву. Павел согласился. Заодно и Валю прихватили с Леночкой. Павел не был в столице уже несколько лет, да и Валя - племянница Михаила Викторовича - соскучилась по дому, по матери - она жила в небольшой скромненькой комнатке на Большой Якиманке.
- Хитрец этот Миша, - вспоминал как-то Павел. - Привез домой, познакомил с женой, тетей Машей, и сынишкой Володькой, усадил всех за большой стол и говорит: «Вот что, друзья, давайте возьмем шефство нал Павлом и покажем ему нашу столицу. А гидом Валя будет - она самая проворная. Бабушка Маша с Леночкой посидит. Ей не привыкать нянчиться».
Как- то вся семья была в сборе -сидели за столом, ужинали, и Михаил Викторович незаметно завел разговор о том, как хорошо быть вот так, в кругу родных и близких, или всем вместе выехать за город, сходить в театр. Не то что холостяцкая бобылья жизнь. Осточертела она на фронте. Говорил, а сам искоса посматривал то на Павла, то на Валю.
Павел, конечно, догадался, куда клонит Михаил, а Валя вдруг покраснела, расцвела.
- Что ж ты краснеешь, Валюша, о тебе ли речь?
- Да будет вам, дядя Миша! - совсем смутилась Валя.
- Давайте, давайте, Михаил Викторович, - засмеялся Павел, - ставьте точку над «и».
- А что, и поставлю. Чего вам волынку тянуть? Валя и в доме хозяйка, и на люди не стыдно с нею выйти. Да и Леночка к ней привыкла уже. Что же касается жилья, то с милым и в шалаше рай. Как мы с Машей бывало? Дальний Восток? Даешь. Север? Пожалуйста. Всего хватили. А у вас в Евпатории крыша, да и в Москве, на Якиманке примут…
Так и поженил «дядя Миша» Павла и Валю, помог прописаться в Москве. Хорошая, дружная семья получилась. Валя устроилась работать в детский сад. Павел часами просиживал за воспоминаниями. Читал Вале. Та говорит, что неплохо выходит, А потом совсем хорошо пошли дела: книжка вышла, над второй корпит. Словом, встал человек на ноги, твердо встал…
В морозный ноябрьский день Павел Мальцев был вызван в большое здание с колоннами, что стоит на одной из главных улиц столицы. Принял его довольно полный, добродушный мужчина в штатском, назвавший себя Степаном Ивановичем. Усадил в кресло, расспросил о житье. Потом сказал:
- Товарищ Мальцев, несколько месяцев назад создана специальная комиссия, которая проверяет архив. Натолкнулись и на ваше дело. В нем хранятся ваша жалоба, коллективное письмо ваших товарищей по службе, а также письмо подполковника Соловьева. («О, значит, и Шплинт написал!» - пронеслось в голове Павла.) Разобрались детально во всем. Были на месте, в воинской части. Беседовали с коммунистами, в том числе и с товарищем Бортовым.
- С Иваном Сидоровичем?! - вырвалось у Павла.
- Да, с Иваном Сидоровичем. Он теперь начальник политотдела… Ну вот, разобрались детально и нашли, что обвинили вас напрасно.
- Так и должно быть, - выдохнул Павел. На его худощавом лице вдруг выступили красные пятна, лоб покрылся испариной. - Так и должно быть, - тихо повторил он и, через силу привстав, потянулся к графину с водой.
- Садитесь и не волнуйтесь, пожалуйста. - Степан Иванович налил в стакан воды, подал Павлу.
- Да как тут не волноваться, как?! - Павел дрожащими руками поднес стакан к губам, зубы выбивали мелкую дробь о стекло. Отпил несколько глотков, пришел в себя.
- Вот ваша Звезда Героя. Носите с достоинством, Павел Сергеевич, вы ее заслужили.
Павел встал, посмотрел на крупные руки Степана Ивановича, протянувшие Золотую Звездочку, и глаза его повлажнели.
- Вы извините, что так получается. Да я и… не стыжусь.
- Ну что вы, Павел Сергеевич… До свидания. Желаю счастья.
- Спасибо, Степан Иванович.
Павел попрощался и зашагал было к выходу. Потом обернулся:
- Да! А вы не знаете случайно, где этот… как его, Загубисало?
Степан Иванович на миг задумался.
- Интересует? Конечно, знаю. Пришлось с ним повозиться. Теперь он, сам понимаете, не у дел. Да и Федорович в запасе.
- Как это правильно!
Стоит Павел Мальцев на набережной. Ложатся снежинки на его разгоряченное лицо. Он думает о пережитом.
- Паша, - раздался у него за спиной голос Вали. - Что ж ты так долго? Пойдем. Тебя ждут.
- А-а, это ты, Валюша! Ну поздравь, дорогая, поздравь. - Павел шагнул навстречу, припал к ее плечу.
- Дай, я хоть одним глазком на нее взгляну, - попросила Валя. - Твоя? - кивнула она на Золотую Звезду.
- Моя. По пятнышку на одном из лучиков узнал.
- Ну пойдем, Паша, - Валя взяла его под руку.
- Ты, говоришь, там ждут? - спросил Павел. - Кто же?
- Все ждут, Паша. Дядя Миша, тетя Маша, Леночка…
- Мы мигом, - вдруг заторопился Павел, тверже ставя на обледеневший тротуар костыль.
- А еще, Паша, ждет тебя… знаешь кто?
Павел остановился.
- Неужели Бортов?
- Он, Павлик, он. А Дима Соловьев телеграмму прислал. Поздравляет, оказывается, ему сообщили…
- Вот так Шплинт! И тут успел.
Впереди показалась станция метро.
Москва - хутор Должик
1963-1965 ФАКЕЛ
Рассказ
В один из майских дней мы с Алексеем Ивановичем отправились на прогулку в горы. День был теплый, солнечный. После обильных дождей буйно цвели каштаны. На склонах гор, где петляла еле заметная тропа, зеленели сочные луга, повсюду, словно бабочки-капустницы, виднелись белоснежные зонтики ромашек. Внизу, под обрывом, бурлил ручей - желтоватый, торопливый бежал куда-то вдаль, резвился на перекатах, пенился и злился, когда на пути встречались большие щербатые валуны.
- Красота-то какая! - сказал Алексей Иванович, когда мы поднялись на вершину холма. - Дух захватывает. - Он снял широкополую соломенную шляпу, подставил солнцу голову. - Вот так и захватил бы все солнце и увез с собой! - воскликнул он, потирая от удовольствия грудь. - Но увы…, нельзя, мотор не тот, сдает. - Алексей Иванович положил на сердце ладонь, прислушался: - Ишь, как разыгралось: стук-стук, стук-стук, стук-стук… Ведь и прошли-то с гулькин нос, а оно так расшалилось, вот-вот выпорхнет, как птаха из клетки. Стук-стук, стук-стук…
Мы свернули в тень, под куст сирени, присели на скамейку, закурили.
- А давно сердцем-то маешься? - спросил я Алексея Ивановича.
- Давно ли, спрашиваешь? - Алексей Иванович сощурил глаза, подумал, словно вспоминая что-то важное.- Да уж двадцать лет минуло.
- А сколько ж тебе теперь?
Алексей Иванович опять не сразу, а как бы прикинув в уме, который ему год, ответил:
- Сорок третий пошел.
Я невольно посмотрел на лицо Алексея Ивановича. Лоб его был перерезан глубокой складкой, из уголков глаз бежали морщинки.
- Удивляешься? - с грустью в голосе спросил Алексей Иванович. - Кому ни скажу - все удивляются. Загибаешь, мол, старина. В двадцать лет нажить сердечную болезнь - как тут не удивляться! Посмотришь, пятидесятилетние и те рысаками скачут. А тут - сорок лет. Юноша!
Алексей Иванович привстал, дотянулся до ветки сирени, на которой еще блестели капли дождевой воды, прикоснулся к нежным фиолетовым лепесткам.
- Жизнь, она, брат, такая штука, - продолжал он, - кого угодно перемелет. Ну, а мне за свои годы-то довелось и сладкого попробовать, и горького хлебнуть.
Алексей Иванович отпустил ветку, и капли, вспорхнув с крестообразных сиреневых куполков, обдали нас брызгами.
- Ты где в сорок первом был? - спросил Алексей Иванович.
- Под Проскуровом.
- Туго пришлось?
- Было дело.
- То-то и оно. Мне тоже досталось. Не под Проскуровом - под Старой Руссой. Везде в сорок первом жарко было.
Алексей Иванович уселся поудобнее, вынул новую сигарету, щелкнул зажигалкой, прикрыл широкой ладонью фитилек, прикурил.
- Был один случай у меня под Старой Руссой, до гробовой доски не забуду. Немец пер тогда напропалую. Хоть морда в ссадинах и крови уж была - набили ему наши кое-где, - а он все равно напролом лез. Упрямый, черт, лютовал везде.
Алексей Иванович сделал глубокую затяжку.
- После боя мы отошли на одну высотку. Успели зарыться в землю, приготовились встретить фрица как следует. Сидим в окопах-ячейках, наблюдаем, а глаза от усталости слипаются. Суток трое не спали: то на одном, то на другом рубеже дрались. А ты, конечно, помнишь, какую он тактику применял. Ударит, гад, в стык между подразделениями, а потом и давай справа и слева обходить. Ну а что нашему брату оставалось делать? Подеремся-подеремся, поколошматим его, а потом приказ: отойти па другую позицию. Вот и на этот раз так получилось. Сунулся немец сначала в лоб - крепко по зубам получил. Откатился, собрал силы - и снова в атаку, но уже в стык пошел. Наши его опять хорошо угостили: пулеметчики и артиллеристы сотни две уложили перед высоткой. На третий день он танки пустил, за ними - автоматчиков. А перед этим обработал артиллерией нас. Туго пришлось. Многие окопы осыпались. Лежишь, голова спрятана, а сам весь на виду.
Алексей Иванович с горечью улыбнулся.
- Танки нас обходить стали, понеслись прямо к командному пункту. Гляжу, снаряды там рвутся. Щепки от блиндажей летят в стороны. Вот тут-то и екнуло у меня сердце - ведь на капе боевое знамя. Лежу, стреляю, а сам то и дело на капе поглядываю. Смотрю, по танкам открыли огонь наши «сорокапятки». Один танк задымился, второй… Полегчало на душе. Вот так ребята! Оказывается, и, танки можно бить по-настоящему!
Алексей Иванович вопросительно посмотрел на меня.
- Но, как говорится, плетью обуха не, перешибешь. Силен был тогда еще немец, ох как силен! Хоть мы и стояли насмерть, хоть и били его, а он все новые и новые силы подбрасывал - и опять вперед. Снова заговорили пушки. Снова танки вошли в прорыв. Где-то за нашей спиной замкнулись немецкие клещи. Попятились мы. Ткнемся туда - стреляют. Ткнемся сюда - то же самое. Сгрудились неподалеку от капе. Глядим, из-под обломков блиндажа наш комиссар поднимается. Встал во весь рост, смотрит затуманенными глазами на нас, а у самого по виску кровь алой струйкой течет. «Замполитрук, - еле слышно проговорил он, - возьми…» Протянул завернутое в чехол боевое знамя и сам тут же замертво повалился на землю.
Алексей Иванович волновался. Из небольшого карманчика он достал дюралевую баночку с надписью «Валидол», отвернул дрожащими пальцами крышечку, достал таблетку, кинул ее под язык. Помолчав минуту-другую, продолжал:
- «Знамя… Наше знамя… Разве можно его оставить врагу? - проговорил замполитрук. - Это наша святыня». Он снял чехол, обвернул знаменем свое тело и, заправив гимнастерку, подтянувшись ремнем, крикнул рядом стоявшему бойцу: «Матвей Пикайкии, со мной!» Замполитрук и Пикайкин скрылись в лесной чаще, а сзади еще долго слышался бой, который вели их товарищи, преграждая путь врагу…
Алексей Иванович, прерывая рассказ, облегченно вздохнул. Я тоже перевел дыхание и сказал:
- Молодец замполитрук! Спас знамя…
Алексей Иванович прервал меня жестом:
- Погоди, дорогой. Вот тут-то и начинается самое главное.
Он встал, прошелся вокруг сиреневого куста, остановился за моей спиной. Осторожно развернул крону, заглянул внутрь куста. Вдруг из-под его рук выпорхнула пичужка.
- Гнездо, - тихо сказал Алексеи Иванович. Из гнезда, широко раскрыв желтые клювы, подслеповатыми глазами смотрели птенцы. - Растите, растите, глупышки,- сказал он птахам и, закрыв куст, подошел ко мне. - Малюсенькие, а живут. Мамаша-то волнуется! Пойдем, пусть успокоится и покормит их. - Алексей Иванович взял меня за руку, потянул за собой на тропинку.
- Так как же со знаменем-то? Что с ним произошло? - спросил я Алексея Ивановича, шагая рядом.
- Хочешь знать?
- Еще бы!
- А произошло вот что. Замполитрук и Пикайкин начали пробиваться к своим. Сам понимаешь, трудно им было. Дороги немцы перехватили, заслоны или засады выставили. Куда ни пойдешь - всюду на огонь напорешься. Решили пробираться напрямик - лесом. Ну а ты знаешь, какие там леса и болота. Местами просто гибельные. Замполитрук в степи вырос, ориентировался не совсем уверенно. Хорошо, что Матвей с лесом был знаком - с детства в темниковских чащобах лазил, часто на охоту с отцом ходил. И сейчас, говорят, Темниковские леса в Мордовии славятся. Не так ли?
- Да. Хороши еще.
- Так вот. Матвей Пикайкин был, как говорится, парень-кремень. Дело свое знал. Он автоматчиком служил. Бывало, резанет очередь по мишеням - все изрешетит. Меткий глаз у Матвея был крепкая, увесистая рука. Поэтому замполитрук и взял его - знал, что не подведет. Пошли. Идут день. Лес, болото, лес… Ночью немного вздремнули. Опять в путь. Второй день идут. Лес, болото, лес… Замполитрука дума стала одолевать: туда ли идут они? Остановились. Сориентировались: верно, на восток идут. На третьи сутки съели последний сухарь - и опять в поход, к своим. А где они свои-то? Пришлось пересекать дорогу. Нарвались на фашистов. Пнкайкин уложил двоих, замполитрук - одного. На четвертое утро вышли к деревне. Притаились. Тишина. От голода сосет под ложечкой. Чья деревня? Наша или ее заняли немцы? Полежали час. Ни души. «Ну что ж, Матвей, разведай деревню осторожно, - сказал замполитрук Пикайкину, - хлеба, может, найдешь». Пошел Матвей, а замполитрук глаз с него не спускает.
Алексей Иванович потянулся было за сигаретой в карман, но отдумал курить. Продолжал рассказ:
- Матвей вышел из одного дома с краюхой хлеба, а навстречу - немецкие автоматчики. Заорали: «Хенде хох!» А Матвей вскинул автомат и полоснул по ним очередью. Но один из фашистов не растерялся: оглушил прикладом Матвея. Упал он, как сноп, на землю. Фашисты схватили Пикайкина, связали, кричат: «Сколько вас, говори, свинья?» Поднял он вверх палец: один, мол, я. Новый удар оглушил Матвея: «Сколько вас?» И опять он поднял вверх палец: один. Тогда немцы привязали Матвея к мотоциклу, завели. Матвей сначала успевал бежать за машиной, а потом обессилел, рухнул на пыльную дорогу. Окровавленное лицо - волоком по земле, пыль набилась в рот, ноздри, в обезумевшие глаза. «Сколько вас?» - вновь орали фашисты, ставя на ноги полуживого бойца. И Матвей опять поднимал вверх палец: один…
Алексей Иванович тяжело вздохнул.
- А каково было замполитруку, затаив дыхание, скрепя сердце, следить за этой пыткой?! Он несколько раз прикладывал автомат к плечу, его палец лежал на спусковом крючке. Мгновение - и раздастся очередь. Но знамя… Оно у его сердца. Это знамя должно повести новых бойцов в атаки. И замполитрук выдержал. Встал и с затуманенными глазами пошел на восток один. Голодный, обросший, с единственным магазином в автомате, двигался днем и ночью, по болотам и лесам. Вода хлюпала в сапогах, горели истертые в кровь ноги. Порой отчаяние проникало в душу. Были минуты, когда хотелось пустить в лоб пулю и остаться лежать неизвестным в этих дремучих лесах. Но - шел и шел на восток. Он был теперь один со своим сердцем, со своей совестью, и только от него зависело - быть знамени в строю или не быть. На шестые сутки вышел на опушку леса. И вдруг - пулеметная дробь, крики «ура». Это наши контратаковали фашистов, гнали их из небольшого села. Замлолитрук собрал последние силы, открыл огонь по бежавшим недалеко от него немцам и тотчас упал в густую траву. Очнулся он на командном пункте после суточного сна. Командир полка поцеловал его в небритую щеку: «Спасибо, сынок, за честную службу, спасибо».
Алексей Иванович остановился, перевел дыхание, бросил в рот новую таблетку валидола.
- Вот с тех пор, брат, и начало, словно факел, гореть сердце замполитрука, - закончил он свое повествование и посмотрел на меня.
И я понял, что этим замполитруком был не кто иной, как сам Алексей Иванович, прошагавший потом под спасенным им боевым знаменем вместе с другими бойцами еще по многим фронтовым дорогам. А теперь он, полковник, медленно идет по проторенной тропке-терренкуру. У него доброе, хорошее сердце. Оно стучит и стучит: стук-стук, стук-стук, стук-стук…
РОМАШКА
Рассказ
После длительного перехода мы решили сделать привал. Остановились на берегу маленькой, поросшей осокой и кувшинками речушки, которая на нашей карте была обозначена едва заметной паутинкой. Нас заманили сюда густая, сочная зелень разнотравья и тенистая, прохладная дубрава.
Иван Иванович ловко сбросил с плеч рюкзак, прицепил его на сук ширококронного дуба, быстро снарядил удочки и, спустившись под кручу, в тень, занялся рыбалкой. Константин Петрович Дашкин - летчик, подполковник - хотел было развернуть спиннинг, но, взглянув на заросли кувшинок, с досадой вздохнул: «Эх, первая кувшинка моя». Дашкин подошел к Ивану Ивановичу, взял у него запасную удочку, пристроился рядом. Клев был хороший, и вскоре мы ели ароматную, пахнувшую дымком, наваристую уху.
После обеда Иван Иванович уснул мертвецким сном на разостланной под дубом плащ-накидке, а мы с Константином Петровичем решили побродить по пойме, набрать полевых цветов, которых здесь было очень много.
Ходили мы, рвали цветы, вспоминали разные истории.
Константин Петрович набрал большой букет и, оглядывая его, сказал:
- Вот такой же букет подарила мне жена, когда я окончил летную школу - прямо возле аэродрома нарвала… Эх, Ирина, Ирина… Как сейчас перед глазами стоит.
Константин Петрович, идя по луговому ковру, изредка нагибался, чтобы сорвать самый яркий цветок.
- Давно это было. Лет двадцать назад, - говорил между тем Дашкин. - Но никогда не забуду то время… Ирина подошла ко мне, в ее руке была ромашка, точь-в-точь вот такая. - Дашкин выбрал самую крупную ромашку, осторожно высвободил ее из букета. - И что интересно: на ромашке Ирина гадала, а лепестки, словно маленькие пропеллеры, кружились возле моих ног…
Предчувствуя, что Дашкин расскажет о чем-то интересном, я спросил:
- Наверное, нагадала что-нибудь неприятное?
- Вздор, эти гаданья, - возразил Дашкин. - Да и Ирина, конечно, вряд ли в них верила. Девичий обычай. Помните: любит, не любит, к сердцу прижмет, к черту пошлет…
Константин Петрович взглянул на букет. На лепестках ромашек еще блестели бисеринки росы.
- Я стал командиром. Рада была Иринка, начиналась новая жизнь. Ну вот и гадала - не разлучимся ли? А тут грянула война…
Дашкин остановился, присел на бугорок, предложил сесть мне.
- Ну что, перекурим? - спросил Дашкин, вынимая пачку «Беломора».
- Не против.
- Скверная привычка - это курево, а поди ж ты, не бросишь, - заметил Константин Петрович, прикуривая.
- Можно бросить,- возразил я.- Есть же люди, такими курильщиками были, а бросили - и ничего.
- То люди, а то моя персона,- улыбнулся Дашкин. - Да, о чем же мы говорили?
- Грянула война…
- Ах, да. Мы стояли тогда под Сосновкой. Как только началась война, нас перебросили поближе к границе. Ну а жена в Сосновке осталась. Воевали мы с «мессерами» хоть и неплохо, но, как сами понимаете, пришлось нам в первые месяцы туго. Отступали. И нас постепенно пересаживали па тыловые аэродромы. Как-то сообщили: фашисты Сосновку захватили. А что с Ириной - я, конечно, не знал… Прислала письмо перед этим тревожное, собиралась выехать к моим родным… Коли б одна была - воевать бы пошла. Она у меня бедовая. Но она осталась… беременная…
Дашкин встал, прошелся но пахучей траве. Шаги у него большие. Ходит, жадно курит, о чем-то размышляет.
Солнце уже поднялось чуть ли не в зенит, начало припекать. Пора было возвращаться на берег речушки. И я предложил Дашкину пойти в дубраву.
- Конечно, переживал я, все думал, что с ней,- рассказывал Дашкин. - Написал письмо родным. И так ждал ответную весточку - словно век прошел. «Нет, не приехала»,- пишут. Тут еще больше меня разные мрачные думы одолевать стали. Значит, эвакуироваться не успела. Ну, что ж, семья семьей, а воевать надо,- продолжал Дашкин.- Обстановка под Москвой была суровая. Помните, танки лезли напролом, самолеты даже деревни не щадили. Очень тяжелое было время.
Константин Петрович остановился, сорвал цветок, положил в букет.
- Выдохся все же немец. Остановился, потом и наутек пошел. Здорово его тряхнули под Москвой-то, помните, на сотни километров отбросили.
- Вы тоже, наверное, много летали? - спросил я Дашкина, чтобы поддержать разговор.
- Еще бы! День и ночь. Без устали и отдыха били гадов. Холода стояли сильные, но моторы не остывали. Вот как приходилось работать. Зимой сорок первого и Сосновку освободили.
- Вы, конечно, сразу же туда,- вставил я.
- Мне посчастливилось. Приказали всем полком в Сосновку перебазироваться, чтобы сподручнее немцев бить было.- Константин Петрович сделал паузу, потом спросил: - Что-то наш Иван Иванович поделывает?
- Колдует над поплавками, наверное,- ответил я.
- Мастер,- коротко бросил Дашкин и продолжал: - Так вот. Прилетели мы в Сосновку. Бегу к командиру. А тот не дал мне и рта открыть - ступай, говорит, узнай, что с твоей-то. Дома начсостава в стороне стояли. Бегу туда - ног под собой не чувствую. Смотрю, дом, в котором жила Ирина, в развалинах. Метнулся в соседний - пустой. Постучал в третий - вышла из подъезда старушка. Хочу спросить - не могу, язык отнялся. А старушка взглянула на меня, присмотрелась подслеповатыми глазами и говорит: «Да это, никак, Коська Дашкин».- «Да, да, - говорю, - Дашкин я, не знаете, бабуся, где…»
- Эвакуировалась, эвакуировалась Ирина-то, бог дал, успела, чай. Больно уж лютовал фашист-то. А небось и в деревеньке приютилась. Бомбил, проклятущий, ох как бомбил. А в этих домах-то сам квартировал…
- Отлегло на сердце-то? - спросил я Дашкина.
- А то как же! Значит, уехала, может быть, а тыл. Пришел к командиру, доложил. Он тоже, конечно, обрадовался. И сразу с места в карьер - задание мне. «Ты,- говорит, - сейчас безлошадный, значит, без самолета. Садись-ка, брат, на полуторку и вместе со старшиной Скрипкиным - в город. Хлеб привези. Да смотри, не задерживайся. Хлеб нужен вот как». Командир провел по горлу ребром ладони. Заправились. Поехали. Выбрались па проселок, дорога снегом занесена. Мороз - градусов тридцать. Едешь, откроешь кабину, высунешься за окно - сразу нос прихватывает. А тут, как на грех, еще поземка началась - сначала поползла этакими волчьими хвостами, а потом так завернула, что за десять метров ничего не видно. Едем мы со старшиной, разговариваем о войне, советуемся, как скорее с немцем покончить. И вдруг старшина так нажал на тормоз, что я даже стукнулся лбом о ветровое стекло. «Смотри,- говорит,- лейтенант, человек…» - «Мало ли людей встречается на дороге,- отвечаю, - но разве нужно так тормозить?» - «Постой, лейтенант»,- возразил старшина и выскочил из кабины. Он рысцой пробежал несколько метров, наклонился над человеком. Тут же бегом вернулся к машине и еле выговорил: «Представляешь, лейтенант, женщина. Живая…» - «Ранена?» - спросил я. «Кажется».- «Подгоняй машину»,- говорю ему. Старшина подъехал поближе, и мы подняли женщину в кабину. Женщина была одета в ветхое осеннее пальто, лицо ее было укутано шерстяной шалью, из-под которой, словно два небольших тлеющих огонька, светились карие глаза. В этот миг мне показалось, что когда-то я видел эти глаза. Женщина стонала, и я крикнул старшине, влезая в кузов: «Давай, гони!» Машина рванулась вперед, шофер старался изо всех сил. Полуторка подпрыгивала на поворотах, отчего женщина кричала еще громче. Но вот старшина остановил машину, высунулся в окошко, выпалил: «Она, лейтенант, кажется, родит…» - «Вот это случай!» - воскликнул я. Повитухой мне быть не приходилось, а тут на тебе - человек на свет появляется, да еще при тридцатиградусном морозе. «Что делать-то будем, старшина?» - спросил шофера. Старшина был человек бывалый. Я полагался на его житейский опыт. «Ну что же будем делать?» - спросил я вновь. «Снимай куртку, лейтенант, надевай шинель!» - не проговорил, а скомандовал мне старшина и опрометью кинулся в кабину, в которой вскоре раздался детский пронзительный плач. «Парень!» - крикнул старшина, завертывая новорожденного в мою теплую меховую куртку. На лице шофера расплылась довольная улыбка. Осторожно положил ребенка, и машина снова побежала по занесенной снегом дороге.
- Ну и что же дальше? - нетерпеливо спросил я Дашкина.
- Когда мы приехали в город, старшина сразу же к пехотинцам, в санчасть подкатил, чтобы сдать женщину и малыша, а я побежал хлебные дела проталкивать. Через час старшина прибыл. Хмурый, смотрю, в землю глядит. Я к нему. А он молчит, варежкой слезу смахивает. «Что случилось?» - спрашиваю. «Скончалась женщина-то, кровью изошла…» - «А он как, ребенок?» - «Успела сказать несколько слов. Я не разобрал, кажется, Даньковым просила записать… Отца-то, говорит, не то Колей, не то Костей звали… Ну доктор в какую-то карточку и записал все это. А имя мы ему хорошее придумали, - просветлел шофер. - Романом окрестили, Ромашкой, значит, звать будут». Мы со старшиной грузили хлеб. Шофер то и дело поглядывал на меня, несколько раз повторял: «Может быть, к себе в полк возьмем, Ромашку-то? А, лейтенант? Ведь наш человек-то. Наш… Девчата из санчасти приглядят поди…» Признаться, мне тоже хотелось взять Романа с собой, условия у нашего брата была хорошие. Подумал я, подумал и говорю старшине: «Давай заберем». Подъехали к санчасти. Спрашиваем, где малыш, а его доктор специальной маминой уже отправил в тыл. Вот так мы и потеряли своего Романа, и на сердце сразу как-то тяжело стало, будто… родного сына потерял.
- Жаль. Вы, Константин Петрович, передоверялись старшине, - упрекнул я Дашкина.
- Когда мы рассказали об этом командиру, он нас обоих чуть ли не под штрафной яодвел. «Надо было, - говорит, - до конца дело довести». Потом упрекал меня яри всяком удобном случае: «Вот, дескать, какой у нас гуманный человек Константин Петрович Дашкин!» А мне-то, думаете, легко было?
Мы с Дашкиным подошли к привалу. К нашему немалому удивлению, Иван Иванович все еще спал, как лег на спину, так, очевидно, и не повернулся ни разу: уморил его длительный переход. Мы не стали будить, сели в сторонке, начали перебирать цветы.
Константин Петрович, устроившись на старом пеньке, закурил. Пуская густые струйки дыма, он, как бы между прочим, спросил:
- А вы воевали?
- Довелось.
- Где закончили?
- В Прибалтике.
- Ну а я в Берлине… Весь Союз облетал вдоль и поперек, а теперь вот в Москве служу. Работа нервная, хлопотливая. Инспектор я.
- И тут, наверное, много интересных людей встречается? - подзадорил я Дашкина.
- Бывает, брат, бывает, - неопределенно ответил он, перевязывая букет бечевкой.
Константин Петрович поднялся, положил букет в рюкзак, продолжал:
- Прилетели мы вот уже в этом году в одно училище, проверять, как молодежь летает. Пришли на аэродром. Работа кипит. Курсанты, как и мы когда-то, волнуются: как-никак путевку в небо получают, а это - непростое дело. Самолеты-то теперь не те, на которых нас учили, быстрее и выше летают и, конечно, сложнее управлять ими. А курсант есть курсант: в руках еще твердости настоящей-то нет. Вы, наверное, представляете, как проверяют курсантов в полете? Выделяют спарку, двухместный истребитель, управляемый одновременно из двух кабин. В одну садится курсант, в другую - проверяющий. Ну вот. Мой друг майор Бородавкин взял да и полетел с одним. А мы с командиром полка с земли за ними наблюдали. Хорошо работал курсант, всю положенную программу отлично выполнил. «Вот какого молодца нам детдом вырастил, - с восхищением произнес командир полка, когда самолет возвратился на аэродром. - Крылатый парень-то! А?» Я ответил: «Молодец, паренек». И вот курсант прибыл на капе, доложил: «Курсант Дашкин полетное задание выполнил…» Представляешь, - оживился Константин Петрович. - В эти минуты во мне будто все сразу перевернулось. Передо мной стоял статный военный, с волевым, несколько усталым лицом, и на меня смотрели карие глаза, точь-в-точь такие, какие я видел под теплой домотканой шалью на зимней дороге сорок второго года. Ну а нос, губы, волосы… «Дашкин?» - спрашиваю. «Так точно!» - «Роман?» - «Он, товарищ подполковник!» - «Константинович?» ~ «Точно так, товарищ…» Теперь понимаете мое состояние! На какую-то долю секунды я буквально онемел, а потом шагнул ему навстречу, обнял. «Дорогой мой, Ромашка… Сын…» - прошептал я и опустился на стул. «Неужели вы… ты… отец?» - еле вымолвил Роман. «Двадцать лет о нем думал, нашел…» - тихо сказал я всем, кто был на капе, и прижал Романа к груди.
Константин Петрович встал, подошел ко мне:
- Вот какие истории, брат, бывают на свете.
- Значит, Ромашка - твой сын? - спросил я, ошеломленный такой неожиданностью.
- Да, мой сын, Роман Константинович Дашкин, воспитанник Свердловского детского дома. Оказывается, все верно записали тогда в санчасти, Ирина еще в сознании была… Потом мы с Романом говорили целую ночь, и все о матери. Я ее карточку показал. Он рассмотрел каждую черточку на лице, а потом сказал: «Давай на могилу съездим, папа. Поклонимся ей за все». Съездили. Нашли. Убрали цветами. Поставили памятник. Пусть все знают, какая хорошая была Иринка, подарившая мне Ромашку.
- А где же Ромашка теперь? - спросил я.
Дашкин посмотрел на букет, ответил:
- Высоко пошел мой Ромашка. На реактивном парень летает, на сверхзвуковом. Может быть, космонавтом будет.
Константин Петрович сделал несколько шагов по поляне, подошел к Ивану Ивановичу, улыбнулся:
- Не слышишь, старина. А ведь в судьбе Ромашки принимал участке и ты, Иван Иванович Скрипкин, мои хороший боевой друг.
СЕМЕН ИЗ ПЕТУШКОВ
Рассказ
Егор Кленов сел за письменный стол, развернул на середине ученическую, в косую линейку тетрадь, обмакнул перо, и рука неторопливо забегала по бумаге.
«Здравствуйте, Мария Ивановна! Не удивляйтесь, пожалуйста, этому письму. Его пишет неизвестный вам сержант Советской Армии Егор Кленов. Может быть, я никогда не увижу вас, но мое сердце переполнено такими чувствами, что не могу молчать».
Егор на минуту задумался, посмотрел на лицо спящей матери, перечитал про себя начало письма, продолжал:
«Я не знаю, Мария Ивановна, может быть, вы будете благодарны мне за это письмо, а может, всю жизнь станете проклинать меня, но я хочу, не таясь, не скрывая от вас ничего-ничего, рассказать все по порядку».
Кленов опять оторвался от тетради, снова перечитал написанное. В эти минуты перед его взором встала картина, которая навсегда сохранилась в памяти, в сердце. Да такое и нельзя забыть.
Егор склонялся над письмом, и ка косые линейки тетради легли новые мелкие буквы, выведенные натруженной рукой.
«Это произошло, Мария Ивановна, всего лишь несколько дней назад. Командир предоставил мне краткосрочный отпуск. «Езжайте, - говорит, - Егор Петрович, в свой Саранск, посмотрите, как живут земляки. Время от времени надо проветриваться, а то огрубеете, забудете, с какой стороны к девушке подойти». Шутник наш командир, добрый он человек, за такого командира мы - в огонь и в воду…
Собрал я, Мария Ивановна, свой чемоданчик, купил сестренкам гостинцы - и марш на поезд. Хоть человек я и авиационный, но поездом оно как-то сподручнее, хотелось из вагона посмотреть на наши края как следует. Ведь служу-то я не где-нибудь, а в самой Германии.
Вы, наверное, представляете себе, как приятно было у меня на сердце, когда я любовался родной землей. Хоть и хороша новая Германия, но Россия все же лучше, В Москве, безусловно, побывал, посмотрел, как там народ живет. Прекрасна Москва! Парки ее в зеленом наряде, улицы широкие, просторные. Помолодела, приосанилась, матушка.
Отпуск у нас, солдат, короткий, время не ждет, подгоняет. Я прокомпостировал билет - и даешь Саранск. До него от Москвы рукой подать.
Вот и родные места. Узнаю и не узнаю. Кругом перемены, строят и строят, много новых домов стоит.
Ждать транспорт мне нет смысла (мать моя переехала жить в поселок - это в километре от Саранска), взял чемоданчик и зашагал в Петушки - так поселок наш называется. Иду, новостройками любуюсь, потихоньку песенку напеваю. Шаг у меня спорый, размашистый, не успел оглянуться, как отмахал полпути».
Егор встал, подошел к небольшой географической карте, пробежал глазами по Волге, нашел Саранск. «А ведь я дома, - подумал, - хорошо».
«Так вот, Мария Ивановна, только что отмерил я полпути, как поравнялся с человеком. Был он в военной шинели, шел не совсем твердой походкой, постукивая впереди себя крепкой ореховой палкой с металлическим наконечником. За его спиной болтался футляр из-под баяна. Мы познакомились. Мой спутник назвал себя Семеном. Разговорились. Семен, оказывается, бывалый человек, и пока мы с ним шли до Петушков, он рассказал много интересного».
Кленов опять подошел к карте, отыскал на ней Куйбышев, Волгоград, постоял, подумал. «Вот тут», - ткнул пальцем в точку Егор и вернулся на место.
«Семен предложил мне передохнуть, и мы сели на обочину дороги, покрытую зеленой щеткой травы, - продолжал писать Кленов. - Семен, свернув «козью ножку» (от папиросы он отказался, баловство, мол, одно, кашель бить будет) и прикурив от моей зажигалки, как бы между прочим, спросил;
- Слыхал, служивый, что-нибудь о Мамаевом кургане?
- Доводилось, - отвечаю. - Нам, не нюхавшим пороху, иногда фронтовики рассказывают. Говорят, жаркие там были бои.
- «Жаркие», - хмыкнул Семен. - Не то слово, браток. Ты, служивый, знаешь, что такое ад? Так вот. Адские бои были на том кургане. Он находится недалеко от Волги. Взберись на него, как это сейчас делают заезжие туристы, особенно заграничные, я весь город - на ладони. А взглянули бы опи на этот курганчик в сорок втором!
За этот орешек долго бились - и мы, и он. Коля подсчитать, сколько Мамаев переходил из рук в руки, право, со счета собьешься.
Семен затянулся крепким самосадом, выпустил густую струю дыма, вынул платок, осторожно, как я заметил, протер глаза.
- Вот ты солдат, - Семен, не поворачиваясь, положил руку на мой погон. - Даже лычки носишь. Сержант, значит. Вот ты сержант, и уж, верно, знаешь, трудно взять высоту, не так ли? Пока взберешься на нее - дух перехватит. А если эта высота-то еще в ряда три колышками с проволокой опутана, да минными полями прикрыта, траншеями перепоясана и блиндажами изрыта, тогда что? Ну а коли в каждой щелке сидит твой злобный враг и глядит, как бы тебя покрепче ужалить, чтобы ты на ноги больше не поднялся? Ну а если на тебя с неба сыплются бомбы величиной с годовалого поросенка? Как ты тогда себя чувствовать будешь? А? Вот то-то и оно. Вдесятеро, а то и во сто крат труднее одолеть такую высоту. И вот мне, браток, довелось участвовать в одной из схваток. Утром разыгралась она. Как сейчас помню, вернулся в блиндаж наш отделенный Иван Пчелкин и говорит: «Ну, ребята, час пробил. В атаку пойдем, Мамаев брать будем. Ты, - говорит мне Пчелкин, - поближе держись, чтоб огонек вовремя подбрасывать. Ведь как-никак ты пулеметчик, главная огневая сила отделения». «Хорошо, - говорю, - дадим прикурить немцу». По условному сигналу заработала наша артиллерия. Батеньки мои, что было - не поверишь, браток! Сплошной огонь стоял над Мамаевым. Разрывы слились в общий гул. Немцы ответили, но жидковато. Обессилели, значит. А потом пехотинцы с танкистами грянули. Раз артиллерия поработала, думаем, рывок - и на кургане. Бежим, стреляем, «ура» кричим: воюем - не в бирюльки играем. Иван Пчелкин командует, я огонек поддаю. Иван командует, я огонек поддаю… Вот до окопа осталось несколько метров. Соседи уже ворвались в траншею. «Дружнее, ребята! - кричит Иван. - Стыдно будет, если отстанем». Мы прибавили шагу. Пустили в дело «карманную артиллерию» - гранаты, значит. Заохали, заорали фрицы. «По ходу сообщения, за мной!» - командует Пчелкин. Я за ним, впритирку держусь. Знаешь, браток, русское правило: локоть к локтю, плечо к плечу. И вдруг… Что бы ты думал? Из-за поворота траншеи выскочил немец и бросил гранату под ноги Ивану. А Пчелкин впопыхах-то и не заметил, приложился к брустверу и пуляет из автомата по какому-то окопу. Что делать?»
Кленов на мгновение отложил письмо, задумался. Он живо представил себе Семена, нервно затянувшегося «козьей ножкой», клубком выдохнувшего дым. Егор вспомнил слова Семена и, пододвинув письмо, продолжал писать:
«Помолчал Семен и снова спрашивает:
- Кричать, говоришь? Эге, браток, верная смерть. Обоим наркомзем, как говорили фронтовики. Вот ты сержант и знаешь, кто нужнее фронту - боец или командир?
- Оба нужны.
- А все же?
- Командир, думается.
- Хитришь или в самом деле не понимаешь?
- Что вы, Семен…
- Так я скажу. Конечно, и командир без бойца - не командир. Но, сержант, ведь нас-то много, а вас на взвод всего лишь раз-два - и обчелся. Ты ведешь в бой меня, Григория, Петра… Голова всему - командир.
- Так что же надо было делать, Семен?
- Эх, браток, дорога каждому своя жизнь, а фронтовое братство дороже. - Семен, шумно шлепая губами и широко раздувая ноздри, раскурил самокрутку, затянулся раз-другой, продолжал:
- А я сделал вот что: метнулся Ивану в ноги, схватил гранату, развернулся и прижал Пчелкина спиной к стене траншеи. Иван чертыхнулся, попытался оттолкнуть меня, но я его так плотно прикрыл, что он не мог даже шевельнуться. Стою этак, придерживаю Пчелкина, а граната, смотрю, словно шипит, окаянная, в моей руке. Того и гляди шарахнет. Смотрю я на нее и столбенею, хочу бросить - и не могу: будто руку отняли у меня. «Ну, - думаю, - Семен - амба. Вот она, смертушка-то твоя, в твоей же руке зажата. Миг, еще миг - и дух вон». Эх, браток, не поверишь, волосы на мне дыбом встали. За какую-нибудь долю секунды поседел.
Семен снял с головы поношенную кепку, потер шершавой ладонью висок, несколько раз провел ею по своим седым волосам.
- Ну что ж, смерть, значит? Нет, браток, думаю, не отправится Семен на тот свет, дудки! До Берлина еще далеко, а кто шагать туда будет и вызволять нашу землю из-под фашиста! Собрался я, значит, с силенкой, изловчился - и швырь гранату за бруствер, А она хлоп, проклятущая, и… обожгла, окаянная, навек отметку оставила.
Семен всем телом повернулся ко мне.
- Глаза?! - вскрикнул я, увидев, как на его рябоватом, по-видимому от осколков гранаты, лице сверкнул голубизной протез.
- Да, браток, глаза… Один совсем, а другой чуть-чуть еще теплится… С тех пор вот и хожу с поводырем. - Семен приподнял ореховую палку, стукнул ею по зеленой луговине.
- Ну а как Иван? Пчелкин-то как?
- Дошел до Варшавы Иван Пчелкин, крепко бил фашиста, в офицеры произвели. Подполковник. Заслужил - светлая голова. Пишет. А год назад на побывке был, навещал.
Семен встал, оправил шинель, выпрямился и спросил:
- Значит, тебе тоже в Петушки? А чей будешь-то? Кленовой Матрены сын? Недавно она в Петушках, на краю поселилась. Обжилась, славная баба. Пойдем помаленьку.
Мы свернули на полевую дорогу, несколько сот метров шли молча. Я глядел на Семена и думал: «Вот какие сильные люди выросли на нашей земле, не люди - гранит!»
- Скажите, Семен, а вы из Петушков?
- Да, теперь я петушковский, а жил когда-то под Саратовом, в деревне Комаровке.
Семен тяжело вздохнул, как будто я затронул его самую больную струну, кашлянул и продолжал:
- Видишь ли, браток, наш человек лют в бою и хороший друг. Я несколько месяцев провалялся в госпитале, а когда воспрял духом, выписали. Куда податься? Домой? Да, в таком случае положено домой, как говорят, к теще на печку. Отвоевался - и все тут. А потом подумал: стоит ли? Примет ли жена? Кому я нужен такой? Родных по моей линии в деревне никого не осталось. Детишек у нас не было. Обузой быть, жизнь ей связывать… Зачем?
Семен остановился, постучал палкой перед собой.
- Вот тут канавка должна быть, сержант, поосторожней, - предупредил он и, переступив ровик, снова зашагал своей нетвердой походкой. - Посоветовался письмом с Пчелкиным. Он сначала выругал меня на чем свет стоит. А в конце сделал приписку: «Уж если будет невмоготу, Семен, езжай в наш колхоз, в Петушки. Я, мол, написал туда, примут как своего». На том и порешил - в Петушки махнуть. И вот, видишь, прижился. Колхоз избенку построил, я научился на баяне играть. Еще в молодости любил на гармони пиликать. Теперь в клубе молодежь забавляю. Ничего, чувствую себя человеком…
- Так один и живете? Ведь трудно? Да и сердце по жинке истосковалось поди.
- Бывает, затоскуешь. Машей ее звали. - Семен улыбнулся, и лицо его посветлело. - Набежит думка - взглянул бы на нее, прижал к груди, расцеловал. Любила она меня. Я тоже. Несколько лет прожили душа в душу. Но раз отрубил - возврата нету. Может быть, Ивановна-то меня уж позабыла, похоронив, другого нашла. К чему жизнь ломать человеку? А, браток? - Семен остановился, повернулся к новенькому домику, сказал: - Ну вот и твоя хата. А мне - в эту сторону. Заглядывай - буду рад. - Семен протянул мне широкую руку, посмотрел на меня голубоватым глазом и строго сказал: - А насчет жинки… того, больше не береди, браток. Ведь сердцу-то не прикажешь - щемит.
Семен четко, по-солдатски повернулся и, стуча впереди себя ореховой палкой, зашагал в проулок. Я еще долго стоял на улице, смотрел в широкую спину Семена и думал: «Вот это Семен из наших Петушков! Да и фамилия-то у него какая звонкая - Гвоздилин. Семен Гвоздилин - герой-фронтовик, настоящий советский человек».
Кленов выпрямился, расправил плечи и, немного подумав, закончил письмо:
«Вот и вся, Мария Ивановна, история Семена Гвоздилина, вашего искреннего друга и любящего мужа, у которого и по сей день тоскует сердце о милой Маше из Комаровки. Чувствует ли эту боль ваше сердце?»






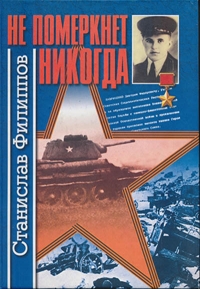
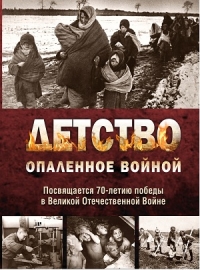
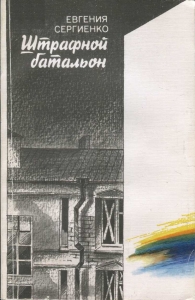
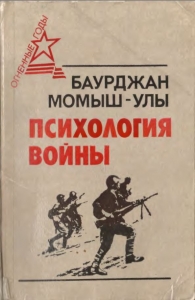
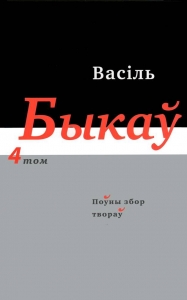
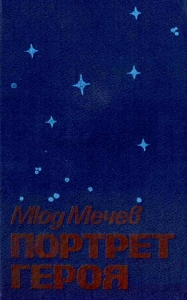
Комментарии к книге «Факел», Алексей Филиппович Киреев
Всего 0 комментариев