Валентин Бадрак Родом из ВДВ
ВЫПУСКНИКАМ РЯЗАНСКОГО ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНОГО УЧИЛИЩА ПОСВЯЩАЕТСЯ…
Пролог
Воин должен учиться одной-единственной вещи:
Смотреть в глаза смерти без всякого трепета.
Цукахара Бокуден, знаменитый японский фехтовальщик XVI векаПристальными наблюдателями давно отмечено, что вся история нашей цивилизации является не более чем историей диких войн и кровавой борьбы за доминирование в пространстве, непримиримой вражды и безумного, чуждого даже миру животных соперничества внутри человеческого вида, напрочь оторванного от природы.
Но еще в большей степени история человека оказалась историей изощренного обмана. Век за веком, прикрываясь глянцевой бравадой многозначительных сияющих слов о патриотизме, родине и долге, лощеные беспринципные личности выступали организаторами вакханалий, вечной, неутихающей бойни. Под злобный хохот дьявола, закамуфлированный торжественными фанфарами труб, они отправляли бесчисленные орды одних ослепленных человековоинов с установкой истребить скопища других. И рабы химерических идей безропотно превращались в производителей костей человеческих, пребывали в слепом забвении до тех пор, пока гул поля боя не сменялся воем тоски по умерщвленным. Короткое время отводилось человеческому существу для оплакивания погибших и увековечивания праха наиболее стойких из воинов. Затем все повторялось вновь. Предоставленный во временное пользование рай человек сумел кощунственно превратить в гниющую стонущую преисподнюю.
Не исключено, что это происходит вследствие тайного желания человека возвратиться на время к своему первобытному состоянию, чтобы под маской пещерного зверя насытиться запахом и вкусом крови. И самый гнусный из зверей совершает это невиданное святотатство с вопиющей цикличностью. Посягает на себе подобного, даже зная наверняка, что сойдет с ума, заболеет бешенством, загубит себя среди всеобщей оргии смерти. И все великие открытия в конечном итоге начинали служить делу войны и всеобщего уничтожения. И очаги любви и созидательных намерений выжигались столь старательно и бескомпромиссно, что порабощенное влечением к убийству существо стало превращаться в неизлечимого некрофила. Со временем болезнь видоизменилась. Уничтожение приобрело яркие помпезные формы, карнавал стал размашистее, изощреннее, масштабнее. Настала эпоха соперничества за мировое влияние… Эра борьбы за глобальное порабощение…
Воля к власти вступила в противоборство с жаждой любви и созидания…
Часть первая Железные солдатики генерала маргелова
Чем себя удержать на струне между срывом и славой И пропеть то своё, что другой не сумеет пропеть? Марина ГенчикмахерГлава первая
(Учебный центр Сельцы, 55 км от Рязани, август 1985 года)
1
– Рот-та! Стой! Напрра-во! Равнение на – середину! – Сержант, с показной лихостью отбивая шаги сапогами по асфальту, добрался до небольшого, в три ступеньки, крыльца и круто повернулся на носке одной ноги и пятке другой. На крыльце деревянной одноэтажной казармы стоял несколько тучноватый старший лейтенант в рубашке с короткими рукавами и в высокой, на манер офицеров Третьего рейха, фуражке с голубым ободком. На его брюках, с картинно наутюженными стрелками, такие же голубые полоски змейками уползали в искусственно разглаженные двумя хромовыми тубусами невероятно блестящие сапоги. Офицер явно был пижоном – в той мере, насколько это возможно для офицера Советской армии. Он казался неестественным и напомаженным, застывшим подобно египетскому фараону и слишком празднично-торжественным на фоне обветшалого здания казармы, за облупившейся крышей которого торчали верхушки сосен.
– Товарищ старший лейтенант, первая рота с обеда прибыла. Заместитель командира первого взвода сержант Лунев.
– Дайте «вольно», – небрежно бросил ему старлей, и тут только по шевелению аккуратно подстриженных, таких же щеголеватых усиков стало ясно, что это вполне живой человек. Черные гусарские усики несколько сглаживали пухлые, как у обожающего сладости юноши, щеки офицера. Сержант тотчас выполнил указание и остался стоять рядом с офицером, но не на возвышении, а рядом со строем, как бы в роли посредника между одним и другими.
– Товарищи курсанты, – начал старлей спокойным, уверенным и оттого негромким голосом, – довожу до вашего сведения, что я – ваш командир роты, старший лейтенант Лисицкий Андрей Петрович. Прибыл для прохождения службы после выполнения интернационального долга в Демократической Республике Афганистан. Сегодня утром вы стали первой ротой первого батальона Рязанского высшего воздушно-десантного дважды краснознаменного командного училища. С сегодняшнего дня вас будут называть не абитуриентами, а курсантами. У вас начинается новая жизнь – курс молодого бойца. КМБ, если коротко. В течение двух с половиной месяцев вы будете иметь возможность еще раз хорошо все обдумать. Сразу предупреждаю: на КМБ ваша жизнь не будет сладкой, но это цветочки по сравнению с дальнейшей жизнью курсанта РВДУ. Это всесторонняя проверка, за этот период вы должны совершить три первых прыжка с парашютом, пройти много разных тестов. Но главное – до конца убедиться, что сделали правильный выбор. По окончании КМБ каждому из вас будет еще раз задан вопрос о выборе профессии и каждый из вас сам сделает окончательный выбор. Выпускники средних школ в случае добровольного отказа смогут вернуться домой или поступить в другое, фактически любое, военное училище нашей необъятной страны – у нас один из самых высоких проходных баллов, поэтому в любом военном заведении СССР для вас будут открыты двери. То же самое касается и кадетов. Особо акцентирую на этом внимание, потому что после КМБ и принятия присяги назад дороги не будет. Начинайте обдумывать ваше решение с сегодняшнего дня. Не буду скрывать: передо мной не стоит задача сохранить всех зачисленных курсантов. Напротив, стоит задача отсеять всех, кто не способен служить в ВДВ, для чего и набрано вас полтора состава. ВДВ – это элита Советской армии, РВДУ – не просто элитное военное училище, но первое из училищ, единственное в своем роде. Поэтому очень хорошо думайте.
Алексей видел, как при произнесении последних слов короткие усики старлея ретиво и насмешливо вздернулись кверху, а губы искривились в иронической усмешке. Сказанное им как бы подчеркивало не окончательную полноценность всех этих молодых людей, необходимость для них снова доказывать, отстаивать свое уже как будто завоеванное место. В глазах ротного каждый без труда мог прочитать полное безразличие, в непоколебимости его власти над ними присутствовало нечто царственное, незыблемое, не поддающееся эмоциональным колебаниям. Именно с такими бесстрастными глазами и лицами, чуждыми сценической пластике или артистизму, лишенными выражения сомнения, и отдаются самые судьбоносные, самые чудовищные приказы. Потому старлей казался страшным в этой отчетливо мрачной сухой бесчувственности. В этот момент каждый из зачисленных курсантов ясно осознал, что они представляли собой некую бесформенную массу, похожую на группу подопытных лабораторных крыс, которую, вероятно, будут замысловатым способом переплавлять в нечто однородное, имеющее конкретную форму и предназначение. Но далеко не всякий людской элемент в него войдет лишь потому, что отменно знал геометрию и даты исторических сражений.
– Теперь внимание, курсанты, – продолжил ротный, слегка повысив тон, хотя строй и так застыл беззвучно, в напряжении, ибо, как оказалось, судьбы их еще не были решены окончательно, а каждое новое слово могло что-то прояснить в их общем будущем. – Сейчас я вам представлю старшину роты, начальника для каждого из вас в отсутствие офицеров. Лунев, позовите старшего сержанта Мазуренко, – обратился он к сержанту, который привел роту с обеда.
Через несколько мгновений на пороге казармы появился вызванный из казармы новоявленный старшина. Он был почти одного роста с ротным, даже, может быть, немного ниже, потому что блестящие хромовые сапоги офицера имели весьма широкую платформу, призванную, очевидно, возвышать его и над более рослыми подчиненными. Однако в противовес росту старшина был едва ли не в три раза шире в плечах своего ротного. Если Лисицкий казался холеным щеголем, то Мазуренко – топорно и непропорционально сбитым мужиком, словно его в самом деле вытесали из грубого базальтового камня. В то время как взор ротного почему-то вызывал у Алексея сходство с хитрым выражением глаз Людовика XIV со страниц школьного учебника, старшина расстреливал взглядом в упор, причем всех сразу. Он предстал в совершенно непривычном, даже несуразном для данной ситуации виде: на ногах замшевые светло-серые кроссовки, а из одежды – лишь выцветший от времени, выгоревший на солнце десантный комбинезон когда-то цвета хаки, верх которого был снят и небрежно повязан узлом на талии. В результате строй имел возможность обозревать могучий торс с выпуклой бронзовой грудью, немыслимым овалом плеч и кольчужными кубиками на плоском животе. Неискушенному наблюдателю могло бы показаться, что он только что вышел из тренажерного зала, где занимаются бодибилдингом, но на самом деле структура его мышц была совсем иной. Профессиональный взгляд скорее рассмотрел бы мускулы метателя диска или воина-спартанца, стоящего с царем Леонидом у Фермопильских ворот, чем поклонника устланных мягкими покрытиями залов. Это были мышцы, которыми пользуются постоянно и для весьма конкретных целей, а не только во время посещения зала с единственной задачей – приукрасить мужское тело. Устрашающий внешний облик молодого мужчины дополняли наколки – они делали его похожим на уголовника. Под левой грудью была набита группа крови, на левом плече правая часть строя могла рассмотреть три магические буквы «ВДВ» под старательно выведенным несмываемыми чернилами знаком из парашюта и двух перекрещенных, взмывающих ввысь самолетов. Стоящие же слева курсанты видели маленький силуэт десантника с парашютом с не менее странными буквами «DRA». Но еще более, чем торс, поражало его лицо, придававшее хозяину сходство не то с воином, не то с осужденным рецидивистом. Если глаза ротного выражали бесстрастие, то глаза старшины горели тусклым и мрачным огнем, как некогда раскаленные, но теперь тлеющие угли. В них, как и в иссеченном суровыми складками лице, сквозила неумолимая печать грубой мужской силы, затаенность едва сдерживаемого общественными условностями порыва хищника. Слишком часто во взоре его проглядывал лютый зверь, тайно жаждущий властвовать по праву силы, готовый низвергнуть все сопротивляющееся. Годами он был старше на добрых пять-шесть лет стоявших в строю, именно тех лет, которые отделяют войлочного нескладного юношу от сформировавшегося сурового мужчины. Этот человек на пороге казармы казался в высшей степени экзотичным даже среди ста пятидесяти спортивно сложенных, специально отобранных для непростого военного дела парней.
Новоявленный курсант Алексей Артеменко во все глаза рассматривал двух своих главных начальников. Ротный, окутанный шармом великолепия своего положения, казался ему недосягаемым богом в силу немыслимой дистанции, отделяющей искушенного войной офицера от нескладного юноши, только замахнувшегося на карьеру военного. Старшина же ввергал его в шок своим иррациональным видом, вызывая смутный страх и содрогание. И вместе с тем он стал в один миг мистическим символом всего того, что стояло за тремя волшебными буквами «ВДВ», светом, источаемым инопланетянином, неземным существом.
– Товарищи курсанты, старший сержант Мазуренко назначен старшиной роты, и в отсутствие офицерского состава он является старшим в роте, все его распоряжения и приказания выполняются, как отданные мною. Ясно?!
– Так точно! – пока еще вразнобой и все-таки дружно прокричала рота первую, недавно выученную военную фразу.
– Кстати, старшина, – обратился ротный к Мазуренко с ухмылкой, вполне любезной при всей непреложности, – роту надо потренировать отвечать командиру…
Старшина ответил едва видимым, хотя и явственно почтительным наклоном головы.
После представления старшины новоиспеченным курсантам дали пятнадцать минут перекура. Им, вчерашним школьникам, только нынешним утром поменявшим статус, все теперь было интересно, все вновь. Как завороженные, молодые люди ходили вокруг обветшалой казармы, знакомясь друг с другом и не решаясь пока ни заглянуть внутрь незамысловатого помещения, ни отойти от него на слишком большое расстояние. Они напоминали большой щенячий выводок, впервые выпущенный за ограду и оттого нерешительно суетящийся возле вольера, ограниченного новыми, неведомыми, неизученными и в то же время манящими запахами.
Алексей ликовал в душе, хотелось прыгать, плясать, кричать. Все внутри него играло от безудержного восторга. То, что он сам считал немыслимым чудом, фантастической сказкой, свершилось с ним наяву. Он поступил, хотя в это вообще никто не верил из его прежних друзей! «Эх, прощайте, былые товарищи, теперь я элита, белая кость, иная каста! Я буду скроен из другого человеческого материала, вернее, из нечеловеческого, сверхчеловеческого материала! Я в дамках! Я выиграл!» Так Артеменко думал в экзальтированном, близком к сомнамбулическому состоянии, осторожно поглядывая на свое новенькое, непривычно пахнущее обмундирование. Правда, другое, более уравновешенное «Я» настоятельно советовало оставаться сдержанным, демонстрировать показную невозмутимость, одним словом – вести себя так, словно все идет по давно задуманному плану. Но все-таки ему было немного жаль этой досадной и глупой невозможности раскрыть кому-нибудь пляску души, ибо все вокруг были напряжены, странно невозмутимы и ненатурально сдержаны, и он был вынужден поддаваться всеобщей инерции деланой сосредоточенности. Но теперь поведение курсантов медленно менялось, в нем присутствовало уже гораздо больше тайной игры и затаенного фарса, чем истинного желания видеть вокруг подвох конкурентов. Теперь ребята уже нутром чувствовали, что отныне запряжены в одну большую упряжку, а прочные лямки с сегодняшнего дня ловко наброшены на плечи, чтобы уже завтра впиться в них со всей нещадной неотвратимостью, которую только может сулить военная жизнь.
Прямоугольная курилка напротив казармы была слишком маленькой, чтобы вместить всех желающих, потому, прикурив сигарету, Алексей отошел к краю казармы. Он курил редко, но ради поступления решил насладиться сигаретой из пачки, которую мысленно считал последней. Сладко затягиваясь и исподволь разглядывая своих будущих сослуживцев, он с удовольствием вдыхал новые, непривычные запахи, в первую очередь – только что выданного обмундирования темно-песочного цвета с едким, вездесущим запахом склада и чего-то особого, неясного, но точно сугубо военного. Этот стойкий запах никак нельзя было назвать ароматом, но он был приятен, потому что непрерывно напоминал о сбывшейся мечте. Точно таким же, только еще более грубым, резким запахом несло от сапог, которые Алексей разглядывал с некоторым удивлением: они выглядели несуразно на ногах, привыкших к удобным кроссовкам. Он то и дело чувствовал себя захмелевшим от предвкушения штормового ветра, как моряк, который впервые отправляется в дальнее плавание в открытый океан. «Не может быть! Поступил, поступил! Даже не верится. Вот она, высшая, исконно мужская радость – достигнуть поставленной цели. Цели заоблачной, в приближение к которой не верил никто, разве что мама. И вот теперь свершилось! Бейте в барабаны, кричите, расскажите это учителям со скептическими усмешечками, старому въедливому военкому, который, полагаясь на свой колоссальный опыт, говорил, что это пустая затея, и предлагал ехать в Ленинградское топографическое… Эх вы! Наивные, несчастные, никчемные люди, да вы просто не знали, с кем связались! Вы просто не подозревали, что значит сила одержимости!» – При этих мыслях Алексей затянулся с таким упоением, что даже закрыл глаза от удовольствия.
2
– Слышь, а это ты с Черкасской области? – прервал размышления Алексея голос подошедшего вплотную парня. Он был немного ниже ростом, но коренастый и, как в народе говорят о таких, сбитый. Из-под надвинутой на лоб пилотки в Алексея оценивающе всматривались серо-облачные насупившиеся глаза. Его не по возрасту суровый вид дополняли поразительно густые, щетинистые гусеницы сдвинутых бровей, навевавшие воспоминания о советском генсеке Леониде Ильиче в юности.
– Ну да… я с Умани, – буркнул Алексей, слегка недовольный столь бесцеремонным вторжением незнакомца в его мир, в красивую, бесценную сказку юности, которую не очень-то хотелось отпускать, считать историей и, тем более, делиться ею.
– Значит, ты – мой зёма, – доброжелательно заключил тот, – я из села Межирич, это в Черкасском районе. Ну, практически из Черкасс. Я Игорь. – И он протянул Алексею свою ладонь.
– Зёма? – удивился Алексей, но на всякий случай подал руку и назвался.
Рукопожатие было коротким, крепким и почти дружеским, а рука Игоря Алексею показалась слишком узловатой, мозолистой, крестьянской, как бывает у привыкших к тяжелому труду людей. Взгляд же поразил открытостью и прозрачностью, какую случается увидеть в чистой водной глади пруда в тихую погоду, и эта бесхитростность, прямая простота подкупали. «Явно не похож на городского, – мелькнуло в голове у Алексея, – какой-то замшелый селянин, правда, странный».
– Зёма – значит земляк. В армии приравнивается к брату. Сигаретой угостишь? – спросил новый знакомый, слегка улыбнувшись и передернув плечами, словно расправляя их. Улыбка вышла неловкой, извиняющейся и показалась натянутой. Но во всем его облике Алексей уловил какую-то любопытную задоринку – смесь взрослой иронии с детской смешинкой.
– А ты откуда узнал, что я из Украины? – спросил он, вытаскивая из кармана пачку и отмечая деланую, будто нарочитую непринужденность парня. Алексею стало жаль сигарет, которых в пачке осталось меньше половины, но в голове шевельнулась мысль, что так, пожалуй, даже лучше: быстрее закончатся, и он избавится от порочной табачной зависимости. Ведь решил же.
– Подсказали… знающие люди. – Игорь с оттенком ненатуральной важности сделал ударение на слове «знающие», но тут же немного смутился, словно ему не очень хочется распространяться о причинах своей осведомленности. Но это был отменный козырь для продолжения разговора, и он не удержался от напускной таинственности. – Вообще-то в роте много парней из Украины, человек пятнадцать, не меньше. Но из Черкасской области только мы двое. Тут, кстати, почти трети роты нет.
– И где ж они? – поинтересовался Алексей.
– Всех поступивших из войск распределили на различные работы. – Теперь Игорь говорил с убедительной интонацией человека, обладающего ценными сведениями, даже не без некоторой гордости и скрытого превосходства. – Для нас оставили только замкомвзводов, да вот еще старшину.
Алексей в ответ промолчал, поджал губы и пристальнее взглянул на собеседника. По правде говоря, его не очень беспокоили какие-то там люди, которые когда-нибудь присоединятся к роте. За две с половиной недели поступления он не выползал из пещеры своих собственных переживаний, и теперь, после включения в состав первой роты, ему все еще было комфортно наедине с собой: он упивался победой, которая казалась значительной, почти выдающейся. Но новый знакомый, случайно или из-за сходных мыслей, разгадал его ощущения.
– Знаешь, какой конкурс был в этом году? Восемнадцать человек на место. Золотых медалистов восемь человек провалилось, зато есть поступившие с двойками.
Алексей насторожился; при всей своей заинтересованности он был озадачен – информация явно предназначалась не для всяких ушей. «И зачем этот хлыщ все это мне выкладывает, – подумал он. – В дружки набивается, что ли?» Впрочем, он об этом где-то слышал, но медалисты отсеивались на физической подготовке, профотборе или медосмотре. А вот про поступивших с двойками за экзамен… это что-то новое. Он внезапно подумал о том, сколько нервов, потрясений и мучительных ожиданий с искусанными до крови губами оставлено тут при поступлении. Но парень не унимался, ему, по всей видимости, доставляло удовольствие поддразнивать земляка тем, о чем невольно думал каждый из них. Поступление уже состоялось, стало свершившимся фактом, но еще не перешло в категорию привычного, с ним не свыклись, оно как-то зависло в воображении, бередя воспоминания о мучительно напряженных днях тестирования и затаенных, настороженных, почти безмолвных ночах в палатках, когда каждый видел в соседе потенциального конкурента.
– Я знаю одного сержанта, у которого по всем предметам двойки. Сечешь? Но он с Афгана, с орденом Красной Звезды. Кстати, наш старшина тоже афганец и тоже с Красной Звездой.
Алексей посмотрел на нового знакомого с недоверием. Ему пришлась не по душе его навязчивая фамильярность. Натуральный ханыга, небось, через родственничков разнюхал, теперь ходит, придает себе важности. Он чувствовал, как внутри собирается и растет волна предубеждения против этого человека, смесь негодования и презрения…
– Слушай, кто тебе все это напел? – В голосе Алексея теперь уже присутствовало некоторое раздражение. Было видно, что его стал тяготить этот странный разговор, да и само знакомство.
– Рот-та, строиться! – истошно заорал один из сержантов, и они оба вздрогнули от непривычки к новому положению вещей.
– Расскажу потом, если интересно. Пошли, – кивнул Игорь на призыв сержанта и поковылял к месту построения.
Последние метры им пришлось преодолевать бегом, чтобы не оказаться последними, – интуиция уже с неумолимой четкостью предписывала молодым людям чрезвычайную резвость и языческое поклонение новым богам.
Глава вторая
(Учебный центр Сельцы, 55 км от Рязани, август 1985 года)
1
Говорят, важно, какие ты в детстве книжки читал… Эх, спору нет, это бесконечно важно. Но жизнь порой способна неумолимо ткнуть носом в такие смрадные углы человеческой обители, что, невольно вздрогнув, осознаешь: есть вещи и более важные, хотя кажутся плоскими и бесхитростными на ощупь. Порой много весомее оказывается та простая система координат, из которой вывернулась, как винт по спирали, твоя личная точка отсчета. Место, где ты впервые обнаружил себя на шахматной доске жизни… И если книги наделяют мудростью, то та пресловутая система координат не дает пробиться в твоей судьбе червоточине, позволяет просто выжить, избежав роковых трещин в судьбе.
Первые несколько дней после зачисления основательно перевернули всю жизнь Алексея Артеменко, вернее, само его представление о жизни. Теперь его потребности, желания и устремления неожиданно резко сузились, безнадежно опустились на самое дно пирамиды человеческого бытия. Фокус всеобщего внимания неожиданно сосредоточился на единственном – слове «успеть». К этому слову, как оказалось, можно присовокупить до неприличия громадное число глаголов. Успеть добежать, успеть вовремя встать в строй, успеть помыться, успеть почистить сапоги, успеть безупречно заправить кровать, успеть подшить воротничок, успеть натереть металлическую пряжку ремня, успеть уложить парашют, успеть точно положить пули на мишень, успеть освоить и выполнить новую команду, успеть… отдохнуть. Увы, порой этих «успеть» оказывалось многовато для одного дня и уж, несомненно, для одного человека. К счастью, с этим «успеть» курсант Артеменко боролся не в одиночку.
Но Алексей ловил себя на мысли, что он засыпает и просыпается в одном и том же положении: в какой позе застыл вечером по команде «Отбой!», в такой его заставала утром команда «Подъем!». Он все время пребывал в диком, неестественном напряжении, как будто превратился в лесное животное и непрестанно ожидал нападения подкрадывающегося охотника. Будто все, кто теперь начал руководить его жизнью, только и хотели уличить в медлительности, нерасторопности, непонятливости. «Ты, что, курсант, тормоз?! Снимись с ручника и действуй!» – От такого укола словами теперь никто из них не был застрахован, и каждый из курсантов с содроганием ждал такую фразу. Хотя бывали наезды и покруче, и грань между грубым намеком и откровенным оскорблением стиралась с неимоверной быстротой. От этой постоянной пружинной сжатости Алексей забыл всю свою предыдущую жизнь, первая же неделя настоящего смерчем выкорчевала из памяти все предшествующее. Исчезло все: странным образом выпали из головы важные строки из мудрых книг, память неумолимо вычеркнула восторг прикосновения к девичьей груди, канули в Лету зрительные образы родных, друзей, приятелей, было у самого корня сломано ощущение самого себя. Его личность, личности его товарищей отныне им не принадлежали. Они растворились в пространстве титанической борьбы, направленной на сохранение лица человеческого. Все перестало существовать, словно и не было никогда предшествующей училищу жизни. Фокус внимания сузился до щели старого отцовского фотоаппарата в тот момент, когда нажимали на выдержку. Он думал, тридцать секунд или, в крайнем случае, минута, а вышла бесконечность. И только матовое, усталое, осунувшееся от забот лицо матери порой возникало перед Алексеем, когда ему становилось невмоготу от душного, нестерпимого и пока еще чужого пространства казармы.
Оказаться аутсайдером было тут самым страшным преступлением. Роль неуспевающего приравнивалась к роли предателя и должна была караться так же, как выжигалась инквизицией ересь. И дело было уже не в насмешках товарищей, а в их постепенном озлоблении, так как советская военная система воспитания являла собой уникальный феномен коллективно-принудительного воздействия на всех сразу. Не успевает один солдат застлать кровать – три часа тренируется до головокружения весь взвод. Не сумел один из тридцати выскочить из казармы через минуту после подъема – все тридцать будут умываться потом до тех пор, пока отстающий с ними не выровняется. Потому-то за насмешками угадывалась прозаичная, рвущаяся на поверхность самозащита. Все курсанты мало отличались друг от друга и теперь походили на ежей, затаившихся, ощетинившихся иглами от возросшего чувства неведомой опасности.
Но еще больше, чем отставание, тут каралась гордыня. Алексей внезапно столкнулся с целым кузнечным производством, в совершенстве работающим департаментом по переплавке и перековке строптивых личностей. Сам он не причислял себя к ершистым мятежникам, скорее беспокоился о сохранении индивидуальности, личности как таковой. Но суровый армейский закон уравнивания и приведения всех к серому, безликому и в то же время крепкому трафарету оставался самым незыблемым правилом, первой аксиомой ВДВ. Воины должны быть такими же одинаковыми и прогнозируемыми, как выстроенные в ряд их кровати или тумбочки, которые можно отличить исключительно по биркам: ни снаружи, ни внутри невозможен даже намек на индивидуальность. Если у кого-нибудь ремень ослаблен – это значит только то, что он желает выделиться и продемонстрировать свое особое положение в социуме. Все обязаны быть одинаково серыми, одинаково оловянными солдатиками. И если ускоренные темпы любых действий казались Алексею оправданными, то необходимость уравнивания всей человеческой массы он принял как самое болезненное для себя правило, ущемляющее свободу. Внешняя угловатость рамок передавалась внутреннему состоянию, и у него появилась новая, ранее неведомая постоянная напряженность, похожая на ожидание удара молотком по подставленным пальцам, – в случае, если что-то будет сделано неверно. И от этого ощущения он уставал больше всего, выбивался из сил от невозможности остаться наедине с собой, от недопустимости мыслить вообще. Превращение в машину происходило у Алексея особенно болезненно, он с детства привык быть хозяином своей жизни, а тут им распоряжались как вещью. Причем как вещью, к которой не чувствуют особого уважения, как к механизму, который в случае поломки можно быстро и легко заменить. Боль ширилась и нарастала у Алексея оттого, что его ценность в собственных глазах стремительно таяла, а он не мог ни объяснить этого, ни повлиять на это.
Законным отдыхом были полчаса после обеда, когда можно было прислониться в тени к неприятно теплой стене и несколько минут подумать о доме и прежней жизни. Но и эти полчаса зачастую укорачивались до десяти минут, потому что кто-то что-то не успел и взвод должен был оттачивать особо неподдающийся элемент солдатского быта. Чаще всего они разыгрывали театральное представление «подъем-отбой». За считанные секунды будущие десантники раздевались, забирались в постель и, съежившись под одеялом, напряженно ждали. Чтобы, по команде дружно вскакивая, судорожно хватать свои вещи, не попадать в спешке ногами в брюки, толкать друг друга в узких проходах между двухъярусными кроватями, мрачно ругаться сочным нецензурным словцом, гневно подшпиливать локтями друг друга… Одним словом, превращаться в необузданную, дичающую толпу, стадо получеловеков, которое уже прошедший эту же нехитрую школу сержант гнал на улицу к офицеру. По-обезьяньи прыгая вместе с обескураженными требуемым темпом товарищами, Алексей дивился тому, как быстро с каждым новым актом они становились управляемыми, все более обезличенными, походящими на манекены, на игрушечных роботизированных солдатиков, которые то замирают, то ловко двигаются по заданному маршруту с четко обозначенным набором действий… Это был мир ошеломляющих превращений, и Алексей отдавал должное факирам…
Только одного он пока понять не мог: как после всех этих разрушений, после глумливой насмешки над всем тем, что ему казалось ценным и дорогим, – книгами, романтикой, отношениями с людьми, к которым он испытывал трепетные чувства, – вырастают небывало могучие духом, непробиваемые, почти неуязвимые люди. Именно такими ему казались курсанты выпускного курса, которые сдавали в это же время госэкзамены. Они выглядели удивительными! И не только потому, что все были одинаково бронзовые, как будто спустились погостить с Олимпа. И совсем не из-за их впечатляющих, блестящих на солнце мускулов. Их словно скроили из другого материала – жизнерадостных, улыбчивых, ни к чему не относящихся всерьез и умеющих абсолютно все. Они были, как сами себя называли, полными пофигистами. Алексей не до конца понимал, что они хотят этим сказать, но интуитивно сознавал: это круто, это значит, что они живут в согласии с собой, презирая весь окружающий мир с его всегда недостижимыми прелестями и богатствами. Когда они были вместе в строю, то походили на сказочных тридцати трех богатырей, когда – порознь, каждый оказывался крупной, едва ли постижимой личностью. Многие из них водили на поводках варанов – живые свидетельства недавней горной подготовки в Кировабаде. И порой злой блеск в глазах выдавал азарт тех, кто уже написал рапорт с просьбой направить на войну в Афганистан. «Поступил – гордись, не поступил – радуйся!» – говорили они вместо приветствия новичкам. И Алексей дивился, отчего без пяти минут офицеры видят в них, желторотых, людей, равных себе, тогда как сержанты, отслужившие два, а то и полтора года, называют презрительным словом «щеглы». И только в разгаре КБМ Алексей сполна вник в брошенную одним из курсантов четвертого курса фразу-установку: «Если хотите окончить это училище, готовьтесь к тому, что вы все четыре года будете ходить параллельно и перпендикулярно. Или бегите отсюда, пока не поздно».
И из этих слов Алексей вынес предположение, что главная ломка все-таки еще впереди. Он верил старшекурсникам и хотел стать, как они, беспечным и удалым. Алексей смотрел по сторонам и видел, что и другие верят, и у других глаза блестят от предвкушения собственной удали. Ну и что, что бульдозер с огромным ковшом и гигантскими колесами еще только приближался к ним, чтобы решительно проехаться по их характерам, поломать и перекопать все ранее приобретенные установки, чтобы на индивидуальных обломках построить новые, коллективные принципы. Кому нужны были эти вырабатываемые характеристики, Алексей не знал; он принимал все со странной покорностью мученика, самостоятельно лишившего себя свободы и отдавшегося во власть чужих людей. С каждым днем он ощущал, что у него остается все меньше себя, а ощущения и переживания, имевшие для него исключительный смысл, самое важное значение, должны быть забыты, уничтожены или упрятаны настолько глубоко, чтобы никто не мог до них дотянуться. Ибо все личное растаптывалось тут столь цинично и безжалостно, как в тюрьме. Но основательно притупленным разумом, а скорее загнанным телом, Алексей осознавал: он определенно попал в экстремальные условия, где главной целью теперь стало выжить и не лишиться чувства собственного достоинства.
Да, он попал в состояние всеобщей войны, в архаичный мир нескончаемой борьбы всех со всеми, а значит, надо действовать по правилам военного времени.
2
– Рот-та, р-равняйсь! – дал команду старшина Мазуренко, выделяя первую букву, отчего даже в спокойном состоянии его голос казался похож на львиный рык.
Сотня человек застыла, как будто они были бандерлогами из известной сказки Киплинга, застигнутыми врасплох голосом удава. И только где-то в глубинах отдаленно стоящего пятого взвода продолжалась какая-то невнятная перебранка между курсантами.
– Упор лежа принять! – По команде старшины все мгновенно упали. – Сорок раз отжаться! – Во взгляде старшины в эти мгновения отражалась вся непредсказуемость и взрывоопасность его натуры. Любое сближение с ним, любое общение было как прикосновение к оголенному проводу, по которому время от времени пускали ток; так что никогда не знаешь, когда крепкий разряд пронзит именно тебя.
– Что, школьнички-бубенчики, устали?! – измывался старшина, который по любому поводу и в любом месте наказывал роту бесчисленным отжиманием от пола, асфальта, земли, чего угодно. Звероподобный старший сержант Мазуренко заодно отучал юношей плевать под ноги на месте построения, чем они грешили, формируя кружки и тихонько пуская сигарету по кругу на месте построения.
Кажется, еще секунд сорок-пятьдесят тому назад все они беззаботно спали, как сурки в норках. И вот прошло всего несколько мгновений, и все уже на улице, и готовы к физической нагрузке, которая определенной части роты казалась предельной. Для Алексея физические упражнения не представляли трудности, со спортом он дружил с детства, потому отжимался легко, даже с некоторым удовольствием, получаемым от упругого управляемого тела. Курсанты были по пояс раздеты, и кожа быстро напитывалась утренней прохладой леса. Рядом отжимался Игорь, и Алексею бросилось в глаза, что земляку не так уж просто дается это незамысловатое упражнение. Сначала он отчаянно упирался, ужом извиваясь всем напряженным телом, потом стал хитрить, не опускаясь грудью до асфальта, а лишь слегка сгибая руки, и наконец просто застыл, причем руки его подрагивали. «Наверное, мышцы рук забиты», – мелькнуло у Алексея. Но Игорь оказался не одинок, еще нескольким курсантам было не под силу отжаться четыре десятка раз. Сержант – замкомвзвода, который ревностно исполнял роль надзирателя, не замедлил отреагировать на ситуацию.
– Э-э, да тут во взводе немощные. Фамилии! – потребовал он.
Курсанты начали по очереди называться.
– Рот-та, встать! Мальчики! Когда звучит команда «Рота!», все должны замереть на месте. Команда «Рота» – команда «Смирно!» Святая команда! Ясно?!
– Так точно! – колоритным громом прозвучало в ответ.
– За мной бегом – марш! – скомандовал Мазуренко после докладов сержантов о наличии личного состава.
И опять во время утренней трехкилометровой пробежки Алексей заметил, что многим не так уж легко преодолевать эту простую дистанцию, которую он всегда считал безобидной и которую все они совсем недавно сдали на экзамене. Уже к середине дистанции тяжело дышал перекошенным от напряжения ртом Игорь, и из его легких порой вырывался свист, порой слышались странные, пугающие истошноутробные звуки, а порой, как на нитке из катапульты, изо рта выпрыгивала капля слюны. К счастью для него, он был не один такой, еще человека три-четыре постоянно отставали, растягивая и без того длинную колонну бегущих. Игорь же держался в строю до конца, чудом избежав попадания в группу отстающих.
Достигнув спортгородка, старшина приказал сержантам заниматься со своими курсантами, сам же собрал отстающих в особую группу, которую он с сардонической усмешкой окрестил «группой здоровья». Упражняясь по команде сержанта, Алексей издалека видел, как туго приходится попавшим к старшине. С язвительной, но беззлобной улыбкой на устах он был бесподобен в роли мясника, доканывая своих выбившихся из сил юнцов за несколько считанных минут.
– Та-ак, отстающие, в одну шеренгу на песке становись! Упражнение американского морского пехотинца «джамп». На счет раз – все присели. На счет два – подпрыгнули вверх и хлопнули руками над головой. Раз! Два! Раз! Два! Громко считаем сами!
Не ослабляя контроля над подопытными кроликами в человеческом облике, старший сержант Мазуренко запрыгнул на металлические брусья и молодецки отжался раз двадцать в невероятном темпе, легко выталкивая свое тренированное тело из плоскости двух параллельных трубчатых жердей. Старшина спрыгнул, и было видно, что он лишь чуть-чуть сбил дыхание, тогда как курсанты после двенадцатого прыжка уже не могли оторвать ног от земли.
– Стой! Упор лежа принять! Отжимаемся тридцать раз! – старшина ходил вдоль длинного ряда из двадцати пяти – тридцати курсантов, коршуном наблюдая за их отжиманием и периодически надавливая на спину тем, кто не полностью сгибал руки. Большинство из них после вмешательства Мазуренко черпали брюхом холодный влажноватый песок, а некоторые откровенно валились на него всем телом, обретая в его утренней прохладе секундное спасение от непривычного убийственного напряжения мыши. В эти мгновения нельзя было не любоваться старшиной, и Алексей, которому довольно легко давались команды сержанта, исподволь наблюдал за перемещением старшины. В лучах показавшегося солнца был виден каждый мускул его, так что по нему впору было изучать анатомию. Но в какой-то момент Алексей смекнул, что дело было вовсе не в мышцах, олицетворявших совершенство физического состояния. Таких здоровых парней и в роте наберется десяток-полтора. Весь секрет старшины крылся в потрясающей, непоказной уверенности, дивной неколебимости духа, готовности к лютой борьбе в любую минуту, в любую секунду. Он как бы заряжал окружающих этой неуемной воинственностью, тайной жаждой если не войны, то предельного риска. В нем присутствовало что-то роковое, потустороннее, с чем нельзя было не считаться, какое-то бурление темных демонических сил, одновременно и пугающее, отталкивающее, и вызывающее восхищение. И в эти мгновения Алексей, несмотря на кажущуюся жестокость старшины, чувствовал к нему растущую симпатию и вместе с ней начало каких-то смутных превращений внутри себя, начало цепной реакции трансформации сознания. Сам того не осознавая, в условиях социального и физического неравенства со старшиной Алексей склонен был приписать ему в этот момент все те возможные добродетели, которыми обладает непобедимый герой античных мифов.
Между тем старшина уже третий раз приказывал своей шеренге выполнять пресловутый «джамп», а затем отжимания. Это банальное упражнение – очевидно, плод скудной солдатской фантазии – исполнялось непрерывно. В результате несколько человек просто повалились в песок в полном бессилии, некоторые стояли на четвереньках, признавая свою неспособность двигаться, не говоря уже о прыжках или отжиманиях. Поражение «группы здоровья» оказалось безоговорочным, сокрушительным и позорным. Этого, видимо, и ждал Мазуренко – их психического подавления за счет нехитрого, бесконечно повторяемого физического упражнения. Алексей хорошо знал, что даже тренированному человеку выполнять это упражнение в течение десяти минут подряд будет не под силу. Значит, старшина преследовал совсем иную цель, весьма удаленную от стремления к физическому совершенству.
– Сынки хреновы, вы что, хотите ВДВ опозорить?! Вы что, хотите показать, что мы слабее американских морских пехотинцев?! – И Мазуренко остервенело заглядывал в закатывающиеся глаза тех, кто, как ему казалось, мог оказаться слабым звеном в цепи, которую он с наслаждением кузнеца-профессионала ковал.
– Замкомвзвода, ко мне, – скомандовал старшина после окончания экзекуции. – Запомните своих людей, они в «группе здоровья» до конца дня. Их ко мне после обеда и после ужина.
Что и говорить, день беспрерывной неистовой муштры для группы отставших не прошел зря. Впрочем, не ускользнул он и от внимания всей остальной роты. На следующее утро в «группе здоровья» оказалось вполовину меньше курсантов: старшина со своими дикими методами и неподдающейся объяснению этикой воспитания внушал жуткий ужас. «Просто для некоторых доза ВДВ оказывается слишком большой, организм ее не принимает. Это как лекарство, которое, если его много, превращается в яд. Но если организм его все-таки усвоит, на всю жизнь остаешься шальным», – услышал Алексей объяснение сути десантной школы от одного из выпускников. Оно показалось ему довольно странным; какие-то химерические видения, дикие абстракции все чаще посещали его самого – во время бега, бесконечных работ, поглощения водянистой пресной каши – озлобленные, мрачные лики внутренних сомнений рвались наружу. А туда ли он попал, куда хотел?!
Глава третья
(Учебный центр Сельцы, 55 км от Рязани, август 1985 года)
1
Прошел месяц после зачисления, и Алексею было трудно поверить, что все они только что совершили свой первый прыжок с парашютом с маленького натруженного Ан-2. Когда их «кукурузник», ничуть не стесняясь облезлых боков, взмыл в небо и стало ясно, что назад существует только одна дорога – через вот эту железную дверь, ведущую в бездну, – внутри похолодело, заныло и засвербело, будто от щекотки, и затем оборвалось куда-то в область безнадежного и тоскливого. Он с настойчивым любопытством вглядывался в лица других курсантов, пытался отыскать там следы страха или колебаний. Лица были серы и напряжены, но на них труднее всего было прочитать страх. Он, конечно же, пришел, но у каждого был упрятан так глубоко, чтобы товарищи не то что разглядеть, даже заподозрить не могли в трусости. Коллективный дух всегда низменнее и глупее индивидуального, но он наделен неимоверной силой: скованные вместе невидимой цепью, люди способны бесстрашно идти на баррикады и легко умирать. Курсант Артеменко вспомнил, что где-то читал об этом. А может быть, слышал. Сейчас это было не важно. Сейчас важным было то, что проявление этого коллективного духа впервые коснулось его сознания, захватив в ледяные тиски общей бравады, готовности совершать непредсказуемые для индивидуума поступки. Алексей тоже страшился голубой бездны, но этот страх и у него самого оказался загнанным куда-то в глубины сознания, а если бы он мог взглянуть на себя со стороны, то увидел бы бесстрастного и уверенного бойца. Разве что слишком сосредоточенного, слишком напряженного. Алексей пристальнее обычного всматривался в лицо Игоря, в его глаза. Черты лица нового товарища заострились, как будто он мгновенно похудел. Но в глазах отражался поражающий спокойствием и покорностью неотвратимому сценарию стальной блеск готовности. И Алексей с благодарностью подумал об этом чуде – коллективном подавлении трепета перед опасностью, когда никто не пожелает выказать хоть малейший, демаскирующий признак слабости. Все должны быть сильными и щеголевато бесстрашными уже в силу только одной, но самой веской причины – принадлежности к ВДВ, продуваемым всеми ветрами воздушно-десантным войскам. Но как только Алексею показалось, что он окончательно поборол свой личный страх, зажглась желтая кнопка, отчего опять по телу прокатилась новая волна тревоги, заныло внутри от самого обычного, примитивного, животного страха. Засуетились бортмеханик и выпускающий офицер, и Алексей до боли сжал челюсти.
– Так, орлы, встать, заправить сиденья, – скомандовал офицер спокойным и уверенным голосом, отчего им всем почему-то стало легче. Алексей и раньше знал, что в неординарных и экстремальных ситуациях толпа с готовностью подчиняется воле того, кто берет на себя ответственность, но в действии видел эту формулу впервые.
В отличие от юношеских лиц, темное лицо офицера, украшенное густой щеткой усов, было мужественным, – оно внушало доверие.
– Приготовиться! Правая – на кольце, левая – на запаске. Держать равновесие, следить, чтобы лента стабилизирующего парашюта не попала под руку!
Напряжение нарастало, в голове начиналось кипение эмоций. Открылась дверь, и из проема в брюхо самолета влетел поток холодного воздуха, все ощутили алчное и могучее дыхание безбрежного неба.
– Пошел! – крикнул офицер первому, и тот, закрыв глаза, провалился в проем и исчез.
– Пошел! – Резкая команда офицера то и дело прорывалась сквозь шум мотора, и брюхо «кукурузника» пустело с ошеломляющей быстротой.
Тут уж и Алексей подошел к проему и почему-то опять оглянулся на Игоря – тот весил на несколько килограммов меньше и потому находился позади, через одного человека. Взгляд товарища был фантастически сфокусирован, как у гимнаста, который настраивается совершить тройное сальто. Игорь смотрел куда-то вдаль, в небесную синь, открывавшуюся сквозь проем двери; он сделал знакомое движение плечами, расправляя их и отводя назад, как будто перед боем. А затем его руки цепко сомкнулись на лямках парашюта – правая возле кольца, левая – на соединении основного парашюта с запаской. С плохо скрываемым ужасом Алексей взглянул вниз. Где-то далеко мелькнула земля, черно-желтая, неузнаваемая, другая. Всегда такое плотное и снизу кажущееся живым небо казалось пустотой, ничем. И это ничто само по себе было страшным. Невероятно страшным! Он взглянул на офицера, тот ободряюще улыбался.
– Пошел! – скорее по губам понял, чем расслышал Алексей, и рука офицера крепко шлепнула, почти ударила его по плечу. Он с усилием преодолел свое статическое положение и ринулся вперед всем телом, неотвратимо и безвозвратно. И едва успел сгруппироваться, поджать ноги, как ощутил себя в каком-то беснующемся, неподвластном ничему, абсолютно непрогнозируемом потоке, с невероятной скоростью увлекающем его куда-то в область неведомого. Все его мышцы напряглись, сжались, но скорее не от страха, а от новизны непознанной ошеломляющей силы. Он почему-то вспомнил про страх обезьяны, сорвавшейся с дерева, и непроизвольно зафиксировал у себя именно это ощущение неподдающегося контролю ужаса. Но доли секунды, казавшиеся вечностью, вернули Алексея в область человеческого, осознанного отношения к происходящему. Краем глаза он увидел вверху улетающий самолет и начал лихорадочно считать: «Пятьсот один. Пятьсот два. Пятьсот три. Почему он не открывается, может, что-то с ним не так», – пронеслось у него в голове, оцепенение стало расползаться по всему сознанию. Старшина Мазуренко советовал не дергать кольцо, чтобы не потерять его и не стать объектом для ухмылок бывалых десантников. Но тогда почему не открывается?! Может быть, стропы запутались внутри, пучки ведь казались такими ненадежными?! Он уже было собирался выдернуть злосчастное, выкрашенное красной краской кольцо, которое судорожно сжимала правая рука, как услышал характерный щелчок самостоятельно сработавшего прибора, вслед за чем он провалился на мгновение в еще большую, совершенно холодную и немыслимую бездну. Но затем раздался хлопок, как бывает при раскрытии зонтика, и Алексей неожиданно повис. Над собой он увидел белоснежный купол парашюта, и сердце его тотчас наполнилось ликованием, бурными эмоциями, которые он не силах был подавить. Неистово и громко, ничем не сдерживая себя в этом бескрайнем океане свободы, он во всю глотку заорал: «Эге-гей!» И вдруг такой же крик знакомым голосом ответил ему, и Алексей увидел, что совсем недалеко от него, немного выше, парит Игорь, который прыгал следом за ним. А еще дальше – небольшой ростом Белугин и совсем маленький, всего метр шестьдесят пять, Самохвалов. Они тоже радостно заорали в ответ, ловя полуминутное пьянящее ощущение свободы, от которого за месяц отвыкли и за которым очень соскучились.
С высоты шестисот метров они теперь с любопытством разглядывали игрушечные коробочки их учебного центра, который Алексей узнал по высокому парашютно-десантному тренажеру. Кругом были желтые и черные квадраты полей, и где-то далеко вдали – рукав реки и темный край леса с маленькими, в спичечный коробок, сельскими домиками и тонкими, со странными изгибами, нитями дорог. Острота ощущений захватила Алексея целиком: он с жадностью ловил впечатления, стараясь не пропустить, не забыть ничего, чтобы потом описать матери. А в отпуске рассказать друзьям. Склонное к рельефным картинам воображение вело его так далеко, что трогательно-красочные картины своего будущего приезда в родной город сопровождали его до самого приземления.
Земля оказалась неприветливо твердой, и удар, резким разрядом отдавшийся в голове, свалил его с ног, а легкий ветерок потащил купол и его самого по соломенным кочкам. Но Алексей успел, как инструктировали, захватить две нижние стропы и, накрутив их на кисть, погасить купол. Удивительным оказалось и то, что от резкого перепада высот он абсолютно оглох и даже испугался дикого безмолвия вокруг. Но когда начал сворачивать парашют, слух вернулся к нему так же внезапно, как до этого исчез. Как будто пробки выпали из ушей. Алексей был счастлив.
Правда, его романтические впечатления были приуменьшены ехидным замечанием старшины Мазуренко, с которым они с Игорем столкнулись у «Урала» с парашютами.
– Чего счастливые такие? – полюбопытствовал Мазуренко с едкой ухмылкой, которую Алексей в столь счастливый миг пропустил мимо.
– Так ведь прыгнули! – почти крикнул он в ответ старшине, чуть не добавив что-то глупое типа «Свершилось чудо! Ура!»
– Так что ж тут такого. Если б ты бабу трахнул, пока летел до земли, то тогда мог бы радоваться. А так, прыгнул… Ну прыгнул, ну и что? – Старшина нагло улыбался, обнажая ряд крепких зубов и, очевидно, радуясь, что «приземлил» витающего в облаках курка.
Алексей закусил удила. Сам себе в этот момент он казался сметным мальчишкой, которого отшлепали за шалости. Он все больше убеждался, что тут, в армии, в непроходимых зарослях человеческой коммуникации, очень важно иметь хоть одну близкую по духу, по ощущениям и переживаниям душу. И с удивлением убеждался, что такой душой все чаще становится Игорь. Порой земляк поражал его своей природной неприхотливостью и отсутствием той широты желаний, которая всегда была присуща ему самому. Сам он с детства привык требовать всего и тотчас, тогда как Игорь оказался совершенно неизбалован. И этим своим впечатляющим спокойствием, отсутствием гигантского спектра свойственных Алексею порывов он уравновешивал, гасил его многослойные импульсы, как вода гасит известь. Одновременно Игорь был тем человеком, который готов был слушать его до бесконечности. На то были особые причины, потому что – и это Алексей уже знал точно – его жизнь до училища, в сравнении с жизнью Игоря, была парением в бескрайнем пространстве беспечного, свободного от каких-либо обязанностей баловня судьбы. Эдакого юного барона, тогда как Игорь явился из совсем иного, замкнутого, скудного и эмоционально нерасточительного мира. Вот и сегодня, купив гору дивно пахнущих пряников и сметаны, они ели их по-разному. Целый месяц они жили впроголодь: ложка слипшейся каши с куском черного хлеба утром и вечером, а к обеду еще прибавлялась тарелка несъедобной баланды. У большинства курсантов деньги водились, но для посещения буфета в лагере – булдыря на курсантском языке – требовалось не меньше получаса, которого не было никогда. Дважды они с Игорем вырывались в булдырь, но так и ушли ни с чем: очередь не продвигалась главным образом потому, что курсанты четвертого курса подходили вне очереди и поток их был нескончаем. И когда Алексей тоскливо провожал взглядом очередного детину с покупками съестного, лицо у него, наверное, было невообразимо жалобным. И тогда Игорь не выдержал, ткнул его локтем в бок и рявкнул в ухо: «Пошли отсюда». Вот почему ароматный пряничный запах на площадке приземления просто сводил с ума, как сильно действующий наркотик. Что и говорить, последние несколько недель они были постоянно голодны, словно животные в зоопарке, которых регулярно недокармливают. Алексей, скучавший по домашней и вообще любой сытной пище, теперь запихивал пряники в рот с заметно выросшей сноровкой – команда строиться могла последовать в любое мгновение. Игорь же ел спокойно, откусывая небольшие кусочки. Алексей как бы наедался впрок, на будущее, Игорь всего лишь наслаждался коротким моментом внезапно выпавшего счастья. И действительно, он успел съесть лишь половину, тогда как Алексей проглотил добрых три четверти заготовленной порции. Брать в карманы что-либо сурово запрещалось, это оба прекрасно знали. За пищу в карманах можно было здорово поплатиться, и особенно острым был страх перед насмешками и унизительными прозвищами. Игорь без сожаления оставил недоеденное, и мгновение сладкого восторга едой тотчас стало для него историей, приятным и уже забытым моментом. Алексей же бежал к месту построения взвода, на ходу запихивая в рот сухой, не желающий быстро разжевываться, пряник… Но очень скоро понял, что зря…
2
Только после команды ротного «За мной бегом – марш!» Алексей сообразил, что выездной буфет на площадке приземления был чистой воды подставой. А ведь старшина Мазуренко предупреждал их! «Э-э, школьнички-бубенчики, не набивайте желудки, назад бежать будем», – бросил он куркам со своей извечной иронией взрослого мужа, наставляющего младших братьев. Но после того как сложенные парашюты были упакованы в «Урал», тщательно пересчитаны, Лисицкий позволил распустить роту, которая тут же превратилась в полудикое племя голодных туземцев. Предельно острый, напоминающий о доме и умиротворении, кажется, на километр распространяющийся запах свежей выпечки ударил им в головы безумным дурманом задолго до построения, и, получив вольницу, курсанты гурьбой кинулись к специально приехавшему на площадку приземления буфету.
Теперь же ноги, облаченные в еще не разношенные сапоги, мерно и монотонно, как у скачущих рысью лошадей, отстукивали свой, только военным знакомый, такт. Правда, если лошади отбивают легкую дробь, бегущие люди порождали совсем иной звук – грузный, проваливающийся, даже шипящий. «Шух-шух, шух-шух, шух-шух». Пока еще это был неуверенный и не отлаженный звук, более шумный, чем требовалось: слишком много еще производилось лишних движений. Их первый марш. Короткий, километров, может быть, десять или двенадцать, к тому же налегке. Единственным внешним раздражителем было поднявшееся на необозримую высоту солнце; из-за него по вискам и лбам, заливая глаза, текли струи пота. Теперь Алексей знал, что все они только что совершили глупость, причем осознанную. Они даже не наелись, а наглотались до отвала пряников со сметаной, пожирая их, как исхудавшие от голода собаки, с болезненной алчностью и каким-то фатальным наслаждением. Они знали, что этого делать нельзя, и все-таки заглатывали пищу. Инстинкт и голод оказались выше разума. И Алексей был уверен, что, повторись все, он опять бы хватал эти пряники и точно так же запихивал бы их в рот, в котором не хватало слюны справиться с предательскими щедротами.
После семи-восьми километров появились первые отстающие. Для верности ротный периодически командовал подразделению идти шагом, требовал от замкомвзводов тщательно проверять людей и их состояние, подтягивать вперед строя тех, кто уже находился на пределе сил. К удивлению Алексея, хотя у всех в их третьем взводе комбинезоны насквозь промокли от пота, явно отстающих не было, как, например, в первом и в четвертом взводах. Он даже злился вынужденным переходам на шаг, потому что сбивался ритм, отчего пот начинал лить быстрее, комок в беспорядочно набитом желудке превращался в камень, а кровь гулкими толчками-ударами стучала в виски. И все равно он тайно радовался тому, что подготовлен лучше остальных, что ему гораздо легче, чем большинству курсантов, преодолевать километры по пыли, под солнцем, висящим прямо над головой и уже ставшим грозным врагом непосвященных в таинства борьбы с его жаром.
Все-таки последние километры дались с большим трудом и ему самому. Все, что было съедено на площадке приземления, бурлило и бродило, насмехаясь над человеческой слабостью и глупостью и настойчиво просясь обратно. Причем это горе неожиданно коснулось многих; в их взводе тяжелее всего было Петроченкову, плотному курсанту с лицом, изъеденным оспой и ужасными угрями на лбу. В какой-то момент он резко выбежал из строя на десяток метров и, ухватившись руками за грудь, начал рвать.
– Асанов, Баринов, ко мне, – мгновенно отреагировал замкомвзвода Иринеев. – Давай, давай, – приговаривал он, стуча открытой ладонью по спине курсанта. Затем они скрылись из вида. Алексей взглянул на Игоря, вопрошая взглядом о его состоянии. Лицо товарища было перекошено, высохшая слюна пенным налетом застыла вокруг рта, но признаков капитуляции не было и в помине. Он терпел, как и все, переносил как стихийное бедствие, как обязательную часть необходимых испытаний, которые свалились на голову. Поразительная способность к терпению, казалось, была неотъемлемой частью всего его естества. А вот самому Алексею становилось все хуже: тошнота подбиралась все выше и выше к горлу. В какой-то момент у него потемнело в глазах, земля стала уплывать из-под ног, и Алексей начал терять контроль над своими действиями, которые давно стали машинальными, независимыми от его воли. «Господи, хоть бы не потерять сознание, только бы не потерять сознание, – молился он мысленно, вскидывая взор к чистому бездонному и совершенно прозрачному небу. – Господи, дай мне силы добежать, и я никогда, никогда больше не буду жрать эту дрянь», – мысленно шептал он сам себе, чувствуя, что рвота уже неизбежна, но намереваясь оттянуть ее жуткую, тягучую власть над своим телом и сознанием как можно дольше. И Создатель смиловался, дав ему возможность добежать до учебного центра. К его счастью, ротный почему-то не стал строить взводы для проверки личного состава, Лисицкого вообще нигде не было, зато старшина Мазуренко, у которого даже дыхание не было сбито маршем, и только ровные струйки пота на смуглых скулах да насквозь промокший от пота комбинезон выдавали участие в беге, скомандовал замкомвзводам распустить людей и в рабочем порядке доложить ему об отставших. Это было последнее, что отчетливо помнил Алексей, дальше шел черный провал под аккомпанемент рвотных судорог где-то в кустах неподалеку от казармы. Очнулся он от голоса Игоря.
– Давай, помогу, – Игорь в этот момент поддерживал Алексея под руку, – пошли к воде.
Алексей взглянул на товарища мутными глазами, заплывшими слезами и потом. Спазмы еще душили его, но, кажется, кризис миновал. Внутри уже ничего не было, кроме болезненной пустоты. Появилось странное ощущение, что его внутренности вывернуты наизнанку, грубо вытряхнуты и затем помещены на отведенное им место. Уходя, он бросил беглый взгляд на траву и ужаснулся: его рвало уже не съеденным, а какой-то серо-желтой слизью с дрянным запахом. И все это время Игорь был рядом, готовый тащить его в медпункт. Алексею стало невыразимо стыдно за себя, но в его сознании отчетливо мелькнула и закрепилась там мысль о том, что человек, находящийся рядом, с изумляющей чуткостью осознает все его замешательства и тревоги, и от этого чувства локтя, военного товарищества он преисполнился к Игорю благодарностью. Медленно, пошатываясь, как хмельные, они поплелись к уличному умывальнику с множеством начищенных дневальным краников, и когда Алексей наклонился, подставляя еще кружащуюся голову под холодный, возвращающий к жизни поток прохладной воды, он понял, что сегодняшний день выигран и прожит не зря. Он победил, и на этот раз не без помощи нового друга. Ощущение полнокровной жизни быстро возвращалось к нему, вот уже он услышал беспечный смех сослуживцев в курилке и шум высоких, с зелеными хвойными макушками сосен, и звук самодельной метлы с терпким запахом свежесрубленных веток, которой немного уныло орудовал у крыльца дневальный. Да, молодость не боится резких бросков и подсечек, хотя самоуверенность нередко подводит ее к бездне. И Алексей знал, что он уже готов к новому выходу на ковер – для очередной схватки за право носить голубой берет и сине-белую тельняшку.
Им дали полчаса отдыха, но прошло уже минут сорок, и почему-то никто их не тревожил. Курки, захмелевшие от неожиданного счастья, отлеживались прямо под казармой, упав на землю, многие из них тотчас уснули. Желание спать давно стало вторым, после голода, и все они уже научились забываться через тридцать секунд после появления точки опоры. Комбинезоны же высохли прямо на них, оставив радужные белые разводы от соленого пота. Многие поплатились за малодушное чревоугодие, осознав теперь, что это была настоящая засада, западня для неискушенных рабов желудка. Петроченкова дотащили за руки Баринов и Асанов, оба – крепкие спортсмены почти под метр девяносто ростом. Тем более Иринеев сам периодически толкал его в спину. Но вот среди отдыхающих пронесся странный слушок: из пятого взвода кто-то отключился и не приходил в сознание: курсанты зашушукались, дремавшие было встрепенулись, новость всех взбудоражила.
Наконец через час с небольшим роту построил старшина. С тем же, свойственным ему, невозмутимо-ироничным выражением лица, ничего не объясняя, он распорядился сдавать комбинезоны, стропорезы и шлемы, но ситуацию так и не прояснил. Когда из строя посыпались вопросы сержантов, лишь тень насмешки и превосходства мелькнула на его суровом, похожем на лик индейца на тропе войны лице. И только на вечернем построении ротный официально объявил, что курсант Полеев из пятого взвода после марша отключился и срочно самолетом отправлен в Рязань, в госпиталь.
– Товарищи курсанты! Вы теперь на своей шкуре ощутили, что попали не в институт благородных девиц. У каждого есть еще целый месяц в запасе. Напоминаю, никто никого не держит – до принятия присяги.
Вечером Игорь, всегда молчаливый и немногословный, заметил:
– Кажется, теперь понятны слова старшекурсников, которые советовали во время абитуры бежать куда подальше. Они все повторяли лозунг курсанта РВДУ: «Поступил – гордись, не поступил – радуйся!»
– Да, сегодня была хорошая встряска, – согласился Алексей, раздумывая о судьбе Полеева.
Только теперь до него, как и до других, дошло, что РВДУ – это серьезно. Все сказки и легенды улетучивались при жестком столкновении с реальностью, в глаза им смотрела теперь жуткая, колючая и немилосердная военная жизнь. Каждый должен был прежде всего выживать, вписываясь в тот пока еще не высокий, но с каждым днем растущий порог, намеченный для коллектива. И уж если чей-то индивидуальный порог оказывался ниже, такой материал выплевывался без сожаления и жалости, как отброс, как несостоявшийся элемент системы, как патрон, давший осечку.
Курсант Полеев больше не появился в роте, мало кто даже успел запомнить его лицо. Пару дней его жизнь висела на волоске, но потом он пришел в себя, состояние его улучшилось. Еще через неделю он получил на руки документы и поехал домой искать себе иного применения. Это была первая потеря бойца на дистанции в четыре года. Как потом рассказывал осведомленный в делах поступления Игорь, папа у Полеева был солидный генерал и крупный штабной военачальник, это-то и позволило пристроить сына в училище в обход многочисленных комиссий. Наверное, генерал жалел об этом…
Марш подкосил многих, причем совершенно иным, неожиданным образом. После него добрых полтора десятка курсантов обнаружили основательно стертые ноги. Кровавые волдыри, быстро расползающиеся, превращающиеся в темные струпья на пораженной коже с мгновенно образовавшимися чудовищными гнойными выделениями, выводили из строя без разбора. И спортсмены, и отпрыски звездных папаш, и неунывающие бывшие кадеты – все оказались одинаково беззащитны. У действительности, которая без жалости отбрасывала настойчиво рвущихся в мужскую жизнь мальчиков, оказалось колючее лицо. Необходимы были хватка борца и неисчерпаемая изобретательность, чтобы отстоять себя. Все, кто знал армию по пестрым кинолентам и рассказам, приукрашенному лихому вранью, враз столкнулись с новой, абсолютно неведомой и неожиданной силой. Каждый приходящий день ошарашивал новым ударом, причем часто ниже пояса, ловким и резким. Жизнь в комфортных городских условиях, привычка к удобным и легким кроссовкам не предполагали скорой взаимной любви людей и сапог советского происхождения. «Обувь солдата американской морской пехоты через три месяца принимает форму ноги; нога советского десантника через три месяца принимает форму сапога», – нагло улыбаясь, шутили привыкшие к сапогам сержанты.
3
В считанные дни Алексей стал похож на бледную поганку. Истощенный новыми обстоятельствами, высушенный и сгорбленный, подобно бедному страннику пустыни, он хромал в строю до тех пор, пока мог всунуть ногу в сапог. Наконец, когда конечность распухла, как шар, стала водянисто-свинцовой, а на месте потертости образовалась зеленовато-серая дыра с непривычным и отвратительным гнойным запахом, он сдался. И добровольно перешел в презираемый всеми отряд больных, передвигающийся за строем в открытых солдатских тапочках. То была группа поистине отверженных. Одни от них шарахались, как от больных проказой, другие на них шикали, как на бродячих собак. Встречал и провожал их неизменно старшина роты. После каждого посещения столовой Мазуренко с монументально невозмутимым лицом выходил прямо на улицу перед казармой с маленькой дерматиновой упаковкой, которой страшились абсолютно все. Начиналось представление.
– Так, хромые, строиться в одну колонну. Спокойно, бубенчики, я – дипломированный медбрат, так что вылечу всех.
И после таких слов он раскатисто смеялся своим громогласным, демоническим смехом обличителя, отдававшимся тягучим гулом в ушах осужденных на пытки.
Может быть, Мазуренко и в самом деле получал квалификацию фельдшера, но роте своим отрешенным видом и решительными, часто резкими движениями он больше напоминал костолома. «Лечил» он с таким остервенением, что хромающие в сапогах курки четко видели свою перспективу в случае перехода в «тапочную» группу. Мазуренко нисколько не смущался, что впритык к казарме располагался лагерный медпункт и порой на крыльце даже мелькала прехорошенькая сестричка в коротком белоснежном халатике.
Кроме прочего, старшина орудовал инструментами так быстро и так неотвратимо, что в роте были случаи потери сознания от болевого шока. Он без предупреждения вскрывал любые нарывы, заливал кровавые раны йодом и лишь изредка пользовался какой-то вонючей мазью, запихивая ее ватными тампонами прямо в раны с таким наивным простодушием, как будто смазывал узлы боевой машины. Он никогда не бинтовал раны, приговаривая, что на свежем воздухе они быстрее затянутся. Его полевое искусство, к удивлению многих, оказалось действенным: только два или три человека, у которых заражение победило желание стать в строй, очутились в конце концов на больничных койках в санчасти. Остальные выздоравливали с такой феноменальной стремительностью, что это могло оправдывать медвежью терапию Мазуренко, приправленную грубыми шутками и плутовскими подковырками. Порой создавалось впечатление, что эти тиранические экзекуции приносили старшине какое-то особое удовлетворение, едва уловимое для остальных наслаждение, но не чужой болью, а чем-то иным, пока непостижимым. Сначала Алексей полагал, что это следствие невообразимой, абсолютной власти над ними. Но нет! Мазуренко был сильной, самодостаточной личностью, пусть и недалекой, но и без того властвующий над ними всеми и вследствие легитимного старшинства, и по праву грубой, ничем не сдерживаемой мужской силы, и даже просто в силу возраста. Тогда в чем же дело, недоумевал Алексей?
Обычно курсанты корчились, но молча переносили процедуры, каждая из которых длилась от сорока секунд до минуты. Один раз Алексей увидел, как Мазуренко виртуозным движением медицинских ножниц вскрыл нарыв на пятке впереди стоящего курсанта. Гной брызнул, как пивная пена, и Алексею стало дурно. Сначала курсант молча переносил боль, впившись пальцами обеих рук в свое бедро. Но доморощенному медику этого явно было мало, и он с силой сдавил воспаленное место вокруг раны медицинскими щипцами: из только что вскрытого места хлынула слизкая зеленоватая лава, а парень негодующе зарычал на старшину, очевидно не выдержав нестерпимую боль. До этого орудовавший с самодовольной улыбкой Мазуренко вдруг встал и взглядом коршуна, собирающегося выклевать глаза, впился в курсанта. Алексею, видевшему этот взгляд, стало жутко.
– Ты что-то вякнул?! – пробасил он в ухо курсанту и вдруг могучей клешней вцепился курсанту в глотку так, что пальцы вонзились под челюсти. Курсант дрожал всем телом и молчал… – Сынок, ты тут скулишь от ранки, а ты видел станок от автоматического гранатомета, вбитый в грудину умирающего солдата?! – Тут Мазуренко сделал паузу, словно заглядывая в самое нутро молодого человека. В его огнем горящем взгляде было столько силищи и превосходства, что, казалось, он мог бы просто руками разорвать надвое этого курсанта. – А я видел. И вытаскивал его из тела, понял?! А ты думаешь, закончишь училище – и к папе в штаб?!
Старшина говорил тихо, с металлическим звуком выпуская слова в мир. Он близко, к своим глазам, притянул лицо курсанта и слегка наклонил его, потому что парень был повыше ростом на добрый десяток сантиметров. А затем слегка оттолкнул.
– А теперь пшел, вали отсюда. Разрешаю в санчасть сходить.
Но курок поплелся к месту, где обычно строилась группа больных, он так и не воспользовался возможностью посетить санчасть, а еще через три дня, когда спала опухоль, натянул сапоги. Наверное, что-то стимулирующее и жизнестойкое было в разрушительных порывах Мазуренко. Он балансировал на грани перехода в звериную плоскость, которая, кажется, была ближе его буйной натуре; он ненавидел, взрывался от самого вида человеческого несовершенства, болезненности или мягкотелости. Алексей в какой-то момент осознан, что этот железный солдат в универсальном панцире из собственных мышц, уже хлебнув настоящей войны, очень серьезно готовился к ее продолжению, потому и не допускал в предвоенное пространство симптомы человеческого: сострадание, милосердие или просто жалость. Война была его стихией, и он хотел, чтобы те, кто всей душой и со всей силой страсти не жаждет войны так, как он, ушли, отсеялись, исчезли. Пусть останутся только те, кто объят огнем вечного сражения, кто не видит себя иначе чем в бою. И в своем внезапно возникающем бешенстве, в волнах необъяснимой, изумляющей свирепости и непримиримости к малейшему проявлению слабости Шура Мазуренко был особенно страшен. И невооруженным взглядом легко было увидеть, как вирус стремления к уничтожению бушевал, клокотал, развивался внутри него. И еще страшнее было то, что он распространял инфекцию даже не будущей войны, а запаха бойни вокруг себя, как будто кормил всех окружающих сырым мясом, порождая запах крови и возвращения к животному состоянию всеобщей враждебности.
Когда Алексей подошел к старшине, взрыв агрессии у того уже улетучился, как будто несколько секунд назад и не было звериного рыка. Он, похоже, обладал феноменальной способностью доводить себя до состояния ярости за считанные мгновения, как в былые времена опытный шофер раскручивал мотор заглохшей машины несколькими резкими движениями специальной ручки. Но, выпустив из себя пар, становился еще спокойнее, чем до приступа.
– Хохол? – с несвойственной ему приветливостью спросил Мазуренко.
– Ну да, с Украины я, – уклончиво ответил Алексей.
– А чего несмело так? Раз хохол, так и скажи с гордостью: «Хохол». Ногу на носок ставь, чтобы пятку хорошо видно было, – приказал он, взяв ужасающего вида щипцы. Алексею представилось, что его сейчас будут пытать, и он отвернулся, до треска сжал челюсти, чтобы встретить эту боль.
– Сейчас больно будет, – мимоходом обронил старшина, обильно смазывая опухшее место зеленкой, – когда больно, ты что делаешь, чтобы терпеть?
Алексею показалось, что Мазуренко просто издевается над ним. Живодер-зубоскал, изучающий повадки подопытных людей, которым с любезным видом отрывает куски живого тела. В ответ он только пожал плечами и уже сцепил зубы, чтобы не вырвался предательский звук слабости. Но старшина почему-то не приступал к своей шаманской процедуре и смотрел на Алексея снизу вверх.
– Песню надо петь или стихи читать, – сказал он вдруг совершенно серьезно. – Ну, хоть вот так:
Я на гору круту, крем’яную, Буду камiнь важкий пiдiймать І, несучи вагу ту страшную, Буду пiсню веселу спiвать.Алексей остолбенел от косноязычной, непривычно звучащей старшинской лирики. Мазуренко же заговорщицки подмигнул и, предупредив коротким «терпи», впился щипцами в опухшее место. У Алексея потемнело в глазах от боли, он увидел, как из маленького отверстия ранки сочится кроваво-гнойная сукровица. Старшина же, сосредоточенно глядя на ногу, безжалостно давил до тех пор, пока не пошла чистая, без всякой примеси, гранатового цвета, кровь. Алексей только чудом не закричал и очнулся лишь тогда, когда старшина не без иронии проронил: «Все, будешь жить, боец. Следующий!» И Алексей поковылял куда-то в сторону курилки, отчаянно моргая глазами, боясь только одного, чтобы от нестерпимой боли не выступили слезы. В голове же у него почему-то отдавались строки Леси Украинки в комично-трагическом исполнении старшины-инквизитора, прошедшего через кровавую грязь афганской войны и не забывшего звуки родной земли.
И все-таки Алексей был в это время удручен и бесконечно подавлен. Он недоумевал, как такое простое дело, такая мелочь, как наворачивание портянки, внезапно перевернуло его жизнь, сделало немощным. Его, всегда сильного, считавшего себя лучшим, лидером и победителем… Терпеть физическую боль было тяжело, но еще тяжелее было чувствовать себя выбитым из строя, не таким, как все, а физическим изгоем. В его собственном представлении это было уродство, инвалидность. Когда он шагал в тапочках, жалея свою разодранную ногу, ему мерещилось, что все вокруг смеются над ним, что всем давно опостылела его болячка, отягощающая жизнь взвода. От этого он стал дичиться окружающих, нырнул в глубины собственного «Я», еще с большим пристрастием анализируя себя и содрогаясь от отвращения к нелепой пародии на воина, которой он теперь стал.
В один из таких моментов к нему подошел Игорь.
– Закурим? – спросил он, улыбаясь своей немного кроткой и открытой улыбкой, тотчас располагающей к себе.
– Не-ет, я завязал, – решительно замотал головой Алексей, – я завязал.
– Да ладно. По одной – для настроения. И потом все. Я тоже с этой пачкой буду бросать, просто удалось в магазин сбегать, – объяснил он, и от его бесхитростности, невозмутимой открытости и простоты Алексею стало легче, в душе стал рассеиваться мрак. И его осенило: сейчас необходимо забыть все, что раньше служило нектаром для души, нужно огрубеть, сузить круг своих потребностей и желаний. Вот Игорь, простой сельский парень, с каким он на гражданке вряд ли стал бы дружить… ведь разве с таким неуклюжим парнем пойдешь на дискотеку или обсудишь с ним только что прочитанную книгу? Но сейчас как раз и нужна спасительная узость кругозора, умение смотреть только перед собой, не заглядывая в завтра и тем более в послезавтра.
– Ты чего хмурый такой? Как в сказке про Иванушку.
– Да так, – отмахнулся Алексей. Все-таки ему безумно хотелось выговориться, с кем-нибудь поделиться своими сомнениями. Ведь дальше так жить невозможно, когда нет согласия между тем, что ощущаешь внутри, и тем, что происходит снаружи.
– Из-за тапочек переживаешь? – понимающе кивнул земляк. – А зря. Через это почти все проходят. Посмотри, в тапочках оказались те, кто в городе жил и сапог в глаза не видел. Ноги скоро привыкнут, если думать о другом.
– О чем же?
– О том, что скоро присяга и все мы станем стопроцентными курками. Нам тельники дадут и береты! Ради этого стоит терпеть. А потом еще каких-то пять месяцев – и отпуск. Домой приедешь в тельнике, настоящий десантник! У меня от одной мысли дух захватывает.
«Все так просто, – подумал Алексей. – Может, и в самом деле все так просто?»
– Понимаешь, я не из-за этих мозолей чертовых! Я вообще… Я всегда знал, чего хочу, и гордился этим знанием. Я всегда достигал того, чего хочу. А сейчас какой-то сбой программы. Я так в училище поступил: захотел – и поступил! А сейчас у меня уверенность выкипает, как вода в кастрюле. Уверенность, что я хочу подчиняться кому-нибудь всю жизнь.
«О чем это я, – подумал Алексей, – ведь не поймет. Еще, чего доброго, подумает, что я раскис, слюни распустил».
Но реакция Игоря оказалась неожиданной.
– Ну ты дурак! Это подчинение – для того, чтобы понять, как командовать. Не научишься подчиняться, никогда не сможешь командовать. Меня так отец учил, а он-то в этом деле собаку съел.
– Рота, строиться на вечернюю поверку, – возвестил дневальный о конце разговора и о скором окончании еще одного дня, такого же тяжелого, крестьянского или, хуже, бурлацкого дня, в течение которого они тянули службу, как груженую баржу по Волге. Сколько еще таких дней впереди? Непредсказуемых, неизвестных, напряженных? Но Алексею после слов Игоря стало легче, уверенность вернулась к нему, потому что появилось простое объяснение происходящему. Реальность приведет к лучшему, лучезарному будущему, и ради этого можно и нужно терпеть. «Тянуть лямку», – приказал он себе, со злостью глядя на ногу.
В тот же вечер, когда они расправляли портянки на табуретных планках – все в черных пятнах от стирающейся внутренней полости новых сапог, Алексей с изумлением заметил на портянках товарища еще и пятна крови. Почти такие же, как у него, – темно-красные, деревенеющие после высыхания за ночь до неприятной, впивающейся в кожу бурой корки. В казарме быстро распространялся едкий и кислый запах новых сапог и ношеных потных портянок, к которому все быстро привыкли и даже не удивлялись, не морщились, как первые дни. А когда они мыли ноги перед отбоем, Алексей случайно оказался в очереди за Игорем. И опять удивился. Он заметил, что на обеих ногах у его товарища большие незаживающие раны, но Игорь, в отличие от него, бережно омывающего свои разорванные мозоли до тех пор, пока сзади не начинали шипеть стоящие в очереди, управлялся быстро и без нежностей к себе. Шлепая по деревянному скрипучему полу утлой казармы, которая, наверное, знала еще небритых, покрытых пылью Гражданской войны красноармейцев в буденновках, Алексей четко приказал себе: «Изменить отношение к себе! Искоренить жалость к себе! Уничтожить стремление к радостям! Забыть о существовании еще чего бы то ни было, помимо этого простого и грубого мира!»
«Я выиграю армреслинг с судьбой, обязательно выиграю! Я всегда выигрывал, значит, выиграю и сейчас», – повторил он себе, мгновенно засыпая, как только голова коснулась жесткой солдатской подушки.
Глава четвертая
(Учебный центр Сельцы, 55 км от Рязани, сентябрь 1985 года)
1
Курс молодого бойца подходил к концу, и почти каждый обитатель военного лагеря в Сельцах сделал для себя очень четкие выводы в отношении своего будущего. Алексей чувствовал, что два с половиной месяца КМБ заметно изменили его, сделали взрослее на два с половиной года. Он стал сдержанным, терпеливым, сосредоточенным. Теперь из него выплескивалось меньше эмоций, зато всегда присутствовал жестокий самоконтроль.
Алексей натянул на себя сапоги через день после того, как увидел изуродованные ноги своего товарища. После каждого одевания он ковылял только первые пять минут, испытывая при каждом шаге нестерпимо острую боль, как будто пятки протыкали острыми спицами. Но потом раны размякали в сапоге, пускали немного сукровицы и, пристав к портянке, создавали мягкую, пропитанную кровью прослойку между ногой и одеревенелым сапогом. И все же при каждой возможности, а таких было шесть-восемь на день, Алексей неизменно стаскивал сапоги, корчась от боли, и затем резким решительным движением отрывал портянку вместе с запекшейся кровью. Потом мылил раны и долго отмывал их под холодной проточной водой. Он больше всего боялся заражения, потому что тогда ноги опухнут и ему придется опять натянуть тапочки, выпасть из строя, стать некондиционным патроном, не попавшим в обойму. Хуже этого не могло быть, и чтобы такого не случилось, он готов был бороться, зубами цепляться за любую, самую малую возможность выиграть. Что означало прежде всего победить самого себя.
За два с половиной месяца в восприятии вчерашних школьников, брошенных в водоворот взрослых отношений, происходила, вероятно, самая крупная в их жизни трансформация сознания. Физическая боль, накопленная невероятная усталость, внезапная грубость и черствость социума, отказ в один момент от всех привычных личных потребностей – все это было ничто по сравнению с непониманием, откровенным подавлением личности. Оно, самое болезненно жгучее и самое гнетущее, порождало ранее неведомые переживания, еще не испытываемый уход в себя, убивающее отчуждение. Как-то, натирая до блеска свою бляху суетливыми, судорожными движениями, Алексей вспомнил Ремарка, удрученного тем, что начищенная пуговица в армии важнее, чем «целых четыре тома Шопенгауэра». Только теперь до Артеменко дошел смысл этих слов. И состоял он в очень простом, но ужаснувшем его открытии: голова солдата должна быть занята только примитивными вещами, он должен совсем отказаться думать, мыслить. Потому что, подчиняясь приказу, даже самому абсурдному, солдат не вправе задавать себе никаких вопросов, в нем не должны зародиться сомнения. Когда это убийственное открытие явилось Алексею четко отпечатанным снимком, как на фотовыставке, он чуть не задохнулся от ужаса. Что же делать теперь?! Отказаться мыслить, выбить из себя всякие рассуждения, вытравить уже приобретенные знания?! Он впервые засомневался, туда ли попал, куда так страстно стремился. «А солдатом, – рассуждал Артеменко, – придется прослужить всего несколько месяцев. Дальше будет учеба, подготовка к роли офицера…»
Получив от мозгового центра задачу выжить и приспособиться, цепкая, жизнестойкая молодость стала быстро искать новые лазейки. В союзе с кем-нибудь это было легче, чем в одиночку. И потому интуитивно и Алексей, и Игорь с радостью и надеждой шли на сближение, делясь порой такими мыслями, которые и высказать вслух в теплично-домашних условиях было бы немыслимо. Они оказались поразительно несхожи, два совершенно разных характера, два отдаленных друг от друга темперамента, взращенных на разных полюсах. Они были так же антагонистичны, как две мышцы – сгибатели и разгибатели, тесное взаимодействие которых позволяет привести сустав в требуемое положение, в котором и удерживает его. Близкой и неизменно общей для обоих оставалась только родина. Воспоминания о ней, вернее, личные впечатления и переживания каждого, пропущенные сквозь один и тот же оконный просвет, служили мостиком между двумя сознаниями. Точкой пересечения основательно притупившихся ощущений. Поэтому за два с половиной месяца они узнали друг друга лучше, чем одноклассников за десять лет совместного сидения за одной партой.
– Представляешь, год назад в это время мы как раз в школу пошли, беспечность совершенная, выпускной класс, – вспоминал Алексей во время очередных хозяйственных работ, которые никогда не кончались. Он даже причмокнул от вожделенных воспоминаний и закатил глаза перед тем, как вытащить на поверхность лопату с черно-желтым от песка грунтом.
– А я последний год перед училищем у тетки жил. Не ахти, конечно, но все ж лучше, чем в гарнизоне. Там вообще податься некуда, разве что к солдатам… – Игорь говорил как бы машинально, так же как и работал, монотонно, как заведенный, и с неослабевающей энергией.
– Отец военный? – спросил Алексей, кряхтя над своей лопатой.
– Да. Начальник связи дивизии.
– Ого! А… а ты сам в училище пошел, или отец настоял? – осторожно подошел Алексей к щекотливой теме.
– Да знаешь, как-то само собой вышло… Я в школе не блистал. Куда мне еще идти, в село работать или на фабрику? Однажды отец меня взял с собой на учения, мне понравилось.
Игорь, судя по всему, не ощущал деликатности вопроса. Последние слова он сказал, щурясь на слепящее солнце. Он и впрямь казался добродушным крестьянином, по-детски неискушенным.
– А что именно? – поинтересовался Алексей.
– Ну, дело зимой было… Везде холодина ужасная, помню, ветер такой, что люди ходили согнувшись. А я у него в специальном кунге был. Тепло, как дома. Телевизор, печка. Он, ясно, со всеми в контакте, начальник. Управление войсками, все докладывают, он им какие-то указания дает… Прикольно…
Алексей удивился: странное у этого парня восприятие комфорта, какое-то дикое. «Печка и телевизор». Чуть-чуть лучше, чем в пещере. Понятие совсем не такое, как у него. Он хотел рассказать, как вольно жил перед училищем: своя комната, магнитофон, друзья, танцы, девочки. Нет, ничего этого не стоит рассказывать, не поймет. Он, как инопланетянин. И Алексей спросил:
– А чего тогда в училище связи не подался? Туда ведь и поступить в три раза легче…
– Да я и думал, в общем-то… – ответил Игорь, помедлив и, кажется, сам до конца не понимая, почему в его жизни все произошло именно так, по какому-то невидимой рукой написанному сценарию. На его живом лице проскальзывали фрагменты эмоций – отражение множества разноплановых воспоминаний без определенного отношения к ним. – Отец сейчас как раз в процессе увольнения… А тут, в Рязани, дядя служит, в общем, поступление было обеспечено. А так, если честно, мне было все равно. И сейчас все равно, я бы в училище связи перевелся.
– Ну ты даешь! – изумленно прошипел Алексей, неодобрительно качая головой. Он совсем был сбит с толку. Парни на минуту прекратили копать и разговаривали, совершенно забыв о работе. Траншея была узковата для двоих, и когда один наклонялся, чтобы набрать лопату земли, другой говорил, с тем чтобы уже в следующее мгновение поменяться ролями. – Пусть лучше никто не знает, что для тебя что связь, что ВДВ – все одно.
– Да никто и не знает. – Игорю, похоже, даже в голову не приходило, что это может так задеть. – Но на самом-то деле вся армия одна и та же. А ты как оказался в училище?
– Ну, у меня все по-другому было, – вздохнул Алексей. – Я бы в жизни в армию не пошел, я ее и сейчас на дух не перевариваю. Если бы… – тут Алексей осекся и, немного смутившись, продолжил: – Если бы не существовало на свете Рязанского десантного…
– Так они ж все одинаковые, – проговорил Игорь со своей извечной улыбкой недоумевающего простолюдина, превосходно знающего то, что скрыто от собеседника. В его кривоватой гримасе с округлившимся ртом и щетинистыми толстыми бровями Алексей прочитал удивление по поводу того, что он не понимает таких простых вещей. И хотя Игорь казался в этот момент сущим простаком, с топорными и порой нескладными движениями, абсолютная, неколебимая и даже грозная уверенность в своей правоте преображала его до неузнаваемости, вызывая симпатию слушателя.
– Не может такого быть! – в сердцах воскликнул Алексей. Он не желал верить в сходство именитой школы с иными. Только Рязанское десантное в его понимании было окружено таинственным ореолом славы, только в отношении этого училища действовала магия легенды и непостижимости. И потому слова Игоря казались ему еретическим бредом.
– Так увидишь, – пророчески изрек Игорь. – А как ты попал в десантное?
Алексей при этом вопросе опять глубоко и печально вздохнул, воспоминания нахлынули на него приятным возбуждающим потоком. И теперь он знал, что все уже невозвратимо ушло, улетучилось, как газ после химического опыта в школе. И ему было жаль, до щемящей тоски больно за осознанную потерю былых радостей…
– Жил я, короче, не зная горя. И учился хорошо и, главное, без напряжения. Немного спортом занимался, на выдающиеся достижения не тянуло, но для ощущения полноценности хватало. И вниманием девочек обделен не был. Была, правда, одна проблема: я не знал, куда податься после школы, цели четкой не было. – Тут Алексей приостановился и задумчиво оперся подбородком на тыльную сторону ладони, покрывающую треугольную рукоятку лопаты. Если бы он мог взглянуть на себя в это мгновение, то увидел бы, как его лицо засветилось трогательно мечтательным выражением, словно у младенца, который знает, что им любуются. Игорь перестал вынимать грунт из траншеи, но продолжал спокойно обрезать лопатой ее неровно обрубленные края. – Был у меня товарищ один, на год старше, мы с ним часто по утрам в спортивном городке занимались. И вот однажды встречаю его, разговорились. И он говорит мне: «Леша, я вот только что приехал из Рязани, не поступил в военное училище». Я ему отвечаю: «Олег, не может такого быть, ты ж школу «отлично» тянул, почти что на медаль, да и со спортом дружишь». И он рассказал мне приблизительно вот что. Существует в нашей стране засекреченное военное училище, в которое обычный человек, даже хорошо подготовленный, поступить просто так не может. Только избранные, единицы со всего Союза. Там готовят супергероев, полнейших экстремалов, которых бросают на выживание в любой точке мира. Училище – единственное в мире, существует только один аналог – в Соединенных Штатах центр подготовки морской пехоты… Уж забыл, как называется. Ну и меня насквозь прошибло, как от нашатыря. Заклинило – и все тут! Я стал как одержимый, впал в какое-то бешеное беспокойство, как будто мне укол сделали. Ведь только год оставался. Я бросил все, вернее, все подчинил поступлению. Девчонок отставил в сторону, про отдых забыл. Спорт заменил самостоятельной подготовкой. Математику и физику начал сам учить, мать думала, что я заболел. Друзья были уверены: свихнулся парень. Я ж до областной комиссии в военкомате все в тайне держал…
Алексей сглотнул слюну и посмотрел на уже клонящееся к закату солнце, которое, когда они начинали работать, казалось, навсегда взгромоздилось на высшую точку своей привычной траектории. Игорь остановился, замер, и Алексей заметил, что глаза у него загорелись от увлеченности незамысловатым сбивчивым рассказом. В голове у Алексея метнулась шальная мысль о том, что этот парень, который, верно, будет ему надолго товарищем, совсем еще не знаком с азартом, со всеохватывающим чувством борьбы, состязания за какую-нибудь, пусть даже самую сумасбродную, цель. Неужели у него не было ничего подобного в жизни? Если так, то насколько тяжелым, скудным и одноцветным было его существование!
– И вот еще что… Мне военком как-то сказал: «Юноша, не томи меня лишней работой, туда все равно не поступишь. Давай тебя отправим в Ленинградское топографическое, станешь офицером-интеллигентом, как человек жить будешь». Я тогда вообще озверел. И когда сюда приехал на экзамены, любую теорему мог тремя способами доказать. Когда подтянулся тридцать раз на перекладине, сразу на заметку попал. Трешку пробежал, правда, третьим. Два брата-сибиряка, близнецы Абакумовы первыми были. Зато остальные метров на сто отстали. Это при том, что большая часть потока на «отлично» пробежала. Я четыре экзамена из пяти сдал на «отлично», чисто и без задоринки, и только по сочинению получил «тройку».
– Але, а че мы там стали?! Или на ужин не хотим идти?! – послышался прервавший его грозный окрик сержанта, превращавшегося во время работ в старательного тюремного надзирателя.
– Эх, – вздохнули оба, взявшись за лопаты с удвоенной энергией.
2
В другой раз, когда затяжной и уже далеко не теплый дождь нещадно хлестал по обитателям лагеря в Сельцах, сам собою продолжился разговор Алексея и Игоря. Перед курсантами третьего взвода, на плечи которых были наброшены тонкие брезентовые плащ-палатки, невозмутимый Лисицкий, похожий на парящий над строем оживший призрак в длинном прорезиненном плаще, с гордой презрительной усмешкой поставил странную задачу: собирать мусор и палочки длиннее полметра в лагерной лесополосе.
Курсанты уныло кружили по одному и тому же маршруту в течение добрых двух часов, после чего, промокшие до мозга костей, стали похожи на подбитых заморенных птиц. Их сгорбленные фигуры, которые случайный путник мог бы принять за тени, уныло мелькали то у одного, то у другого пригорка. И хотя сходиться вместе им строго-настрого запретили, они то и дело на несколько секунд сбивались в пары и тройки, чтобы, перекинувшись несколькими словами, тут же, опасливо оглядываясь, разойтись в разные стороны. Каждый из них интуитивно понимал, что при любых обстоятельствах необходимо непрерывно двигаться, и в этом броуновском движении мокрых частиц было что-то загадочное и зловещее, как киножурнал к сказке про кощеево царство.
– Знаешь, как это явление в армии называется? – спросил Игорь, незаметно приблизившись. Из-под напрочь промокшей накидки на Алексея смотрели его лукавые, ничуть не угасшие глаза и выглядывал кончик облупившегося, как картофелина, носа. Алексей не ответил, ему было невыносимо грустно. Нет, не тяжело. Неприятно, больно, унизительно. Теперь все казалось бездарным и безрадостным. Его раздирала невыразимая обида за теряемое время, за угасающие силы; ведь за те полтора часа, что они бесцельно мокнут под монотонным водяным решетом, можно было бы столько сделать!
– Долбо… – почему-то радостно возвестил Игорь, во второй части произнесенного слова следовало часто повторяющееся в военной среде крепкое существительное. – Да ты не расстраивайся, он в армии везде, без него и вовсе не было бы Советской армии.
И он пошел прочь, наклоняясь и собирая то, что, вероятно, и сам не мог бы никак идентифицировать. Алексей слышал, как он мурлыкает себе под нос какую-то мелодию. Странный все-таки этот Игорь человек, странный и непонятный. Такой простой, а расшифровать его не получается. Но все же на душе у Алексея стало немного легче, он стал наблюдать за тем, как тяжелые капли падают с сосновых иголок, и это чудилось ему забавной, хотя и бессмысленной игрой.
Мусора в лесопосадке не было, они его давно уж выгребли со всех уголков; остались сучья, кое-где валяющиеся куски прогнившей коры, обломанная кем-то хвойная ветка… Как странно, что все они тут собрались… И как чудно, что все они спокойно терпят эти глупости. И он среди этой группы чудаков… Алексей видел себя как со стороны: основательно поглупевший, сбитый с толку вечной усталостью и непрерывным нервным напряжением, чокнутый, почти больной человек.
Тут к Алексею с другой стороны подплыл Петр Горобец, еще один земляк, правда, не из Черкасской области, а из Кировограда. Щекастый, как хомячок, с беспокойно бегающими глазами и острым, почти всегда облупленным на кончике носом, он только что вернулся из санчасти, где половину всего курса молодого бойца провалялся с опухшей и загнившей от потертости ногой. Алексей, несмотря на землячество, немного недолюбливал его, да и вообще не мог понять, как такой неспортивный, на коротких ножках, с отвислым мягким животиком и явно лишенный мужественности, да и интеллектом не блещущий тип мог попасть в десантное училище. «Никак папа ретивый генерал», – думал про него Алексей, пока Игорь, сведущий в закулисных вопросах поступления в училище, не прояснил ситуацию. Оказалось, у этого парня отец-милиционер много лет тому назад погиб при исполнении… Этот-то прискорбный факт и открывал ему двери в любое военное училище страны. Только зачем он десантное выбрал?! Алексей смягчился в отношении Петра, но откровенничать, как с Игорем, с ним не спешил, что-то чуждое своей природе смущало Алексея всякий раз, когда они затевали разговор.
– Курнем, земляче? – издалека прохрипел Петр, высовывая острый покрасневший кончик носа из-под ставшей колом и потяжелевшей от дождя брезентовой накидки.
– Да куда там, я бросил. А потом, дым ротный увидит, пойдешь очко драить, – отмахнулся Алексей.
– Э-э, – протянул Петр, – да ты, брат, видать не до конца хохол, если так говоришь. Дывысь! – С этими словами он зажег половинку сигареты, ловко нагнувшись, несколькими короткими быстрыми затяжками раскурил ее и так бережно упрятал в полураскрытый кулак, что, действительно, даже в двух метрах от него невозможно было разглядеть в нем курящего.
Алексея немного покоробило от украинского «дывысь», но он знал, что эта откровенность предназначалась лично ему как украинцу и выглядела интимно-свойским жестом, возможным лишь в узком кругу и никогда не употребляемым при остальных сослуживцах.
– Эх, – мечтательно поднял Петр глаза к затянутому небу, – щас бы горячего борщичку, да с петушком, да с самогоночкой, пусть хотя б грамм сто-сто пятьдесят. Да голубцов наших, украинских…
Он так страстно шептал эти слова, как молитву или заклинание, что Алексей мимо воли увидел идиллическую картину обильной сельской трапезы и мрачно сглотнул голодную слюну. И потом, махнув рукой, поплелся прочь. «Вот пройдоха, – подумал Алексей, – этот, кажется, нигде не пропадет. Однако поразительно, почему только я зол на ситуацию, а остальные переносят ее как нечто обыденное, обязательные временные неудобства, которые и не напрягают особо, и не удивляют? Может быть, просто дело во мне самом? В том, что я не желаю мириться, когда меня держат за идиота? Но почему они ничего не замечают? А может, замечают, но просто не желают концентрировать на этом внимание». Он же с болезненной остротой ощущал тонкую грань, после которой подготовка бойца превращается в фарс и наваждение, не поддающееся логике моральное истязание, с которым он не желал мириться.
Прошло еще около получаса, и они опять сошлись с Игорем за бугорком, каких было много и за которыми то здесь то там формировались небольшие группки насквозь вымокших молодых людей, скрывающихся от командира.
– Не знаю, как это называется, но это очень тупо. А я всегда себя чувствую неуютно, когда делаю что-то ужасно глупое, дебильное, чего я абсолютно не понимаю. Мне обидно, что меня за овцу держат. Это ж надо: в лесу собирать палки! Или у них фантазии вообще нет?! Или, может, это тоже очередная проверка?! – Алексей говорил зло и запальчиво, даже не понимая, против кого у него поднялась волна протеста, негодования и ярости.
– Ну-ну-ну… – Игорь невозмутимо улыбался, как будто ему доставляет удовольствие мокнуть, и Алексей был уверен, что показным равнодушием он себя самого успокаивает, заговаривает. – Бывает, чем тупее, тем и лучше. А потом, ты что, не знаешь: «Солдат без работы – предпосылка ЧП, чрезвычайного происшествия»?
– Ну мы ж не солдаты…
– Сейчас солдаты, – убежденно заметил Игорь. – Когда я сюда ехал, мне отец сказал замечательную фразу, я ее только сейчас понимаю. Сынок, говорит, чтобы научиться хорошо командовать, надо научиться хорошо подчиняться. Первое, чему вас будут в училище учить, – подчиняться. – После этих слов лицо Игоря сосредоточилось, мускулы его напряглись, обнажив волевые складки, и с необычайной серьезностью он произнес: – И самое главное. Отец не раз твердил мне перед отъездом, что все испытания военного времени равны друг перед другом и мы не в состоянии различить, что важнее: точно стрелять или просидеть много часов не шелохнувшись в засаде. Или не уснуть в карауле. А отец все-таки много послужил, я ему верю. Может, и это одно из запланированных военных испытаний, о которых нам сейчас просто ничего неведомо…
«Интересно говорит, – подумал Алексей, – ведь если так, совсем другое дело выходит, и глупость полную можно обернуть великим благом. Главное – упаковать в четкую и простую логику». Вспомнил собственного отца. Что бы он сказал в этом случае?
– У меня все не так было, – вздохнул Алексей, – отец мне ничего не говорил, он умер, когда мне было десять лет, так что я его мало помню. Он хоть и офицером был, но всегда в гражданке ходил. Всю жизнь боролся с какими-то религиозными сектами, экстремистскими течениями. Но, по сути, как потом мне мать объясняла, его задачей было противостоять зомбированию простых людей. Я запомнил только, что он мне как-то сказал, что я никогда не должен доверять тем, кто мне что-либо навязывает. И что я всегда должен подумать сам, стоящее ли это дело. Проверить и потом самостоятельно принять решение. А когда я ехал сюда, то хотел только одного: поступить. Помню, мать мне так долго и пристально смотрела в глаза, а потом сказала: «Не волнуйся, сынок, ты поступишь. И до полковника дослужишься, я это чувствую». И знаешь, я, кажется, благодаря этой фразе и поступил, она мне светила, как путеводный маяк. Но думал, что поступление – это какой-то финиш. А это только старт для новой, еще более сложной дистанции…
– Отчего он умер? – тихо спросил Игорь. Он словно чувствовал, что любые воспоминания сейчас будут как целительный нектар, помогут отодвинуть несуразность реалий и заменить их значимым, пусть и тяжелым прошлым. И он не ошибся.
– Никто толком не мог ответить на этот вопрос. Был абсолютно здоровый и счастливый человек. Потом, трах-бах, заболел и через месяц умер. Мать и сейчас уверена, что не обошлось без участия этих людей, которых он прессовал. По работе, я имею в виду… Какой-то наговор или энергетическое воздействие, в общем, есть у них свои способы… Когда он умер, я даже не плакал, – не понимал, что произошло. И мать не плакала, была какая-то отрешенная, подавленная и отсутствующая, словно ее тело тут, а всего остального нет. Я ее никогда такой не видел. А отец лежал в гробу спокойный, умиротворенный, никуда не спешащий. Как будто обрел покой, к которому стремился. Только очень-очень бледный, белый, как выкрашенный подоконник. И щеки у него провалились, но он все равно не выглядел усталым, как в жизни. А вокруг тишина, от которой можно впасть в безумство, очуметь. Какие-то незнакомые люди в строгих костюмах, и все перемещаются так, вроде скользят, как тени. И все шепчутся-шепчутся. И только когда его в могилу опускать стали, я смекнул, что больше никогда его не увижу. И мне стало страшно, жутко и одиноко, мне чудилось, что я остался один на всем свете, и я тогда закричал. Так, что сам испугался, было ощущение, что не я ору, а кто-то другой кричит мне на ухо… Не могу вспоминать без содрогания…
Алексей перевел дух, выставил ладонь под быстро падающие капли дождя, молча обвел глазами кроны теснящихся и борющихся за пространство сосен. Игорь не торопил товарища, его лицо в эти мгновения было каменным и напряженно-сосредоточенным, создавалось впечатление, что он тоже погружен в собственные мысли. Иногда в жизни человека случаются эпизоды, когда он наверняка знает, интуитивно чувствует их судьбоносное значение. Они оба были теперь уверены, что слова соболезнования тут неуместны и непригодны, потому что разговор этот посвящен не столько скорбному прошлому, сколько будущему, выбору, формированию собственной стратегии, которая определит всю дальнейшую судьбу.
– Но самое главное, что у меня осталось от отца, это очень острое, чуткое восприятие любого посягательства на мой мир, мои взгляды и ценности.
– Да, тебе, наверное, тут будет нелегко. Но человек способен… – Игорь, по всей видимости, собирался что-то объяснить, но его прервала протяжная, как трубный зов, команда на построение.
Через несколько дней, когда они оба оказались в наряде по кухне, Алексей сам затеял продолжение разговора.
– А с тобой… отец часто играл? – спросил ни с того ни с сего. Но внезапно только на первый взгляд. У них теперь очень часто случалось, что пламя какой-нибудь тревожащей каждого темы гасилось условиями военной жизни, но не затухало совсем, а тлело в сознании каждого, и затем, после переосмысления, снова разгоралось в подходящий момент, поднималось до жаркой, как пионерский костер, дискуссии.
– Отец… – Игорь перестал складывать тарелки в бак мойки и призадумался, опершись об угол мойки, чтобы дать отдых слегка гудящим от долгого стояния ногам. Он старательно шарил неводом в глубинах своей памяти, но не мог припомнить ничего конкретного, никакого красноречивого, яркого свидетельства игры с отцом, которого представлял в своем воображении в виде суровой, неприступной глыбы, как человека с непременно серьезными, рассудительными глазами из-под густых насупленных бровей. От этого он даже немного смешался и растерялся. Артеменко видел, что перед глазами товарища поочередно всплывают различные картины, но он почему-то не может зацепиться ни за одну из них. Игорь помнил, как много раз издали наблюдал за отцом, входящим в открытые ворота военной части или выходящим из них, и как почтительно ему отдавали честь. Видел, детским чутьем осязал громадный, непререкаемый авторитет отца, память отчетливо запечатлела, что к его слову особенно прислушивались во время нечастых застолий. Он, конечно, не понимал досконально значения произносимых в это время речей, но знал, что они всегда звучали как магические послания, обладали точным рельефом и имели героические оттенки, хотя и простые, но проникающие в душу каждого. А вот игр Игорь припомнить не мог, как ни силился.
– Знаешь, – сказал он, выпрямляясь и разворачивая плечи, как бы разминая застывшую в одном положении спину, – я больше всего помню несколько историй детства. Однажды, когда мы только переехали в очередной раз, отцу понадобились ножницы. Он долго не мог найти их и ужасно злился, до красноты лица, просто свирепел, потому что опаздывал на службу. Бегал по квартире, рылся во множестве ящиков, как дикий кабан в урочище. Мы все втроем молчали, притаились, как будто были виноваты. Потом он наконец нашел ножницы, что-то разрезал с их помощью – сейчас уже не помню что – и позвал нас всех в большую, на тот момент совершенно пустую гостиную. Глаза его уже не сверкали гневом, но горели, как два хорошо натертых пятака. Так было всегда, когда он принимал решение. И вот он взял в руки молоток, огромный гвоздь, сотку. Нет, пожалуй, стодвадцатку, и медленно, спокойно, со своей извечной холодной рассудительностью вогнал его в стену до половины. Потом взял ножницы и водрузил их на этот нелепо торчащий в пустой комнате гвоздь. «Отныне ножницы должны быть тут! Всем ясно?!» – изрек он грозно. Мы закивали головами. И я помню, мы несколько лет жили в той квартире, она была пусть и не роскошно, но не бедно обставлена, а ножницы всегда висели на том самом гвозде, напоминая о незыблемом отцовском решении.
Игорь обвел глазами мойку, как будто хотел удостовериться, что все на месте, и он уже в ином жизненном измерении. Затем он облизнулся и продолжил:
– Таких случаев было немало. Мы с малым – а он у меня на пять лет младше – жили в одной комнате, спали на принесенных из казармы солдатских кроватях. И тумбочки для школьных причиндал у нас были солдатские, точно такие, как сейчас, и так же выкрашенные в серый цвет. Отец их периодически проверял: придет, все наши вещи из них выбросит, как он говорил – накрутит нам хвосты, и… на службу. Мы сидим с братом, плачем. Потом молча собираем вещи и уже очень ровно, красиво раскладываем…
Глядя во все глаза на друга и слушая его незатейливые рассказы о странном полувоенном, диковинном детстве, Алексей понимал, почему Игорь так органично вписался в нынешнюю курсантскую жизнь, насколько логичным продолжением стала она после несчетного числа переездов его семьи, смены школ и мест жительства. Да он всегда жил, как спартанец, потому и нынешний быт его ничуть не тяготит. Ему же совсем мало для жизни надо, невообразимо мало! А вот он, Алексей, скроенный по иному лекалу, совсем другой по своему внутреннему складу. И потому ему так непросто привыкнуть к переменам и недостатку свободы. Но ничего, глядя на Игоря, он привыкнет, он все преодолеет…
3
– Первая рота, ко мне, – послышался надрывный крик одного из замкомвзводов, дублировавших команду ротного, который нарочно – и для воспитания курсантов, и для придания важности своей персоне – командовал вполголоса. Наверное, ни одна, даже самая обученная и преданная собака не реагирует на команду хозяина столь рьяно, как эта юная, всего два месяца тому назад сформированная рота из совершенно разных мальчиков, соскобленных, подобно сливкам, со всей гигантской поверхности советского пространства. И все-таки, когда они, чавкая мокрыми сапогами, подбежали к месту построения, Алексей заметил, насколько изменились за эти два месяца движения большинства его новых товарищей, ставших нервными и уставшими, похожих со стороны на замедленные кадры прокручиваемого фильма. Теперь вместо юной проворности и школьного озорства в движениях курсантов сквозили беспокойство и напряженность. И даже Игорь, который чаще всего оказывался рядом, теперь напоминал доходягу: он осунулся, а из-за всегда наклоненной чуть вперед головы создавалось впечатление, что он сильно сутулится. Но больше всего бросалось в глаза то, что он как-то странно тянул ноги, как будто на них висели пудовые гири. Раньше Алексей думал, что Игорь хромает из-за мозолей, но эта хромота незаметно преобразилась в тяжелую косолапость, общую нескладность движений. Возможно, это было следствием рано напяленных на юношеские ноги тяжелых сапог, а может быть, результатом постоянного недоедания и непрерывных физических усилий на грани человеческих возможностей. От таких мыслей Алексей содрогнулся: ведь внешний вид Игоря фактически являлся отражением его собственного облика. А ведь он уже несколько недель даже не смотрел на себя в зеркало, кроме тех коротких мгновений, когда надо было выбрить едва пробившиеся одинокие волоски на подбородке. Алексей только теперь осознал, что, ободряя его, Игорь ободрял и себя; ему так легче было бороться с тем неожиданно тяжелым грузом, который мешком взвалили на его не особо тренированные плечи. А еще Алексей понял причины того тяжелого дыхания во время утреннего кросса, которое он слышал у себя за спиной и которое переходило в тягучий отчаянный свист во время последних пятисот метров. И друг молчал! А ведь мог просто намекнуть своему высокопоставленному родственнику и тихо избежать мучительного испытания курса молодого бойца – КМБ, этого искусственно созданного испытания с набором условностей. Пересидеть где-нибудь, появившись к присяге… Но не стал, и Алексей был уверен, что это его личный выбор, его собственное решение…
– Внимание, батальон! – голос кукольно великолепного комбата, казавшегося из глубин строя блистающим в лучах солнца пророком, звучал слишком торжественно. – Товарищи курсанты! Вы прошли курс молодого бойца и после присяги станете настоящими, стопроцентными курсантами одного из самых славных военных училищ нашей страны.
«Неужели это свершилось?! Неужели теперь голубой берет заменит нелепую пилотку и станет неотделимой частью меня?! Неужели дальше начнется долгожданная учеба и превращение в сверхчеловека?! И есть десантные войска, и нет задач невыполнимых! Это ведь покруче, чем у Ницше с его Заратустрой!» – думал Алексей, с тайным ликованием глядя поверх голов сослуживцев, всматриваясь в бездонное небо еще теплого сентября и мечтая о достижениях, которые на самом деле являлись слишком расплывчатыми, чтобы их можно было воплотить в какую-либо понятную форму.
– Товарищи курсанты! Внимание! Я задаю вам вопрос, который определит будущее, судьбу некоторых из вас, и потому приказываю, прошу отбросить стеснение и послушать голос своего сердца. Сейчас после моей команды пусть из строя выйдут те, кто понял, что ошибся с выбором. Помните, после присяги назад дороги нет! Кто передумает учиться после присяги, пойдет служить в войска – на два года! – Комбат выдержал паузу и скомандовал: – Кто не желает учиться в Рязанском воздушно-десантном училище, выйти из строя на десять шагов!
Алексей стоял не шелохнувшись, лишь краем глаза наблюдая за происходящим. Со всех сторон из строя, как яблоки с дерева, которое с силой хорошо тряхнули, посыпались мальчики в пилотках. Их взгляды были потуплены в асфальт плаца, им было стыдно, больно и неловко перед теми, с кем они прожили два с половиной месяца, деля маленькое казарменное пространство с узко стоящими двухъярусными кроватями, и с кем ввязались в совершенно непонятное дерби, не понимаемое, не принимаемое сердцем и потому проигранное. Им было невмоготу! Они стояли теперь, сгорая от испепеляющих взглядов товарищей, уже, пожалуй, бывших, и, переминаясь с ноги на ногу, пока назначенный комбатом офицер пересчитывал отказников. Потом подошел к комбату и негромко доложил результат. И у Алексея тоже защемило внутри, был все-таки миг, когда вся его разбитная, ничем не сдерживаемая юность промчалась в одно мгновение перед глазами гигантской, удивительно пестрой кинолентой и затем исчезла. Какая-то сила даже дернула его изнутри, словно вырывая из строя, но тут же была сломлена, сметена другой силой, более могучей, приказывавшей стоять тут, в этом строю. Впереди была черно-белая жизнь, полная трудностей, опасностей, непредсказуемых хождений по лезвию бритвы, по краю пропасти. Впереди маячило только пасмурное апокалиптическое видение. Но он выбрал именно его. И выбрал сам. И никогда у него не хватит слов объяснить так, чтобы поверили, в том случае, если бы он сдался, сломался и прекратил серию немыслимых экспериментов с собственным здравым смыслом…
– Та-ак, – комбату не нужно было подавать дополнительную команду, потому что пятнадцать взводов и так застыли, вперившись в него вопрошающими взглядами. – Девяносто пять человек. С курсантом Полеевым из первой роты, выбывшим после марша с площадки приземления, это девяносто шесть. Товарищи курсанты! Еще раз повторяю, в этом нет ничего постыдного, каждый человек должен сам разобраться со своей судьбой. Поэтому еще раз, последний уже, повторяю: кто еще сомневается, что это училище – для него?! – Комбат сделал явный акцент на слове это.
Боковым зрением Алексей заметил, как в первом отделении их взвода один из курсантов задергался, заметался, как зверек, попавший в ловушку, и наконец, не выдержав внутреннего напора эмоций, рванулся к первой линии строя, откуда, несколько раз сменив ногу, несуразно и комично спутавшись и затем уже чеканя шаг, вышел из строя. Поразительным было то, что никто не засмеялся, даже до огрубевших курсантских душ докатилась волна личной драмы, может быть даже трагедии, этого маленького человека, осознавшего свою непригодность, неспособность стоять в этом слишком суровом, отнюдь непростом строю. Как же, это был тот самый Белонеев, который постоянно ничего не успевал на пару с Петроченковым, за что старший сержант Иринеев уже прозвал их братьями-близнецами и постоянно заваливал тяжелой работой. Они вдвоем неизменно числились в черном списке, из которого, как из трясины, выбраться было невероятно трудно. И вот один из них дрогнул и сдался, чтобы навсегда исчезнуть, раствориться в бездонном внешнем мире, границы которого теперь очень остро ощущались каждым в этом очень странном сообществе людей, испытывающих собственные возможности.
После акта самоисключения из училища один из офицеров увел группу отказников готовиться к отъезду, тогда как основательно поредевшие взводы отправили на лагерный стадион. Дело в том, что еще раньше был объявлен праздник, не столько по случаю окончания курса молодого бойца, сколько в честь очередной смены поколений: новоявленные лейтенанты разъехались, и теперь уж новый, только что вступивший в свои права выпускной курс готовил традиционные показательные выступления. В связи с этим в Сельцы, неприступную и неприкасаемую полевую обитель десантников, съехалось много народу. Тут были родственники поступивших и отказавшихся учиться, жены, невесты и просто городские друзья, неравнодушные к голубым беретам. И хотя сама местность военных лагерей с причудливыми макетами различных военных объектов на близлежащих тактических полях излучала утлый запах войны, а любой сторонний наблюдатель угадал бы в ней место временного пребывания людей, организаторам удалось на маленьком участке вокруг небольшого стадиона создать декорации беспечного, почти безудержного веселья. Более всех на импровизированном пиру выделялись курсанты четвертого курса, которых можно было узнать за версту по выгоревшей и застиранной добела, а затем заутюженной до безрассудства форме, по смуглым от загара, обветренным, убедительным лицам, с суровым, совершенно взрослым выражением. В их манерах присутствовала отвага – приобретенное, заслуженное и вмонтированное в сознание на долгие годы чувство.
Празднества происходили в зоне отселения, где на время смоделировали насыщенную жизнь, кругом развесили заготовленные для таких случаев флаги, плакаты и воздушные шарики, звучала не замолкая музыка. Повсюду работали передвижные киоски, в воздухе витал нежный, умиленный аромат женского присутствия, что само по себе захватывало дух. Одним словом, небольшой участок всегда сумрачного лагеря преобразился и ожил, как новогодная елка, на которую набросили сеть из ярких гирлянд и пестрых игрушек.
Приехала родня и к Игорю, и Алексей мельком видел неожиданно скупое на эмоции, даже показавшееся ему бесчувственным общение своего товарища с двумя мужчинами лет сорока пяти-пятидесяти. Один из них, по всей видимости, был отец, а второй – дядя. Они не обнимались, не тискали Игоря за плечи, как часто делали нетерпеливые близкие, живо выказывающие любовь. Степенные и неторопливые, они лишь со значительными выражениями на лицах что-то говорили ему по очереди, он так же сдержанно-понимающе кивал головой. И Алексей уловил напряжение на лице Игоря и даже некоторую демонстративную сухость, связанную, может быть, с опасением, что товарищи по взводу наблюдают за ним и эта встреча с родственниками продемонстрирует его слабость. Наверное, и родственники думали о том же, потому что оба предусмотрительно надели обычные гражданские костюмы, неброские и не выделяющие их из общей массы приехавших. Продвигаясь на трибуну, чтобы занять место на одной из обшарпанных, полуразрушенных деревянных лав, Алексей проходил очень близко от молодых женщин со счастливыми лицами и юных дев, тайно стреляющих миловидными глазками по сторонам. Он почти касался их воздушных одежд, и от смешанных запахов туалетной воды и женских тел, от ласкающего слух звука женского голоса, от которого он совсем отвык, голова у него пошла кругом, как будто его слишком долго кружили на карусели. «Как же я одичал тут», – подумал он и на миг позавидовал своим друзьям на гражданке, пользовавшимися этими благами, обладавшими несметными сокровищами, о которых, возможно, там, в городской суете даже не подозревали. И в нем опять проснулось ненасытное желание жить, пробудился зов молодости, приглушенный десятью неделями сухих военных будней сублимированного, полуголодного, почти скотского существования.
Наконец началось выступление четвертого курса, того, что только что вступил в выпускной возраст и уже чувствовал себя хозяином училища. Сначала зрителям продемонстрировали инсценировку захвата объекта, при котором десантники в зеленых сеточных маскхалатах прыгали с кузова мчащейся по пересеченной местности грузовой машины, а затем дружно нападали на сценический объект, огражденный колючей проволокой. Замысловатые прыжки и удары, изумляющие даже искушенную рязанскую публику, непредсказуемые кувырки, подскоки и самые настоящие акробатические кульбиты наконец завершились беспорядочной стрельбой холостыми патронами. Объект был лихо, с воплями дикого племени и зверским улюлюканьем «захвачен», и, глядя на то, как курсанты широкими, амплитудными движениями, били друг друга без жалости и не чувствуя боли, никто из зрителей не сомневался в исключительности этого, единственно совершенного рода войск.
Затем три десятка курсантов образовали на стадионе большой круг для рукопашного боя. Завороженно всматриваясь в разыгрывающиеся сценки, Алексей еле успевал следить за сенсационным темпом боя. Восторгала подкупающая растяжка и гуттаперчевость бойцов, которые, как резиновые, изгибались, проваливались, чтобы затем взмыть в воздух в прыжке. Один против двоих, один против четверых, один против двух вооруженных штыками-ножами или саперными лопатками противников – все казалось Алексею дивным, фантастическим. Когда пышущие здоровьем парни в маскхалатах войсковых разведчиков начали руками разбивать кирпичи и доски, на трибунах не смолкали возгласы одобрения и рукоплескания. Затем последовали метание лопаток и штыков-ножей, демонстрация совершенного владения нунчаками и боевыми палицами. Несколько трюков, несомненно, свидетельствовали о таланте их исполнителей. Огромный, как медведь, детина, встав над аккуратно выложенной стопкой кирпичей, с диким, неподражаемым криком-выдохом разбил ударом открытой ладони пять кирпичей. «Браво, Мальшт!» – слышались крики заведенной и без того воинственной толпы. После него худой стройный парень, пожалуй вполовину меньше Малыша, совершил фантастический прыжок, достойный мастера тэквондо; ударом ноги он, как саблей, разрубил надвое доску, которую руками крепко удерживал рослый курсант, взобравшийся на плечи громадного разбивателя кирпичей. Но самыми захватывающими оказались прыжки через «ежи» – сваренные особым способом металлические уголки, которые в предыдущих войнах использовали в качестве инженерных заграждений против танков. Только двое выпускников демонстрировали умопомрачительные прыжки с сальто через подкидной мостик, бросая в момент полета штыки-ножи в специальный щит, установленный в трех-четырех метрах от «ежа». Им свистели и рукоплескали больше, чем легендарным киногероям из Голливуда.
К концу выступлений Алексей, как и большинство его товарищей, находился в состоянии человека, подвергнутого искусному эмоциональному шантажу. Особый дух ВДВ, отважный и неукротимый, не мог не коснуться его; как дурман, он проникал в него, заполняя все клетки, забивая все поры. Движение бушующей стихии, неумолимая сила урагана смешались в его душе с романтикой приключений, и он теперь был готов к любым подвигам и небывалым свершениям. Готов был, одев голубой берет, идти под любые пули, в любую рукопашную, не задавая никаких вопросов и полагаясь лишь на клич лидера. Из невнятного, смутного порыва внутри него зарождался тот бешеный импульс безрассудства богатырской силы и ничем не сдерживаемого натиска, который все называли вычурным и малопонятным выражением «десантный шовинизм». Алексей в какой-то момент явственно почувствовал освобождение, рожденную в застенках мрачного, полуголодного обитания последних двух с половиной месяцев неожиданную душевную свободу, перерастающую в неумолимую жажду жизни, которая основательно притупилась в нем с того момента, когда он облачился в военную форму. И эта освобожденная из глубоких недр энергия, вне всякого сомнения, являлась сатанинской силой разрушения, неумолимым вихрем, направляемым, чтобы крушить все, что заблагорассудится, все, что двигается, все, что шевелится. А на самом деле, все, на что укажет перст хозяина, создателя этой силы и ее хранителя. Главное, что требуется, – не раздумывать, а только безжалостно и неукоснительно действовать.
Но прежде чем завершился судьбоносный для многих день, произошло еще одно любопытное событие. Во время короткой вольницы после ужина Алексей с Игорем заметили неподалеку небольшую курсантскую сходку. Как выяснилось, один из выпускников, обитавших в казарме неподалеку, заглянул к новичкам в гости. Он был невысокого роста, но коренаст и плечист, заметно выделяясь на фоне новобранцев выцветшей хлопчатобумажной формой и голубым, лихо сдвинутым набекрень беретом. Алексей, как заколдованный, уставился на берет – неоспоримый атрибут крылатой пехоты, непобедимых детей Василия Маргелова.
– Вот, смотрите, – объяснял курсант, – это моченый дуб, из этого материала делают лыжи для десантирования бронетехники. Будете изучать на ВДП – воздушно-десантной подготовке, увидите.
Тут только Алексей заметил в руках курсанта две хитроумно перетянутые плотной круглой стропой темные конусообразные палочки. Нунчаки, причем исполненные филигранно, с несколькими ребристыми гранями, точно такие, как сегодня вертелись в руках на показательном выступлении! Алексей видел, как горели от возбуждения и желания прикоснуться к оригинальному оружию глаза молодых, неопытных в военном деле парней. А курсант между тем продолжал:
– Это дерево невероятно прочное. Ну, сами представляете, для сбрасывания с самолетов бэмдэшек ерундовый материал использовать не станут. Давайте, покажу. Расступитесь немного.
И с этими словами курсант, взявшись за одну палочку, сделал рукой несколько ловких движений, от которых вторая, связанная с первой стропой, заплясала, как живая, в диком захватывающем танце. Ее правильные, резкие и порой непредсказуемые виражи действовали с гипнотической силой, но курсант, подобно фокуснику, неожиданно прервал танец дикой фурии и неуловимым движением упрятал ее под мышку, а затем застыл. Но только на одно мгновение, которое был едва способен зафиксировать человеческий глаз. Получалось, что один конец остался у него в правой руке, а второй – под рукой, причем держал он замысловатое устройство в натянутом положении. Затем он, резко рванув палочку рукой и одновременно отпустив зажатый конец, заставил свободный, привязанный стропой конец описать короткую стремительную дугу и тупым основанием конуса, как ударом копья, вонзиться в рядом стоящую сосну. Сила этого короткого удара, который показался зрителям непринужденным, была неимоверной. Алексею даже померещилось, что гигантское дерево содрогнулось. Так это было или нет, но только в месте прямого удара в толстом панцире из коры осталась ровная, правильная вмятина от страшной игрушки. Как от пули крупного калибра. Курсант же, не давая зрителям опомниться, перебросил палочки через спину и нанес еще один удар, на этот раз из-за плеча, рубящий, как шашка Чапая, боковой удар наотмашь. Этот удар прошелся по коре сбоку и прошел сверху вниз, легко выдрав шмат у могучего дерева. Первокурсники стояли открыв рты, потрясенные открывшейся мощью такого невзрачного на вид оружия.
– Теперь смотрите, – заключил бывалый воин, взяв руками обе палочки и вращая их перед глазами завороженных зрителей, – ни единой царапины, можете убедиться.
– А откуда они, кто их делает? – спросили из толпы.
– Есть умельцы в рязанском полку. Но лыжи для десантирования техники не каждый день списываются, поэтому и нунчаки делают в ограниченном количестве, строго под заказ.
– Так сколько, ты говоришь, хочешь за них?
– Четвертак.
– Да, вещь хорошая, да денег таких нету, – с сожалением сказал Асанов.
– Может, за двадцать сойдет? – спросил кто-то, пытаясь сторговаться.
И вдруг, ни слова не говоря, Игорь вытащил из кармана несколько бумажек и протянул владельцу грандиозного инструмента убийства. Алексей заметил, что глаза его заблестели диким воинственным огнем, а плечи характерно подернулись, как если бы он намеревался размахнуться и хорошенько врезать продавцу замысловатого оружия.
– О, вот это мужское решение, – улыбнулся тот, даже несколько дивясь быстроте и скупости эмоций при осуществлении сделки. И древесная мощь тут же перекочевала к новому хозяину, после чего дело было освящено крепким рукопожатием.
– Ну, пусть хорошо служат тебе, – сказал старшекурсник Игорю на прощанье. – В смысле, желаю тебе никогда их не применить по прямому назначению.
– Молодец, Дед, открыл оружейный счет, – подбадривали тем временем Игоря белотелые сослуживцы, уже закрепив за ним кличку из переделанной на русский манер фамилии Дидусь. Теперь каждому не терпелось подержать в своих руках таинственное оружие. Успел взять нунчаки и Алексей. Дерево в самом деле было прохладным, увесистым и могучим, в нем ощущалась какая-то скрытая от глаза и понимания, затаенная, жуткая энергия, незаметно, с люциферовой хитростью совращающая взявшего его в руки. Сгусток невероятной силы, подталкивающий к тому, чтобы ею воспользовались. Провокационная тяжесть и прочность палочек подкупали настолько, что Алексею тотчас захотелось быть жестоким и властным, ему представилось, как он виртуозно управляется перевязанными палочками, круша все вокруг, разбивая головы любых врагов. «Вот она, внутренняя установка, которая проявляется во всем», – заключил он про себя, передавая нунчаки следующему желающему и отдавая себе отчет, что он все ближе к тому моменту, когда не следует раздумывать перед ударом, убьет он противника или только изувечит…
Глава пятая
(Рязань, РВДУ, июнь 1986 года)
1
Совершенно прав был знаменитый русский классик, утверждая, что нет таких условий, к которым человек не мог бы привыкнуть, в особенности если все окружающие живут так же. Еще четче выразил эту мысль взрывоопасный немецкий философ, заметив, что если человеку есть зачем жить, он может выдержать любое как. Знатоки человеческой породы не ошибались. Но также верно, что, подавляя свою индивидуальность, противясь внутренним психологическим установкам, человек либо врастает в избранную маску, либо затаится в ожидании момента, когда маску эту можно будет сбросить. Все дело в пороге компромисса. Если человек позволит себе врасти в коллективную маску, принеся на алтарь общей славы свою индивидуальную, самобытную личность, он прикипит к ней, позабыв о собственном «я», и станет в итоге ниже того коллектива, которому безвозвратно отдался. Напротив, если он рискнет восстать или хотя бы затаится до времени, он останется непонятым и будет проклят в своей гордыне, как падший ангел. Но из пепла, из глубин темного бездонного провала он может взмыть в новом, высоком облике, достойном неподдельного уважения и, может быть, даже величия.
Об этом много думал в училище курсант Алексей Артеменко, желая и боясь своего иррационального превращения, таинственной трансформации, чем-то напоминающей старую сказку про конька-горбунка, где кипящий котел неправдоподобно изменяет героя. Только после долгих часов переосмысления в ночных караулах, затяжных нарядах, в оцеплении стрельбищ – везде, где только приходилось оставаться наедине с собою, – Артеменко сполна осознал часто повторяемую старшекурсниками поговорку «Поступил – гордись, не поступил – радуйся». Он действительно гордился своей личной принадлежностью к четырем царственным буквам «РВДУ», внушавшим благоговение целому поколению. В них чувствовалась волшебная магия превосходства, за которой для всего мира начиналась завеса темного и недоступного. На шкале символов мужественности и сугубо мужской отваги они находились где-то вверху, почти над всем, что он знал. В глазах сытой городской молодежи, привыкшей к непрерывному поиску наслаждений и материальных благ, здоровый парень в тельняшке и небесного цвета берете, вне сомнения, стоял над аморфным сообществом обывателей. Но к его собственному удивлению, харизматическая аббревиатура не приблизила его к той заветной мечте, к которой он безотчетно стремился с самого детства. Идея стать сверхчеловеком, принадлежать к отдельной касте, самой лучшей породе, непостижимой для обычных людей с их простыми переживаниями и мелкими тревогами, если не провалилась, то точно не приблизилась.
Существовало множество приятных мелочей, которые усыпляли бдительность его самовосприятия, на несколько мгновений наполняя удовлетворением и даже счастьем. Алексею импонировало, что четыре сложенные вместе буквы выступали такой идеальной визитной карточкой, как если бы она была отлита из золота или являлась по-особому ограненным драгоценным камнем. Ему нравилось, что он стал менее чувствителен к любым изменениям вокруг себя, начиная от погоды и заканчивая собственными психическими реакциями на происходящее (по-прежнему он по юношеской привычке анализировал их и давал собственные оценки). Он научился невозмутимости, уверенно применял силу без всякой бравады. Незаметно, как и все остальные, он начал отличаться не только от легковесного гражданского населения, но даже от курсантов из других военных училищ. Исчезли простуды и всякая иная городская хандра. Перестали удивлять построения без верхней одежды в двадцатиградусный мороз, когда курсанты грелись на улице лишь благодаря непрестанным отжиманиям на кулаках от обледенелого асфальта. Никого не смущало, что в казармах не было душа и после утреннего кросса курсанты в любое время года мылись в умывальнике просто под шлангом, натянув его на носик краника и с фырканьем присев у раковины, чтобы вода текла лучше. Разумеется, холодная; о том, что на свете существует горячая, можно было вспомнить лишь в отпуске. Точно так же не существовало теперь и жары, и они оценили старую шутку, очевидно занесенную еще из неприхотливой и выносливой старой русской армии. О том, что в шинели зимой совсем не холодно, потому как «она ж теплая», а летом вовсе не жарко, «ведь она ж без подкладки». Никого не коробила необходимость стирать свою одежду щеткой и досушивать утюгом и теплом собственного тела. Переход в лагерь (одну неделю каждого месяца жили в Сельцах) уже ко второму году стал настолько привычен, что не вызывал никаких эмоций. И слишком быстро большинству курков стало безразлично, нести ручной гранатомет, или железный ящик радиостанции, или «дьявольское тело», как называли порой внушающий трепет свирепый ствол с казенником от автоматического гранатомета на станке АГС-17. Если первый раз путь в Сельцы из Рязани преодолели только за семнадцать часов, то к четвертому курсу на переход уходило уже не более шести. Оно и понятно: после перехода ведь еще можно успеть в увольнение.
Алексей давно с улыбкой вспоминал первый переход в пятьдесят пять километров, когда на каждом пятиминутном биваке вся рота дружно валилась в ранний, отчего-то кажущийся мягким и приветливым рязанский снег. Уже через минуту, полизав его по-собачьи, чтобы холодная влага осталась на просоленных потом губах, вся рота тут же засыпала. Разумеется, судорожно вцепившись в автоматы, ремни которых либо перекидывались через шею, либо наматывались на руку. Оставить оружие даже на тридцать секунд считалось самым страшным, никогда не прощаемым грехом. Тогда, в первый раз, встав в три тридцать утра, они дошли до лагерей только к десяти вечера, – обнаружив вместо казармы холодные палатки. Пока знатоки печного дела заводили тепло в их временные пристанища, остальные по приказу ротного, как тараканы, которые нажрались отравы, но еще не успели подохнуть, бродили вокруг палаточного лагеря и… наводили порядок. Поскольку ротный отправлял спать повзводно, вокруг стоял дикий мат: сама мысль, что кто-то уляжется спать раньше на десять минут, была нестерпима и ненавистна, вызывала злобное шипение быстро зверевших людей. Алексей хорошо помнил, что самой сокровенной мыслью его было не стать первым назначенным истопником, и действительно, он тогда отключился вполне счастливым. Причем ему совершенно не было стыдно за испытанную тайную радость: их менее удачливый товарищ Сема Маркирьянов, уснув на привале, расслабил руки на автомате и оказался жертвой злой шутки старшины Корицына, в воспитательных целях забравшего оружие. «Что, Маркирьянов, промотал оружие?» – язвительно вопрошали из уже построенной колонны, все чаще заменяя слово «промотал» очень похожим по звучанию и значению грубым ругательством, более фактурным и привычным в их среде. Разумеется, инфантильный увалень Маркирьянов попал в черный список, а его невыносимая обида вылилась потом в тайную драку со старшиной, впрочем, бесполезную, потому что старшина оказался крепче и изощреннее в кулачном деле. Тогда Алексею было немного неловко за перепуганный вид Маркирьянова в момент построения роты: бегая в поисках исчезнувшего оружия, он был смешон, жалок, несчастен до безобразия. И ему никто ничего не подсказал, все безжалостно потешались над горем и глупостью, ибо уже усвоили: только жесткие формулировки жизни учат справляться с личными пороками и недостатками. И он тоже смеялся над незадачливым товарищем, а ведь мог и сам оказаться на его месте. «Вот она, иная жизнь и новая форма действительности», – думал Артеменко, дав себе установку быть чрезвычайно осторожным и сверх меры терпеливым. Алексей слишком хорошо знал, что, окажись на месте Маркирьянова он сам, все было бы точно так же. Ребята как-то очень быстро огрубели, злые шутки стали нормой, ругательство – родным языком, а жалость – непростительной слабостью. В случае с Маркирьяновым курсанты не испытывали злость к старшине, его урок не пропал даром, они срослись со своим оружием.
Подобно товарищам по роте, курсант Артеменко быстро научился мало спать, отключаться при любых обстоятельствах, не обращая внимания на шум, и просыпаться от малейшего шороха. Он легко передвигался в непроглядной темени ночи, как кошка чувствовал пространство. По уровню чувствительности он напоминал дикого животного, находящегося в состоянии вражды со всем миром, молодого загнанного зверя, который только учится быть сильным хищником, все время опасаясь других, более искушенных врагов.
Спать к концу первого года обучения курсанты умели не только на снегу, голой земле, но за партой на лекции, преимущественно не мигая открытыми закатившимися глазами. Верхом совершенства стал сон стоя или на ходу, и если бы кого-нибудь из них спросили о причинах столь феноменальной концентрации жизненной энергии, никто не сумел бы дать внятный, исчерпывающий ответ. Алексей множество раз убеждался в этом. Однажды он был дневальным перед переходом в Сельцы, так что сомкнуть глаз практически не пришлось. Но ничего страшного в походе не произошло. «Эй, Артеменко, ты куда пошел?» – услышал он чей-то окрик и очнулся, обнаружив себя за пределами строя, уходящим неизвестно куда, – поскольку был он в третьем отделении, то находился на краю строя. Его немедленно поставили в середину спешно движущейся роты. И так, натыкаясь на идущих справа и слева, а то налетая на рюкзак впереди идущего, Алексей находился в полудремотном, полубредовом состоянии такое количество времени, которое понадобилось роте для броска в восемнадцать или двадцать километров. Неизвестно, сколько бы он еще дремал в строю, если бы не прозвучала неожиданная проверочная команда ротного: «Противник справа, к бою!» И сам себе удивляясь, Алексей обнаружил себя в составе совершенно правильного боевого порядка, перекатывающимся и перескакивающим от кочки до кочки и даже нисколько не уставшим от рваного бега с полным рюкзаком… Таких случаев он мог бы припомнить так много, что вскоре перестал обращать на них внимание.
Но физическое совершенствование и приобретаемые навыки воина незаметно притупляли не только излишние тут сентиментальность, тревожность, мечтательность, но и всю зону чувствительности. Незаметно стало исчезать все то, что раньше составляло богатство и многогранность души. Испарилась былое воздушное ощущение романтики. Особо ценящиеся здесь лапотное хамство и пофигизм стали с лихвой заменять юношескую нежность и страсть.
Мифический пантеон мужской славы, контуры которого тонули в туманных рассказах о военных подвигах, стал единственным символом. Одним для всех. Курсанты постепенно теряли индивидуальность, и Алексея поначалу раздирало любопытство: понимает ли это кто-нибудь еще, его товарищи, сержанты, ротный? Как-то он спросил об этом Игоря, и тот ответил в характерном для новой среды стиле: «Да не парь ты, Леша, попусту мозги, скоро отпуск – там и разберемся». Что касается офицеров, они достаточно часто представлялись Алексею людьми в непроницаемых масках, умело играющими заученную роль, принимающими участие в немыслимом фарсе ради чего-то такого, о чем он пока не знал. Алексей в этом ничуть не сомневался. Когда ему выпадала возможность незаметно наблюдать за взводным, глуповато-печальные глаза капитана-переростка как-то сразу выдавали, что он тихо и негласно отстранен от участия в представлении. Играет в этом театре несущественную роль суфлера. Но когда он вглядывался на построениях в комбата – статного, импозантного подполковника, на котором еще в большей степени, чем на ротном, все блестело и сияло, как на параде, – и сопоставлял его вид с произносимыми им ничего не значащими словами, перед глазами Алексея опять возникал жирный знак вопроса. А что, если они и в самом деле такие?! Если и правда за шикарным видом кроется непроглядная темень примитивного человека? Содрогаясь от раздирающих сомнений, Артеменко размышлял порой об этом в блаженной тиши караульной ночи, с тоской вглядываясь в перламутровое небо. Ему чудилось, комбат живет так, будто каждый день – военный праздник, торжество под его председательством. Но за ежедневным фарсом не стояло ничего такого, чтобы привлекало Артеменко как человека, который в детстве читал серьезные книги и не раз мечтал о свершении в жизни чего-то необыкновенного. Что, если все затеяно ради этого блеска, что, если желание физического и всякого иного превосходства, да и сама принадлежность к элитным войскам – только прикрытие, блеф хитрецов, шахматная партия самых прозорливых, которые всегда будут опираться на таких энтузиастов, как Шура Мазуренко? Алексей не раз мысленно сопоставлял здоровяка Мазуренко и ротного Лисицкого, становившегося все более тучным и неповоротливым.
Мазуренко был настоящим бойцом, воином до мозга костей, такие с готовностью выполняют самые невероятные и опасные военные миссии, своими собственными руками подрывая, уничтожая, убивая и… рискуя. Алексей с невольной улыбкой вспоминал многочисленные курьезы, связанные с жизнью этого странно отрешенного человека, источающего опасность. Завоеватель по натуре, он мог быть либо героем, либо опасным рецидивистом. Случаев было предостаточно, особенно после снятия Мазуренко с должности старшины роты в середине первого курса. Первым делом Шура показательно усмирил сержанта-кантемировца. Недалекий и даже, пожалуй, глуповатый в своем служебном рвении, сержант Ламухин недооценил ситуацию, очевидно полагая, что если Мазуренко в общем строю, то и применять к нему можно весь тот арсенал воздействия, который используется для обычных курков. Не прошло и двух недель после изменения статуса Мазуренко, как после утренней пятикилометровой пробежки и команды нового старшины «Зарядка по плану замкомвзводов» он начал подавать уже потерявшие смысл команды типа «Делай раз, делай два» и требовать синхронного повторения физических упражнений всем взводом. Чтобы не мешать сержанту утверждаться, Мазуренко немного отошел и с привычным рвением занялся собой на железных брусьях.
– Курсант Мазуренко, займите место в строю, – крикнул Ламухин, делая ударение на слово «курсант», и в этой команде также сквозила невиданная глупость и бессмыслица, потому что и строя как такового не было. Были два десятка курсантов, которые впились руками в холодные и влажные жердины брусьев, а их ноги во все еще непривычных сапогах болтались в воздухе. Мазуренко сделал вид, что не слышит, и увлеченно отжимался, хотя несколько внимательных пар глаз пристально наблюдали за ним.
– Курсант Мазуренко, ко мне, – заорал тогда сержант бешено, так, что многие сержанты, да и курсанты других взводов оглянулись и задержали на нем свои взгляды в напряженном ожидании неминуемой развязки. Шура соскочил с брусьев, расправил богатырские плечи, медленно сложил и бросил на деревянную скамейку свои перчатки.
– Ты что, юноша, заигрался? – с металлическим скрежетом в голосе ответил ему разжалованный старшина. Фраза была сказана негромко, но отчетливо, ее слышали лишь курсанты, находящиеся вблизи. Затем Шура приблизился спокойной размеренной и слегка пружинящей хищнической походкой, совсем не так, как должен подходит курсант к своему непосредственному начальнику. Сцена произошла на глазах у всех, и многие даже прекратили заниматься, чтобы не пропустить развитие событий. Алексей заметил, как попятился оторопевший Ламухин, явно не ожидавший такого поворота. По упрямому наклону головы вперед, решительно опущенному подбородку и играющим желвакам Шуры было отчетливо видно, что кровь играет в нем так, будто ее качают поршни размещенного внутри двигателя. Он приближался к сержанту, а окружающим казалось, что от его исполинского торса исходит горячая волна, как будто он окатывает противника накаленным воздухом из невидимого огнемета. За какие-то доли секунды он совершенно преобразился, стал другим. Зверем – неуязвимым, хищным, беспощадным, холодным и ясно видящим цель. И Алексею показалось, что все вокруг застыло, замерло, покрылось тягучей пеленой, все стало замедленным кадром, причем рота превратилась в зрителей, а Мазуренко – в режиссера и оператора. Соперники были приблизительно одного роста, только натренированное тело Мазуренко выглядело шире и мощнее, отчего его наступление казалось сближением танка с хрупким автомобилем. Когда они сошлись, произошло нечто, похожее на короткое замыкание. Не слишком сильный тычок колена в пах заставил тело Ламухина содрогнуться и слегка поддаться верхней частью вперед. И тут же Шура нанес еще более короткий, молниеносный, как вспышка, и все-таки достаточно сильный удар открытой ладонью в ухо. Удар-хлопок, такой, что не оставляет никаких следов. По потухшим в следующее мгновение глазам сержанта можно было понять, что в голове у него все взорвалось и смешалось, как после выстрела из ручного гранатомета без наушников. Алексей удивился тому, что ему было ни капельки не жаль Ламухина: просто один сильный зверь усмирил другого, того, что послабее. Создавалось впечатление, что в тот момент он обладал такой силищей, что мог бы запросто разорвать противника на части. Ему не нужно было ни торжества, ни лавров победителя. Он добивался только одного – чтобы его оставили в покое. И его оставили в покое. Краем глаза Алексей уловил, что не только курсанты, но и новый старшина – Дробовецкий, сменивший Шуру на этой должности, все отчетливо видел, но благоразумно промолчал, отвернувшись и разглядывая что-то в противоположной стороне.
В другой раз Шуру Мазуренко – это произошло почти сразу же после отстранения от должности старшины роты и тихого разжалования – неблагоразумно поставили дневальным по роте, просто в порядке обычной очереди. Когда рота вернулась в расположение, старший лейтенант Лисицкий не выдержал и вышел из канцелярии посмотреть, чем вызвана почти гробовая тишина, абсолютно несвойственная обычно шумному, как пчелиный рой, подразделению. У офицера, слывущего специалистом в методиках воспитания воинских коллективов, глаза полезли на лоб. Шура невозмутимо играл роль дневального, стоя у пресловутой тумбочки с самодовольной улыбкой и взглядом коршуна. Казарма с идеально отмытым коридором и поблескивающими от свежей мастики полами являла собой показательную арену действий. Рота же, как будто пробираясь по узкой тропинке на перевал, беззвучно, по одному, почти что след в след, заходила, прижимаясь к стене. Чтобы не испачкать отмытый и натертый пол… Алексей задавал себе вопрос, отчего они так делали: из страха, из уважения, еще из какого-то неведомого чувства, вытекающего из внутренней этики настоящего воина. Пожалуй, и то, и другое, и третье… Больше Шуру Мазуренко в наряд дневальным не ставили, а еще через два месяца он сменил замкомвзвода пятого взвода, который при нем был просто не в состоянии командовать. Более того, ротный сам вернул Мазуренко сержантские лычки и командирскую должность после того, как узнал об инциденте во время зарядки. Причем сделал это столь же тихо, как и разжаловал перед этим.
«Вот и утверждай, что индивидуальная сила растворяется в коллективной», – говорил себе Алексей, сбитый с толку собственными рассуждениями.
2
Ротный Лисицкий также казался Алексею уникальным представителем этого диковатого социума, но совсем по другому поводу: он мог добиться своего, даже не пошевелив пальцем. Задумав серию прагматичных ходов, он запускал математически точно разработанную интригу. Его отнюдь не причислишь к числу бойцов, поражающих физическими возможностями. Да, он с курсантами порой ходит из Рязани в Сельцы. Но разве это сверхнагрузка? Особенно если учесть, что они идут с оружием и снаряжением, а он – с командирским планшетом. Они – в тяжелых солдатских сапогах, он – в легеньких хромовых, с переклеенными подошвами, все равно что в кроссовках. Они в дороге, обливаясь потом, падают в грязь по команде «К бою!» бесчисленное количество раз, он – только надменно глядит на развертывающееся перед глазами представление, сложив руки на груди, словно жюльверновский капитан Немо. Алексею казалось, что ротный мнит себя стратегом, ловко пользующим все эти до совершенства развитые мускулы, а также все остальное, необходимое для войны: боевые машины, приданную артиллерию, поддерживающую авиацию и так далее. «Выходит, – пришел к выводу Артеменко, – вовсе не обязательно становиться супербойцом, чтобы быть успешным командиром». И это тоже было открытием для Артеменко, причем неприятным…
Более того… Он вспомнил комбата и неожиданный эпизод в лагере в Сельцах, когда они заканчивали первый курс. Они с Игорем, будучи в наряде по кухне, выносили бак с парашей – пищевыми отходами, чтобы взгромоздить его на древнюю телегу с не менее древней, уставшей от жизни клячей. Погонял ее такой же ветхий старик, облаченный в грязное тряпье. Стоял ясный летний день, и оба курсанта воспользовались моментом, чтобы перевести дух после мытья почти сотни кастрюль. Они немного отошли от несчастного животного и повозки, от которых ужасно несло гнилью и перебродившими кислыми щами. Игорь затянулся сигаретой, а Алексей подставил лицо солнцу.
– А что, комбатом у вас Петя Рейков? – услышали они скрипучий голос невозмутимого старика, ведавшего помоями. Он приближался с заплесневелым окурком, намереваясь подкурить его от сигареты Игоря. Ребята дружно поморщились от стойкого запаха помоев и старческого смрада, которыми насквозь пропитался старик.
– Да, подполковник Рейков, – на всякий случай добавил официоза Игорь. – А что?!
– Да ничего… – вздохнул худосочный отшельник, отступив на пару шагов, словно стесняясь своего вида. Он, видно, заметил, что общение с ним курсантам не очень-то по душе; трясущимися руками старик поднес окурок сигареты к облупившимся, изглоданным временем губам. – Помню, вот так он, как вы сейчас, мне помои выносил. Часто тут нарядил. Звали его Петя Деревянная Голова. А теперь комбат, подполковник. Вот как оно в жизни бывает… – и с этими словами он многозначительно крякнул, как будто с сожалением, да и погнал свою дохлую клячу. Морда бедного животного вытянулась от натуги, тогда как туловище почти не шелохнулось. Казалось, что глаза его просили: «Пристрелите меня, сжальтесь!» Но то ли от стариковского «Да-вай, по-шла!», то ли от очередного повеления небес, колеса повозки медленно провернулись и с дребезжанием, скрипом, а затем мерными гулкими ударами об асфальт покатились прочь. Еще немного, и все это жуткое марево исчезло, оставив после себя лишь помойный душок, который вскоре слился с кислым, тягостным запахом заднего двора столовой.
Все это было проиграно в воображении Алексея, как вырезанный из общего кино об училище показательный эпизод, который возник сам собой при мысли о комбате и точно так же бесследно исчез после просмотра. Но ведь не может быть, чтобы единственным стимулом столь неестественной жизни оставалось сомнительное стремление к формальному возвышению, к званию, к должности. Или пусть даже к военной доблести. Ведь помимо этого, существуют еще и другие краски жизни. Или, может быть, они вычеркнуты навсегда?! Алексей боялся себе признаться, что он вовсе не за этим подался в училище. Ему ни к чему были звания и должности, он еще больше, чем прежде, не любил армию – эту деструктивную, серую, не думающую силу вышколенных масс. Он ведь не желал стать генералом, как Игорь. Он пришел для чего-то большего: РВДУ он рассматривал как крупнейший и сложнейший тест, как личный проект, как трамплин для чего-то осознанного и великолепного. Но чего, он пока не знал. Зато уже после года учебы Алексей хорошо знал другое: его индивидуальная оптика восприятия действительности была теперь гораздо лучше настроена, чем у других. Через два года учебы он решил, что ни за что не допустит, чтобы опыт над собой оказался неудачным. К третьему курсу он признал, что проект создания сверхчеловека невозможен при опоре только на физическую подготовку. И, признав, вернулся к давно оставленным книгам.
Глава шестая
(Рязань, РВДУ– Умань, Черкасская область, январь – февраль 1987 года)
1
Очень скоро курсант Артеменко научился жить в училище лишь настоящим моментом, что служило залогом выживания, вылилось в непреложную, никогда не меняющуюся аксиому бойца. Но почему-то именно этот, как казалось раньше, бесспорный козырь, уже на втором году учебы стал неожиданным источником сомнений и чудовищной душевной метаморфозы. Однажды курсант сделал страшное, шокирующее открытие: его жизненный сценарий уже кем-то расписан, а смысл жизни заключается лишь в неукоснительном следовании этому сценарию. Да, он может стать закаленным и грозным, может быть, даже опасным воином, он приобретет необычайные, непостижимые для обычного человека цепкость, ловкость, силу. Но что дальше? Ведь вся незамысловатая инженерия выковывания и клеймения этого безупречного легиона состояла в том, чтобы непрестанно совершенствовать умения действовать быстрее, стремительнее, точнее. «А не сам ли ты этого хотел, не сам ли стремился», – вопрошал себя Алексей. «Да», – отвечал его глубинный, замурованный в подземелье души робкий голос. Но кто же знал, что за приобретение тактико-технических характеристик универсального бесстрашного биоробота следует платить отказом от участия в построении своей судьбы? Кто предполагал, что фанатичная преданность хозяину станет важнее преданности своему «Я»? Алексею нравился процесс овладения арсеналом военного человека, его, как и многих молодых людей, захватывало прикосновение к разящему железу, он тайно упивался превращением в современного кентавра. Но вместе с тем внутри него незаметно росло и противоположное чувство, ведь так и самый великолепный солдат становится всего лишь предметом, перестает принадлежать себе, быть цельной личностью. Как хорошо вышколенный бульдог или терьер готов в интересах своего хозяина пустить в ход клыки, так и их готовили применить однажды свои уникальные навыки – в интересах другого хозяина. Этот хозяин, называясь расплывчатым термином «государство», являлся отныне олицетворением высшей, неподвластной влиянию воли, равной Абсолюту. Как-то после долгих размышлений Алексея обдало жаром внезапного озарения: они все уже продали души. Кто-то сторговался за них с самим Господом!
Но придавленный голос собственного «Я» не был разрушен, он не сдавался и упорствовал, не желая растворять душу в кислоте идеологических абстракций. Разум действовал сообразно сложившимся обстоятельствам, заботясь о выживании тела, всего организма, но его индивидуальность решительно восставала против вероломного присоединения к общей, коллективной душе. Вместе с потерянной свободой упала его самооценка. Алексея неотступно преследовала странная и неведомая доселе жажда уединения, и однажды, когда его товарищ Игорь Дидусь попал в субботний наряд, он впервые вышел из училищных ворот в город с ощущением непреодолимой, безнадежной заброшенности души. В полном одиночестве сделал он несколько кругов по знакомой городской местности, не теряя автоматической бдительности в отношении вездесущих патрулей, забрел подкрепиться в излюбленную сослуживцами блинную и, не обращая внимания на частушечный курсантский говор, направился к выходу.
– Чего кислый?! Пошли в кино! – приветствовали его товарищи из взвода.
Он молча отмахнулся, многосложно указав куда-то вдаль рукой, как если бы у него уже были планы.
– Ладно, подтягивайся к дискотеке. Сегодня в Дофе, – кивнули сослуживцы, не особо огорчаясь отказу и не намереваясь вникать в его состояние. У них и так не хватало ни времени, ни возможностей для достижения кратковременного счастья, и каждое увольнение давно стало похоже на предыдущее и проходило по однотипному сценарию.
Артеменко был обескуражен. Он должен придумать нечто радикальное, такое, что коренным образом изменит ситуацию. Отрешившись от действительности, он долго бродил по городу, пытаясь собрать разрозненно мечущиеся мысли и сосредоточиться. Алексей очнулся, когда внезапно оказался перед массивной дверью городской библиотеки. Он некоторое время колебался, но преодолел сомнения и вошел. Если здесь он не найдет выхода из создавшейся ситуации, то по меньшей мере хоть обретет временное успокоение.
Две компетентные, одинаково тощие дамы в читальном зале с суховатой насмешливостью взирали на него, хотя в глубинах их взоров угадывалось тщательно скрываемое изумление. Алексей понимал, что вызывает недоумение, подобное тому, как если бы молодая привлекательная девушка из необъяснимого каприза ушла в монастырь. Помолчав, курсант ошарашил опытных служительниц культа знаний, заказав сразу несколько книг: «Мартина Идена» Джека Лондона, «Отверженных» Виктора Гюго и «Триумфальную арку» Ремарка. И, решив разбить стену отчуждения, сказал:
– Мне для реферата нужно. – Артеменко казался смущенным, и строгие женщины немного ослабили оборону, понимающе закивали, хотя в их умных глазах сквозило недоверие.
Когда Алексей утонул в мягкости пышного кресла в почти пустом зале, он испытал неподдельное наслаждение. Знакомые с детства и ни с чем несравнимые запахи книг, спрессованная энергия мысли, упрятанная на полках мудрость, божественное пространство, от которых он в своей дремучей тяге к насилию давно отвык. Он с усмешкой подумал, что нет, не шоколадом тут пахнет, а скорее чем-то терпким, перцовым, раздражающим горло, вызывающим жжение во всех членах. Но главным был все-таки даже не запах, а звук. Вернее, его отсутствие, уникальное ощущение, как если бы он влез внутрь гигантской раковины, где все на свете дрожит, трепещет, изнывает соблазном. И в то же время здесь все незыблемо, недостижимо ни для кого и ни для чего. Сюда не могут добраться отрывистые команды «Равняйсь! Смирно!» Это было сказочно беспечное царство юности, свой особый дух, сила которого – Алексей это чувствовал – могла пробудиться при его упорном, неотступном желании. И в упоении юноша стал листать любимые книги, не читать, но просто вспоминать черты героев, их мысли, переживания, их потрясающие мгновения любви и волшебных превращений. Все было как наяву! Он неожиданно для себя пережил какой-то необъяснимый катарсис, освобождение от пут, неясного гнета чуждой ему власти. Пренебрегая земным притяжением, он вдруг оторвался от поверхности и плыл, плыл, паря в облаках охватившего его беспричинного счастья.
В казарму курсант Артеменко вернулся совсем другим человеком. Личностью, прошедшей очищение и теперь спокойно, по-новому смотрящей на происходящее. Под другим углом зрения, трезво оценивая перспективы. Внешне все оставалось по-прежнему, и он ничего никому не рассказал, даже Игорю. Боясь, что вдруг наткнется на стену непонимания. Впервые со времени поступления в училище Алексей не спал почти всю ночь. Он напряженно думал. В голове его зрело решение, он должен был найти свою особую, пусть несхожую с другими, формулу выживания и развития. Что его беспокоит? Двусмысленность нынешнего, почти рабского положения оскорбляла его, делала выработанную годами цель насмешкой над прежней свободой, искажала миропонимание, которое он пытался перестроить в угоду одному-единственному стремлению – стать идеальным воином. Теперь эта цель терялась, ускользала и требовала слишком много жертв, главная из которых – отказ от всего личного и подчинение неким коллективным принципам жизни. Но многие коллективные цели он находил неприемлемыми и даже абсурдными. Весь загадочный антураж, все, что находилось под филигранно раскрашенной пленкой, предназначенной внешним наблюдателям, в сущности, было отравой для его психики, прямой угрозой его личности, уже сформированной благодаря долгому поиску, открытиям и озарениям. Здесь же требовали забыть, стереть абсолютно все, желая разрушить былые представления о достижениях, чтобы освободить место для совсем иных ценностей, подчиненных идеологии войны.
Если бы он проник в природу войны, то неминуемо признал бы, что искусство лепки солдата, проповедуемое и применяемое в РВДУ, не только уместно, но и единственно верно применительно к необузданной, непредсказуемой ярости ее пламени, выжигающей все человеческое. И что РВДУ с его жесткой платформой и натуралистическим, не скрывающим грязи подходом в действительности ближе всех остальных учебных заведений стоит к войне. Тогда бы Алексей понял, что душа солдата должна быть лишена индивидуальности, задолго до сражения укрощена, подчинена законам фанатично вопящего племени и более высокой, кажущейся божественной, силе. Индивидуальность солдата имеет право проявиться лишь в тех редких случаях, когда находится на кончике вектора коллективной силы, когда способна служить острием копья, в то время как древко направлять будет иная воля. Но даже осознав вполне эти азбучные истины войны, Алексей отказался бы принимать сатанинский дух армии как раз в силу коллективности души, потому что ему необходимо было индивидуальное измерение силы, личные эмоциональные переживания вместо рационального, обезличенного использования его возможностей в составе оголтелой орды, жгучее упорство самобытности вместо общего монолита, выдвигаемого от имени власти и сметающего все на своем пути. Все эти с раннего возраста живущие в нем впечатления здесь, в училище, яростно вытравливались, его уже наполненный мозг опустошали, а он бессознательно противился этому. Алексей чувствовал, что его цветущая молодая личность начала стремительно увядать и усыхать. Самооценка задыхалась и умирала, как большая рыба, выброшенная на берег. Возможно, Алексей забылся бы, перемололся бы, обработанный тяжеловесными жерновами вэдэвэшной мельницы, но слишком пестрые напоминания о происходящих в нем превращениях заставляли его снова и снова думать о том, не спутаны ли карты в его судьбе…
Игорь однажды ошарашил его своим миропониманием.
– Знаешь, что такое наше военное счастье? – спросил он во время одного из переходов и сам же ответил: – Счастье – это когда ты уже такой седой генерал, прошел три войны, орденов у тебя полная грудь, конечно, звезда героя. И так идешь по улице, чинно, с высоко поднятой головой, все на тебя оглядываются, пацаны пальцами тычут… А ты знаешь, что тебе уже на все и на всех наплевать; сейчас ты поедешь на реку, закинешь удочку и в тишине посидишь, понаблюдаешь, как рыба клюет, как оводы резвятся, как шершень копошится в траве…
– Но ты можешь все бросить и сейчас поехать на реку, посидеть с удочкой…. – ответил ему тогда Алексей, пыхтя под гранатометом.
– Э-э нет, – уверенно отреагировал Игорь, – это надо заслужить, надо на войне побывать, сражение выиграть, дослужиться до…
– Я оцэ слухаю вас и гадаю: яки ж вы дурни! – ворвался в разговор Петя Горобец, который шел за Алексеем след в след, чтобы движение было механическим и монотонным. – Хиба важко зрозумиты, шо щаслывым чоловик може буты тоди, колы вин сыдить биля власного будынку, поруч весела дружина, яку можна за сидныцю схопыты, десь там диточкы гуляють, собака велыкый лыжить мордою на твоих ногах. А ты горилку смакуешь, сальцем заидаешь та з кумом калякаешь. А вы тут дурныци розповидаетэ…
Игорь прыснул.
– Ну ты, Птица, и быдло, тебе б только жрать и спать! Какое-то счастье у тебя селянское.
– Сам ты быдло, не знаешь, шо ляпаешь, – обиженно огрызнулся Горобец и опять уткнулся взглядом в набитый рюкзак Алексея.
Столь разные представления о счастье настолько шокировали тогда Артеменко, что он даже отмахнулся от мысли поспорить об этом…
2
Между тем приближался второй зимний отпуск, во время которого Алексей решил приступить к перекраиванию своего жизненного сюжета. Начал он с детального изучения собственных перспектив. Сравнивая привезенные фотоснимки из училища с ранними, еще школьными фотографиями, он убедился, что его мышцы заметно увеличились, а взгляд приобрел металлический и несколько отрешенный оттенок, свойственный бесконечно уверенным людям. Правда, вследствие увлечения штангой и гантелями он заметно поправился и его мышечный корсет стал сковывать его былую свободу движений. А когда мама воскликнула при встрече: «Ах, Лешенька, как ты повзрослел!» – и долго рассматривала его пристальным взглядом, он лишь снисходительно улыбнулся. После тщательного изучения своей физиономии Алексей нашел себя лишившимся былого юношеского шарма. Вместо скуластого привлекательно точеного лица из зеркала на него смотрела слегка отяжелевшая, наглая и вместе с тем угрюмая бульдожья морда, готовая в любой момент обнажить клыки.
Впервые за многие месяцы Алексей надолго оказался наедине с собой, получив возможность спокойно осмыслить свое положение в пространственной системе координат. Дома совсем ничего не изменилось: так же мерно и умиротворенно тикали большие настенные часы, доставшиеся матери от бабушки. Но теперь он явственно, как никогда доселе, ощущал скоротечность и одновременно бесконечность бега времени: целая жизнь пролетела за эти насыщенные месяцы в училище, а часы остались бесстрастными, они не несли никакого отпечатка впечатлений, в них не чувствовалось никакой тяжести времени. И с этим магическим тиканьем стали улетучиваться и его сомнения, опять возникало потерянное былое ощущение, что на самом деле во Вселенной нет ни начала ни конца, и все бесконечно – время и пространство. А он, как и все остальные, только песчинка, заблудившаяся точка, ищущая свое предложение. Он, как шарик для пинг-понга, всякий раз легкомысленно подпрыгивает, когда его настойчиво ударяют, посылая в определенном направлении. Если так, то не должен ли он сам скорректировать траекторию собственного развития, не доверяя это заветное дело никому? Ведь его судьба – это только его судьба! И только он сам должен иметь власть над ней! И как только Алексей подумал так, как только заявил сам себе о новых намерениях, незаметно в его подсознании все пришло в движение, закрутилось горячим вихрем. Смутные мысли, приобретающие оттенки, эмоции, какие-то неведомые силы, сгустки ранее непознанной энергии – все это начато вращать с немыслимой решимостью колесо, которое и является колесом Фортуны, колесом его личной жизни.
Нет, ему нужно не отчисление! Это было бы слишком просто, к тому же попахивало непростительной трусостью, проявлением слабости. Тем более, ведя честный разговор с собой, Алексей не мог не признать, что попал под обаяние четырех магических букв «РВДУ». Не уход из училища, но возможность подняться настолько, чтобы стать над системой, взять из нее лишь то, что близко сердцу, отказаться от сопутствующей глупости, от всего остервенелого, животного, доставшегося в наследство от разъяренного первобытного, пещерного человека. Чтобы привести в порядок мысли, Алексей отыскал старые пластиковые лыжи, на которых до поступления в училище самостоятельно освоил новый, оригинальный способ передвижения. Следя по телевизору за зимней олимпиадой в год поступления в РВДУ, он как-то приметил рослого, с невероятной скоростью перемещавшегося коньковым ходом скандинава. Это заинтересовало десятиклассника, и он надолго банальным вечеринкам с алкогольной стимуляцией и покладистыми девчонками предпочел проходить на лыжах по двадцать пять-тридцатъ километров ежедневно. Алексей давно приучал себя к мысли: все, за что он берется, должно окончиться успехом. Теперь же, в отпуске, ему необходимо было вернуть самую мысль, возродить в сердце утрачиваемую убежденность в своих безграничных возможностях. Но не только это. Вспоминая и оттачивая немного позабытые движения, он как-то ожесточенно, непрерывно думал. Кислородный ливень давал мыслям такие импульсы, что они легко достигали звезд. Но если утром он топил все свои клетки в кислороде, то днем его мозг оказывался сжатым в тисках необычных магнетических состояний; сознание под воздействием стопок книг расщеплялось, рассыпалось на части, разлеталось, словно под артиллерийским расстрелом, чтобы вновь сложиться, но уже новым ажурным узором. Курсант читал запоем, приобщаясь к новым книгам и не брезгуя беглым просмотром давно известных. Трофеи не замедлили явиться, представая в виде различных, удивительно четких, панорамных, объемных и емких картинок. Лики героев, решительные и непримиримые к неблагоприятным обстоятельствам, не только еще более укрепляли его веру, но и подсказывали путь. Когда же после Гая Саллюстия, Александра Куприна, Ирвинга Стоуна, Джека Лондона Алексей отыскал на запыленной полке зачитанные до дыр, много раз клеенные липкой лентой и укутанные теперь в прозрачную оберточную пленку книги Алена Бомбара «За бортом по своей воле» и «Последние дневники и письма капитана Роберта Фалкона Скотта», слезы умиления брызнули у него из глаз. Произошло колдовское растапливание сердца, как у сказочного Кая из «Снежной королевы». Маленький томик о двухмесячном путешествии без воды и еды на резиновой лодке через Атлантику и раньше помогал Алексею укрепить дух, действовать с неистребимым натиском и фантастической мощью. Теперь Алексей читал и как бы вновь настраивал на привычное звучание струны своей души, несколько разладившейся, как заброшенная гитара. Пережив вместе с английским морским офицером гибель товарищей в снегах Антарктиды и совершив с отважным капитаном волевой акт смерти, он словно расколдовал себя, вспомнил тайный шифр миссии, и ему снова удалось пробудить в себе желание активно мыслить и действовать. Так, как подсказывает личная, внутренняя воля, а не наружная сила внешнего убеждения.
Превращения внутри мировосприятия Алексея походили на ловкую хирургическую операцию в глубинах мозга. К моменту возвращения в Рязань он чувствовал себя совсем другим человеком – преобразованным и обновленным, готовым к изменению внешней среды вокруг себя. Короткий отпуск уже заканчивался, когда Алексей случайно уткнулся глазами в плотный томик Ницше с привораживающим названием «По ту сторону добра и зла». Он открыл книгу наугад и прочел: «Всякий должен самого себя испытать, насколько открыто для него независимое и властное существование; но для этого необходим подходящий момент». В сердце у курсанта кольнуло, что-то острое вонзилось и прошло насквозь, оставив горячий след, как если бы каленое железо поставило там причудливое клеймо. Алексей задумался, удивившись, что всякий раз, находясь на перепутье, он в книгах находил ободрение или подтверждение тому, что задумал. Глаза его машинально прошлись дальше по тексту: «Не следует уклоняться от подобного испытания, хотя бы оно представляло наиопаснейшую игру, какую только можно себе представить, и служило бы, в конце концов, свидетельством только перед нами самими, а для всякого другого судьи оставалось недоступным». Алексей открыл первую страницу и прочел там дарственную надпись: «Алеше от папы. Да помогут тебе Бог и Воля твоя!» Далее стояла роспись отца и дата, которая отделяла ровным месяцем другую, более темную дату, которую он всегда помнил, – день его смерти. Рука Алексея осторожно провела по выведенным чернилами буквам, словно прикасалась к отцу, шевелила мягкую пыль, которою сплошь была усыпана память о нем. Он ощутил, что это прикосновение к книге было как прикосновением к душе отца, мимолетное и трогательное касание отцовской ауры подействовало на него с ответной реакцией. Алексей подумал было взять книгу с собой в училище, но быстро изменил решение – слишком дорог для него был этот со вкусом оформленный томик, чтобы рисковать им. Зато в училище он зачем-то притащил лыжи…
Глава седьмая
(Рязань, РВДУ, февраль – март 1987 года)
1
Если человек способен что-либо делать лучше других, он непременно будет искать возможность продемонстрировать свои способности. Если кому-то подвластно нечто неординарное, позволяющее выделиться и самобытно выразиться, он будет несчастлив до тех пор, пока не сделает свой талант достоянием многих. В природе человеческой заключен довольно примечательный пунктик: отважно стремиться к публичному проявлению своих лучших качеств, даже если они окажутся неуместными или окажутся с опасными последствиями. И как только человек вознамерился раскрыться перед многими, ему обязательно однажды представится случай продемонстрировать свое умение – это непреложное уже правило самой жизни.
Курсанту Артеменко хорошо было известно, что в феврале предстоит общая для всего училища десятикилометровая лыжня, он также знал, что добрая четверть роты вообще ни разу на лыжах не стояла. Командиры, как всегда в таких случаях, сознательно закрывали глаза на всяческие уловки и хитрости, позволяя курсантам самостоятельно лавировать на стремнинах учебного процесса. Алексею неожиданно повезло дважды. Первый раз, когда благодаря устойчивой морозной погоде на широком, открытом ветрам поле за училищем образовалась плотная выровненная ветром корка наста. Второй, когда кафедра физической подготовки приняла решение давать старт повзводно и поротно, лишь с небольшим интервалом времени. Таким образом Алексей оказался в первых рядах стартующих, и он не только никому не мешан, но часть роты вообще не заметила его бега. После старта он ловко перескочил на твердый наст рядом с лыжней, и уже через минуту легко догнан второй, а затем и первый взвод, без напряжения обойдя товарищей, мучавшихся на лыжне не столько от бега, сколько от деревянных, убогих, дореволюционных, плохо прилаженных к сапогам лыж. Когда он отмечался на повороте у офицера с кафедры физической подготовки, позади него уже давно никого не было видно. Почти все курсанты двигались косолапо и наверняка вызвали бы смех у стороннего наблюдателя неуклюжими, порывистыми, топорными перемещениями, если бы за этим действом не стояло суровое мужское упорство и феноменальная способность терпеть даже то, что дается ради самих испытаний. В училище с особой трепетностью относились к обучению терпеть. Ради этого летом курсанты плавали в одежде с оружием, зимой бегали на лыжах или с лыжами в руках не спали ночами в лесных засадах, таскали на себе в горы не только оружие, но и ящики с боеприпасами… Командирских выдумок всегда было предостаточно, и все во имя культа совершенности и несокрушимости… Здесь создавалась особая порода людей, одинаково презирающих опасности и напряжение, в равной степени нечувствительных к требованиям собственной плоти.
Когда Алексей прокричал на финише: «Курсант Артеменко, первая рота, третий взвод», позади него было совершенно пустое поле. Лишь через две с половиной минуты на горизонте показались сибиряки Абакумовы из первого взвода, за которыми опять долго никого не было видно.
– Ты где лыжи взял-то? – с ироничной усмешкой спросил высокий майор с планшетом, отмечавший курсантов.
– Из дома привез.
– Вообще-то тебя следовало бы поставить на дрова да отправить повторно на круг, чтоб был со всеми в одинаковых условиях… – В голосе майора не было ни злости, ни негодования, он произносил слова скорее для порядка, намереваясь переложить ответственность за подобную хитрость на чьи-то другие плечи.
– Ладно, Витя, не мучь курсанта, он тоже свое отработал, смотри, в мыле совсем.
К ним подошел худощавый, стройный, как жердь, полковник в шинели, из-под которой поблескивали хромовые голенища сапог. Его руки были облачены в щегольского вида лайковые перчатки, дорогие, блестящие и совсем непохожие на те, что носили другие офицеры. Продолговатое лицо с тонкими чертами приковывало к себе взгляд. Несмотря на холодную, пусть и безветренную погоду, он был в фуражке с элегантно поднятой кокардой, которая формой напоминала безупречные фуражки офицеров вермахта. Полковник ярко выделялся своей подтянутостью и щеголеватостью на фоне майоров и подполковников кафедры, одетых в мешковатые камуфлированные куртки и небрежно нахлобученные зимние шапки. Но еще больше, чем внешний лоск, его отличали манеры, неторопливые, гипнотически действующие жесты и несвойственная представителям данного рода войск мягкость речи. Это был явно не командирский голос, он скорее мог принадлежать интеллигенту, чем военному. Здесь, посреди снежной пустыни, полковник выглядел экзотично, мог показаться слишком напыщенным, если бы не естественность, пронизывающая все его движения, внимательный, пристальный и совсем неравнодушный взгляд на происходящее, да стоявший в пятидесяти метрах от финиша командирский уазик рядом с обязательной в таких случаях каретой «скорой помощи». Обладающий властью может позволить себе многие отклонения от общепринятой нормы, а этот человек всем своим видом демонстрировал, что властью и авторитетом на этом клочке земли он обладает немалыми.
– Коньковый ход где освоил, занимался? – спросил полковник с явным интересом, уже обращаясь к Алексею и как бы снимая с майора ответственность и необходимость отвечать на слова курсанта.
У Алексея радостно забилось сердце, заклокотало кровяными толчками у горла. Перед ним был начальник кафедры физической подготовки училища полковник Мигулич. Неужели попал в поле зрения? Неужели сработало?
– Так точно!
– Давай, накинь шинель, чтоб не простыл. Сдай номер и подойди ко мне, потолкуем.
– Есть!
Алексей летел так, словно у него к спине, как у сказочного Карлсона, был приделан волшебный моторчик. Снимая лыжи и меняя спортивные ботинки на остывшие на морозе сапоги, успевшие превратиться в деревянные колодки, он заметил, как подрагивают его руки от охватившего волнения. «Нет, это от мороза, сейчас пройдет. Это шанс, это шанс! Господи, помоги мне, дай мне этот шанс». Натягивая застывшие сапоги, парень мысленно повторял свои нехитрые заклинания, как будто пытался заговорить всесильного Мигулича.
Через полминуты он уже штыком стоял перед полковником, боясь, что кто-то иной завладеет его вниманием. Тот, морщась, отмахнулся от его солдафонского доклада.
«Оставь это для своих командиров и для тех, кто ценит бутафорию. Для меня же важнее всего дело», – как бы говорил за него этот короткий и тайно ободряющий жест тонкой руки в блестящей кожей перчатке.
– Плаваешь как? – неожиданно спросил он все тем же мягким спокойным голосом, который, казалось, ничем, даже залпом пушек, невозможно вывести из равновесия.
– В детстве занимался, считаю, неплохо, – коротко отрапортовал Алексей.
Полковник посмотрел на него внимательно и пристально. Его, вероятно, удивил такой ответ.
– Сто метров за сколько проплывешь?
– За минуту пятнадцать, думаю. – Алексей глотал слова отрывисто и быстро, но время сказал наугад. Он имел довольно смутные представления о скорости плавания и, тем более, о собственных возможностях на стометровке. Но зато он точно знал в этот момент, что надо за что-то зацепиться.
– Это плохо, надо за минуту пять – минуту семь, – задумчиво проговорил полковник, как будто сообщил время сам себе, в унисон параллельным размышлениям. Он явно колебался, не знал, как быть дальше с курсантом.
– А как с гимнастикой, когда-нибудь приходилось заниматься?
– Если честно, нет. Но на турнике я всегда упражнялся, при поступлении тридцать раз подтянулся… – Тут Алексей запнулся, ему показалось, что он говорит совсем не то. Солнце счастья вынырнуло, подарило улыбку и сейчас уже наполовину было скрыто в пучине непроглядных облаков. И неожиданно даже для самого себя он решился: – Товарищ полковник, дайте мне шанс попробовать. Если не подойду, проситься не буду.
После слов, выпаленных рассыпной дробью, Алексей посмотрел прямо в глаза полковнику. Он не знал, заметил ли тот мольбу во взгляде курсанта, и опустил глаза…
– У нас в этом году из училищной команды многоборцев два ключевых спортсмена выпускаются, – сказал начфиз. – Замены адекватной я пока не нашел. А в августе – чемпионат ВДВ. Поэтому поступим так. Я дам тебе два месяца. Если зацепишься в команде – твое счастье. Если нет – опять возвращаешься в строй. Договорились?
– Так точно! – выпалил Алексей. У него голова шла кругом.
– У Лисицкого в первой роте?
– Так точно!
– Я с ним переговорю. Ступай!
2
В один миг жизнь курсанта Артеменко повернула на сто восемьдесят градусов. Он будто очнулся от долгого забытья, вышел из продолжительной мучительной комы и источал теперь свет заговоренного, через которого прокатилась волна озарения. Но самым главным для него являлось засевшее внутри неистребимое, нежно щемящее ощущение, что это он сам изменил свою жизнь! С момента памятной встречи с полковником Мигуличем каждое утро он стал исчезать из казармы за полчаса до подъема роты, чтобы вместе с училищной командой на городском транспорте добраться до бассейна. И всякий раз по пути в застывших невыразительных пятиэтажках с редкими светящимися окнами, в темных ветвях сонных, склонившихся над дорогой деревьев, да и в самой пустынной дороге, словно набегающей на ветровое стекло почти всегда безлюдного первого троллейбуса, Алексею Артеменко мерещились в эти минуты признаки еще не испытанной реальности. Он удивлялся, отчего его новые товарищи дремлют, тогда как его возбуждение только нарастает от предстоящего дня. Алексей по-прежнему пребывал в абсолютной, неколебимой уверенности, что должен совершить в жизни что-то значимое, величественное, масштабное. Сейчас он получил передышку, возможность осмотреться по сторонам, взглянуть на мир под другим углом. Иначе зачем тогда жизнь снова и снова дает ему возможность поступать именно так, как диктует его собственная воля?! И при мысли о будущем он все чаще с гордостью думал о том, как складываются во все более четкие, отменно прилегающие друг к другу пазлы его личных убеждений.
Километры борьбы с самим собой в обложенном по-советски ломким кафелем бассейне сразу превратились для него в часть самоутверждения. В эти тягучие минуты, когда Алексей уголком рта сдержанно, по-рыбьи хватал воздух и затем медленно выдыхал его в воду, он видел мир сквозь темные запотевшие стекла плавательных очков. Он задыхался, его руки и ноги сводили судороги, мышцы ныли и порой напоминали о себе острой болью перенапряжения, но он дал себе слово бороться до конца. Очень уж ему не хотелось возвращаться в строй оловянных солдатиков, где он необратимо терял себя. В категорию абсолютной важности был возведен им принцип победы, ее факт, сам же спорт казался лишь средством достижения цели. И хотя этот маленький мир был так же, как у рыбы, посаженной в стеклянную банку, узок и призрачен, к тому же подчинен неумолимому тиканью громадного электронного таймера, он был Алексею гораздо ближе нескончаемой огранки шага на плацу. Здесь, в мире секунд, появился реальный смысл жизни, тогда как на училищном плацу жизнь для него оставалась иллюзорной. И он знал почему. Ни лучший строевик, ни лучший стрелок, ни, в конце концов, лучше всех успевающий курсант не могли претендовать на бесспорный успех – разноцветные стеклянные фрагменты не обязательно составляли неповторимый витраж. Алексей часто думал и об этом, но чем больше он представлял себя офицером, тем более размытой и туманной оказывалась его карьера. Но эти мысли его странным, необыкновенным образом поддерживали. И потому, когда вторая и третья тренировки после учебных занятий или многочасовой стрельбы из пистолета доводили его до полного физического опустошения, курсант все равно точно и ясно видел цель своей ежедневной борьбы.
Тяжелее всего дело обстояло с гимнастикой, и порой отчаяние, бессилие что-либо изменить доводили Алексея до исступления. Хотя контрольные упражнения многоборцев на перекладине и брусьях являлись, по гимнастическим меркам, просто детскими, научиться выполнять в восемнадцать лет то, что должно постигать в шесть, являлось задачей, похожей на изучение теории относительности. Алексей сполна испытал ощущения переростка Ломоносова, севшего в таком же возрасте за парту начальной школы. Прежде всего надо было вернуть к жизни, завести, как старые часовые механизмы, застоявшиеся от времени суставы. Часами он тянул себя во все стороны, пытаясь возвратить утраченную гибкость. Однажды в городском гимнастическом зале Артеменко увидел жуткую картину, как приучали тянуть носочки и держать прямыми ножки маленьких пятилетних гимнасток. Кажущиеся монстрами тренеры усаживали их на маты, упирали розовые, как созревающие яблочки, пяточки на подпорке и медленно, но неотступно давили на коленки так, как будто намеревались сделать из детских ножек лук. Алексей не мог до конца досмотреть это душераздирающее представление, когда неумолимые взрослые добиваются выгибания ножек неестественной дугой; ему казалось, вот-вот детские связки лопнут и ножки вывернутся, как у кузнечика. Но безмятежные улыбки на детских личиках всякий раз возвращали его к жизни, усиливая веру в безграничность человеческих возможностей. «Пластика – это не столько врожденное, сколько достигнутое качество», – стиснув зубы, мысленно повторял Алексей, когда на его выгнутых в другую сторону коленях по его же настоятельной просьбе в течение нескольких минут топтался кто-то из спортивных соратников. К счастью, перекладина и брусья никогда не рассматривались им как расставленные противником противотанковые «ежи». Он не боялся снарядов, безропотно соглашаясь на форсированное освоение упражнений, которые раньше казались ему фантастическими цирковыми трюками. Да и была ли у него альтернатива?! Помогала, впрочем, отличная физическая подготовка, позволявшая вытерпеть сознательное насилие над своим организмом. Правда, здесь неискушенного спортсмена подстерегала другая опасность – он начал одну за другой срывать кровяные мозоли на руках. Каждый раз, когда это случалось, он выл, подобно волку, от безнадежности. Мучительная боль была ничем по сравнению с тем, что несколько дней он не сможет подойти к перекладине и брусьям. И он приспособился выполнять часть упражнений с опорой только на пальцы, бесконечно отжимался в стойке на руках, подтягивался на одних пальцах такое количество подходов, что терял им счет. Число подтягиваний за один раз он довел до тридцати, как в момент поступления в училище, а число отжиманий на брусьях – до полусотни. Освоив через месяц занятий классический мах на перекладине, Алексей сумел выполнить большие обороты, именуемые в народе «солнышком». Правда, не с гимнастическими накладками, как некоторые корифеи военного многоборья, а привязавшись за кисти к стальному пруту перекладины и подложив под ладони обычные четки.
– Ну, ты особо не радуйся, это упражнение полковник Мигулич делает без разминки, в сапогах и военной форме. Так что твой поросячий восторг тут явно лишний.
Отрезвляющие замечания капитана команды, как учительские пометки на полях школьной тетради, оказывались не только точными и лаконичными подсказками, но и руководством к действию. Почти что выпускник, Евгений Реутов поражал Алексея наблюдательностью, рассудительностью и мгновенными реакциями.
– Ты во время гребка руку не доводишь до конца, – сказал он ему после первого же посещения бассейна и тут же показал, как именно надо действовать.
Когда Алексей сделал первые несколько выстрелов из пистолета, услышал за спиной голос Артема Белоконя, своего нового знакомого по команде:
– Пистолет надо пристрелять.
– Пристреливают бешеных собак и пьяных офицеров, – последовала презрительная реплика Реутова, – а стрелковое оружие приводят к нормальному бою.
Алексей оглянулся и увидел, как Артем молча пожал плечами и так скривил лицо, как будто хотел сказать: «Ну и умник же этот Реутов».
И все-таки во время чистки пистолетов именно Реутов проявил к Алексею неподдельный интерес и не только посоветовал подточить носик шептала пистолета, но сам в конце концов выполнил эту довольно рискованную процедуру. Алексея подкупало, что этот парень во всем старается разобраться досконально, пробует буквально разложить задачи и способы их выполнения по полочкам.
Когда он подтачивал пистолетный механизм, Алексей не удержался и спросил:
– А что, если дежурный по училищу проверит или другой кто?
Реутов брезгливо скривился:
– Эти полковники годами не стреляют, а уж что такое «носик шептала» они понятия не имеют, поверь на слово. – Он стал очень серьезным. – Но мы тратим на стрельбу по три часа в день. И поэтому, я считаю, верх бездарности делать этот процесс механическим. Надо максимально полюбить оружие, и тогда оно тоже полюбит тебя.
И в самом деле, Евгений Реутов поражал окружающих невероятной дотошностью, с которой он вникал в организацию тренировок, в подбор упражнений. Всегда собранный до чрезвычайности, он единственный из всей команды читал специальную литературу. Один раз Алексей обнаружил у него в руках Виктора Пекелеса «Твои возможности, человек», другой раз капитан команды с карандашом в руках читал «Систему психофизического регулирования» Ханнеса Линндемана. Этот парень явно отличался неординарностью мышления и целеустремленностью. Однажды утром Алексей и Евгений оказались только вдвоем на тренировке в бассейне, и Алексей воспользовался моментом для разговора.
– Женя, ты прочитываешь громадное количество книг, тратишь свое время на поиски, а потом бесплатно раздаешь советы. Нет ощущения, что ты вручаешь оружие своим более ленивым соперникам?
В ответ Реутов пристально посмотрел Алексею в глаза.
– Ну, во-первых, я уже выполнил мастера спорта и выигрывал чемпионат ВДВ. Это, так сказать, потолок нашей так называемой спортивной деятельности, которой мы отдаем все время и силы. А во-вторых, то, что мы делаем, лишь поиск дальнейшей формулы индивидуального развития. Если ты собираешься по выпуску и дальше «захватывать» командные пункты, то ты зря тратишь время на тренировки. Тренировка – это не самоцель, но возможность раздвинуть границы действия своей личности, это самовоспитание.
Алексей изумился, что Реутов тоже не доверяет идее коллективной силы, что ему чужд бешеный вихрь из брошенных в пекло голубых беретов, которые там призваны сделать рай.
– Выходит, ты не очень-то стремишься отличиться на линейной службе, оказаться, скажем, на войне?
– Если выпадет воевать, каждый из нас должен максимально применять полученные тут навыки и знания. Но я за то, чтобы не участвовать в чужой войне. А для этого стоит хорошенько думать, и думать заранее о своей судьбе. Есть еще одно убеждение: война – всегда шаг назад для воюющего, она претит развитию личности, держит ее в плену.
– А как же тогда училище? Ошибка?
Брови его сломались и застыли углами, на лбу возникла складка морщинок.
– Почему же ошибка? Вовсе нет. Училище научило не просто думать, а думать очень быстро, мгновенно принимать решения в условиях, как у нас говорят, ядерного взрыва. В нашем РВДУ, как ни в одном другом месте, учишься ценить минуту, бороться за минуту. После училища жизнь течет быстрее, чем у подавляющего большинства людей, училище выводит из категории обывателей. Если, конечно, не потерять способность думать.
Реутов говорил эти слова с такой предельной ясностью, что Алексей еще раз поразился тому, насколько далеко он старается заглядывать, насколько вперед он все уже продумал и наметил. Да, Реутов – без пяти минут лейтенант, а сам он – всего лишь второкурсник. Но между ними уже такая колоссальная разница, как будто они из разных миров. Многое оказалось для Алексея откровением. И он запомнил этот разговор, дал себе слово тоже прийти к осознанной деятельности, к пониманию значения каждого шага, который он делает или сделает в будущем.
Как же мир команды отличался от мира казармы! Добираясь до койки вечером, он словно пребывал в сомнабулическом полусне, совершенно нечувствительный к насмешливым уколам сослуживцев или недовольным замечаниям Иринеева. Замкомвзвода совсем не походил на других сержантов, потому что даже те, кто рьяно исполнял свои командирские обязанности, за рамками служебных распоряжений стремились сохранять человеческие отношения. А вот Иринеев был другой. Он не нуждался в друзьях, и даже со старшиной Корицыным у него сложились странные отношения, когда один из них вряд ли мог бы целиком положиться на другого. Но Иринеева нисколько не смущало одиночество среди толпы, он ни с кем не сближался и все свободное время посвящал либо учебе, либо авантюрным похождениям. Независимость от окружающих, нетерпимость к людям и демонстрируемая мизантропия Иринеева имели такие перекосы, что даже капитан Чурц не желал говорить с ним на отвлеченные темы. Да что там командир взвода, ротный, страстный любитель пошутить, старался не пускать в Иринеева стрелы своего язвительного юмора. Вероятно, интуитивно командир подразделения улавливал, что Иринеев, если его задеть, отвяжется на курсантах. Последние его не то чтобы опасались, но избегали; в их среде сержант неизменно имел короткую, но емкую характеристику: «Гнилая натура». Еще на первом курсе Иринеев отличался тем, что тайные издевательства над подчиненными выдавал за ревностное исполнение службы. Например, заставлял по нескольку раз в день драить пол в классе для самоподготовки, в то время как в других взводах влажную уборку делали в лучшем случае раз в два дня. Или отправлял курсантов на уборку территории перед какой-нибудь контрольной работой. Все бы ничего, но в таких случаях среди «уборщиков» оказывались те, кто лучше его владел предметом. Даже невооруженным взглядом в его действиях угадывались инфантильная месть, ревность и мелочность. Но так как командиром он в офицерской среде слыл подготовленным, а непомерное тщеславие не позволяло ему хоть в чем-то уступать другим сержантам, ротный закрывал глаза на душок, а порой и откровенную нечистоплотность в его отношениях с курсантами. Да и кто сказал, что командир должен быть изысканным в речах, как дворянин, и деликатным в поступках, как средневековый рыцарь?! В итоге Иринеев стал настоящим хозяином во взводе, и офицеры не мешали ему создавать атмосферу, насквозь пропитанную ядом его собственной ущербности.
Потому-то курсант Артеменко и был счастлив, что благодаря изолированности спортивной команды он мог сохранять самобытную индивидуальность, оставалась целостной и плотно зашнурованной личностью. Он еще не знал точно своего дальнейшего пути, но уже не был пигмеем, чувствовал себя способным дышать полной грудью и думать. Нипочем ему были мелочные попытки замкомвзвода мстить за новый образ жизни; всяческие, даже изощренные, подлости он воспринимал с молчаливой усмешкой. А Иринеев донимал его методично разработанными, расчетливыми ударами, выдаваемыми под личиной справедливости. Сержант по вечерам часто отправлял его на работы, которые были пропущены им из-за тренировок. Дошло до того, что Иринеев нарочно оставлял Алексею нерасчищенные участки снега или неубранной территории, которые приходилось убирать после ужина – вместо подготовки обмундирования к следующему дню. Последнее смещалось на ночное время, но Артеменко не роптал. «А что, ты в спорт ударился, а твои товарищи за тебя, что ли, должны работу делать? Все должно быть справедливо!» – приговаривал Иринеев, подводя подчиненного к целому холму снега, с которым следовало расквитаться в ближайший час. После трех напряженных тренировок. И Алексей молча брался за лопату, он ни о чем не жалел.
Как только Иринеев исчез, на улице с обмотанной шарфом шеей и с лопатой в руках появился Игорь Дидусь.
– Але, братан, че скучаешь? Смотри на мир проще, и люди к тебе потянутся, – с напускной веселостью извлекал из себя нужные слова Игорь.
– Тебе-то зачем это? – хмуро спросил Артеменко в ответ, кивая на лопату.
– Подышать свежим воздухом перед сном. А потом, по секрету скажу, Иринеев тебе чуть больший кусок нарезал, чем остальным. Так что не шибко справедливо получается… Да ты не переживай! Он просто жаждет значительности, хочет, чтоб его боялись. Это все командиры делают, когда они недалекие, – объяснил Игорь ситуацию, и Алексей был безмерно благодарен другу за это участие. Ему в такие минуты рядом с Игорем становилось легко и просто, появлялось ощущение неизбывной, настоящей мужской дружбы, а истощенные энергетические резервуары тотчас заполнялись новой, невиданной силы субстанцией. Как ракета, заправленная топливом, готова преодолеть земное притяжение, так и курсант после такого общения обретал чувство готовности к полету, к преодолению любых преград.
Они взялись за работу, по привычке отрывисто переговариваясь. Снег был пушистый, не налившийся тяжестью; он тихо падал с томно вздыхающего неба, укладываясь на плац и плечи двух курсантов нежно и осторожно, словно боясь спугнуть их досадной перспективой долгого ночного снегопада. И оттого и сам плац казался бесконечным, не имеющим границ, как степная целина, и они сами чудились себе великими миссионерами, пришедшими в этот мир для преобразований.
Когда работа уже приближалась к концу, Алексей осторожно завел разговор о военной карьере. Как магнитное поле полюса сносит стрелку компаса к северу, так и мысли их неизменно сбивались к будущему, ибо курсантская жизнь состоит преимущественно из мечтаний, размышлений и планов. Они как будто и не жили, а только готовились жить.
– Мне кажется, что ты с самого начала неправильно воспринимаешь училище, – сказал Игорь, налегая на лопату.
– В чем?
– Леша, ты ищешь какой-то высший смысл, которого на самом деле не существует. Если хорошенько посмотреть в корень, нас учат тут не лопатки метать и не крутить нунчаки, а воевать. Ты просто забыл! Воевать успешно, с пониманием дела. Можно быть супербойцом и никчемным командиром, улавливаешь?!
И опять каждый уделил внимание своему снегоочистительному орудию.
– А как же Шура Мазуренко? Он же живой сержант Магвайер из романа Флэнагана «Черви»…
– Я не знаю, какой там выдающийся сержант Магвай… – он нарочито запнулся, словно пытался отделить стеной книжные картины от реальной жизни.
– Магвайер, – поправил его Алексей. Он остановился, упершись обеими руками в лопату.
– Пусть так. Я, кроме мемуаров Жукова, мало что читал. Но зато воспоминания легендарного маршала изучил до дыр. Так получилось. – Тут Игорь перевел дыхание. – Ну просто у нас в части книг художественных вообще не было. В библиотеке только «Крылья над Родиной» и Георгий Жуков. – Он опять сделал паузу. – Так вот, Шура Мазуренко, может быть, и боец отменный, но на Жукова ни капли не похож. И еще. Я видел, каким должен быть хороший офицер, и отца своего от старшего лейтенанта помню до полковника. Да и других видывал… И поверь мне, не вяжутся у меня в голове два понятия – «Шура Мазуренко» и «хороший офицер». Ладно, жизнь покажет. Или, еще лучше, война все спишет, как говорит наш выдающийся тактик. А теперь давай пройдем скребком, так почище будет.
И они разом налегли на широкий металлический скребок – кусок металла с приваренной к нему дугой прочного прута, служившего ручкой.
– Я думаю, хватит, – сказал Игорь, указывая рукой в трехпалой рукавице на уличный фонарь, под которым особенно было видно невероятно подвижный рой белых снежинок, танцующих в своем бесконечном насмешливом танце. – Надежды на то, что вечером снег вывезет машина, никакой. А утром начнется вторая серия.
– Да уж, – согласился Алексей. – А еще конспект по ВДП переписывать.
– Воздушно-десантная подготовка – это, брат, ерунда. Ты, Леша, просто должен для себя окончательно решить, зачем ты сюда пришел. Если стать классным офицером – это одно. Если великим диверсантом – совсем другое. Нельзя воевать на два фронта, загнешься. Я тебе одну поучительную историю расскажу, только между нами, я ее от дядьки слышал во время одной офицерской посиделки. Нам такие вещи на занятиях не рассказывают. Так вот, когда в Афгане готовили штурм дворца Амина, то первоначально один дуболом генерал Гуськов, как сейчас помню, замкомандующего ВДВ, собирался отправить на захват объекта всего 22 офицера спецназа. У него затмение в мозгах возникло. Несколько дней подготовки этой операции всех лихорадило. Ну, ты представь, что человек чувствует, когда его на верную смерть отправляют? И только потом каким-то чудом решение этого идиота в погонах удалось отменить. Ну, дальше ты знаешь в деталях, как мы разбирали на занятиях. Только десантников Востротина добрая сотня была, а бойцов и офицеров спецназа – всего около четырехсот. Но я тебе о другом. О том, чтобы ты сказки о лихих богатырях выбросил из головы. Все наши великие супербойцы на сказочного Рэмбо похожи только дома за стаканом водки. А в жизни больше напоминают бойцовских бульдогов, которых хозяева постоянно водят на собачьи бои.
– Я просто привык думать, что командир должен быть лучшим и первым. Возьми хоть Гнея Помпея, известного полководца Древнего Рима: он в пятьдесят восемь лет копье метал лучше любого из своих легионеров. Вот это пример.
– А толку?! Ты ж сам мне рассказывал, что ему голову отрубили посланники египетской власти, чтобы перед Цезарем расшаркаться. То есть накачанные мускулы мало чем помогли ему в жизни, а вот головы-то толковой и не хватило.
Игорь распрямился и заулыбался тому, как он ловко использовал рассказ товарища против него же. «Ого, – подумал Алексей, – смышленый, хватает на ходу и тут же применяет».
Спорить дальше не имело смысла. Да и Алексей чувствовал, что Игорь говорил не своими словами, скорее пересказками дяди-полковника или его весомых собеседников, но это стало его личным убеждением. Говорил его друг, по сути, справедливо, и именно это не давало Алексею покоя.
Ночью, когда Алексей проснулся, чтобы подшить воротничок и почистить сапоги, он опять вспомнил о разговоре. Действительно, Игорь рационален. Ну сколько раз он, к примеру, делает выход силой на перекладине? Да, может, нисколько, а может – один-два раза. Это его мало заботит, как и то, что он бегает только на твердую четверку. Штанга его не привлекает. По вечерам в расположении роты товарищ не принимает участия в отработке приемов в нескончаемых спаррингах. Да и учится он далеко не на «отлично». Но он какой-то двужильный. Как-то они боролись на городке, так Игорь сумел уложить его, Алексея, на лопатки. Чем очень изумил, уж такого Алексей никак не ожидал. В нем была какая-то сосредоточенная, мужицкая, не показная, крестьянская сила от земли, энергия от сохи. При всей незатейливости и простоватости своего мышления он очень хорошо знал, куда движется. И в этом было его несомненное преимущество, его бубновый туз, припасенный для главного момента игры. Игорь любит армию со всей ее дуростью, вонью, неприглядностью и минутным, пленяющим блеском шагающих по Красной площади гордых колонн. Сам же Алексей армию не любит, хотя боготворит в ней то полуреальное, мистически яростное начало, красивую легенду о колдовской силе воина, мечту, с несбыточностью которой он столкнулся. Мечущийся по сторонам, из-за рассеянных во все стороны усилий он не мог определить свои истинные цели и потому был лишен так необходимого ему иммунитета, умения приспособиться к обстоятельствам.
Алексею была нужна пауза, и он получил ее. Проводя ранней весной контрольное занятие для команды многоборцев, полковник Мигулич открыл рот от изумления. Он явно не ожидал столь потрясающих изменений от новичка. Алексею, конечно, было еще далеко до выступления на чемпионате ВДВ, но место в команде он заслужил честно. Впрочем… если бы курсант Артеменко знал, что начальник кафедры физической подготовки училища давно разгадал истинную природу феноменального роста его результатов, он был бы сам шокирован не меньше бывалого полковника. Курсант пребывал в уверенности, что обретенная им свобода не является самоцелью и автоматически не обеспечит счастья. Это просто точка отсчета, новый старт. Чувство свободы всегда обостряется после ее ограничения. Тот, кто однажды боролся за свою свободу, очень долго об этом помнит. Некоторые не забывают никогда. Курсант Артеменко знал, зачем ему нужна свобода, – с некоторых пор он слишком сильно стремился сделать содержательной свою жизнь, ему очень хотелось обладать конструктивной силой, быть героем с отчетливо выраженной индивидуальной этикой.
Глава восьмая
(Рязань, РВДУ, 1988 год)
1
Порой Алексей сам удивлялся, что слишком часто и много думал о своей будущей семье. Он пребывал в уверенности, что ни многочисленные свадьбы в роте, ни неустанные напоминания преподавателей о правильном семейном строительстве, что прямо пропорционально влияет на карьерный рост, не являлись тайными стимулами для этих мыслей. Но, может, он просто повзрослел, спрашивал Алексей сам себя, когда круговорот разрозненных мыслей в сознании вдруг концентрировался на моделировании будущего и возникали неожиданные образы девушек, вернее одной девушки, в различных житейских ситуациях. Другой человек, эфирный образ подруги, почему-то незримо присутствовал в его будущей жизни, и короткометражные видения постепенно превращали его мысли в настойчивые намерения. Его мысли о семье были совсем иными, нежели те, что он слышал в кругу сослуживцев или даже преподавателей. И это были вовсе не юношеские мечтания о бесплотном, неземном, ангельском, которые сталкивались с неприемлемыми карикатурами натуралистичного курсантского бытия с их заземленными семейными вопросами. Он думал о будущей жене так же, как и обо всей модели своей будущей жизни, – она была уже им самим вписана в выведенную формулу. Мысленно он строил такую модель, зная при этом, что только жена в ней является тем важнейшим связующим элементом, который невозможно создать, его необходимо отыскать. И в сознании курсанта Артеменко образ жены воспринимался как неотъемлемая часть его души, слишком ценная, незыблемая и неприкасаемая для армии и карьеры, что он уже с тайной уверенностью признавал мимолетным, преходящим фрагментом своего развития. Жизненные цели могут меняться, но создание семьи – это шаг навсегда, до самой смерти. И потому шаг этот должен быть предельно выверен. Духовное прибежище, пристань после головокружительного вращения в штормовом водовороте опасной работы, островок счастья, где уютно и тепло независимо от погоды за окном и настроения людей, с которыми соприкасаешься на внешней плоскости бытия, где должно быть все, чего не хватает в мире военных декораций и армейской бутафории. Если бы Артеменко пытался проанализировать свои устремления, то неминуемо понял бы: он желает переживать с кем-то вместе все то, что происходит в его душе, и все то, что он в течение долгого времени держал в себе самом.
Вот какой семьи хотелось Алексею Артеменко, и он в свои двадцать имел очень прочную, годами выношенную установку на этот счет. Его юношеское мировосприятие, взращенное самостоятельно найденными и тщательно отобранными книжными героями, выверенное размышлениями по данной теме, превратилось в тонкую, необычайно чувствительную мембрану. Накладываясь на познания реальной жизни, предполагало поиск неординарных решений во всем, и в том числе в замкнутом пространстве, именуемом семьей. Действительно, это мировосприятие особенно обострилось с тех пор, как он стал вести в училище двойную жизнь. Все чаще обкладываясь книгами в маленькой коморке спортзала, ловко переоборудованной под универсальное помещение команды многоборцев, Алексей в монастырской тишине просиживал за книгами вплоть до самого построения на вечернюю поверку. Утром и днем здесь переодевались на тренировки, в перерывах изучали военные дисциплины, перед смотрами коморка служила мастерской для перешивания погон, починки обмундирования, и, наконец, вечерами тут читали книги те, кому не хватало уединения. И Алексей вновь переживал трогательное ликование детства оттого, что на свете существуют не только наставления по стрелковому или подрывному делу, но даже чуждая военной среде философия. В маленькой спортивной келье было уютно отшельникам и еретикам – сюда не дотягивались уставы и всемогущая командирская длань. Нет, он вовсе не потерял интереса к стрельбищу, оружию, переходам в жару и в мороз, швартовке техники к десантированию в самолете… Но все-таки его ощущения обострились, и он все чаще задавался вопросом, для чего он выполняет ту или иную задачу. Все чаще в дымке его визуальных представлений возникал изогнутый, глазастый знак вопроса, справляющийся о его предназначении как личности. И тогда Артеменко с истовой страстью исследователя хватался за такие вещи, которые по большей части были так же удалены от будущей профессии, как балет от кавалерии.
Он заметно изменился внешне, много читал и обдумывал прочитанное. В глазах его появился лихорадочно-азартный блеск, а в самом взгляде чувствовался некий магнетизм. Юношеское лицо незаметно приобрело мужские оттенки, растущие на подбородке волосы стали жесткими, как на щетке. Руки курсанта обрели мужскую силу, а его ладони были настолько плотными и мозолистыми от спортивных снарядов, что любой это тотчас чувствовал при рукопожатии. Артеменко ощутимо похудел, а легкомысленно добытая штангой мышечная масса незаметно сошла с его тела, как весной сползает с крыши дома старый снег. Он расширился в плечах, стал похож на человека, который умеет управлять каждой своей клеточкой. И если бы он разделся, то поразил бы рельефом каждого сантиметра своего тренированного тела. Но еще больше властью над собственным телом. Теперь он чувствовал предназначение каждого мускула и, казалось, безупречно владел любой мышцей в отдельности. Еще большую трансформацию претерпел его внутренний мир. Алексей уж давно не позволял себе есть в курсантской столовой все, что подадут. Тонны каши и бигуса остались в прошлом, как и повальная, коллективная обжираловка мясом в дни наряда по столовой. Теперь он безошибочно определял энергетическую ценность продуктов, количество потребляемых белков, жиров и углеводов. Без такого контроля Артеменко моментально потерял бы легкость управления телом, а это было несопоставимо со спортивной гимнастикой. Теперь он с улыбкой вспоминал, как, вечно голодный на первом курсе, был способен за считанные минуты выпить банку сгущенки или расправиться с громадным куском мяса. Конечно, он не один был таким, и когда в субботу или воскресенье большая часть роты получала увольнительные, оставшиеся с остервенением набрасывались на пустующие места – столы ведь неизменно накрывали на все подразделение. Но теперь во время ужина он позволял себе лишь ломтик черного хлеба с небольшим кусочком рыбы да чай. А на завтрак – только хлеб с маслом, решительно закрыв шлагбаум для каши. И как ни странно, не чувствовал убийственного голода. Алексей хорошо запомнил, как Мигулич наставлял членов училищной команды: все желания, как и их отсутствие, находятся в голове; убедите голову, и вам будет легко справляться с любыми ограничениями.
По выпуску Реутов оставил команде многие свои книги, и после их детального изучения Алексей великолепно ориентировался в том, какая именно нагрузка приводит к улучшению того или иного качества. И с некоторых пор возмужавший молодой человек владел таинством подведения своей формы к пику в определенный момент времени. Артеменко хорошо ориентировался, когда надо бегать в спокойном темпе по пятнадцать-двадцать километров, а когда будет достаточно и пяти, поделенных на короткие участки ускорений на крутых подъемах, с дальнейшим расслаблением. Он осознал, что расслаблять тело и мозг не менее важно, чем испытывать их предельной физической нагрузкой. И это давало довольно солидные результаты, если принять во внимание, что ни гимнастикой, ни легкой атлетикой он не занимался в детстве. Артеменко почти без труда выполнил нормативы кандидата в мастера спорта, правда, чемпионом ВДВ пока не стал. Но это было для него не столь важно. Гораздо больше сам он ценил то, что ему удалось вернуться к самостоятельному изучению таких вещей, о которых в училище даже не помышляют. После штудирования томов Цвейга, Ремарка, Роллана, Ефремова, Тургенева, Толстого Артеменко постепенно добрался даже до таких сокровищ, как произведения Ницше и Юнга. Он бесстрашно пробовал на зуб даже Бердяева, Шопенгауэра и Рериха и, хотя порой ничего не понимал из прочитанного, с гордостью считал себя подготовленным к любой серьезной беседе.
Правда, была в его самоотреченном поиске и проблема. Бомба замедленного действия, как любил говорить его друг Игорь Дидусь. Однажды, когда они разговаривали под яркой, словно налитой апельсиновым соком, луной – это было после возвращения с ночных стрельб, – Игорь заметил, что вот он много читает, изучает что-то. А зачем, где он надеется применить все это?! Ведь в армии это никому не нужно! Более того, в армии, настаивал Игорь, умный подчиненный только будет раздражать своего командира. «Знаешь, как говорил мой отец? Амбиции, конечно, нужны. Но в армии они, как подштанники, всегда есть, а показывать их необязательно». Алексей не нашелся, что ответить по существу, он в самом деле не знал области применения своих новых знаний. «Я где-то читал, что мы все бредем в грязи, но некоторые смотрят на звезды. И там еще была фраза: миром правят те, кто смотрит вверх, на звезды». И он бросил взгляд вверх, на сочную луну и чистые, будто вымытые, звезды над ними. Ему казалось, что кто-то сверху смотрит на них и ободряет его слова и дела. Пусть даже цель пока не видна… «Ладно, пошли спать, – Игорь ловким щелчком отправил сигарету в урну, – ничего-то ты не понял…» И Артеменко в глубине души соглашался: его друг прав, в армии эти знания не понадобятся. Но отступать от избранного пути он не собирался…
Произошло еще одно радостное изменение в его жизни: к середине третьего курса в роте почти все свыклись с его отсутствием в течение дня, и никто, даже получивший капитанские звездочки ротный, уж не притесняли его. Какое-то время не успокаивался только ревностно относящийся к вольному положению Алексея Иринеев, но Артеменко видел его слишком редко, чтобы расстраиваться по таким пустякам. Иринеев владел изощренным арсеналом подлых приемов. Старший сержант действовал подобно подводной лодке: долго не появлялся на поверхности, затем вдруг выныривал, наносил яростный залп и так же хитро исчезал в глубинах вод. Он мог, например, долго делать вид, что забыл о существовании курсанта Артеменко. Но затем вдруг ставил его в наряд, когда проходило самое важное, контрольное или наиболее интересное занятие. Так Алексей по воле своего замкомвзвода пропустил зачетную швартовку техники, несколько наиболее важных вождений боевых машин и стрельб из редких видов оружия. Все это выглядело запрещенными ударами ниже пояса, но офицеры делали вид, что ничего не замечают. Вероятно, используя методы старшего сержанта, чтобы наказать курсанта Артеменко за его образ жизни. Только прыжки оставались вне запрета – никто не имел право лишить подчиненного прыжков, и надзор тут осуществляла могущественная кафедра воздушно-десантной подготовки. Но вдруг Иринеев будто успокоился. Сначала Алексей не мог понять, в чем дело, затем заметил: ловкие подставы и подножки просто перенаправлены на других курсантов. Что-то, ясное дело, произошло. Но что именно, он так и не узнал – Игорь, слишком скупой на любые признания, в ответ на его расспросы только ухмылялся.
2
Эту девушку Алексей выхватил взглядом из массы других мгновенно, хотя ее вряд ли можно было назвать красавицей. Было бы преувеличением утверждать, что она ему понравилась мгновенно, но ее появление в фокусе его внимания тотчас обожгло, вызвало странное смятение мыслей и ощущений, оставило смутное желание видеть ее еще. Это было странно, потому что в ней отсутствовал слепящий внешний вызов, как у многих других представительниц своего племени, желающих выделиться любой ценой. Горделивый, не без оттенка благородства, профиль, короткая мальчишеская стрижка с нависающей на лоб пышной челкой каштановых волос, необычайно коротко выстриженный затылок – вот и весь портретный ландшафт, лишенный излишеств и роскоши. Но под этой челкой Алексей обнаружил такие потрясающие черные глаза с перламутровыми огоньками, что надолго запомнил пронизывающий насквозь, магический и неотвратимый взгляд, в котором мгновенно угадывалась глубина, неотвратимая бездна души. Глаза ее казались Алексею то влекущими, томными и притягательными, как мягкая шаль, в которую хочется уткнуться; то диковато мерцающими, недоступными и непостижимыми, как звезды; а то задорными, с весело прыгающими в них игривыми зайчиками. У Алексея сердце сжималось и млело, когда зрачки ее вздымались кверху, как будто моля о чем-то небеса, и тогда завораживающе обнажались белки с алыми прожилками. В них-то он и влюбился безвозвратно, они очаровали и испугали одновременно, потому что нечто сакральное, как у Девы Марии, монашеское в них неуловимо сменялось совершенно иными оттенками, неподвластными его пониманию, там проступали колдовские импульсы, немедленно увлекающие в неведомую пучину чего-то демонического. Но когда Алексей всматривался, это выражение глаз тотчас пропадало, как в переливающейся картинке, и тогда он нарывался на детские смешинки и еще больше опасался собственного мужланства и неотесанности. Мысль, которая жила в ее глазах, непрерывно менялась, как бурлящая вода, и они могли обжигать, но могли и завораживать смиренной нежностью, могли проникать в самую глубь его естества и достигать сердца, но могли быть и неприступными, как крепостная стена осажденного города. Ее глаза были необычайно живыми, всегда подвижными и наполненными светом движения. И всякий раз Алексей испытывал давление ее взгляда: то мощный, испепеляющий накал, от которого хотелось зажмуриться, то легкое прикосновение, как дуновение ласкового ветерка.
Впервые Алексей увидел ее рано утром, в бассейне, буднично кипящем от напряжения тел. С шести утра от плеска прозрачной хлорированной воды тут царствовал невообразимый гул, похожий на шум морского прибоя, только искусственный, лишенный жизни природы, без запаха морского берега и ощущения бесконечности воды. Все это не замечала клокочущая энергия мыши, стремящихся покорить воду. Привычно борясь со временем и беспокойно поглядывая во время поворота-кувырка на пунцовые стрелки громадного настенного секундомера, Алексей боковым зрением заметил, что на соседней дорожке кто-то плывет вровень с ним. Да мало ли кто мог это быть, ведь он не бог весть какой пловец по меркам спортсменов. Но если он плыл, тяжело взмахивая руками, хрипя от усилий, то на соседней дорожке кто-то двигался очень тихо, без всплеска и напряжения. Более того, этот кто-то был особой женского пола, худышкой с тонкими, как веточки, руками. В какой-то момент его начала раздражать темная полоска купальника, вытягивающаяся в ровную, параллельную поверхности воды линию при каждом энергичном толчке ногами. Алексей плыл размашистым кролем, бурно замешивая воду вокруг себя, девушка – мягким, лягушечьим брассом, долго скользя в воде без движения и вытянувшись в струнку после каждого энергичного толчка ногами, будто кто подталкивал ее извне или тело ее было умащено специально для снижения трения о воду. Это было невероятно. Алексей прибавил темп, но лишь стал больше задыхаться. Он перестал считать метры и смотреть на секунды, переключив все внимание на упругое тело девушки. «Спортсменка, пловчиха, – успокаивал он себя, – я ей, естественно, не ровня». Но мужское начало протестовало в нем, и невольно он только и думал, чтобы обогнать дерзкую девчонку. На одном из поворотов Алексею это почти удалось, хотя и ценой невероятных усилий: он кувыркнулся, резко оттолкнулся и произвел моторный вихрь ногами, но когда повернул голову для вдоха, увидел, что никого нет ни рядом, ни сзади. Отстала, мелькнуло в голове. И он хотел тоже остановиться, чтобы посмотреть, кто это его изводил в течение десяти или пятнадцати минут. Но застыть посреди бассейна после рывка противоестественно и глупо, и это сразу же выдало бы его. Внезапно ему стало стыдно, и даже в воде он почувствовал, что уши стали горячими от прилившей крови: а вдруг она совсем маленькая, а тут девятнадцатилетний болван вздумал с ней соревноваться. И Алексей поплыл дальше, надеясь рассмотреть пловчиху получше, во время пятидесятиметрового круга. Но когда он вернулся к месту ее остановки, там никого не было. Вернее, занять дорожку собирались двое юношей, очевидно школьников со спортивной группы, но вот девушки поблизости не было. Алексей таращил глаза и под водой, украдкой оглядывал бассейн – тщетно.
Несколько дней он плавал, неосознанно ожидая таинственную русалку. Поймал себя на мысли, что ждет ее и выискивает глазами в водных просторах утреннего бассейна. Наконец разозлился и стал считать ее фурией, случайным темным видением. «В конце концов, я даже не знаю, как она выглядит», – говорил он себе, ударяя пятками по керамическим плиткам. Когда же прошло около двух недель и этот случай затерялся в одном из дальних подвалов его памяти, Алексей, выйдя из душевой, лицом к лицу столкнулся с девушкой – она направлялась плавать. Когда их глаза встретились, Алексея будто ударил разряд молнии, отчего-то перехватило дыхание и что-то комком сжалось под сердцем, а потом также быстро растаяло, растеклось по телу вниз. Он тотчас узнал ее по темным полоскам закрытого, плотно обтягивающего тело купальника. Все перевернулось в его голове: он ожидал увидеть пловчиху и только, а смотрел во все глаза просто на девушку. Точеная фигурка, плотно стянутая спортивным купальником, совсем маленькая, тугая, с едва пробивающимися смородинами юных сосков девчоночья грудь, невообразимо смелый и невозмутимый взгляд. Но все опять улетучилось, как мимолетное марево, и в следующее мгновение она уже прошла мимо, ритмично покачивая слишком узкими бедрами. Прошла так, словно он был не живой человек, не отлично сложенный парень, а стул или дверь. Зато уж он не отказал себе в удовольствии пристально посмотреть ей вслед, хищно потоптавшись глазами на всех выпуклостях и изгибах ее тела. Алексей отметил, что сложением она, пожалуй, даже смахивает на мальчика, но плечи у нее все-таки очень узкие и для мальчика, и для профессиональной пловчихи. Но ее субтильные и еще не до конца развитые формы отчего-то были ему приятны; из них уже улетучивалась девочка, но еще только-только проглядывала будущая женщина, которую, скорее, можно было предугадать, чем рассмотреть.
Плавая в то утро, Алексей то и дело натыкался взглядом на девушку. Он даже злился на себя за излишнюю наблюдательность. От него не ускользали ее не лишенные грации движения, органичность, с которой вода принимала ее тело, позволяя сливаться с нею, становясь частью единого целого. Затем упоительные видения стали повторяться почти каждое утро, и Алексей ловил себя на том, что ему теперь решительно все равно, с какой скоростью плавает эта юная прелесть. Ему хотелось наблюдать за проворной русалкой бесконечно, и в этом присутствовала какая-то нелепая, неестественная и все-таки манящая его игра. Он узнавал ее тело в воде по томной, волнистой полоске вдоль ее купальника, и у него основательно портилось настроение, если этой полоски в хлорно-кафельных угодьях вдруг не оказывалось. Курсант боялся, что она заметит его жадный взгляд. Конечно, у него уже возникло острое желание заговорить с нею, найти повод прикоснуться к ее руке, но воображение его создавало слишком много непреодолимых преград. Потому, несмотря на мысленно отрабатываемые способы заговорить, когда случай внезапно ошпарил его такой возможностью – они опять встретились, на этот раз в фойе, на выходе из бассейна, – Алексей так и не решился подойти к ней. Она же, оказавшись на улице, быстро упрятала маленькую головку в капюшон простенькой куртки из пестрой болоньи и исчезла, кажется нисколько не удивившись несуразному явлению в виде человека в курсантской шинели в бассейне. Алексей же, немного постояв, ожидая, пока выйдут двое его товарищей по команде, нехотя поплелся с ними к троллейбусной остановке, ругая себя за трусость самыми грубыми словами.
– Малая приглянулась? – спросил его один из попутчиков, очевидно заметив, как Артеменко пожирает глазами девушку.
В ответ он только пожал плечами.
– Она еще школьница, бессмысленно увиваться, бесперспективно, – вынес он приговор тоном присяжного, основательно разобравшегося в амурных тонкостях.
Артеменко опять промолчал, весь этот разговор был ему неприятен.
– А ты откуда знаешь, что школьница? – вдруг проявил любопытство второй курсант, на курс младше своих товарищей.
– Да она в прошлом году на кубке города двухсотку брассом выиграла, кэмээса выполнила, мы с Дятловым смотреть приходили.
Молодой курсант в ответ на эти слова присвистнул. Но парень постарше объяснил все на свой лад.
– Только это фигня все, по взрослым она и в двадцатку не втиснется. Техника у нее хорошая, да силенок мало. Она, как жердина, длинная и плоская, вот и скользит по воде. Да только скоро все это для нее окончится, школу закончит и… прощай, спорт! Много я видел таких.
Говоривший был мастером спорта по плаванью из третьей роты, он знал, что говорит. Ему бы гимнастику подтянуть да стрельбу, цены бы не было в многоборье. За силуэтом авторитетной фразы притаилась правда, которая больно резанула по сердцу Артеменко. Вот так и упускают свои шансы люди, неспособные быстро действовать. И он дал себе слово, что сам найдет способ заговорить с понравившейся девушкой. А то, что она худенькая и несформированная, не их собачье дело, решил он. Но чтобы положить конец разговору, внезапно предложил товарищам:
– Ну что, сок идем пить?
По дороге к троллейбусной остановке их манило маленькое кафе, и после плаванья пересохшее горло всегда выпрашивало жидкого, да не всякий раз в карманах водилась мелочь. Парни замялись, и Артеменко провозгласил:
– Так, ладно, сегодня я угощаю. В следующий раз – вы меня.
3
То, что когда-нибудь должно произойти, непременно происходит и порой выбирает настолько неожиданные, причудливые формы, что даже волшебство сказки может показаться блеклым и банальным в сравнении со щедрой на пестрые краски и фантастические изобретения жизнью. Может быть, это связано с судьбой или перемещением планет, а может, с неистовым, долго повторяемым желанием, перерастающим в телепатическое внушение – все это когда-нибудь непременно станет предметом беспристрастных исследований ученых. Незаметно крадучись, в Рязань пришел манерный, самонадеянный май, рассыпав на позеленевшей улице Каляева снежно-белые и яростно-фиолетовые пятна оголтелой сирени, забивающей душистым ароматом все остальные запахи. И однажды идя в увольнение, Алексей не удержался и, украдкой посмотрев вокруг, чтобы не было людей в военной форме, словно это было стыдно или признаком слабости, зачем-то приблизил лицо к обворожительному чуду природы. Окунувшись в сиреневый цвет, он едва не захмелел, и от этого впрыска весенней сладости в душу стало вдруг радостно и празднично, как будто частичка его оторвалась от земли и на миг оказалась в невесомости. Почудилось приближение к яблочным садам далеко-далеко на Украине и почти наяву жужжание пчел на дедовой пасеке. Курсант Артеменко – теперь уже подобравшийся, выросший, обретший силу молодого зверя – усмехнулся: все это было в другой жизни, которая никогда уже не возвратится. И все-таки сквозь толщу лет он услышал отзвук какой-то упоительной мелодии из своей беспечной юности, всегда ускользающей, а сегодня, наоборот, звучащей четко и трогательно, как предвестник чего-то необычайного, знакового.
Обычно Алексей ходил в увольнение вместе с Игорем, но ныне его товарищ, обложившись учебниками и конспектами, собирался избавиться от подлейшей тройки по тактике управления ротой при захвате пункта управления противника. Потому-то Алексей и оказался на мягком стуле за облезлым, некогда лаковым письменным столом библиотеки. Он из жажды все успеть никак не мог избавиться от привычки читать две книги сразу, попеременно: то утопая в эпохальном труде известного австралийского тренера по бегу Артура Лидьярда, то вдруг с ожесточением набрасываясь на обожаемые мелодраматичные, навевающие приятно щемящую в груди тоску новеллы Стефана Цвейга. В стенах училища речь шла исключительно о войне, но, как растение тянется к солнцу, алчущий познать тайны красоты разум стремился к постижению вековой мудрости. Когда он пришел в команду и казарменные вожжи ослабли, жажда знаний стала у Алексея столь же естественной, как желание есть и пить. Оставаясь один, он не раз посещал и библиотеку, дотошно выпытывая накануне у полковника Мигулича о наиболее полезных книжных новинках.
Так Алексей сидел несколько часов подряд, шалея от счастья и лишь изредка выныривая из мира грез и впечатлений в мир реальный. Он поднимал глаза, дабы удостовериться, что умиротворяющая тишина, пышная растительность на подоконниках, бежевая полупрозрачная штора на ближайшем окне, легко колеблющаяся от заглянувшего в приоткрытую форточку ветерка, не сон. Изредка он бросал взгляды на таинственно меняющихся, немногочисленных читателей и высушенную, будто из гербария, маленькую библиотекаршу, вечно копошащуюся у возвышающихся над монументальными колоннами полок с книгами. Она постоянно забывала там свои несуразные, как у сказочной черепахи Тортиллы, очки, и это выглядело настолько забавно, что пару раз Алексей даже улыбнулся. Один раз во время такого невольного обзора, сопровождающего осмысливание прочитанного, его глаза внезапно наткнулись на стройный силуэт у стойки администратора, который показался знакомым. Видение возникло так неожиданно и близко, что у Алексея внезапно свело скулы. Нет, он не мог ошибиться: это были те самые по-детски пухленькие щечки, та самая мальчишеская челка и те самые бойкие подвижные глаза. Алексей оторопел и некоторое время не сводил завороженого взгляда с девушки. Она же преспокойно взяла какие-то книжечки – а ведь не заметить курсанта, белой вороной сидящего в полупустом зале библиотеки, было невозможно – и уселась с ними где-то впереди и несколько сбоку от него. С этого момента Алексей уже не мог сосредоточиться на чтении, а лишь незаметно пожирал глазами не скрытый блузой кусочек оливковой шеи и выстриженный затылок, думая о том, что теперь-то уж он не упустит случая познакомиться. Больше всего он боялся разочарования, но все же решил действовать безотлагательно, то есть как будущий командир. Потому, когда через час с небольшим она поднялась, чтобы сдать книги, Алексей легкой, неслышной походкой охотника ринулся из своей засады к администратору. Он напустил на себя выражение благородного спокойствия, хотя внутри его сердце клокотало от окаянного страха. Но вот он уже оказался настолько близко, что мог разглядеть мягкий шелковистый пушок на ее смуглой коже. Вот он уже чувствовал дурманящий запах ее девичьего тела, свежего, мягкого и смятенного, в своей слабости и женственной первозданности более сильного, чем самый утонченный парфюм… У Алексея голова пошла кругом, его решимость стала испаряться, как вода в кипящем чайнике. Чтобы прийти в себя, он сосредоточил взгляд на корешках книг – то были стихи Есенина и критическая литература о самом выдающемся пиите Рязанской губернии. Но если глаза юноши призывали на помощь мозг, чтобы преодолеть книжные буреломы, то его ноздри против воли жадно и нервно вбирали ее запах – молочно-медовый, как ему чудилось. И вдруг, увидев приближающиеся, неестественно увеличенные линзами очков, глаза библиотекарши, Алексей срочно перешел в наступление.
– А я думал, пловчихи только про плаванье читают, – сказал он, вдруг испугавшись собственного голоса, ножом разрезавшего целомудренную тишину этого заведения. И подумал, что действует слишком неуклюже, с бросающейся в глаза неловкостью. Мысленно он уже проклинал себя за оплошность. Но дело было сделано, и она обернулась к нему, а Алексей, в свою очередь, посмотрел ей в глаза. Там он нашел целый спектр быстро меняющихся эмоций: удивление, настороженность, мимолетное колебание. Наконец дружелюбные искорки приветливо посыпались из них. За это мгновение Алексей пережил вечность; ему казалось, что кто-то свыше решает его судьбу.
– Не только… Еще любят хорошие стихи, – сказала она, выдержав его взгляд. И сказала так многообещающе, словно они уже были знакомы, тем самым она словно призналась, что в бассейне его, по крайней мере, отличала от десятка других утренних посетителей, и, конечно, Алексей расценил это как добрый знак.
Обнадеженный курсант уже открыл рот, чтобы продолжить разговор, но тут библиотекарша, строго вскинув брови, сухо осведомилась у нее о чем-то. И девушка, знакомство с которой уже почти состоялось, вынужденно отвернулась, а затем, вежливо кинув этой карге в очках «До свидания», направилась к выходу. Не сказав ему ни слова! Пока она удалялась, на его вытянувшемся лице за несколько секунд отобразились все танталовы муки. Как же Алексей ненавидел в эти мгновения библиотекаршу! И с каким насупленным и злобным видом он дожидался, пока это медлительное создание поставит свою никчемную закорючку на таком же никчемном формуляре, чтобы почти прорычать ей на ухо свое презрительно-осуждающее «До свидания» и кинуться вдогонку за прелестницей.
Алексей стремглав выскочил на улицу. В обе стороны от крыльца двигались равнодушные прохожие. Их невозмутимость и отстраненность в этот момент сводили его с ума. Куда бежать, где теперь искать ее?! Машинально нахлобучив на голову фуражку и впервые после поступления в училище не проверив машинальным движением руки на ощупь, все ли застегнуты пуговицы на кителе и на месте ли кокарда фуражки, он рванулся в одну сторону, но, преодолев с невероятной быстротой шагов двадцать, тут же передумал и, сам не зная почему, избрал противоположное направление. Неужели он ее потеряет? Форменный идиотизм! От безнадежности судорога молнией пролетела вдоль тела, оставив холодный след внутри. Когда же он снова поравнялся с массивным крыльцом библиотеки, от неожиданности выпучил глаза: девушка, как ни в чем не бывало, только выходила из здания. В голову ему ударила буйная волна стыда: она видела его мечущимся, явно ищущим ее. Ему стало нехорошо от этой мысли. А вдруг она стояла и наблюдала за ним – вот живой комикс! Как все глупо и бездарно! Ну и пусть! Пусть знает, что он именно ее ищет. Так даже лучше. И после этого самопрограммирующего решения он вдруг собрался, стал смелее, напористее. Как хищник, крадущаяся поступь которого выдает его планы, он уже не скрывал свой замысел. «Ввяжемся в бой, а дальше посмотрим», – по-военному приказал он сам себе.
– О-о-о, – протянул Алексей, от неожиданности теряя слова и стараясь выхватить их из воздуха, как выброшенная на берег рыба, – я был уверен, что мы еще увидимся. Я хотел… кое о чем спросить…
– О чем же? – она слегка улыбалась. Не то смеясь над его незадачливостью, не то ободряя. Но отступать было некуда, да и невозможно.
– О твоем плавании и о… Есенине. Но, для начала, о твоем имени.
«Черт, не то сказал. Ну и балбес же я! Ну да ладно…» – пронеслось в голове у Алексея, и он опять подумал, как, вероятно, нелепо выглядит, как предательски вытянулось его лицо.
– Зачем? – голос ее зазвучал строго. Но глаза девушки все-таки улыбались, и в них мигали лукавые искорки, которым Алексей очень обрадовался.
– Я пройду с тобой немного, можно? – проговорил он вместо ответа, хотя и так уже шел рядом. Инициатива все еще давалась ему с величайшим усилием. Девушка не протестовала, хотя и не поощряла его стремления. Но Алексей улавливал, что ей приятно внимание курсанта с тремя нашивками на рукаве, то есть вполне взрослого и вполне серьезного молодого человека. По правде говоря, только эти ярко-желтые нашивки и поддерживали его дух сейчас, будь он в рубашке и джинсах, провал был бы обеспечен.
– У вас все такие там в училище?
– Какие?
– Напористые.
– Наоборот, мы очень вежливые. Но у нас жизнь суровая, вот нам и приходится все делать, как последний раз в жизни.
Алексей болтал, сам не зная что и не вполне понимая, как из его уст выплескивались очереди слов. Их поток на время стал его защитным панцирем, кольчугой. Она засмеялась, запрокинув голову, и Алексей не преминул воспользоваться моментом ослабления обороны, как ему показалось, скорее внешней, чем действительной.
– Как тебя зовут? – Сам того не подозревая, Алексей пожирал ее глазами.
– Аля, – ответила она просто и с вызовом посмотрела ему в глаза, – а тебя?
– Алексей. Видишь, вот и познакомились. Я еще в бассейне хотел с тобой поговорить, но ты так быстро исчезаешь…
– Это просто так ты хотел…
И они вместе прыснули от смеха – нервного, детского, разряжающего каждую секунду возникающую напряженность. А затем Алексей опять взглянул на девушку, уже с меньшей примесью прежней опаски, и отметил про себя, что ему очень нравится ее дерзкая мальчишеская челка и розоватые, немного пухленькие губки, слегка приоткрытые и придающие выражению лица притягательную томность.
– Где ты так плавать научилась?
Спортивная тема была Алексею немного ближе, немного легче для новых зацепок в продвижении к ней, неведомой и влекущей какой-то странной, потрясающей силой. Но он, вероятно, угадал, потому что на ее лицо набежал свет радости.
– Я много лет занималась очень серьезно, но теперь уже, пожалуй… – тут она осеклась и немного смешалась, очевидно, хотела что-то рассказать, но передумала, – но теперь это уже в прошлом… Со временем надо выбирать между спортом и остальной жизнью.
Модуляция ее голоса слегка изменилась, он стал ниже и приглушеннее. На лице вместе с короткой тенью печали или сомнения появилась трогательная полуулыбка.
– Это как?
Неспешной походкой они незаметно вышли на Первомайский проспект, о чем возвестило протяжное гудение троллейбуса. Аля остановилась.
– Мы пришли, дальше я еду на троллейбусе, – сказала она вместо ответа тихо и серьезно.
– Ммм… может, пройдем еще остановку пешком, сама погода просит тебя об этом? – Алексей говорил твердо, но глаза его смотрели почти что умоляюще, и, похоже, ей это было приятно. Он отчаянно искал зацепку. А она улыбнулась как-то ободряюще, с оттенком снисходительной чуткости и, как показалось Алексею, глубоко упрятанной примесью лукавства. По ее лицу с еще детскими щечками скользнул майский луч, осветил его и согрел, и Алексею уже мерещилось, что ей тоже не хочется расставаться, по крайней мере так скоро. Опять какая-то сторонняя сила вмешалась, чтобы помочь ему и приковать ее внимание. Единственное, чего он боялся, так это испортить разговор каким-нибудь неловким жестом или случайным казарменным выражением. И потому он еще тщательнее выверял фразы, взвешивая каждое слово, как будто случайно попал на важный экзамен.
– Ну хорошо… – согласилась новая знакомая, и Алексей с благодарностью взглянул на ее сжавшиеся губки, про себя заметив, что они просто великолепны в моменты принятия решения.
И они прошли еще остановку, затем еще одну и потом уж окончательно побрели пешком, утопая в теплом тополином пуху, который, как первый снег, запорошил улицы, предвещая теплое лето. От восторга у курсанта пересохло горло. И если бы он жестоким самоконтролем не сдерживал движения своих рук и ног, то, верно, танцевал бы и подпрыгивал вокруг девушки, как щенок, которого поманили кусочком сильно пахнущего сыра. Уже совершенно не следя за маршрутом, Алексей сопровождал свою благосклонную спутницу, увлекшись разговором и своими осторожными наблюдениями за нею. Она сама как бы нехотя поведала, что, несмотря на рост спортивных результатов и совершенно реальные перспективы попасть в команду страны, сознательно отказалась от такого пути, чтобы получить образование. Он же рассказал, что занимается в училищной команде и готовится принять участие в чемпионате ВДВ в августе. Затем неожиданно они стали говорить о Есенине, которого он, как, впрочем, и других поэтов, почти не знал и еще меньше жаловал. Алексею порой становилось неловко за свои пробелы, и он пошел в наступление, настаивая, что стихи преимущественно бесполезны, поскольку являют собою тоскливое нытье экзальтированных и не верящих в себя существ. Она же с жаром отстаивала мысль, что стихи играют роль подкидного мостика гимнаста, потому что в момент прочтения резко разжимается и подбрасывает эмоциональное состояние до небес. Говоря о стихах, Аля даже остановилась и заявила, что они дают более глубокое понимание мира, которого не хватает большей части живущих. «Ничто так глубоко не проникает в душу, как звук и ритм, и в этом они больше похожи на песни, чем на содержательные романы», – книжно выразилась Аля, и Алексей подумал, что это вовсе не ее слова, а где-то вычитанные и заученные. Но ему было приятно слушать ее рассуждения, вероятно, еще и потому, что они были так непохожи на те речи, которыми питались его уши последние годы. Она же так увлеклась, что неожиданно прочла несколько строк Есенина о переживаниях собаки, у которой отобрали и утопили щенков. И действительно, после ее слов волна нежности и сладкого, волнующего предчувствия прилила к душе, но Алексей с усилием отогнал ее. «Не забывай, дружок, что при всяких обстоятельствах ты должен быть пусть не грубым, но, как минимум, суровым – в этом мужская суть», – приказывал он себе. В ответ он сообщил, что для него гораздо больше значат суровые книги, а стихи только мешают там, где царствует сила. И она опять не согласилась, заявив, что бывают разные проявления силы, и сила механическая, буйная и убийственная, которая пропагандируется у них в училище, на самом деле вовсе не та сила, к которой следует стремиться. Что истинная сила духа проявляется в вере в добро, милосердии и созидании. Нет, она, конечно, уважает здоровых ребят с развитой мускулатурой, как в американских кинобоевиках, но в жизни все совсем не так. «Это сугубо женское, слабое представление о силе», – подумал Алексей, но ничего не сказал, а только наблюдал за ее живо шевелящимися губами и широко распахнутыми с кофейными зернами зрачков глазами. Она продолжала прозаичнее и трагичнее рассказ о соседе-солдате, потерявшем обе ноги от взрыва на мине в Афганистане. И по ходу короткого, неумолимого повествования зрачки ее сужались, черты лица заострялись, и оно приобретало трагически-скорбное выражение. И теперь, заканчивала Аля, когда она видит порой, как престарелая мать толкает с постоянно влажными от слез глазами его инвалидное кресло, какая неизлечимая безнадежность сквозит в помутневших глазах этого парня, сердце ее сжимается и ее терзают сомнения в справедливости его судьбы. Алексей несмело возражал, что он защищал интересы родины, что в этом всегда состоял мужской долг и так диктовала мужская честь. «Отчего же он теперь забыт всеми? И какова его судьба? Разве такого будущего он хотел, когда учился в школе?» – вопрошала Аля настойчиво, и он не сумел найти ответа на вопрос.
Но затем по инициативе Алексея они плавно вернулись к стихам, он улавливал, что эта тема ей приятна, а значит, сулит больше расположения к нему, если только он постарается стать добросовестным слушателем.
– А что Есенин, ты любишь его стихи, или это дань земляку?
– Вообще-то и то и другое. И третье – у меня скоро выпускной экзамен, и я готовлюсь.
– Так ты школьница?! – спросил Алексей с нескрываемым удивлением и, может быть, даже коротким всплеском невольного, неподконтрольного разочарования. А ведь он, как последний дурак, до этого самого момента не верил в рассказ сослуживца.
– А что, непохоже? – парировала Аля запальчиво, с задором, и щеки ее зарделись едва видимым на смуглой коже румянцем. Но, будто отвлекая внимание, юная собеседница легко коснулась волос, словно поправляя их, и глаза Алексея невольно упали на оголенное запястье, нежное и гораздо более светлое, чем кожа на других, открытых участках тела.
– Мм… не похоже, – признался Алексей, – ты выглядишь, мм… взрослее.
Он сказал неуверенно, боясь, что это может ее обидеть. Но она то выглядела полностью сформированной девушкой, то казалась ребенком. Косвенным, неоспоримым свидетельством юного возраста были формы: уже подмеченный узковатый таз, слишком маленькая грудь и, если приглядеться внимательно, совсем детский, нежный пушок на округлостях щек. В сравнении со взрослой, даже худощавой женщиной она казалась тощей акселераткой. Зато взгляд ее был совсем взрослый, сформированный, уверенный, рассудительный, глубокий. Такой же были походка, манера держать себя, жесты, лишенные вычурности и манерности, но информативные, принадлежащие скорее маленькой женщине, а не перезревшему подростку.
– Мы уже пришли, я живу вон в том доме. – С этими словами девушка коротким взмахом руки, словно желающая упорхнуть птица крылом, невнятно указала на одну из серых однотипных многоэтажек, каких предостаточно в любом большом городе. То ли не хотела, чтобы он сразу знал много, то ли сделала жест непреднамеренно резким.
И тут только Алексей заметил, что они прошли пешком почти всю улицу Маяковского.
– Аля, скажи, – спросил Алексей осторожно, – ты не против, чтобы мы еще встретились?
И после этих слов он затаил дыхание, как будто решалось что-то невыносимо важное, ключевое для его жизни. Аля прищурилась, глубоко проникнув внутрь него испытующим взглядом. «Не может быть, чтобы она была такой юной», – подумалось Алексею.
– С тобой интересно спорить, но… – Тут сердце у него сжалось. – У меня выпускные и… вступительные.
– Я обещаю, что не буду злоупотреблять твоим временем, у меня самого ведь тоже крайне жесткий распорядок. Может быть, в следующее воскресенье, а?
Аля кивнула в знак согласия и уже собиралась уходить, как вдруг у Алексея екнуло сердце.
– Аля, ты не дала мне свой телефон… – тут он помедлил, – ну… на всякий случай. Все-таки у военных бывают свои необъяснимые и непредвиденные повороты, а я хотел бы непременно знать, как тебя найти.
Один миг она колебалась, и Алексей видел, как по миловидному личику птицей скользнуло сомнение. Но уже в следующее мгновение она улыбнулась и сказала: «Запоминай!» после чего довольно быстро продиктовала номер и, не дав курсанту опомниться, направилась к дому своей легкой решительной походкой, в которой покачивания ее узковатых бедер были едва уловимыми предвестниками пробуждающейся женственности. Правда, пройдя несколько шагов, Аля неожиданно обернулась и бросила ему теперь уже совсем ласково, с обнадеживающим жестом прощания рукой:
– Пока… Проверим твою память.
Алексей же, робея и ликуя одновременно, совсем как школьник, украдкой посматривал ей вслед, снова очарованный ее гибкой спортивной фигуркой и невыразимо волнующей, гордой, юной осанкой. Оттого что Аля была высокой, лишь на несколько сантиметров ниже его самого, она казалась ему еще более беззащитной, хотя он знал, что у нее вполне развитая мускулатура спортсменки. В ней странным образом сочетались хрупкость хрустальной чаши и упругость буковой ветки, и именно это сводило Алексея с ума. Он думал о том, сколько противоречивого и в то же время общего возникло между ними. Изумлялся, как много нового, непознанного, такого, о чем он никогда не задумывался, волной накрыло его за столь короткий промежуток времени. Алексей не мог бы назвать ее красавицей, она была обладательницей скорее обычной, даже неброской наружности. Но глаза! То удивительно подвижные, источающие ураганную силу, то кисельные, тягучие, хранящие христианское смирение и сострадание. Что так взволновало его, какие ее черты заставили его сердце стучать, словно его посетил нежданный приступ стенокардии? Было в ней что-то необыкновенное и покоряющее, пожалуй, неподражаемая артистичность. Но еще больше – полыхающий жар обаяния, невиданный Алексеем нигде ранее, приковывающий его, как раба, незримыми цепями. Еще он дивился и страшился обнаруженной в девушке ранней серьезности, развитой не по годам сосредоточенности, отстраненности от свойственных этому возрасту желаний, и даже силе мысли – необычной и своеобразной. Он еще долго шагал, обдумывая происходящее, не в силах заглушить волнение, и только обнаружив себя на широком Первомайском проспекте, где машинально отдал честь проплывающему мимо патрулю, вспомнил, что сегодня увольнение, и впервые за день ощутил острый голод.
Глава девятая
(Рязань, РВДУ, 1988–1989 годы)
1
Самым дивным в рельефном узоре их отношений было абсолютное отсутствие свойственной молодым людям интриги. Волшебное чувство возникло органично, без сложных любовных треугольников, противоречий, двусмысленности, сомнений. Они сразу поверили друг другу и интуитивно доверились. Тухлый запах ревности не омрачал короткой прелюдии жизненной сцепки, а внезапно возникшая совместная мелодия не казалась обоим ни стоической, ни стенающей. Словно добрый кудесник нашептал молодым людям, что это именно тот случай, когда двое оказываются с первого и до последнего мгновения вместе. Алексей порой задавался вопросом «почему» – он слишком боялся спугнуть волшебную сказку. Аля казалась Алексею индивидуумом трансперсональным и сензитивным и при этом невероятно дерзким по отношению ко времени, к окружающему пространству. Алексей мало верил в мистику, но в отношении Али у него не раз возникало непреодолимое острое ощущение, что она появилась в его жизни не случайно. С самого начала они вдвоем как-то даже слишком берегли отношения, словно опасались потерять нить общения. Алексей настойчиво набивался ей в друзья, что в его символике было значимее телесной близости. И они стали друзьями, хотя, откровенно говоря, он нередко украдкой окидывал взглядами, ничуть не слабее, чем у мифического минотавра, ее хрупкое, далеко еще не сочное тело.
В Алине Алексея изумляла постоянная готовность к счастью: ее волновали улыбки, изысканные ароматы, героические биографии, проникновенные стихи, тонкий юмор выхваченных из житейского контекста ситуаций. Алексей никогда не видел ее унывающей, он с каждым днем все больше влюблялся, тонул в ней, и она позволяла ему это делать, медленно снимать с себя покров сокровенной тайны пробуждающейся женственности. Он познавал ее постепенно, как саму жизнь, как человек узнает свой первый счастливый день – неповторимый и незабываемый. От прохладного, манящего нежным янтарным светом рассвета, мимо солнечного накала полудня и, наконец, до райского освобождения во время томного, в маслянистых тонах, многозначительного и плутовского заката. Они начали встречаться осторожно, точно двигались меж зеркал, боясь спугнуть искаженным отражением, скабрезным звуком неведомого слова или чуждым прикосновением. Упражнения в деликатности плавно трансформировали отношения в серьезную дружбу, в которой – и это казалось курсанту в высшей степени странным – не оставалось места совращению и обольщению.
Сначала все носило будто бы будничный характер, но и в нем каждый из двоих угадывал вкус зреющего плода под маняще пахнущей кожурой. Аля как-то сделала Алексею несколько подсказок по технике плаванья, и, к своему удивлению, он уже через неделю улучшил свой результат на стометровке на целых две секунды. «Ты наблюдала за моим плаванием?» – спросил Алексей тоном участкового инспектора, уличающего подростка в хулиганстве. Девушка отмахнулась: мол, вас, курсантов, не так много в бассейне, чтобы совсем не замечать. Но в ее глазах светилось озорство, а за ним он успел выхватывать своим ищущим взглядом ту волнующую туманную поволоку, которая не давала покоя его мужскому естеству. Курсант сиял и благоухал внутри, но страшное подозрение не давало ему покоя. «Так ты видела, как я напрягался, чтобы плыть вровень с тобой?» Насмешница непринужденно смеялась: «Просто хотелось тебя подразнить…» Боже праведный, содрогался он, а он-то полагал, что успешно маскируется, а на самом деле был на виду, как игрушечный солдатик в руках балующегося ребенка! Но он тоже не остался в долгу: узнав, что больше всего девушка любит ландыши, он в последний день первого летнего полевого выхода нарвал громадный букет и совершенно ошарашил ее ароматным лесным подарком. Он на ходу учился делать сюрпризы, хотя порой его неуклюжие усилия напоминали движение слепого котенка в незнакомом помещении. Но на первом этапе отношений принципы всегда важнее содержания. Кроме того, в успехе кое-каких своих поступков Артеменко был уверен абсолютно. Например, чтобы блеснуть перед выпускницей познаниями в поэзии, он тайком выписал в библиотеке два, как он полагал, колоритно-мужских солидных стихотворения: стивенсоновский «Вересковый мед» в переводе Маршака и громадный отрывок Лермонтова из бессмертной поэмы «Мцыри» – тот, где описана грандиозная, душещипательная борьба героя со смертоносным барсом. Алексей вообще-то не любил стихов, но страстное желание найти еще одну общую для них тему заставило его несколько дней покопаться в поэтической сокровищнице человечества. И к своему изумлению, он увлекся не только содержанием, но и звуками, мелодией, которые порождало произношение вслух тех или иных стихотворений. Они походили порой на строевые песни, зажигательные, порождающие сонмище образов и пестрых картин. Юноша исписал стихами половину специально приобретенного для приобщения к поэзии крошечного блокнотика, а их запоминание заняло у курсанта Артеменко ровно два перехода – от Рязани до Селец и обратно. Бодро протопав сто десять километров, он стал обладателем тайных стихотворных шифров, причину приобретения которых поведал лишь Игорю, оторопевшему от странной задумки. Две бессонные ночи в карауле довершили дело: бесконечные повторения с визуальным представлением выхваченных из мрака ночи выпуклых картин героического действа обеспечили прочность новых кристаллов из выложенных в определенном порядке слов. С того дня Алексей держал их как козырную карту, которую готов был в любой момент бросить к изящным ножкам избранного для поклонения ангела.
Правда, курсант не был уверен, что именно эти стихи могут понравиться девушке, так как уже во время первых встреч выяснил, что у них разное представление о силе и добродетели. Но вот количество выученного непременно произведет впечатление. Вскоре Алексей сделал странное открытие: хотя они оба зачитывались книгами, оказалось, их волновали совершенно разные образы. Любя книги без меры – в какой-то момент они заменили ей общение с родителями, – Аля совсем не любила Толстого. Не то чтобы она не читана его, напротив, как оказалось, она перечитана все его ключевые произведения; она не любила и не уважала его героев, и особенно героинь. «К чему романтика и широта души Наташи Ростовой, если она после семи лет замужества уже растолстела, опустилась до неряшливости, скупости и ревности к гувернантке, короче говоря, стана обычной склочной бабой. Ну ты бы стал жить с такой?» – вопрошала она Алексея запальчиво, который краснел и что-то мычал в ответ, ибо совсем не помнил таких подробностей из «Войны и мира». Но вместе с тем он не мог не признавать справедливость ее выводов, хотя и высказал осторожное предположение, что, мол, Толстой намеревался описать эпоху, а не дать миру выдающихся героев. «Возьми любую пару, хоть Кити с Левиным, хоть Анну Каренину с Вронским, хоть Наташу Ростову с Пьером Безуховым – нигде нет никакой духовной связи. Из книг Толстого нужно выносить уроки, как не надо делать!» – убеждала Аля. И Алексей опять что-то промямлил в ответ, толком не помня даже, какие герои откуда взяты; но опять ему нравились ее уверенные рассуждения, снова он был восхищен ее крайне серьезным подходом к жизни. «Потому-то и сам Толстой не признавал настоящей дружбы между мужчиной и женщиной!» – воскликнула девушка с жаром в порыве охвативших ее чувств. «А ты про Толстого-то откуда знаешь?» – не выдержал Алексей, пораженный глубиной ее проникновения в детали. Она вместо ответа вытащила из письменного стола толстую, в кожаном переплете, тетрадь альбомного формата. По ее осторожным движениям Алексей понял, что там хранятся многие сокровенные вещи; он был польщен доверием подруги. Аля немного полистала и нашла цитату. «Друга себе я буду искать между мужчинами, и никакая женщина не сможет заменить мне друга. Зачем же мы лжем нашим женам, уверяя их, что считаем их нашими истинными друзьями?» – зачитала она спокойным, ровным и глубоким голосом. Алексей поймал себя на мысли, что ему доставляет невыразимое удовольствие наблюдать за девушкой, когда она так увлечена. Тонкая смуглая шея с нежным пушком пониже затылка, волнующая выпуклость ключицы, которой ему хотелось коснуться… Он старался изо всех сил вникать в суть ее слов, но раздражители иного плана порой завладевали его вниманием, точно он был заколдован.
Правда, его любимых героев – джеклондонских бродяг Севера – она знала слишком поверхностно, чтобы судить о них, зато охотно и внимательно слушала рассуждения Алексея о мужестве и доблести отчаянных мужчин. Противоречивые нравы светониевых цезарей, о которых прилежный курсант мог бы рассказывать часами, волновали ее куда меньше, чем будущего офицера. Но она отдавала должное его знаниям, восхищаясь ими и так же легко впитывая информацию, как растение в вазоне принимает влагу. Однако больше всего Алексея тронуло одно откровение девушки. Однажды Аля показала ему свою любимую книгу – «Тайс Афинскую» Ивана Ефремова, которая была ее единственной собственностью, остальные она брала в библиотеке. На эту же, пришло в голову курсанту, раскошелилась, наверняка в ущерб одежде или питанию. Зато сама книга имела вид подлинного сокровища, она была тщательно обернута и переложена множеством разноцветных закладок; открыв любую из них, можно было сразу попасть на отмеченный тонким карандашом, искомый кусочек текста. Один из них Аля зачитала, он заканчивался словами: «Действительно, у них нет гетер! Там все жены – гетеры, вернее, они таковы, как было у нас в древние времена. Гетеры были не нужны, ибо жены являлись истинными подругами мужей». Алексей мельком заглянул в книгу и увидел, что последнее предложение подчеркнуто несколько раз. Аля же, сама зардевшаяся и несколько возбужденная прочитанным, объяснила, что успешная, постигшая тайны любви-страсти гетера Тайс с изумлением узнала от Праксителя, что у этрусков не было гетер. «В этом коротком эпизоде заложен величайший смысл: для правильных и здоровых семейных отношений необходима крепкая дружба во всех мирах, от духовного до постельного». Она произнесла эти слова с широко распахнутыми, по-детски наивными и вместе с тем очень серьезными глазами. И Алексей, который еще толком не понял ни отрывка, ни ее рассуждений, уловил совсем другой, важный для него сигнал – поразительно продуманное отношение к семье.
Покончив с цитатами, она вдруг спросила, глядя на Алексея в упор: «А ты веришь в возможность дружбы между мужчиной и женщиной? Настоящей, на всю жизнь?». «Не только верю, но и ищу такой дружбы», – с готовностью признался курсант и заглянул в ее пылающие глаза. Девушка отвела взгляд в сторону, а Алексей внезапно почувствовал озноб, как больной с высокой температурой. Никогда он не предполагал, чтобы еще совсем юная девочка, только-только вставшая из-за парты, могла так много и основательно думать о жизни. И они долго еще спорили о любви, просеивали сквозь сито двойного восприятия все, что знали об успешных и недостойных отношениях, о честности и преданности, о верности и подлости… Но даже не это было самым важным, а то, что им было о чем поговорить. Неожиданно выяснилось, что им достаточно друг друга. Аля оказалась подготовленной и находчивой собеседницей, готовой к острой полемике. Но, к его удивлению, до жестких споров у них не доходило: девушка умела так обыграть ситуацию, что и он совершенно непостижимым образом оставался на пьедестале, поддерживаемый ее ободрением и восхищением, и обсуждаемая тема никак не страдала. Книги, спорт, формулы преодоления трудностей и выбор алгоритма построения будущей жизни являлись бездонными, объединяющими, нескончаемыми темами. Их роднила активность и неистребимое желание яростно жить и формировать вокруг себя не просто область счастья, но неприкосновенное пространство. Развлечения, отдых, материальные приобретения если и присутствовали, то лишь как привязка к чему-то глобальному, вселенскому, осмысленному. Порой Алексею чудилось, что встреча с этой, еще до конца не сформированной девочкой встряхнула его изнутри, заставила сделать крупную ревизию мировоззрения, скорректировала общее миропонимание и смысл существования. «Верно, встреча эта судьбоносная, вечная», – думал он, когда быстрым шагом преодолевал дистанцию к большим входным воротам на улице Каляева.
Впервые Алексей оказался у Али в гостях в середине лета: юная хозяйка, накинув кухонный фартук, жарила отменные, сказочно сочные сырники. Он сидел на крошечной кухне между маленьким старым холодильником и столом и плотоядным взглядом притаившегося в засаде зверя наблюдал, как проворная девушка управлялась с мукой, тестом, творогом, сахаром. Аля была в обтягивающих спортивных брюках и футболке без рукавов, и когда ей приходилось поворачиваться к гостю спиной, чтобы перевернуть пышный сырник или убрать его со сковороды, электрический ток необузданного желания пронизывал курсанта насквозь с головы до низа живота, рассекал его одичавшую в лесах страсть надвое. Давно обделенный нежностью и тайно мечтающий о женской ласке, курсант чуть не умер, когда увидел пятнышко из муки, самым непостижимым образом оказавшееся чуть выше верхней, гиацинтовой, почти младенческой губки. Ах, как бы он желал убрать это пятнышко своими губами. Но это была бы слишком смелая провокация, за последствия которой даже Алексей, приученный к военной дисциплине, не ручался. Потому, когда она приблизилась к столу, он позволил себе лишь легким, почти случайным движением пальца смахнуть белую метку: она поняла и подарила в ответ бесподобную улыбку, от которой сердце завизжало, как тормоза резко сдерживаемой машины. Как же она благоухала! Как трепетала в ней цветущая, переливающаяся красками эмоций, пробуждающаяся женственность! И какую невероятную борьбу вел он с собой, считая, что усмиряет своих распоясавшихся демонов. Алексей не смел делать даже попыток прикоснуться к обожаемому объекту – она уже приняла облик святой и выглядела слишком хрупкой, слишком драгоценной для будничного пользования, а он боялся рисковать, чтобы не потерять ее. А еще он считал необходимым выпавшее на его долю великое испытание мужской натуры, силой загоняя в душную темницу собственные желания.
2
Ее многослойный душевный мир очень скоро стал крупным открытием. Необитаемым островом в океане грез, с обморочно манящим климатом и сочными плодами. Но незащищенным от ветров… Выяснилось, что эта девушка жила на свете совсем одна. Меркантильная тетка, сестра отца, не в счет, зато нельзя было обойти вниманием стратегическую договоренность с нею: та своими связями и умением совать деньги обеспечивала поступление в медицинский институт и содержание будущей студентки, взамен брала деньги за квартиру Али, на самом деле уже проданную. Аля внезапно оказалась бездомной сиротой. Правда, она не видела в этом жизненной трагедии, смело заявив, что образование для нее важнее, а все, что можно купить за деньги, будет куплено позже. «Все, что можно купить за деньги, слишком дешево стоит», – сказала она, запнувшись. Алексей уловил чужие мысли и понял, что не все в этой истории однозначно, но поднимать неприятную для нее тему не осмелился. Вопрос о родителях отдавался в Але мучительной, траурной болью в темных провалах ее глаз всякий раз, когда она вспоминала о них. Мама умерла от рака груди, когда девочке было всего двенадцать лет, и горечь от ее раннего ухода оставила болезненное, неистребимое клеймо в душе Али. Отец, утверждавший, что любил ее больше жизни, оказался неисправимым алкоголиком, готовым пропить даже свою душу. Он, пожалуй, всех по-своему любил. И никого при этом не замечал. Как определила Аля, он брел по жизни тяжело, неизвестно куда, никогда не глядя вперед дальше, чем ступали его ноги. И жизнь в конце концов сыграла с ним злую шутку: позапрошлой зимой он, будучи на добром подпитии, фатально поскользнулся в гололед прямо на ступеньках их парадного и, ударившись затылком о бетонный угол, уже больше никогда не поднялся. Через два дня Аля все с той же теткой, его сестрой, сама уже, как взрослая, участвовала в организации похорон… «Так вот откуда ее феноменальная взрослость, жесткость самоорганизации и такое упорство в преодолении трудностей! Вот откуда ее небывалая ответственность!» – мелькнуло в голове у Артеменко, и он еще больше влюблялся в девушку. Когда Аля говорила о маме, в уголках ее глаз таилась мимолетная печаль, которая быстро сменялась присущим ей неистребимым оптимизмом: «Мне некому было жаловаться, ведь мама умерла, а отцу-алкоголику много ли расскажешь о девичьих переживаниях и страхах? А потом однажды Наталья Леонидовна, мой тренер по плаванью, сказала замечательную вещь, которую я запомнила на всю жизнь: „Любая трудность становится в десять раз труднее, если относиться к ней как к несправедливости. Не бойся трудностей, потому что человеку дано свыше их ровно столько, сколько он может вынести”». Доверие между Алексеем и Алей росло, и откровениям предшествовали долгие беседы и затем не менее продолжительные размышления наедине. Однажды, когда молодые люди перебрасывались фразами о своих семьях, у них завязался долгий, неожиданно взрослый разговор на тему моделирования совместной жизни Адама и Евы. Начав его, как партию в шахматы, они обнаружили к окончанию беседы столь ясную душевную обнаженность друг друга, что их пробил озноб. Аля призналась, что мечтает и сделает все, чтобы создать семью, в которой отношения будут противоположны тем, которые она наблюдала у отца и матери. Сказанное вполне могло бы составить приличный манифест, подобный которому Артеменко никогда не слыхивал в стенах казармы. Больше всего его потрясла фраза девушки о том, что она хотела бы… стареть вместе с любимым человеком. Это было столь неожиданно и проникновенно, что он в порыве эмоций чуть не заключил ее в объятия; она вся дрожала, как от невыносимого холода, и он сам тоже не мог унять дрожь от того феноменального совпадения мыслей, случившегося у них. Курсант не верил в Бога, но ему казалось, что кто-то свыше руководит их мыслями и поступками. Алексею чудилось, что их вместе связали невидимым проводом и включили его в розетку – обоих здорово тряхнуло током. В тот вечер он сказал Игорю, что уже знает, с кем хотел бы связать свою жизнь навсегда. Имя девушки теперь было вписано в сознание ярким фломастером, он думал он ней постоянно и нигде не мог избавиться от настойчивых мыслей. Артеменко думал о ней на тактическом поле, когда руководил учебным захватом командного пункта на импровизированной военной базе. Она была с ним, когда он отчаянно запрыгивал в люк БМД, резко наводил скорострельную пушку на цель и посылал огненную очередь – серию амурных звездочек, выпрыгивающих из ствола со скоростью пятьсот неподражаемых поцелуев в минуту. Ее образ не покидал его ни в момент прыжка из самолета на километровой высоте, ни в бессонном карауле… Отныне она незримо присутствовала везде, словно ангел…
Да, она шла по жизни дерзко, научилась быть непритязательной и неунывающей. Но то, что у нее не было подруг, почти совсем не было, несказанно удивило Алексея. И обрадовало. Тут также веяло сходством с ним самим. «Подруги необходимы для совместного веселья, беспечных дискотек, миндальных вечеринок. Когда же в глаза тебе заглядывает настоящая жизнь, мало кому хочется окунаться в трудности, да еще чужие», – рассудительно объяснила девушка. «Так ты привыкла быть одной?» – «Нет, отчего же? Бывает, что я тоже в вечеринках или дискотеках участвую. Приятельниц у меня хватает. Вот только меня лично такая жизнь не очень впечатляет. Потом у меня всегда были тренировки, сборы, любимые книги… В общем, да. Чаще я люблю быть наедине с собой, чем с девчонками, – они мне кажутся невзрослыми, глупышками». Алексей опешил, неужели даже для него места не найдется в этом образцово выложенном узоре жизненного уклада. Угадав его опасения, девушка засмеялась: «Нет, ну с тобой мне тоже интересно проводить время, если только… если только и тебе интересно». В этот миг она была так очаровательна, как только что раскрывшийся под солнечным светом бутон; Алексей обожал ее как единственную на свете ценность.
Но Аля явно прибеднялась в отношении друзей, просто не делала из этого историй. Дружить, как выяснилось, она умела, в чем наблюдательный юноша очень скоро убедился. Однажды Алексей, хотя и обещал не беспокоить ее во время вступительных экзаменов в институт, не выдержал и позвонил из телефона-автомата, что у входа в училище. Услышав: «Приходи, только скорее», курсант примчался так быстро, как только мог, преодолев расстояние до уже знакомой двери. «Пойдем», – Аля была уже одета в свой нехитрый наряд, состоящий из потертых джинсов и немаркой, кофейного цвета блузки. В руках у нее была какая-то несуразная на вид сумка с неясным, выпуклым содержимым. «Что это?» – поинтересовался Алексей, когда сумка перекочевала в его руку: в ней было завернуто что-то теплое и твердое. «Познакомлю тебя с одним своим другом», – заинтриговала она. «Другом?» – Алексей насторожился. Но, как выяснилось, напрасно. Другом оказался великолепный, абсолютно черный кобель немецкой овчарки, обитающий в доме напротив. Его надо было покормить и выгулять. Аля объяснила, что это собака ее друзей – молодой семейной пары. Борис, офицер-связист, сейчас в Афганистане, а вот его жена Оля неожиданно попала в больницу с аппендицитом, она родом из Орла, и помочь ей тут некому. Но Алексей быстро выяснил, что если б и было кому помочь, то сделать это вовсе не так просто, как казалось. Пес Аксил оказался злым, несговорчивым и коварным – сущий Люцифер на четырех лапах. Но Алю он безумно любил, кажется не меньше, чем хозяйку. Зато Алексея по-мужски ревниво принял за соперника. Хорошо, что Аля предусмотрительно оставила парня на лестничной площадке, а то бы резвой клыкастой атаки не миновать. «Аксил! Сидеть!» – грозно крикнула она, когда через некоторое время курсант вошел в квартиру на ее зов. Команду пес выполнил по привычке, из учтивости и любви к своей временной кормилице. От нетерпения он перебирал передними лапами, почти скреб ими половик, как будто пол под ним был раскаленным. Как оказалось, он стремился поцеловать Алю, и когда она разрешила сойти с места, тут же прыгнул, изловчился и дважды лизнул ее. Девушка слабо попыталась увернуться – ей был явно приятен лохматый ухажер: один раз красный язык прошелся по вздернутому носику, второй раз жадно мазнул по щеке. «Хотел бы я быть на его месте», – сострил курсант. Она лукаво взглянула в ответ, и Алексей на какую-то долю секунды уловил приглашение, заменяющее слова: «Ну, так что ж тебе мешает? А то, может, просто не хватает смелости?» Будто понимая его намерения, Аксил осадил его устрашающе злым рыком, как только он рискнул приблизиться к девушке на дистанцию метра. «Тихо, пойдем кушать», – Аля полностью переключилась на четвероногого, тут же с готовностью завилявшего хвостом в ответ на слово «кушать».
На деле же не то чтобы поцеловать, но прикоснуться к руке Али во время получасовой прогулки было немыслимо: пес охранял ее со всей строгостью, с грубой прямотой предупреждая, что во время прогулки девушка безраздельно принадлежит лишь ему. «Гадкая тварь», – думал о нем Артеменко, хотя не мог не восхищаться этим существом, столь грациозным и легким в движениях, сколь преданным и умным. «Борису и Оле его привезли из-за границы, это чешский вариант немецкой овчарки. Правда, великолепен?! Посмотри, какой отлив шерсти! Но самое главное – он никогда не предаст!» Шерсть кобеля в самом деле была свежа и роскошна; она блестела золотистыми крапинками, и под ней Алексей угадывал отлично тренированные мышцы. И хотя абрикосовая кожа спутницы волновала Алексея много больше собачьей шерсти, он умел увлекать самого себя в сторону от вожделенного объекта и взвинчивать восхищение тем, чем действительно нельзя было не восхищаться. «А ты знаешь, он – настоящая личность, и меня это сразило наповал», – ответил Алексей, искоса разглядывая то пса, то выразительный Алин профиль, который сводил его с ума. Теперь, после двух месяцев знакомства, мысль о телесной близости с ней стала навязчивой и невыносимо ноющей. Но он боялся все испортить.
Алексей удивлялся умению своей подруги ладить с окружающим миром, спокойно вступая с ним в неконфликтные взаимоотношения, – в ней изнутри светилась изумлявшая его тяга к гармонии. Точно так же, как в нем самом присутствовала культивируемая в училище склонность к агрессии. Один раз они оказались вместе на рынке – что-то покупали к скромному воскресному обеду, да еще несколько куриных голов в подарок Аксилу. Вдруг из ворот прямо на них вышла огромная бездомная собака, облезлая, с грязными боками, разорванным, болтающимся левым ухом и явно недобрым оскалом – живой кошмар о четырех лапах. Алексей автоматически встал в позу бойца – он резко гикнул на собаку с притопом ноги, что позволило оказаться ему между зверем и Алей. Псина отпрянула, но сиплый рык недвусмысленно возвещал, что она не собирается посторониться. Человек и животное на миг застыли, приостановились, примеряясь друг к другу, а две тучные тетушки, оказавшиеся рядом, испуганно затараторили, из страха схватившись друг за друга. Алексей же метил, куда бить, если мерзкая тварь кинется на него. Но тут случилось невероятное: Аля преспокойно вышла из-за спины курсанта и приветливо обратилась к животному: «Привет! Как дела?» Собака едва заметно вильнула ей хвостом, но с места не уходила. Аля прикоснулась к руке своего спутника: «Это она из-за тебя.
Ты отойди на два шага – вон туда, и не предпринимай ничего». Парень нехотя повиновался и посторонился, все еще оставаясь наготове, а девушка достала одну куриную голову и заговорила с животным ласково: «Конечно, проголодалась. Всем хочется кушать. На, полакомься». После этих слов она присела, оказавшись почти на одном уровне с собакой, и протянула угощение. Собака облизнулась, а потом доверчиво повиляла заскорузлым хвостом и, приблизившись, осторожно, чтобы не коснуться большими бело-желтыми зубами руки Али, взяла куриную голову и тотчас буквально проглотила ее. «Ну, все, теперь мы пойдем», – девушка выпрямилась и направилась к опешившему Алексею. «Во как с ним надо», – одобрительно кивнула одна из толстушек другой. «Фантастика», – возбужденно прошептал Алексей, когда они прошли десяток шагов. «Никакой фантастики, – объяснила Аля, – все живые существа одинаково хотят любви и ласки – и люди, и это несчастное бездомное животное. Она же кормящая, разве ты не видел?» Вот тебе на, ведь он был уверен, что это был озверевший, может даже взбесившийся кобель. Этот случай стал очередным открытием той скрытой от глаз стороны души, которая освобождается от ширмы только при определенной степени близости.
«Я люблю наблюдать за животными, – говорила она ему вечером тихим, задумчивым голосом, – они как наше отражение в природе. И у них можно многому научиться». – «Чему, например?» – спросил Алексей. «Любви, – ответила девушка серьезно. – Хочешь, расскажу реальную историю любви лебедей?» – «Расскажи», – попросил он, впервые взяв ее ладонь в свои руки, и чувствуя, как голос подруги стал глубоким, волнующим.
«Говорят, у лебедей неземная любовь, и божественный дар им дан, чтобы люди у них учились. Однажды в русской глубинке лесник приметил пару влюбленных лебедей – роскошных, породистых, грациозных. Они прилетали каждое утро на озеро порезвиться, встретить восход солнца, помиловаться, наполнить и водную гладь, и все пространство вокруг чарующими звуками любви. Вибрации от этих звуков расходились на далекие расстояния, как круги на воде от брошенного камня. Но уловить их мог только жаждущий любви человек. А недалекий лесник прельстился легкой добычей и пристрелил лебедя. Ему пришлось буквально драться с лебедкой, чтобы вытащить из озера тело убитой птицы. И с того дня лебедка не давала ему покоя. Она прилетала, стеная и надрывно крича у избы лесника около озера. И можешь себе представить, ее тоска настолько шокировала убийцу, что он потерял и сон, и аппетит. А когда решился наконец положить конец мучениям сходящей с ума лебедки, она сама бросилась на ружье, потому что жаждала смерти».
По мере того как Аля говорила, голос ее вздрагивал, комок подкатил к горлу, и Алексей это хорошо чувствовал. Он даже представить себе не мог, какая она чувствительная и хрупкая натура! При последних словах глаза ее наполнились слезами, но чтобы парень не заметил их, она отвернулась. Аля казалась ему в этот момент такой беспомощной, такой жаждущей ласки и утешения, что он еле удержался, чтобы не обнять ее. Как же ему хотелось погладить ее по голове, защищать ее, любить ее! Но теперь он уже точно знал, что когда-нибудь это обязательно случится.
3
«Я поступила! Поступила!» – закричала Аля, когда он показался в проеме двери. Она ликующе бросилась к нему на шею, как к самому близкому на свете человеку, и прижалась крепко-крепко. Алексей чуть не задохнулся от внезапного счастья, он сжал ее в объятиях так сильно, как только мог, приподняв от земли. Она была невероятно тонкая, легкая, упругая, обжигающе горячая. Она горела вся, и для Алексея не имело значения, что это было – порыв восторга, всплеск эмоций, связанный только с поступлением, или она, фокусница, ловко использовала повод для такого экзотического подарка. Важно было другое: это произошло! Его охватило невероятное волнение; захмелевшая плоть дрожала, и какой-то приглушенный голос из глубин сознания твердил, что барьеры между телами окончательно пали. Но он уже не мог и не желал сдерживать себя; он знал, что не просто безумно желает ее, но желает навсегда, на всю оставшуюся жизнь. Его порыв выходил далеко за пределы физического; физическое соприкосновение становилось только подтверждением уже давно свершившегося духовного и душевного единения. И он впился своими жадными губами в ее благоухающие, сочные, отвечающие на его призыв горячие губы. И вместо слов вышла неправдоподобно долгая, сказочная серия затяжных, удивительно вкусных поцелуев. То было их первое прикосновение друг к другу.
Все неотвратимое произошло с ними в тот же вечер. Настал момент упоительного, долгожданного прорыва накопившегося желания, и самым большим подарком, доставшимся молодому мужчине, оказалось безграничное доверие. Каждый из них двоих удивлялся и тихо радовался тому, что был первым у другого, и ощущение внезапно наступившей зрелости оказалось общим, разделенным между двумя телами и двумя душами. Они выпили эликсир одновременно. Неумелые движения были слишком желанными, чтобы это заметить; просто тела стали логическим продолжением уже существующей связи, общего притяжения, невнятной, мучительной силы, нежно и безотлагательно манящей, влекущей друг к другу. Они коснулись любви – единственного источника непревзойденного счастья. Любовь, как известно, не имеет трафаретов и лекал, а ее азбучные истины распространяются далеко не на каждого желающего. Но они были оба страждущими, оба испытывали смертельную жажду; и вот вода хлынула, возникло яркое видение рая, сияние тонкого, неведомого мира, и чтобы выдержать напор испытаний счастьем, они объединились в нечто целое, неодолимое, нерушимое.
Решение пришло сразу: свадьба в первый лейтенантский отпуск, когда ее первый курс уже будет позади. Вместе они все выдержат! И пусть будет трудно, пусть будут испытания! Если порознь каждый из них готов ко всему, то вместе они определенно станут несокрушимой силой, тараном, пробивающим себе будущее.
* * *
«Ты меня ревнуешь к кому-нибудь?» – спросила Аля, и Алексей немного смутился; они как раз направлялись в ЗАГС подавать заявление. Прошел почти год со дня их знакомства, и отличительной чертой взаимоотношений по-прежнему оставалось отсутствие сцен и всех тех легкомысленных эпизодов, которые придают динамичность и пикантность всякой экранизированной истории любви. Когда влюбленные эмоционально ссорятся, душещипательно расходятся на время и только после каких-то волнующих событий понимают, что не могут жить друг без друга. У них этого не было, и Алексей знал почему: они слишком сильно ценили друг друга, чтобы опустить планку деликатности в отношениях. Потому прямо сказать, что он порой снедаем ненасытным червем ревности, было бы неправильно. Ведь это означало бы, что он не до конца доверяет ей, не говоря уже о том, что он в этом случае не уверен в себе, в собственной мужской состоятельности. Но и отвергая ревность, Алексей мог бы бросить тень на их осторожно взращенную, выпестованную годовалую любовь. Будущий офицер колебался не более секунды, он дал именно тот ответ, который казался ему наиболее честным. «Иногда это случается, но ты никогда об этом не узнаешь», – произнес он тихо, но твердо. «А ты?» – вопрос казался логичным и уместным. Аля посмотрела озорно, но в ее уклончивом ответе Алексей уловил мудрость: «Бывает, но ты тоже об этом не узнаешь. Ведь на таких, как я, женятся, и ты это хорошо знаешь». И разговор перескочил через опасный перекресток на другую улицу, по которой можно мирно и тихо брести, радуясь звуку шагов и двум сблизившимся теням. Как два созревших, свежих, скрипящих от сока яблока, молодые люди искрились от переполнявшего их счастья.
…Если бы они обладали экстрасенсорными способностями медиума видеть собственные ауры, то были бы изумлены: их тонкие тела уже сблизились настолько, что почти стали одной, сдвоенной аурой.
Глава десятая
(Рязань, РВДУ, ноябрь 1993 года – Москва, Военно-дипломатическая академия, 1994–1997 годы)
1
– Товарищ подполковник, старший лейтенант Артеменко по вашему приказанию прибыл.
Подполковник Кротополов бесстрастным сфинксом сидел за столом, покрытым зеленым сукном. Стол тот был обычным, пошарпанным от времени и уже давно отслужившим многим училищным комбатам, потому и велел последний хозяин покрыть его богатой с виду для этого строго-скромного рабочего убранства тканью. Подполковник Кротополов, статный подтянутый мужчина с широким торсом и воинственным крючковатым носом, создал вокруг себя атмосферу, характеризующуюся совершенным немецким порядком и исконно русской неприхотливостью. На столе у него лежала единственная папка. Все остальные многочисленные документы, рабочие бумаги, журналы и книги были в высшей степени аккуратно и равномерно распределены по трем шкафам, сквозь тщательно натертые стекла которых виднелись не менее тщательно выведенные писарем надписи для обозначения содержимого папок. Но тут не было ничего личного, ничего такого, что могло бы прояснить отношение комбата к чему-либо.
Когда прозвучал доклад, комбат, почти не поднимая головы, вскинул брови и измерил вошедшего долгим пытливым взглядом, как будто впервые увидел его и изучал теперь черты лица и детали одежды вошедшего офицера. Возникла некоторая заминка, грозившая перерасти в неловкость, и Артеменко, уже опустив руку от козырька фуражки, не знал, что ему дальше делать. На всякий случай он продолжал стоять навытяжку перед своим начальником. Но в тот самый момент подполковник неожиданно легко и спокойно поднялся из-за стола, и, преодолев внушительную, в несколько шагов, дистанцию к двери, у которой стоял Алексей, властно протянул широкую, в тугих узлах суставов, ладонь для рукопожатия. Алексей слегка опешил, потому что этот жест был несвойствен комбату, но быстро протянул ему свою руку и встретил крепкое, увесистое и такое же властное, как и предыдущие действия подполковника, рукопожатие, в котором тяжелая рука командира оказалась почти что сверху его руки. Они были одного роста и не слишком отличались сложением, хотя обладавший широкой костью комбат казался шире и коренастее.
– Присаживайтесь, Алексей Сергеевич, – с этими словами, произнесенными также спокойно, с разделением каждого слова, комбат указал на жесткий казарменный стул, дополнявший скромную обстановку кабинета. Алексей удивился во второй раз: с чего бы это комбату называть его по имени-отчеству? Ведь на совещаниях всегда звучали директивно-приказные распоряжения, неизменно начинающиеся командным обращением «Старший лейтенант Артеменко», и только после того, как он поднимался и вытягивался перед комбатом с ответным, нелюбимым им кудахтаньем «Я», следовало лаконично-спартанское распоряжение. Несвойственные действия комбата озадачили и насторожили Алексея, и он послушно опустился на стул. И когда уже сел, не зная, куда пристроить руки, тут только заметил, что в кабинете находится еще один человек, в штатском. Он сидел тихо, словно притаившись в дальнем, противоположном углу кабинета и, как оказалось, с особым любопытством наблюдал за всем происходящим. Вдруг с кошачьей проворностью и поразительной мягкостью движений этот человек вынырнул из угла и предстал перед Алексеем и полковником Кротополовым. В руках у него была черная кожаная папка, какие обычно имеют при себе инженеры при посещении подотчетных им объектов. От неожиданности Алексей опять встал. Эти непонятные геометрические перемещения казались ему замысловатой командно-штабной игрой, о которой только он из всех присутствующих понятия не имел.
– Алексей Сергеевич, – опять с непривычной учтивостью обратился к нему комбат, – с вами сейчас побеседуют. Прошу быть предельно откровенным и честным во время этой беседы.
Голос комбата, и без того официальный, звучал теперь почти торжественно, как если бы он объявлял задачу перед строем батальона. От Алексея не ускользнуло, что Кротополов также несколько напряжен, а его долгие намеренные паузы и показное спокойствие являются не чем иным, как тщательно упрятанным раздражением.
Затем комбат повернулся к незнакомцу в штатском:
– Ну что ж, кабинет в вашем распоряжении, у меня как раз будет возможность до обеда лично проинспектировать четырнадцатую роту, пока их командир отсутствует.
– Спасибо вам, Геогрий Семенович. Я думаю, мне понадобится около полутора-двух часов, а затем еще столько же – для беседы со вторым ротным.
– Я пришлю вам капитана Белоконя к пятнадцати часам и предварительно проинструктирую в отношении предстоящей с вами беседы.
И опять комбат изумил Алексея демонстрацией невозмутимости, спокойствия и учтивости, сопоставимых с самообладанием индийских йогов. Но теперь уже по его едва заметно сжавшимся волевым складкам у губ Алексей отчетливо приметил, что подполковнику не очень-то приятна вся эта ситуация. Его нарочитая вежливость, по всей видимости, призвана была заретушировать неприязнь к штатскому, который имел необъяснимый, мистически таинственный статус, дающий ему непостижимые пока власть и влияние. В конце концов Кротополов неторопливо, оставляя после себя гулкий звук шагов, вышел. Алексей остался наедине с незнакомцем, и его мгновенно осенило: «Так вот почему Кротополов зол, его же из собственного кабинета на полдня выдворили».
Штатский с пригласительной полуулыбкой указал Алексею на стул, с которого он полминуты назад вскочил. При этом узкое, симметрично правильное лицо незнакомца с прямым греческим носом оставалось непроницаемым и неподвижным. В то же время глаза его, как два постоянно работающих прибора наблюдения, казалось, действовали независимо от остальных органов и частей тела. Он осторожно, не сводя взгляда с Алексея, переместился на место комбата за стол с зеленым сукном.
– Алексей Сергеевич, меня зовут Александр Дмитриевич. Я представитель Главного разведуправления Генерального штаба. Вы, вероятно, слышали о ГРУ?
– Так точно, слышал. Хотя конкретно у нас об этом никто ничего не знает.
Вопрос, впрочем, был риторический. Незнакомец, сидящий теперь напротив Артеменко в непринужденной позе и поигрывающий остро отточенным карандашом, сделал долгую паузу, как будто оценивая, какой эффект произвела его фраза. Сугубо военное «так точно» в ответе его явно покоробило. Эффект же, в самом деле, оказался глубокий, как будто к телу Алексея приставили электрошоковое устройство и затем произвели разряд немыслимой силы. Неужели это знак, предвестник нового, крутого поворота в его жизни?! Сердце Алексея беспокойно забилось. Чтобы сохранить внешнее спокойствие, Алексей с усилием напряг ноги. К чему это тошнотворное молчание? За несколько тяжелых мгновений, отделявших первый вопрос от второго, Алексей успел рассмотреть собеседника. Темный однотонный костюм придавал его худощавой и довольно щуплой фигуре стройность и аристократичность. Его лицо с тонкими чертами почему-то было бледно, как у чернокнижника, корпящего над тайными бумагами в полумраке кельи. Человек этот выделялся только тем, что ничего в нем нельзя было выделить. Кроме, может быть, этой неестественной бледности. Как же он отличался от румяных, пышущих здоровьем училищных офицеров, каждый из которых являлся яркой, выразительной личностью, хоть и не обладающей тонким вкусом и образцовым образованием. Алексей подумал, что, даже одень их всех в такие вот офисные костюмы, все равно они будут ходить косолапо, неуклюже и выглядеть сборищем арлекинов, собранных вместе для необычной клоунады. Тут же, в обстановке сплошного камуфляжа, где даже офицера с курсантом можно было легко спутать из-за схожести формы, этот грушник с его точеными чертами лица, костюмным великолепием и салонной манерностью выглядел инопланетянином, звездным пришельцем, заглянувшим в училище по дороге на Марс. Но, как оказалось, пришельцем уважаемым и почитаемым, о чем он был осведомлен и потому вел себя распорядительно, по-хозяйски.
– Не буду скрывать, ваше личное дело заинтересовало наших кадровиков, и по рекомендации ваших начальников мы с ним детально ознакомились. Начну с главного вопроса: вы бы желали служить в разведке?
Алексей чуть не захлебнулся воздухом. В этот момент ему вдруг захотелось выкрикнуть, что он на самом деле всю жизнь мечтал о подобной работе, о весомом деле, в котором можно ощутить себя частью огромной и таинственной силы. Вершащей гигантские дела, вертящей, может быть, целую планету – ради великой, разумеется, цели. Но он вполне осознавал, что с этого момента начинается уникальная, рискованная игра и роль свою он должен, обязан сыграть виртуозно, филигранно. Сказать этому столичному щеголю, что он, закопченный в полях старлей, давно ждал его прихода, что годы лепил из себя личность, корпел над томами по ночам и потому давно подготовлен, и что нет на всем свете ничего такого, что могло бы его испугать или отвратить? Нет, ни в коем случае! Тогда что же?! Быстрее, черт бы тебя подрал, отвечай же! Алексей осторожно, чтобы не выдать себя, перевел дыхание и как можно спокойнее, стараясь контролировать каждое слово, ответил:
– Откровенно говоря, я старался служить так, чтобы не только продвигаться по служебной лестнице, но и развиваться… В надежде на появление более… ответственной работы… Поэтому говорю однозначное «да».
После этих слов последовал допрос – неумолимый и настолько детальный, что Алексей вдруг осознал: этот человек знает о нем едва ли не столько же, сколько он сам. А может быть, даже больше. Некоторые вопросы заставляли его вспыхивать, подобно факелу, нырять в подземелье собственных мыслей, и его щеки пылали, он становился все более эмоциональным и заряженным, тогда как собеседник оставался фантастично невозмутимым, бесстрастным и порой напоминал манекена, периодически открывающим отверстием рот для включения записанных аудиофайлов – вопросов. Он все более ощущал себя неуютно и тревожно, как будто дело происходило в подвалах НКВД, и он без одежды стоял под яркой электрической лампочкой, которая раздражающими лучами прожигала его зрачки. Алексей заметил и то, что опытный кадровик незаметно увеличивал темп опроса, оставляя все меньше времени на обдумывание ответа. Сложнее всего стало, когда дошло до специфических вопросов.
– Что вы вкладываете в понятие «духовное развитие»?
Старлей посмотрел на плотно затворенные окна, пару дней назад оклеенные аккуратными полосками бумаги для противостояния наступающим холодам. Он бы с удовольствием распахнул их настежь.
– Для меня это означает постоянно чувствовать приток новых знаний… не только профессиональных, скажем, о появлении новых видов оружия или способов подрыва объектов, но и философского толка. О том, что человек способен совершить, каковы границы его возможностей?
– Зачем вам эти знания?
– Я с детства полагал, что человек не должен проплыть жизнь щепкой по реке, что обязан совершить нечто такое, что является, что может считаться значимым. Для него самого, для окружающих, для государства…
– Став командиром роты, вы начали посещать лекции по иностранному языку вместе с курсантами. Чем, в общем-то, удивили и своего комбата, и некоторых сослуживцев… Обычно командиры рот ограничиваются контролем успеваемости… Откуда у вас такой устойчивый интерес к иностранному языку?
У Алексея зарябило в глазах. Он вспомнил первую реакцию сослуживцев на его филологические изыскания. «Кажется, у парня крыша поехала» – такое было заключение, вынесенное сообща в училищной курилке. Но потом все попривыкли, успокоились…
– Мне кажется, здесь нет ничего странного. Язык в моем понимании является проникновением в чужую культуру, несет много новых знаний и идей…
– Мне сейчас показалось, что вы не до конца откровенны…
– Вероятно, я просто недоговориваю. Для меня самосовершенствование никогда не было пустым звуком, и одной из главных причин поступления в училище явилась как раз реализация желания достичь чего-то большего, чем выпадает на долю обычного человека. Я и поступать-то хотел на спецназ, но меня отговорили из-за небывало высокого конкурса. А сейчас мне кажется, что я просто обязан иметь базовые языковые знания, чтобы лучше понимать проблемы своих подчиненных. Ведь мои курсанты несколько часов в день занимаются языковой подготовкой.
Алексею показалось, что на его собеседника эти слова не произвели должного впечатления. И от ощущения, что он проваливается со своими ответами, говорит не то, что надо, у него заныла от напряжения спина. Он почувствовал, что ноги давно затекли и задеревенели. Алексей хотел сменить позу, но не мог, просто боялся нарушить равновесие тела. Кроме того, он так и не сказал кадровику самого главного: он хотел, уже будучи командиром взвода, поступать в военный институт имени Лесгафта, чтобы потом уйти на кафедру физподготовки. Но Аля, его милая Аля, сумела убедить его, что надо заглянуть в себя глубже и затем рыть яростнее, что переход в категорию училищных преподавателей не решит его проблему, не приблизит к самореализации какого-то весомого, значимого уровня. И она интуитивно угадала, когда предложила делать ставки на языковую подготовку, сферу двойного применения. А ведь как она ловко его обработала! Однажды невзначай подсунула вырезанную журнальную статейку с цитатами какого-то модного философа, из которой он сам вынес новую идею: «Главная жизненная задача человека – стать тем, кем он является потенциально». И он крепко задумался тогда: «А кем я являюсь потенциально?» – «Если пока не знаешь, то всегда можешь точно определить, кем ты не являешься, кем не хочешь быть. Смоделируй будущее и проиграй различные версии на тему, кем может и должен стать командир взвода командного училища через пять-семь лет. И придумай, каким бы ты хотел видеть себя самого», – бросила она, суетясь у стола, как бы между прочим. И он понял. Ее слова слишком часто оказывались вещими. Все ведь беспредельно просто: если он явно не потенциальный генерал и военачальник, значит, его усилия должны быть в иной плоскости. В какой? Он легко вписался в офицерскую стезю. Не раз, когда собираясь на службу не в камуфляже и мельком оглядывая себя, не без удовлетворения отмечал, как идет ему широкий офицерский ремень, как ладно смотрится искусно отбитая фуражка, как великолепно сидят хромачи со вставками. И он порой даже опасался, как бы не превратиться в щеголя Лисицкого, хотя его методы воздействия на роту, уже совершенно не стесняясь, копировал, да и не скрывал того. Думал ли он всерьез когда-нибудь, что ему придется отдавать команды, применять власть? Но ведь это лишь внешние проявления замысловатой игры под названием «военная служба». Многим ли отличаются потентные солдатики молодого Петра Первого от современных? В той же статье он прочитал, что любое господство вызывает бессилие господина, потому что парализует его собственную плодотворную деятельность. Потому-то атрибуты военной власти никогда не могли его полностью насытить, неудовлетворенность не исчезала. Он искал глубоко упрятанные корни этой неудовлетворенности и путался в собственных помыслах, целях и планах. Но, неожиданно создав с подачи жены новый, пусть и туманный ориентир, он сумел почувствовать иной, сочный вкус своих усилий, избавиться от нетерпимости к окружающему миру, сгруппироваться, как перед прыжком. И в конце концов, ведь это сначала он стал изучать языки, а уж потом был назначен командиром роты, а не наоборот… Но вот этих нюансов кадровику лучше не знать…
– Ваш командир говорил, что вы читаете Гёте в оригинале? Это правда?
– Пытаюсь, – зарделся Алексей от мысли, что даже такие подробности его жизни известны собеседнику.
Алексей скользил по тонкой грани между правдой и приводимыми аргументами, но его ответы были наполнены такой убежденностью, что он сам был готов поверить, что все так и есть. На сто процентов.
– Скажите, вам нравится служба в училище?
Собеседник прищурился, как будто они играли в покер и он пытался расшифровать игрока, заглянуть в его карты.
И опять у Алексея перехватило дыхание. Это был один из тех вопросов, от которого он бы поперхнулся, если бы не готовился к ответу. Сказать, что он все еще находится в армии лишь только потому, что пока не знает для себя другого достойного применения, было немыслимо. И дело вовсе не в том, что его с некоторых пор коробят внешние атрибуты военной власти, которые он считал неестественными: поклонение высшим чинам, многих из которых он считал малообразованными солдафонами; дикие многочасовые смотры, бесконечное наведение порядка с крашением бордюров, укладкой дерна и прочими исключительно военными штучками. А в том, что внешние формы давно победили и доминируют над сутью воина, над тем, что он боготворил и ради чего пришел в Рязанское десантное. В том, что армия после разлома на части некогда неприступной империи трещит по швам и народ из нее, причем самый лучший народ, уже уходит. В том, что армия стала мельчать, таять, как добротно вылепленная снежная баба на нежданном солнце.
О, Алексей с удовольствием рассказал бы, как недавно встреченный им на улице Антон Терехов, вечный отличник Тереха, без сомнений ушедший из армии, к его удивлению, раньше всех, поведал о своих сногсшибательных успехах на рынке. Что из их взвода уже и Утюг подался в непонятный бизнес в Москве, что Губа, над которым все смеялись, осел в каком-то банке в Саратове, что уволился даже Сизый, живший всегда в своем неприхотливом тусклом мирке.
И уже совершенным табу стало бы откровение, что в армии он ощущает свое собственное отупение. Что его разум, во всякие времена требующий духовной пищи, стремительно усыхает и отмирает как непотребный военному организму атавизм. Но и сказать, что он безумно доволен службой, означало соврать. Ведь любое вранье таило в себе слишком большую опасность разоблачения, а он страшится почти фантастической осведомленности этого пиджака из разведки. Потому он постарался ответить осторожно и дипломатично:
– На этом этапе она меня удовлетворяет. Однако не буду скрывать, что я всегда готовил себя для чего-то большего. И я чувствую себя способным на большее…
Разведчик встал из-за стола и прошелся по кабинету, как бы для снятия напряжения. Или, может быть, обдумывая новые вопросы. Он вел себя так, как будто Алексея не существует. Подошел к окну, посмотрел на шагающих по плацу курсантов младших курсов. Затем прогулялся почти до двери, все время поигрывая своим карандашом и искоса поглядывая на старлея. Как будто хотел рассмотреть его со всех сторон. Алексей застыл, еще более напрягаясь и сжимаясь внутри. Взгляды эти ему были неприятны. В пытливости, в логических размышлениях офицера из Москвы проскальзывало нечто, что он не мог понять, не в состоянии был уловить ход его мыслей, и это напрягало. Этот человек, делавший по ходу беседы беглые записи в блокноте, как казалось Алексею, видел все его нутро. Когда он прохаживался, то ступал как-то с пятки на носок, нарочно немного хлопая подошвой по линолеуму, и Алексей мельком заметил, как до блеска начищены его туфли. «Верно, дорогая обувь, купленная в модном бутике», – почему-то подумал он, невольно сравнивая со своей, единственной парой тупоносых туфлей, невостребованными пылящихся в шкафу.
– Почему вы остались служить в училище, ведь в некоторых, всем известных местах продвижение по карьерной лестнице гораздо быстрее?
«Вытаскивает из меня признание моей тайной нелюбви к плацу и выхлопным газам боевых машин», – подумал Алексей. – Клещами тянет. Не выйдет, товарищ полковник». Он выстроил пространный, аргументированный ответ.
– Для меня этот выбор был прост. В курсантские годы я занимался офицерским четырехборьем, выступал за училище на чемпионате ВДВ. Мастера спорта мне не присвоили, не добрал по очкам, но результаты мои остаются стабильными и позволяют рассчитывать на третье-четвертое место на состязаниях такого уровня, мы ведь друг друга хорошо знаем. Так сложилось, что именно в нашем курсантском батальоне были наиболее сильные спортсмены и выпуск заметно ослабил училищную команду. Многим из них предлагали остаться служить в училище, но по разным причинам они выбрали иные места службы. Меня предложение кафедры физической подготовки вполне устроило. Тем более что у меня жена – из местных.
– Чем для вас является спорт? Нет ли у вас желания быть спортсменом?
Опять заложил в вопрос противоречие. Ведь выходило, что он остался служить из-за спорта.
– Ну что вы. Спорт – скорее универсальный способ поддерживать хорошую спортивную форму, которая важна при выполнении моих функциональных обязанностей. Хотя как командир роты я могу в большинстве случаев сопровождать тот же переход в учебный центр на машине, но какое тогда отношение будет у курсантов к своему командиру. Я хожу в полевой учебный центр Сельцы в пешем строю, и из пятидесяти пяти километров добрых пятнадцать – двадцать – бегом. Так что моя подготовка имеет прямое отношение к службе, на этом я могу настаивать не кривя душой.
– Вы стали командиром четырнадцатой роты спецназовцев. Мне говорили, что в училище считается большой редкостью назначение, так сказать, непрофильного командира, не из спецназа. Как вы можете это объяснить?
Алексей ждал и этого вопроса. Тут, разумеется, тоже не все было просто. Ответить, что полковник Мигулич замолвил за него слово? После того как Алексей рассказал тому о встреченном в городе Терехове и его художественных описаниях успехов на рязанском рынке, Иван Тимофеевич проговорил с ноткой отцовской строгости: «Леша, ты на рынке промышлять не сможешь. Ну не такой ты человек, чтобы на бюстгальтерах капиталы растить – через два месяца волком выть начнешь». Прозорливый мужик этот Мигулич! Прозорливый и в то же время несчастливый. Может быть, даже из-за своей патологической интеллигентности, какой-то несвойственной грубовато-туповатым военным мягкости под блестящей упаковкой полковничьих погон. Но сказать о Мигуличе больше, чем о начальнике кафедры училища, Алексей считал немыслимым. Ведь так можно бросить тень на человека, который ему уже дважды помог в жизни и которого он безмерно уважал. Как отца.
А управляться со спецами Алексею, конечно, было не просто. Когда он пришел на первый подъем, четвертый курс попробовал его протестировать на прочность. «Фу, что-то траками запахло», – глухо, как из медвежьего логова, проворчал один из сержантов. Спецназовцы считали себя элитой, греша таким же отношением к общему факультету, как вся десантура к остальной «некрылатой пехоте». Но вместо всплеска эмоций новый ротный подошел к двухярусной кровати и перевернул ее, вывалив на пол косматое чудовище с большой головой, которая на показухах использовалась для разбивания кирпичей. Но шипение и злая ругань в адрес нового ротного улетучились, когда пошли марши и кроссы. Все это молниеносно проплыло перед Алексеем, но маленькие темные точки узко посаженных глаз за столом напротив него врезались сверлами в его обнажившуюся беззащитную душу, и выдержать напор этого непрерывного сверления было непросто.
– Я думаю, что дело все в том же спорте. И может быть… – тут Алексей осекся, но затем решительно продолжил: —…и может быть, в особой обособленности спецназа. Спецназ действует маленькими группами, даже не ротами и тем более не частями и соединениями, как ВДВ. И если во втором случае сбой на уровне одного человека допустим и даже предусматривается, то в спецназе буквально от каждого зависит исход боевой операции. Я по своей структуре личности являюсь большим приверженцем повышенной индивидуальной роли… Может быть, это сыграло роль, но точнее может ответить подполковник Кротополов, потому что он давал «добро» на мое назначение и без его позитивной оценки назначение было бы невозможно.
– Подполковник Кротополов хорошо оценивает вашу работу в качестве командира роты. Но добавляет, что при выборе вас в ротные его никто не спрашивал.
Последние слова разведчик особо подчеркнул. Откинулся на спинку стула, скрестив руки на груди. Не верит! Или знает, черт пархатый! С неимоверным трудом Алексей выдержал пронизывающий, с прищуром, взгляд дотошливого разведчика.
– Не знаю, – ответил Алексей четко, с такой же ровной модуляцией, как отвечал командиру батальона. – Мне тут нечего добавить. Вероятно, я не до конца информирован.
Он твердо решил не упоминать Мигулича, не прояснять его роль в своей жизни. Это казалось ему слишком личным, непостижимо интимным. И кадровик отстал. Или, может быть, затаился?!
– Как у вас складываются отношения с сослуживцами?
Тут дело обстояло гораздо проще, и Алексей перевел дух. В корпоративной офицерской среде, прямолинейной и простоватой, ему не было сложно – за спиной железобетонной опорой стояли четыре казарменных года с ночными маршами, воруемыми друг у друга хлястиками от шинелей, бесконечными нарядами, пресной холодной кашей после выбросок, наглыми крысами в солдатских казармах и уборных… В десантной среде, где отношения вообще лежат на поверхности, решительно все и легче, и проще. Тут не любят хитросплетений аппаратных интриг, презирают ужимки и манерность, а все недомолвки можно разрешить за стаканом водки. Что же касается патологической тяги Артеменко к книгам, философии, вообще премудростям, то у каждого свои клопы в голове. Так говаривали в офицерской среде. Главное, что не умничал, не умствовал прилюдно, не поднимал свой авторитет за счет других. И Алексей, отменно за четыре года выучивший повадки грозной стаи, научился держать при себе те мысли, которые были этой стае явно чуждыми. Без труда умел напялить на себя маску грубого беспородного пса войны, при необходимости мог пройтись по кому-нибудь крепким матом, без излишней вычурности.
– Вы знаете семь чудес света? – спросил ни с того ни с сего грушник, абсолютно невозмутимо, не меняя выражения лица.
– Что?! – изумился старший лейтенант Артеменко и, совершенно сбитый с толку таким переходом, удивленно посмотрел на собеседника. Наверное, лицо его выражало недоумение и он выглядел глупо, потому что незнакомец из Москвы улыбнулся – весело и несдержанно, сменил позу, закинув ногу за ногу. Преображение оказалось столь неожиданным, что Алексей онемел. Даже если и не знал ответа, не надо было так реагировать! Алексей мысленно ругал себя за оплошность. Соображал, как выбраться из капкана, но ничего не приходило в голову.
– Семь чудес света. Галикарнасский маяк… Висячие сады Семирамиды… Не приходилось слышать? – и штабник снисходительно улыбнулся. Такая улыбка превосходства порой появляется у учителей, когда они разговаривают с непонятливыми учениками, которых считают безнадежными тугодумами.
Только теперь Алексей понял, что от него хотят, и сжал губы от досады. «Играется, – подумал он, – в кошки-мышки. Ему просто весело». В этот момент он вспыхнул ненавистью к человеку напротив. Возникло вдруг непреодолимое сиюминутное желание схватить его за грудки, приподнять и потрясти. И Алексей представил, как быстро потерял бы форму его столичный пиджак и утратил бы солидность его хозяин.
– Ладно, проехали, – бледное лицо офицера снова обрело привычную непроницаемость. – Часто приходится бывать на родине? – В вопросе кадровика вроде бы не было подвоха.
– Если честно, не так часто, как хотелось бы. – Тут Алексею не надо было прибегать к ухищрениям. – У меня пожилая мама в Умани, это Черкасская область. Но сейчас время очень непростое, нам с женой приходится экономить. Так что лишних средств нет, да и дорога все дорожает…
– Вы испытываете большие финансовые трудности?
Алексей лишь немного поколебался, но затем признался:
– Да, если честно. Но мы справляемся. Понимаем, что это временно.
Легко сказать, «справляемся». Алексей ничего не добавил к этому, хотя жилось им в это время с Алей очень туго. Жили втроем на одно лишь скудное денежное содержание офицера.
Аля к тому же тянула, как горьковские бурлаки на Волге, свой мединститут. Волоком, сцепив зубы, молча… Один только Бог знает, как бы складывалась их жизнь, если бы не ее простая и вместе с тем сакраментальная фраза-попутчица «Ничего, милый, дорогу осилит идущий». И они шли вместе, крепко взявшись за руки. Вместе с недавно родившейся дочерью. Они добрую часть года просто сидели на кашах и картошке. Даже на необходимые ребенку витамины, фруктовые соки выкраивали с огромным трудом. А однажды, о ужас! – он вдруг отчетливо вспомнил, – совсем сидели без денег, и занять не у кого было… Дошли до того, что осталась булка черного хлеба и полбутылки подсолнечного масла. Аля не растерялась вечером, аккуратно разрезала хлеб на кусочки, полила их маслом, посыпала солью… О, он запомнит тот ужин на всю жизнь!
Алексей порой дивился жене, которая даже не взяла академический отпуск. Только похудела, слегка осунулась, под глазами появились темные круги от постоянного недосыпа. Но ее взгляд не стал колким, не потерял ни нежности, ни заботы. Разве что приобрел особую остроту, как у людей, научившихся видеть в ночной темноте так же легко, как при свете дня. И она вовсе не утратила своего очарования, которое, как он уже тогда хорошо знал, зиждется на ее оптимистических мироощущениях, абсолютном позитиве по отношению к происходящему. Только как-то быстро повзрослела, и ее совсем недавно еще детское лицо теперь все чаще казалось серьезным и задумчивым. Не мечтательным, как у набоковской русалки, а деловитым, деятельным. Но как же ему порой было жаль ее, и как он любил ее за эту невероятную, немыслимую стойкость. И еще более удивительную цепкость, живучесть, волю к жизни; ведь даже няньку, которой надо было бы платить из скудного семейного бюджета немалые деньги, она нанимала не каждый раз. То сама пропустит пару, то упросит подругу, а бывало и такое, что Алексей отправлял одного из курсантов из многодетной семьи подежурить с малышкой пару часов.
Заезжий чужак, живущий в достатке блестящей столицы, ему незачем это знать… И действительно, он вдруг легко, как кузнечик, перескочил на другие сферы жизни Алексея, осведомился о школьных друзьях и отношениях с ними, о том, есть ли у него хобби, увлечения. Наконец с особым смаком грушник подобрался к его семейной жизни. Он подробно расспрашивал об обстоятельствах знакомства с Алей, о некоторых, казалось бы, слишком деликатных нюансах, из которых все-таки при желании можно было бы выстроить всю парадигму их отношений. Если бы это не было связано с будущим, застенчивый и скрытный в этих вопросах Алексей ни за что бы не впустил незнакомого человека в камору семейных тайн. Впервые он приоткрывал завесу святая святых перед посторонним и оттого ощущал себя не просто неуютно, но даже несколько уязвленным, как бы раздетым и потому оскорбленным. Собеседник своими вопросами все время приближался к грани дозволенного, но, подобно доктору, прощупывающему тело пациента, тотчас отступал, когда чувствовал болезненные ощущения того. Однако стоило пациенту перевести дух, как его чувствительные пальцы уже исследовали другую часть тела. Никто, даже мать, не задавали ему таких вопросов…
– Вы поженились еще до окончания училища, а ребенок появился лишь недавно. Тут есть какие-нибудь особые причины?
По правде говоря, Алексей ожидал этого вопроса. Но и скрывать тут особо было нечего – все лежало на поверхности.
– Понимаете, после окончания мною училища ситуация в стране стремительно менялась, офицер стал терять свой исконно высокий статус в обществе, беднеть. Поэтому мы с женой решили немного подождать, тем более что квартиру мы снимаем. У жены родители умерли, помощи нам ждать неоткуда. Тем более учеба… Первые годы нагрузка была неимоверная… Потому мы попросту боялись, чтобы это не помешало службе.
– То есть вы с женой не испытываете проблем со здоровьем? Я имею в виду – в этой сфере, – уточнил он с предельной прямотой, которая немало озадачила Алексея. Он впервые подумал о том, что, может быть, если все-таки станет частью этой странной когорты людей, у него не должно быть никаких личных тайн, вообще ничего личного… Алексей на мгновение ужаснулся такой перспективе, но отогнал эту мысль привычной формулой: «Ничего, ввяжемся в бой, а дальше посмотрим! Не может быть, чтобы не было возможностей для маневра».
– Мы абсолютно здоровы, к счастью. Могу вас в этом заверить.
Кажется, въедливый кадровик был удовлетворен. Задав еще несколько уточняющих вопросов, пронырливый разведчик вконец ошарашил Алексея своим последним желанием.
– Алексей Сергеевич, я хотел бы встретиться с вашей женой.
– Если это необходимо, я попрошу ее завтра не ходить в институт. – Алексей быстро соображал, что Аля может сказать такого, что войдет в противоречие с его собственным рассказом. Ничего, вечером он подготовит ее, и все будет нормально.
– Нет, вы меня не поняли. Мне необходимо встретиться с ней сегодня, во второй половине дня, причем тет-а-тет. Она сейчас дома?
Голос москвича звучал спокойно, естественно и уверенно. Свое настойчивое желание столичный кадровик дополнил внушающей доверие и вместе с тем не терпящей возражений улыбкой. Превосходной улыбкой хозяина положения, от которой Алексею стало тошно. Он закусил губу, потому что чувствовал, что выглядит растерянным.
– Нет, она в институте. Но к четырем часам должна вернуться.
– У вас есть возможность предупредить ее по телефону или через посыльного. Я бы хотел посетить ее ориентировочно в пять часов.
Этот иезуит все так же поигрывал карандашом, вставив его между тонкими, аристократическими пальцами. «Такие пальцы, – подумал Алексей, – вероятно, хорошо знают клавиши какого-то музыкального инструмента, но никак не молоток». Волна дикой агрессии по отношению к этому человеку беспричинно, ниоткуда возникла у Алексея, ком злобы подкатил к горлу. Он вдруг подумал, а как бы выглядел этот щуплый городской болванчик, если бы он выхватил необычайно раздражающий его карандаш, сжал в кулаке, подобно иваре, чтобы острый кончик выглядывал из кулака оточенным, опасным наконечником, да и всадил бы ему куда-нибудь в висок… О, для хорошего спецназовца эта задача – вопрос нескольких мгновений. Но Алексей, чтобы скрыть неожиданно нахлынувшее чувство, глубоко вздохнул, как бы из сожаления к ситуации, и ответил как можно спокойнее:
– Я позвоню соседке, которая сейчас с ребенком. Она и передаст ей.
Разговор с Алей произошел у них дома. И хотя Алексей за это время дошел до крайней степени беспокойства и даже был вынужден несколько раз подходить к спортивному городку в казарменном расположении роты, чтобы изматывающим подтягиванием выжать из себя чрезмерные возбуждение и тревогу, беседа прошла успешно. О, как люто в эти мгновения он ненавидел заезжего разведчика, как бы желал свести с ним счеты! Как проклинал свое бессилие и власть обстоятельств, которые он не мог победить, которым был не в состоянии противостоять. Но Алька, его смышленая, прозорливая девчонка, все сделала как надо. Сказала именно то, что хотел услышать этот холеный офицер ГРУ. Но и он показал себя джентльменом. Как потом рассказала Аля, пришел с цветами и шоколадкой, ограничился получасовой беседой с кофе, во время которой был исключительно вежлив и тактичен. Але нетрудно было догадаться, что главными вопросами собеседования с женой будущего сотрудника разведки может быть крепость семейных уз и ее готовность безропотно следовать за мужем хоть на край света. Она рассказывала, что испугалась только в первый момент, когда услышала в трубке напряженный, непривычно дребезжащий металлом голос мужа: «Аля, к тебе сейчас придет гость… Офицер военной разведки… Из Москвы… М-м-м… Ты ответь, пожалуйста, на все его вопросы… М-м-г-г… Без ограничений… Это связано с нашей дальнейшей судьбой…» Но уже через несколько минут она сумела взять себя в руки. И не только. После рассказа жены Алексею показалось, что она контролировала ситуацию и даже слегка пофлиртовала со столичным офицером. Алексей испытал прилив смутной ревности, которую быстро подавил, в душе назвав себя неблагодарным. Но постоянные напряжение и беспокойство начали спадать лишь после отъезда кадровика. Алексею казалось, что он сходит с ума, он ни о чем, кроме этой чертовой академии, не в состоянии был думать в течение нескольких дней…
– Алексей Сергеевич, если ничего экстраординарного не случится, вам в промежутке с февраля по май текущего года придет вызов на экзамены в Академию… В Академию Советской армии, как говорят в народе. – Представитель разведки Генерального штаба теперь казался всемогущим, спасителем, официально ниспосланным ангелом в современном обличье. Он совсем не догадывался о том, что творится в душе у этого странного старлея, старательно штудирующего иностранные языки, международную политику, экономическую географию и классическую литературу…
– Спасибо вам, Александр Дмитриевич… Что… Что бы вы порекомендовали для подготовки?
– Советовать читать тома Толстого или перелопатить гору учебников бессмысленно. Что уже успели освоить, то и ваше. Главное – не робейте в принципе, как с чудесами света, – тут он опять улыбнулся и подмигнул, но в выражении его уже не было снисхождения или надменности, скорее дружеское расположение, – надо уметь быстро переключаться. И даже, если нет ответа на вопрос, надо что-то убедительно и четко говорить, ни в коем случае не теряться. Поработайте над заготовками. Все вопросы, конечно, все равно не предусмотрите, но сама суть такой тренировки полезна… Желаю успеха!
– Еще раз спасибо вам, Александр Дмитриевич, огромное спасибо… – как слова волшебного заговора повторял Алексей, крепко пожимая руку пришельца, явившегося словно по мановению Всевышнего, когда запас энергии Алексея уже начал иссякать. Сколько бы он еще выдержал линейной службы с подметанием луж, крашением травы и привязыванием листьев? Да, теперь он уже руководил всеми этими работами, но, как оказалось, это ему было еще неприятнее, чем в те времена, когда он выполнял подобные приказы. В нем с каждым днем росло ощущение, что это несерьезная работа и он зря тратит время, что его предназначение может быть гораздо выше. Он жаждал миссии, хотя и не знал точно, какой именно. И вот с появлением в его жизни трех магических слов «Академия Советской армии», а именно так в военных кругах называли это элитное военное заведение, Алексей приобрел новый смысл жизни. Правда, в академию еще надо поступить… Но у него, как у бегуна, открылось второе дыхание, стало так легко, как будто за спиной выросли крылья, а внутри появилось еще одно сердце.
2
Поступающих на его потоке было около сорока человек. Уже перед самым отъездом Артеменко узнал, что его коллега капитан Белоконь, командир тринадцатой роты, сам отказался от поступления – в пользу общевойсковой академии имени Фрунзе. «После той академии генералами не становятся, – поведал ему Артем причину своего поступка, – а я хочу взять жизнь за бороду». «Сороки и военные одинаково неравнодушны к блестящим предметам, типа звезд на погонах», – усмехнулся про себя Алексей, пожимая руку командиру соседней роты, с которым немало делили и тяжелых переходов, и водки в промежутках между ними.
Офицеры-абитуриенты быстро объяснили Алексею, что это лишь один из нескольких потоков и ему необязательно знать всех поступающих, как и всем необязательно знать его. Вдруг он поступит, заметил с ухмылкой тучный офицер лет тридцати двух-тридцати четырех с лицом штабного клерка, ранними залысинами и огромным красным носом в форме вставленной морковины, как у героя детского мультфильма.
Недельный вихрь экзаменов закрутил его таким безумным, горячим потоком, что Алексей даже не успел осознать, что находится в столице. Впрочем, мартовская Москва встретила мглистой, необычайно холодной и насквозь пронизывающей водяной пылью, которая выравнивала различия между улицами, зданиями и людьми. Тревожный шепот погоды казался старшему лейтенанту Артеменко зловещим, первой ночью ему мерещилось что-то слизкое, расплывчатое, с гиблым болотным запахом серы, вечной гнили и пугающей непредсказуемостью вязкой тины. От помещений академии на улице Народного ополчения, 52, закупоренных подобно консервной банке, веяло тяжелой аурой неприступного каземата, какой можно ощутить порой в старинном средневековом замке. Везде витал дух монументальности, подавляющий и низводящий новичков до состояния пигмеев в царстве великанов. Но коллектив, за исключением нескольких, явно непростых офицеров из столичных воинских частей, собрался веселый и неприхотливый, хотя и несловоохотливый. Все события интерпретировались с юмором и сводились к шутливой иронии, как будто они приехали не на судьбоносное испытание, а ради забавы решились протестировать свои возможности. На самом деле у многих Алексей угадывал за показной бравадой нетерпение, тщательно скрываемую тревогу и нечеловеческое напряжение. Ему казалось, что он выглядит напряженнее остальных из-за того, что приблизился к ключевому моменту своей жизни, когда дальнейшее ее развитие может с равной вероятностью пойти по нескольким, совершенно различным направлениям. И эта напряженность доводила его до исступления. Как выяснялось по ходу, он знал много меньше остальных об этом заведении, будучи далеким от реалий. Один из офицеров сообщил, что потоки прибывающих офицеров будут сдавать экзамены с февраля по июнь, но конкурса здесь нет вообще. На вопрос «Как это нет конкурса?» он ответил, что, если, к примеру, из их потока подойдут по качествам все, то и зачислят всех. Если не подойдет никто, то и вообще никого не возьмут. Алексею это казалось странным и неправдоподобным, и потому он тихо нервничал больше остальных.
И все-таки, вглядываясь в непроницаемые лица товарищей по испытанию, Алексей с удивлением не находил в них того внутреннего задора и рвения, которые с каждым днем все больше проявлялись в нем самом. Он видел преимущественно прежних линейных командиров и начальников, для которых ни пребывание тут, ни возвращение в части ничего знакового для жизни не несли. Более того, глядя на некоторых из них, он вспомнил слова полковника Мигулича, сказанные ему перед отъездом. Неожиданно признавшись, что его родной брат служит в ГРУ ГШ в Москве, Иван Тимофеевич этим не только приоткрыл завесу интереса тайной государственной организации к скромной персоне старшего лейтенанта Артеменко, но откровенно сообщил, что сама академия переживает не лучшие времена. Пространные объяснения Мигулича сводились к тому, что слишком много поступало и поступает туда «блатных», которые потом отправляются колесить по странам военными атташе и малорезультативными дипломатами. Само время требует рабочих лошадок. Он добавил, что совсем недавно была дана негласная команда разбавить «звездоту», так что ему, Алексею, надо показать прежде всего рвение и цепкость. Алексей надолго запомнил эти слова, часто повторял их про себя, как таинственные мантры. Ничто ему не давалось в жизни легко, и он, как и когда-то поступая в десантное училище, и теперь грыз землю зубами, чтобы победить.
Первыми были тесты, так называемый профотбор. Начался он в семь тридцать утра и завершился только к восьми вечера. Тесты шли непрерывно, постоянно усложняясь. Сложность порой возникала не из-за самих задач, а из-за темпа их выполнения, из-за специально организованных шумовых или зрительных эффектов – внезапно возникающих, вероятно, записанных на диски, криков, отвлекающих вспъштек света. Периодически тесты останавливали, и в большой зал входило несколько медиков, которые настойчиво щупали пульс, измеряли кровяное давление, с отстраненным видом осматривали глазные яблоки. Это походило на лабораторию, где постепенно увеличивается доза вводимого в организм психотропного вещества, а отношение медиков к изучаемым организмам – на отношение к подопытным крысам. После их посещений все продолжалось, причем акцент делался на внимание и способность запоминать детали. Алексей работал, как робот. Но даже он чуть не запаниковал, столкнувшись с задачей максимально быстро описать внешность недавно вошедшего в зал человека, на которого никто почти не обратил внимания. Но успокоился, напряг память и неимоверным усилием направленной энергии и трепещущей воли как бы увидел его вновь внутренним зрением. Этого хватило, чтобы сделать несколько строк и не пропустить пункт. Другая, схожая ситуация возникла, когда начались фильмотесты. На экране мелькали машины, лица людей, дома, какие-то огромные часы на кирпичной башне. Никто понятия не имел, что именно нужно запомнить, потому старались удержать в памяти все. Но информации оказалось слишком много для истощенной от многочасового напряжения памяти. Потому, когда прозвучал вопрос о том, который час указывали часы, только несколько человек, и в том числе Алексей, сумели дать ответ. К концу тестирования Артеменко все чаще испытывал ощущение, что со всех сторон на испытуемых взирают серые каменные лица людей, напрочь лишенных человеческих чувств и эмоций и, возможно, годами тренировавшихся, чтобы не выдать напряжением какого-либо мускула, обострением какой-нибудь черточки своего настроения. Эти непроницаемые физиономии мужчин в одинаково темных костюмах со схожими резиновыми полуулыбками давили на психику Алексея своей нарочитой молчаливостью и взорами надменных, насмешливых, бесцеремонно-наглых менторских глаз.
Затем несколько дней шли экзамены, которые давались Алексею, как ни странно, довольно легко. Везде он ожидал подвоха, но возможностей его собранной в один кулак, сконцентрированной энергии оказывалось достаточно, чтобы все выдержать. Для начала проверяющие опять обратили особое внимание на безукоризненную физическую подготовку командира роты спецназа, занеся его имя в какую-то книжечку в кожаном переплете. Затем он почти без напряжения сдал иностранный язык – сказался почти год не афишируемого, но настойчивого посещения занятий на спецфакультете училища. Правда, при этом чуть не потонул на сдаче русского языка, где требовались знания различных правил грамматики, объяснения правописания различных слов, спряжение глаголов и склонение существительных. Он основательно взмок, прежде чем был отпущен с миром, разумеется не зная, как оценен. Вообще неизвестность более всего изматывала абитуриентов, порой вызывая оцепенение или повышенную нервозность, а то и неожиданную словоохотливость. Никто не знал ни одной оценки, и от этого неведения вся экзаменационная гонка казалась бессмыслицей. К концу недели все абитуриенты были опустошены и доведены до состояния полубредового маразма, как арестанты тридцатых годов, которых специалисты по изощренным истязаниям пытали бодрствованием и бесконечными перекрестными допросами. Наконец осталось пройти серию заключительных собеседований, увенчивающихся многозначительными заседаниями Подмандатной и Мандатной комиссий.
– Товарищ председатель Подмандатной комиссии! Товарищи члены комиссии! Капитан Артеменко для собеседования прибыл.
Ему не предложили сесть, и он так и остался стоять перед широким столом, накрытым пурпурным бархатом, из-за чего возникла забавная ассоциация с советским партийным собранием, в ходе которого его должны были принять в ряды несокрушимой организации, предварительно основательно пропесочив. Алексею бросилось в глаза хитроумное расположение стола, состоящего из нескольких составленных вместе и образующих как бы три стороны квадрата, в пространство которого он вошел. Тотчас у Алексея появилось ощущение незащищенности, ему показалось, что все участники заседания рассматривают его, как экзотического папуаса, прикрытого лишь фиговым листом. Но во взглядах этих он улавливал не только интерес, но и плохо скрытое превосходство стоящих намного выше его на иерархической лестнице, как будто его, смертного, вдруг пригласили на Олимп для отчета.
За столом восседали не менее полтора десятка людей в штатском, среди которых были две женщины. Их особенно проницательные глаза смотрели на него несколько по-иному, чем мужские: если мужчины старались просвечивать его насквозь, как рентгеновский аппарат, женщины заглядывали в самую глубь его сжавшейся в комок души. В центре сидел грузный мужчина с одутловатым лицом и седыми, вероятно напомаженными волосами, аккуратно уложенными назад. Ему-то и докладывал Алексей, почему-то отметив про себя, что только у этого члена комиссии был темно-красный галстук, тогда как другие, заметно моложе и стройнее, избрали менее яркие, приглушенные тона. Алексею бросились в глаза и руки председателя – ухоженные, холеные, с толстоватыми, несколько мясистыми пальцами. Но что выглядело особенно необычным, так это перстень из какого-то благородного металла, в центре которого красовался матово-черный, почти без блеска, камень. Спокойные, проницательные и немного влажные глаза этого человека внимательно смотрели на Алексея сквозь тонкие линзы очков в филигранно выполненной дорогой оправе. Любое движение председатель производил не спеша, чинно, начальственно, и его поза, пронизывающий взгляд, манерность придавали ему вид барона, кажется, действуя на окружающих гораздо сильнее, чем если бы он был в маршальских погонах. Встретив такой импозантный типаж, Алексей в жизни не подумал бы, что он может быть офицером или генералом. Другие в сравнении с ним выглядели проще и неприметнее и, на первый взгляд, дополняли картину его присутствия, как смиренные пажи при гордом господине. Но очень быстро Алексей понял, что это не так.
Собеседование было не чем иным, как очень динамичным перекрестным опросом. Вопросы сыпались с безумной, увлекающей быстротой, как будто он сидел в машине за рулем, управляя ею, а на педаль газа жал кто-то другой. Интуитивно Алексей чувствовал, что его заманивали в лабиринт, усыпляя простыми и понятными вопросами с предсказуемыми и незамысловатыми ответами. Чтобы вдруг в том же темпе задать вопрос с подковыркой, ответ на который мог решить все его будущее. Когда один представитель комиссии спрашивал, другие тщательно изучали Алексея бесцеремонными взглядами. Он понимал, что от них не ускользнет ни одна деталь, ни моргание его глаз, ни нервозное потирание рук, ни оговорки, ни запинки с ответами. Необходим тотальный контроль над всем произносимым, но еще больший – над своим невербальным поведением. И от этого понимания Алексей чувствовал себя неуютно и беспомощно, испарина увлажнила его лоб, появилось непреодолимое желание расстегнуть верхнюю пуговицу кителя. Но он усилием воли подавил все импульсы тела, невозмутимо сложил руки и крепко, до боли, сжал одной рукой запястье другой. Снова возникало ужасное ощущение маленького мальчика, которого взрослые раздели и теперь бесцеремонно разглядывают, нет ли где на теле подозрительного прыщика.
– Перечислите, пожалуйста, состав 6-го армейского корпуса США, – попросил сухощавый человек с залысинами, сидящий где-то далеко слева.
Вопрос был емкий, сложный, но вполне знакомый. И по училищу, и по подготовке к отъезду в Москву. Алексей изложил его с некоторыми, возможно, незначительными неточностями, но в целом успешно. Рассказывая, он с усилием контролировал собственные руки, которые так и хотели взмыть вверх с каким-нибудь предательским жестом. Как Алексею казалось, ему удалось сохранить спокойствие и быть убедительным. Когда он закончил и сделал паузу, другой голос, хриплый и неприятный, теперь уже справа, задал следующий вопрос:
– Расскажите, что вы знаете о политической системе Германии?
Алексей чуть не подпрыгнул от радости. Готовясь сдавать немецкий язык и упражняясь с текстами, он мимоходом, преимущественно с целью расширения лексического запаса, изучил не только политическую систему, но и много сопутствующих данных о политических силах и социальной обстановке в Германии, за которой пристально наблюдали после объединения. Теперь Алексей мог позволить себе продемонстрировать знание предмета с очевидной легкостью и приятным чувством превосходства. Один раз он даже позволил себе слегка улыбнуться. Но когда он произнес фразу: «Германия в настоящее время состоит из шестнадцати федеральных земель», тот же неприятный голос, который из хрипловатого сделался дребезжащим, внезапно оборвал его. Алексей не успел толком рассмотреть того, кто этот вопрос задавал; ему казалось это неприличным. Взгляд Алексея лишь скользнул по ряду сидящих людей и заметил, что глаза загадочного обладателя хрипловатого голоса были по-рыбьи стеклянны, непроницаемы и выпуклы, словно говоривший болел, подобно жене вождя революции, базедовой болезнью. Они произвели на Алексея такое же неприятное впечатление, как и голос.
– Перечислите, пожалуйста, эти земли.
Алексей не был уверен, что сумеет вспомнить все земли, но десяток-то он знал точно. «Ввяжемся в бой…» – сказал бы он себе, если бы мог перевести работу бессознательного в осознаваемое русло сознания. И он начал перечислять, посматривая вправо вверх, как будто намеревался там считывать необходимую информацию. Удивительно, но Алексей никогда не читал названия федеральных земель по-русски, ему было знакомо только их немецкое звучание, и потому, сам того не осознавая, он начал произносить их по-немецки, даже не подозревая о наличии небольших, но весьма характерных различий. Когда же он назвал шесть или семь земель, все еще выдерживая быстрый темп ответа и неумолимо приближаясь к предельной черте своего познания, тот же голос с хрипотцой, теперь уже не имевший неприятных оттенков, милостиво перебил его:
– Достаточно, я вполне удовлетворен ответом.
Алексей перевел дух. Но следующий вопрос его смутил еще больше.
– Что вы знаете о Шостаковиче?
– Что это выдающийся композитор…
– Можете назвать что-нибудь из написанного им?
Алексей опешил. Его познания в музыке ограничивались знанием нескольких гениальных имен да коротким музыкальным произведением Бетховена, известным в музыкально неотесанной среде под названием «Собачий вальс».
– Мне нравится органная музыка Баха, но я не настолько увлечен классикой… – Тут Алексей запнулся, но вдруг вспомнил, что кто-то шутливо рассказывал ему, что пьет, как Шостакович, – из стакана, но, подобно композитору, хорошо знает свою «норму». И Алексей решил рискнуть, нельзя было останавливаться или признать, что он не способен хоть как-то отреагировать на вопрос. И потому он поспешно добавил:
– Но военные восхищаются не только музыкой Шостаковича, но и его особенным отношением к алкоголю. Тем, например, что композитор употреблял только водку, не признавал рюмок и пил исключительно два раза по пол стакана.
Алексей сказал это на выдохе, но когда закончил, у него осталось неприятное ощущение, что он сказал что-то не то. Но, кажется, его ответ кого-то позабавил.
– Скажите, сколько спиртного вы можете употребить, не потеряв чувства контроля над собой?
Опять вопрос задавал кто-то слева, кто – трудно разобрать. Врать что-либо было бесполезно, и Алексей сказал то, что первым пришло в голову.
– Триста граммов в средних условиях.
– А что вы называете средними условиями?
Алексею казалось, что его прижимают к стенке. Откровенно говоря, он и сам не знал, не мог понять, откуда появились и как сорвались с языка эти «средние условия». И ему все труднее было соображать, какие последствия может принести тот или иной его ответ.
– Тогда позвольте спросить, о каком виде алкоголя идет речь?
– Вы знаете, что только евреи отвечают вопросом на вопрос?!
В голосе экзаменатора Алексей услышал неподдельное раздражение и вместе с ним нечто, похожее на приговор. Как будто он переступил черту дозволенного. Но и сам он начинал заводиться от безысходности, которую почувствовал. Теперь ему казалось, что он посреди гладиаторской арены, а все остальные ощетинившимися копьями перегоняют его, беззащитного, с места на место, чтобы поглумиться и затем прикончить. «Ну что ж, нет так нет, – подумал Алексей о поступлении как о провалившемся предприятии. – Ну и черт с ней, с этой академией, теперь уж ни к чему играть глупую роль…»
– Я украинец, и у меня на родине всегда говорили: где хохол прошел, там евреям делать нечего.
Вышло естественно, но слишком грубо, как будто он по-собачьи огрызался на травлю палкой. «Ну и пусть так, все равно уже не поступил», – пронеслось в голове у Алексея. Сначала от этой метнувшейся мысли у него сжалось сердце и заныло от тоски. Оттого что придется рассказать Але о своем позоре, признаться, что не сумел использовать данный судьбой шанс. Но сразу же после этого по всему телу разлилось облегчение: напряжение спало, стало легко и непринужденно. Он как будто в одно мгновение испытал волшебство превращения и стал самим собой, мужиком-десантником из Рязани, готовым, как обычно, «с неба, на землю, в бой!»
– У вас не было желания служить на Украине? – спросил совсем другой, тихий и ласкающий слух голос женщины.
– Нет, я всегда считал, что присягу солдат должен давать один раз.
– В какой позе вам нравится заниматься сексом? – это был все тот же женский голос. Она смотрела на Алексея в упор, буравила глазами, но лицо ее оставалось бесстрастным и удивительно безэмоциональным. Никакого любопытства, никакого личного интереса.
– Раком, – сам себе удивляясь, неожиданно выпалил Алексей.
Кто-то из комиссии хмыкнул. Вдруг прозвучал уже знакомый хриплый и неприятный голос справа, который спрашивал его о Германии.
– Вы ведь немецкий учили?
– Так точно!
Теперь Алексей совершенно спокойно, не стесняясь своего нагловатого упрямства, мог хорошо рассмотреть человека, задававшего вопрос. Это был немолодой мужчина в однотонном сером костюме, совершенно лысый или, может быть, бритый, с белой щеткой пышных усов под греческим носом. Лицо его было неестественно худым со впалыми щеками и отметинами продольных морщин на них. Что-то в нем было призрачное, гипнотизирующее, одновременно и влекущее, и отталкивающее. Он вроде бы сливался с присутствующими неброскими цветами одежды, так характерными для всего состава собрания, и в то же время выделялся особенной, мерцающей подобно звезде индивидуальностью – голосом, странным сочетанием усов и лысой, как бы намеренно обнаженной, головы, но больше всего своими невероятными, будто нечеловеческими глазами, которые светились изнутри.
– Но ведь в училище вы не спецфакультет заканчивали, и язык не был вашей специализацией.
– Так точно! – почему-то опять казарменно повторил Алексей, набычившись и слегка наклонив голову, будто готовясь забодать экзаменатора. Он теперь пребывал в совершенном согласии с собой, ни на что не рассчитывал, но и сдаваться не собирался. Уверенность, что результат экзамена будет негативным, внутреннее разочарование вернули ему естественность, убрали напряженность, сделали самим собой. И эти два бессмысленных, сугубо военных «Так точно!» словно поставили точку. Произошло то же, что с супом, который сбегает, но затем, выпустив за пределы кастрюли пену и лишнюю воду, продолжает преспокойно вариться дальше.
– То есть вы изучали язык самостоятельно?
Алексею показалось, что этот внимательный человек пытался докопаться до самых глубин его сознания. Но теперь ему было уже все равно, чем закончится разговор, ведь экзамен для него закончен.
– Да, изучал самостоятельно.
– Зачем? У вас были какие-то мотивы?
– Были. Любовь к Ницше и Гейне.
«Ох и горазд же ты врать, Артеменко, – сказал он сам себе почему-то весело, с задором. – И зачем это я соврал? Как будто это что-то изменит…» Но ответ Алексея звучал так вызывающе-убедительно, что заподозрить его в неискренности было все равно что цербера – в излишней сентиментальности. К его удивлению, никто из присутствовавших не вклинивался в разговор и создавалось впечатление, что все с возрастающим интересом наблюдают за происходящим.
– Что вам больше всего нравится из Ницше? – В глубоких глазах допрашивающего появились лукавые искорки.
– Wer bezitzt, wird besessen. – коротко, но внятно произнес Алексей. «Обладающий чем-либо находится во власти того, чем он обладает», – хотел он произнести перевод эпохального высказывания знаменитого философа. Но не произнес. Если экзаменатор знает язык, сам понял, а не знает – еще лучше.
– Очень хорошо, – улыбнулся настойчивый экзаменатор. Теперь голос его не хрипел, лишь издавал странный сопроводительный звук, подобно пиле, когда ею неумело пользуются. Вероятно, он был тронут, потому что задал еще один вопрос.
– Гейне тоже можете почитать?
– Ich bin ein deutcher Dichter… – начал было Алексей, но экзаменатор его перебил.
– Хватит-хватит. Я только полюбопытствовал. Произношение у вас, конечно, неважное. Но все равно похвально… У меня больше нет вопросов.
И Алексея отпустили с миром.
До самого окончания заседания Подмандатной комиссии Алексей был молчалив и подавлен, с угрюмым спокойствием рассказывая тем коллегам-офицерам, которые еще не побывали на допросе, что там происходит. Медленно, как снеговой ком, в нем нарастала убежденность, что не поступил, все провалил. «Из-за бахвальства, из-за своего несносного характера, из-за десантных глупостей», – корил Алексей сам себя, уже представляя, как сообщит Але эту печальную новость. Его воображение рисовало ее лицо, сначала светлое, сияющее, радостное от встречи с ним – так было всегда, и эта радость непременно передавалась и ему, – и затем широко распахнутые глаза, обрамленные большими красивыми, как у кукольной Мальвины, ресницами. Затем ее тонкие брови тревожно вздернутся, свет в глазах начнет тускнеть, лицо застывать, а уголки губ медленно и безнадежно поползут вниз. Но больше всего Алексей страшился, что Аля станет его утешать и ободрять… От этой мысли с настойчиво преследующей картинкой, как будто он действительно видит Алю на большом воображаемом экране, Алексею стало тошно, хотелось подойти к стене и шарахнуться головой о бетонный блок. Он ненавидел себя…
Вдруг прозвучала команда строиться в коридоре. Алексей с угрюмым видом занял свое место между капитаном-штабником и старшим лейтенантом, военным переводчиком, который уже год стажировался в разведуправлении округа. «Вот у кого все понятно», – успел с досадой подумать Алексей до того, как закрепленный за их потоком представитель разведки, скупой на любое проявление мимики, эмоций и, тем более, рассуждений, начал официальное подведение итогов. По сути, оно состояло из оглашения списка попавших на Мандатную комиссию, которая должна была окончательно утвердить поступление. Если фамилия не называлась, участник навсегда выбывал из категории людей, которые когда-нибудь могут понадобиться российскому ГРУ. ГРУ рассматривает кандидатуру только раз… Когда Алексей вдруг услышал свою фамилию, его словно ужалила оса. Внутри все ожило, мир в одно мгновение перестал быть бесцветным, обрел потерянную было пестроту. Он был уверен: академия значит для него гораздо больше, чем для кого бы то ни было из других офицеров, приехавших в столицу за иной жизнью. Если для них академия – всего лишь новая ступенька по карьерной лестнице, то для него это настоящий шанс, подлинная удача, волшебный выход из заколдованного лабиринта, который он тайно от всех много лет искал. Только теперь он мог признаться себе и Але, насколько важным был этот шаг для его дальнейшей судьбы.
Когда на следующее утро капитан Артеменко доложил о прибытии на Мандатную комиссию, он удивился ее малочисленности после размаха предыдущего мероприятия. Возможно, это ощущение преследовало Алексея из-за того, что действие происходило в том же зале, казавшемся теперь полупустым. Во главе стола восседал все тот же грузный седой человек, уже не казавшийся в окружении нескольких офицеров в штатских костюмах столь лощеным, как вчера. Может быть, потому что присутствующих было вполовину меньше. Его глянец сегодня заменяла большая ручка с золотым пером, которую он между внесением коротких аккуратных записей в большую, похожую на альбом, тетрадь, держал, как царственный жезл.
– Что ж, капитан Артеменко, на ваш счет были различные мнения. Будем говорить откровенно, американец вас забраковал, но направленец по Западной Европе намерен взять к себе. Если, конечно, сумеете закончить академию.
Алексей из всего сказанного понял лишь одно: он будет учиться! Он зачислен! Ему захотелось расцеловать начальника академии. Но он молчал, преданно глядя на него немигающими глазами. Лишь несколько лет спустя он осознал, как важно было при поступлении понравиться представителю или руководителю какого-нибудь конкретного направления, выступавших в роли покупателей чужих мозгов, как на самом настоящем невольничьем рынке. Покупатели тут выглядели избалованной, переборчивой публикой, подбирающей для будущего субботнего шашлыка отборную, пахнущую свежей кровью вырезку.
3
Для капитана Артеменко так и осталось неразрешимой загадкой, кому он обязан чудному превращению, в один миг перевернувшему всю его жизнь, открывшему новую, божественно притягательную реальность. Господу Богу, судьбе, индивидуальной жизненной программе, записанной где-то невидимыми чернилами на небесном папирусе, волшебному совмещению цифр в каком-нибудь звездном компьютере Вселенной, витающему над ним ангелу-хранителю или, может, своим собственным бесконечным усилиям, немыслимой для остального мира силе собственного желания? Он не знал этого, и сколько ни задавал себе вопрос, не мог найти внятного, удовлетворяющего его ответа. В одно мгновение перед ним как будто распахнулось окно, в котором виден был совершенно иной, фантастический мир. На нужной странице открылась книга волшебных сказок, и он успел стать героем одной из них. Рассказывая жене, раскрасневшейся от волнения и умиления, Алексей с прильнувшей к нему розовощекой дочуркой на руках вспоминал неисчислимое количество раз о всех перипетиях, подвохах, капканах и сомнениях, которые пришлось преодолеть на пути к заветному «да». Аля, свято верившая в силу Высшего разума, или Бога, неустанно твердила мужу в ответ, что ему выпала какая-то важная, не исключено выдающаяся, миссия. И он либо распознает ее позже, либо что-то будет сообщено ему потом, когда станет необходимо. Алексей же недоумевал и был лишь влюблен до беспамятства в жизнь, в жену, в дочь, в появившуюся перспективу. Ему казалось, что он неожиданно оседлал волну, оказавшись на ее исполинском вихрящемся гребне. Как, спрашивал Алексей сам себя, он, мечтательный мальчик, преисполненный книжной романтики, попал и выжил в таком суровом месте под названием «Рязанское воздушно-десантное училище»?! И как потом, приобретя страшный для обыкновенной жизни опыт, совершил обратный кульбит, прыжок в область интеллектуальных войн, превосходящих по силе и изобретательности мощь любого доселе известного человеку оружия?! Конечно, перед отъездом в Москву он пришел с визитом благодарности к полковнику Мигуличу, принеся Ивану Тимофеевичу самый дорогой коньяк, который только мог позволить его карман. Они долго говорили о превратностях человеческой жизни, о счастье и достижениях, о том, что составляет движитель человека стремящегося. «Все-таки прав был русский философ: культура – не клумба, а лес», – задумчиво сказал Иван Тимофеевич на прощанье. «О чем это вы?» – удивился Алексей. «Да о том, Алеша, что ты пошел правильным путем, дорогой самостоятельного определения ориентиров и достижения их. И что именно это, твои поиски и раздумья, а не какие-то универсальные наборы знаний, и вынесли тебя на поверхность большой реки. А теперь: большому кораблю – большое плаванье. Главное – выдержать первые шторма». И они обнялись крепко на прощанье, так, как обнимаются лишь отец и сын.
Шторма, в самом деле, оказались сокрушительными. Капитан Артеменко почему-то был определен во французскую группу из девяти человек, по какому принципу – он не имел понятия. Никто из офицеров группы раньше не изучал французский язык, и все, кажется, были одинаково ошарашены не поддающимся объяснению решением, испытывали смятение и тревогу. Всего на курсе, состоящем из двух факультетов, – и это Алексей вычислил долгим путем различных сопоставлений, – было человек двести. К своему величайшему изумлению, он попал не на ОАР – факультет оперативной агентурной разведки, а на САР – факультет стратегической агентурной разведки.
Для человека, только что приколовшего к погону капитанскую звездочку, это было неслыханно и дерзко, и этого он не мог ни объяснить, ни осознать. В его группе оказались преимущественно майоры, знающие запах штабов и вкус интриг аппаратной жизни, да еще один капитан, который поступил год тому назад, но находился на стажировке в разведывательном управлении округа. С этим-то капитаном и оказалась семья Артеменко в одной двухкомнатной квартире. Если подавляющее большинство поступивших поселили в специальном общежитии рядом с академией, которое по неясным причинам в среде слушателей получило название «Хилтон», то учащихся на факультете САР расселяли в разных местах большого города. Каждый учащийся получил похожий на удостоверение пропуск, выписанный на девичье имя матери или жены, на выбор слушателя. Этим документом со всеми необходимыми печатями и данными воинской части следовало пользоваться внутри учебного заведения. Порядок применения настоящих документов был жестко регламентирован, но все слушатели с первого дня появления в Москве тщательно ограждались от любой необходимости предъявлять их. Но и это было не все. Каждый слушатель получил трехзначный порядковый номер, и из всех преподавателей только старший курсовой офицер, которого за спиной ласково звали «папа», знал настоящие фамилии. Теперь, представляясь преподавателю, Алексей говорил «Пятьсот восьмой», и такой же номер вместо фамилии значился в журнале, который передавали преподавателю.
Всем им предложили также надолго забыть о существовании военной формы, надежно запечатав ее в укромном уголке до особого распоряжения. Впрочем, Алексею казалось, что лишь очень немногие испытывают тоску по блестящим внешним атрибутам, свидетельствовавшим о принадлежности к касте военных. Сам он скорее обрадовался, чем расстроился, такому положению вещей; как меняющие шкурку животные, он с тайным удовольствием впитывал внешние признаки обновления, предвкушая еще большую внутреннюю трансформацию. Да и внешняя компенсация оказалась куда солиднее и слаще. Всех поступивших, поначалу недоумевающих, в один из дней собрали с вещевыми аттестатами под клубом. Когда же Алексей, дождавшись своей очереди, спустился в сказочное подземелье, то у него от изумления отвисла челюсть и выкатились из орбит глаза: там был огромный, кажущийся бездонным склад с импортной одеждой, какую можно было отыскать лишь в дорогих столичных магазинах за баснословные деньги. Алексей и большинство его новых товарищей были откровенно сконфужены, даже подавлены неожиданно обнаруженным размахом, за которым легко угадывался масштаб созданной в государстве тайной организации. Недоступной непосвященным, защищенной бесчисленным количеством оболочек и обладающей невиданной силой протянутых во все уголки планеты рук. И вслед за обескураженностью Алексей испытал прилив гордости и мечтательной радости – от принадлежности к этому великому сообществу, которому так откровенно покровительствует государство. Только теперь, после посещения тайных закромов, Алексей понял, что ГРУ – это государство в государстве. Из вещевой сокровищницы военно-дипломатической академии каждому слушателю выдали по несколько костюмов, рубашек, галстуков, пальто и еще великое множество удивительных мелочей мужского туалета, о существовании которых бравый десантник, привыкший по ночам до дыр драить щеткой единственную форму, даже не подозревал. Причем брать можно было все что душе угодно, ограничиваясь только определенным количеством предметов одежды. Когда Алексей держал в руках выделенную ему государством одежду, от удовольствия у него загорелись уши – никогда еще у него не было столько элегантных вещей. Но тут же у него возникло и стало нарастать снежным комом чувство невыразимого стыда: а как же его Аля? Как ему смотреть ей в глаза, одетому с иголочки, в то время как у нее старая куртка да лишь одни обноски. Что говорить о платьях и костюмах, если даже сносного белья у офицерской жены осталось лишь пару комплектов, и это было жуткое, неприятное следствие их долгой совместной борьбы с голодным временем. И только теперь, когда Алексея самого завалили роскошными костюмами, о приобретении которых он никогда и не помышлял, он вдруг с острой болью в сердце подумал о жене, которая безропотно шла с ним по жизни, не жалуясь, не ропща, ничего не прося, а напротив, улыбаясь солнцу, радуясь их совместно проведенным дням. Как он теперь посмеет блистать на посольских или каких-нибудь еще приемах, когда ей не в чем показаться даже в среде его преимущественно небогатых новых сослуживцев. И когда Алексей с увлажнившимися от умиленного чувства к любимой женщине глазами, с необъятными пакетами в руках шел домой, он поклялся после первого же денежного содержания одеть ее, как куколку. Не ради самой красоты – она и так была ему милее всех, но чтобы избавить ее от страданий и мучительных переживаний из-за их, нет – его, финансовой ущербности и несостоятельности. «Временной», – крикнул он сам себе.
Служебная двухкомнатная квартира, куда поселили на время учебы семьи капитанов Артеменко и Юрчишина, находилась довольно далеко от академии, в Ясенево. Неблизкий путь в академию занимал около часа, но Алексей быстро научился использовать это время для учебы. Слушатель тайной академии, перемещаясь среди бесконечных людских толп в московском метро с максимально возможным темпом, втискиваясь и с силой проталкиваясь в потоках и пробках из человеческих тел, не переставал удивляться числу постных, сонных, абсолютно поникших и унылых лиц в вагонах столичной подземки. Он, преисполненный теперь несокрушимого желания непрерывно действовать, не мог понять, как можно быть столь опустошенными и инертными, когда сама жизнь бурлит неистово и вращает планету своими гигантскими, невидимыми глазом, но ощущаемыми всеми фибрами души щупальцами.
Каждая из семей занимала одну комнату, тогда как кухня была общим для них помещением. Сначала они удивлялись, почему в меблированной комнате нет телевизора. Но очень быстро, когда начался учебный процесс, поняли: включен секундомер на выживание, и время приобрело такую неслыханную ценность, что даже отдельная, вырванная из контекста жизни минута приобретала особый вес. Но тогда они еще не имели понятия о новом уровне трудностей, и Аля была на седьмом небе от счастья, которое усиливалось удивительно несложным переводом на учебу в Москву, подозрительно легким оформлением маленькой Женечки в ясли и еще множеством чудно решаемых мелочей. Все происходило как по мановению волшебной палочки: появлялась бытовая проблема, откуда-то из небытия возникал аккуратный, современный маг в неброском деловом костюме, что-то колдовал с бумагами, и преграда сказочным образом падала… А в короткие минуты совместного ужина они бросали друг на друга умиленные взгляды, и в глазах Али Алексей находил отражение дивного симбиоза, мозаики из восторга, благодарности и все еще присутствующего вопроса: «Неужто наш горемычный быт закончился?!»
Они боялись даже шепотом говорить об этом. Семья Артеменко, ведомая умелыми поводырями по сумрачным коридорам подземного государства, постепенно привыкала к двойной жизни. Они валились с ног от усталости, и Алексей хорошо знал, что напряжение Али в это время вдвое превышает его собственное. Они не имели в столице, как многие другие семьи, ни родственников, ни знакомых, а более чем скромное финансовое положение семьи и безумный ритм учебы еще долго заслоняли внешний мир и мешали налаживанию новых контактов. Но молодость сильна сама по себе; а молодость, одержимая активностью, защищенная от внешних ветров любовью, отличается беспредельной стойкостью.
Алексей ликовал. Наконец-то он будет заниматься тем, к чему лучше всего приспособлен его мозг, к чему уже давно, незаметно для него самого, пристрастилась его душа, что носило сугубо индивидуальный характер, соответствовало его компетентности и профессионализму. Но самое главное – тем, что имеет совершенно иную стоимость, несоизмеримую, леденящую и вместе с тем услаждающую душу масштабность. Перед Алексеем развернулась перспектива чего-то гигантского, влиятельного и невыносимо авторитетного, а ощущение, что за спиной у него стоит тайная могущественная сила, частью которой он должен со временем стать, доводило его до экстатического исступления. И он еще больше укрепился в мысли, что все подлинно выдающееся способен породить лишь индивидуальный разум, сосредоточенные усилия одиночек, тогда как массы, пусть и блестяще организованные, вышколенные, призваны перевести в плоскость реального чей-то великолепный замысел. И Алексей стремился занять место одного из таких беспокойных, отрешенных и ежесекундно действующих одиночек.
Впрочем, очень быстро его первая, как говорила Аля, щенячья, радость сменилась тяжелыми буднями, оказавшимися далеко не столь простыми, как представлялось из Рязани. Сказать, что для обеих семей началась жизнь в состоянии нескончаемого стресса, значит, ничего не сказать. С первых дней постоянно возрастающая по напору языковая атака стала первым штормовым предупреждением. Изучению языка посвящалось от двух до четырех часов ежедневно, с обязательным заданием на дом. Как-то Алексей подсчитал, что каждый день следовало выучить не менее тридцати – сорока новых слов и выражений. Но кроме языка было еще страноведение, вооруженные силы иностранных государств, оперативное искусство, история дипломатии и целое сонмище специальных предметов, из которых выделялись агентурная разведка, контрразведка, оперативная техника и агентурно-разведывательная психология. Через несколько недель он начал задыхаться от избытка информации; голова отказывалась воспринимать и структурировать ее. Порой наступали удручающие минуты: Алексею казалось, что в один чемодан надо впихнуть несколько стеллажей с книгами. Воля порой начинала отступать перед невероятным объемом информации, вечно воспаленные глаза все чаще тупо смотрели в записи и не улавливали того, что надо было переварить и запомнить. И в тот самый момент, когда подступила удушающая паника, началась первая волна отчислений. Только из его группы вылетело два человека, которые не могли справиться с темпами освоения языка. Какая-то глупость под названием «Фонетика» убила их наповал, безжалостно растоптала их судьбы. За неделю – информация, как яд мгновенного действия, распространилась по всей академии – из только что сформированной обоймы выпало больше двух десятков человек. Единственной причиной отчислений и единственным критерием оценки потенциала имеющегося человеческого материала оказался иностранный язык, как будто на нем сошелся клином белый свет. Но как только начались отчисления, Алексей неожиданно собрался с духом; запах опасности всегда аккумулировал его возможности. Разве столько лет он боролся, чтобы теперь споткнуться о собственную никчемность? Чтобы опять вернуться в беспросветную нищету? Что он скажет Але, которая столько времени мужественно и безропотно терпела их унизительное положение? Нет, никогда он не отступит! И Алексей начал предпринимать новые, нестандартные, несвойственные другим слушателям шаги. Он принял решение спать не более пяти часов в сутки, есть на ходу, отказаться от половины утренних пробежек, урезать время общения с семьей. День теперь смешался с ночью, две семьи в Ясенево стали жить по законам военного времени, непривычно зонированно, почти без контактов друг с другом. Теперь ему было мало, что вся квартира усеялась разноцветными наклейками. С Юрчишиным они поделили цвета, пространство и время. Желтые, синие и фиолетовые клочки бумаги содержали французские письмена; на белых, красных и зеленых наклейках были каллиграфически выведены турецкие слова – область Юрчишина. Бумажки были развешены, приклеены, прилеплены повсюду, в тесной квартирке нельзя было ступить и шагу, чтобы не наткнуться взглядом на какие-нибудь записки. Как заговоренные, два капитана постоянно шевелили губами, словно очумелые пленники дома скорби, разговаривающие сами с собой. Жены ходили на цыпочках, и даже маленькие дети, казалось, прониклись борьбой своих отцов, забыв на время об их существовании. Но этого все равно было мало. Вечером учить было почти невозможно – Андрей Юрчишин оккупировал и монополизировал кухню первой половины ночи и без конца бубнил в ней свои турецкие слова, пока не засыпал и не начинал громко храпеть прямо за крохотным кухонным столом. К тому времени дети уже давно спали, и Тоня, его жена, шла будить забывшегося в учебном бреду капитана, громким шепотом уговаривая его перейти в комнату. Алексей же пошел иным путем. Он засыпал почти тотчас после позднего ужина, но заводил будильник на три или четыре тридцать; зато после жутко крепкого кофе он безраздельно властвовал на пустынной кухоньке. Кроме того, он купил с десяток самых маленьких, умещающихся на ладони, записных книжечек. И во время перерывов начал заносить в них информацию по темам. Основные языковые формулы – в блокнот по иностранному; всякие даты, события и особенности зарубежных государств – в блокнот по страноведению… Тяжелее всего было с многочисленными секретными предметами. Если занести какие-либо данные и они неожиданно попадут в чужие руки, он будет неминуемо отчислен. Но что же тогда делать? И он разработал собственную систему знаков и символов, употребляя где-то французские, где-то немецкие слова, а где и короткие рисунки, похожие на пляшущих человечков Конан Дойля. Алексей твердил себе, что должен перехитрить систему, у него просто не было иного выхода. Наконец, солидную сумму из первого денежного содержания – как он ни переживал, что не может в первую очередь исполнить данное себе же обещание полностью потратить все на одежду жене, – пришлось выделить для покупки маленького кассетного плеера. На него Алексей сам записывал слова, выражения и тексты, запоминая теперь целыми книжными отрывками. С этого момента он стал полностью вооружен: он теперь учился везде и всегда. Каждая потерянная минута доводила его до бешенства. Все время, которое он бодрствовал, без остатка употреблялось на запоминание информации. Так он пережил первую, самую ужасную академическую чуму, заметно выкосившую ряды слушателей. Алексей пристально наблюдал за теми, кто был отчислен, и не переставал удивляться: это преимущественно были дети состоятельных или крепко стоящих на ногах родителей, сознательно сдавшиеся. Им влиятельные родственники и так без труда обеспечат альтернативу. А вот ему, выросшему без отца, как и бедной Але, много лет жившей без родителей, опереться в этом мире не на кого. Потому-то он будет терпеть, и терпеть с улыбкой, как это умела делать Аля. Он отдавал себе отчет, что без нее точно погиб бы, не справился или сломался. Она была движущей силой, она была стойкой личностью, закаленной суровым детством и ожесточенной спортивной борьбой. Однажды он спросил жену, как ей удается справляться с дочкой и со своим институтом, да еще успевать что-то вкусное приготовить из мизерного состава продуктов. Аля нежно прильнула к нему и тихо проронила на ухо: «Бог терпел и нам велел». А потом отклонилась и загадочно улыбнулась. И его сердце наполнилось безмерной нежностью и решимостью. Разве имеет он право сдаться?!
Времени не хватало всегда, и Алексей вступил с ним в неравную, казалось бы проигрышную, борьбу. И все-таки начал выигрывать схватку. Он валился с ног, засыпая даже стоя на кухне, упершись лбом в стену и держа перед собой книгу. Он учил слова и выражения всегда, в любой момент своей жизни. Когда ехал в тесном вагоне метро и неслышно шевелил губами, не обращая внимания на окружающих, с трудом протискивая сквозь сбившиеся тела руку с записной книжкой. Когда брился, глядя в зеркало и поглядывая на наклейки с французскими словами, приклеенные в его правой части (левая половина была сплошь усеяна турецкими бумажками). Когда одевал или чистил обувь. Когда гладил рубашку и когда вешал белье, ибо даже там, на туго натянутой капроновой нити, тоже были слова, прикрепленные прищепками. В это время Алексей не раз вспоминал Джека Лондона, мысленно сравнивая его героя Мартина Идена с собой. И он с гордостью отмечал, что сам, пожалуй, не уступал усердием упорному книжному персонажу. Правда, Алексей стал заговариваться, бредить во сне на французском, а обращаясь к жене, порой путал русские и французские выражения. Иногда ему казалось, что ничего из этого не получится, что по-настоящему язык учат только в детстве, органично и спокойно, как Набоков или Цветаева, но все-таки он не отчаивался. Он искренне завидовал Анне Ахматовой, которая выучила французский в пять лет, наблюдая за обучением более взрослых людей. Об этом им рассказала «француженка», вот только для чего? Подразнить или раззадорить. Как она сама сформулировала, для того, чтобы все осознали, что французский – это легко и красиво. А он теперь плевался французскими словами и Париж почти ненавидел. Но самым сильным стимулом в это время оставался неисчезающий страх отчисления, возвращения в строй, в состояние винтика, а вместе с ним в невыносимую офицерскую нищету. Но прошло два или, может быть, три месяца после поступления, как он почувствовал, что в голове словно произошел какой-то щелчок. Теперь, настроенный на новую волну, мозг был способен запоминать фантастические объемы, гигантские горы информации. Голова преодолела первую ломку и перестала быть чугунной. Как вскоре выяснилось, количество предлагаемой информации неуклонно возрастало. Но и отступать было некуда, Алексей не привык сдаваться, да и в самом процессе знаковой борьбы за знания со временем он все чаще находил бесценные крупицы радости, сердце замирало, когда он во время учебных семинаров поднимал более глубокие пласты, нежели его менее старательные сослуживцы. И Аля несколько раз поражала его своими неожиданными способностями. Однажды, когда у него совершенно не было времени, по одной из специальных дисциплин отрабатывалась, на первый взгляд, совершенно простая задача – проанализировать всю вышедшую за неделю печатную прессу и найти информацию, которая могла бы представлять интерес для любой разведки. «Информация – главный материал нашей профессии, но 90 % разведывательной информации находится в открытых источниках, она находится повсюду. Искусство разведчика состоит в молниеносном распознавании этой информации и столь же быстрой ее переработке вашим мозговым компьютером. Учитесь улавливать важную информацию, как пеленгатор», – повторял преподаватель. Ситуация для Алексея усугублялась еще и тем, что покупка всех выходящих за неделю газет привела бы семью к голодному пайку. И он принял своеобразное решение: намеренно оставался в учебном помещении последним и незаметно собирал все уже просмотренные товарищами газеты. По многим из них уже прошлись вдоль и поперек ножницы, у некоторых отсутствовали листы, но роптать не имело смыла. Все эти газеты Алексей доставлял домой и отдавал Але, которая внимательно исследовала колонки. И под конец недели, когда Алексей уже начал в душе проклинать эту затею, его женушка наконец с победоносным видом принесла найденную заметку. Это было крохотное, на два маленьких газетных столбика, сообщение о том, что Россия будет сворачивать работу своего разведывательного центра на Кубе, и о том, с чем связана эта инициатива и какой информационный сектор слежения за Соединенными Штатами будет в результате утрачен. Алексей, увидев заметку, облизнулся; теперь он был уверен, что Аля на правильном пути. В этой информации присутствовали намерения и цель – та основа, о которой твердили учителя при обучении отбора важных крупиц сведений из бесконечных потоков целого сонмища разнообразных сообщений, стремительно атакующих несчастных современников. Ему лишь осталось написать сопроводительную аналитическую записку. Когда же еще через неделю его или, вернее, именно эту работу (разумеется, называя только номер) на подведении итогов факультета отметил старший руководитель дисциплины, Алексей зажегся факелом гордости за свою жену. «Ангел, не иначе, ангел-хранитель нас поддерживает, потому что по-другому эти события не вписываются в логические рамки», – думал он, готовый поверить в чудо, и неестественно холодный озноб пронзил его стрелой-молнией от лопаток к затылку.
4
Но очень скоро Алексей понял, что слишком рано начал праздновать победу. Пришли совсем другие испытания, позабористее и похлеще первых. Теперь речь шла уже не о банальном запоминании информации, а о конкретных качествах личности, без которых не мог родиться профессионал. Это была серия специальных заданий-тестов по агентурной разведке. Начиная с очень простой задачи знакомства с любым человеком в течение пятнадцати минут в заданном участке города, с непременной договоренностью о новой встрече, и заканчивая получением от незнакомца путем непосредственного влияния какой-нибудь исключительной информации. «Запомните, люди всегда будут оставаться главными источниками информации, и первый секрет операции состоит в легкости и непринужденности налаживания контактов с любым человеком», – напутствовали слушателей преподаватели по агентурной разведке. «Вы только тогда сумеете качественно работать с людьми, когда научитесь в считаные мгновения заглядывать им в душу, распознавать их тайные желания, влечения и комплексы», – добавляли наставники-психологи.
Впервые знакомиться Алексею выпало на птичьем рынке, который все называли «Птичка». Пошел отсчет времени, и его сердце забилось часто-часто, как во время зачетного училищного кросса. «Так, ввяжемся в бой, а дальше посмотрим» – с таким напутствием самому себе он двинулся на невидимую баррикаду. Потыкавшись по рядам, он заговорил с женщиной, продававшей попугаев. Но вышло неловко, по-детски нескладно, и опытная продавщица тотчас заметила, что он – явно не покупатель. «Брать собираетесь или голову морочите из любопытства?» – сердито спросила она, и Алексей вместо развития убедительной аргументации предпочел поскорее ретироваться. Он пытался сосредоточиться и не мог – для него, явного интроверта, показная игривая общительность являлась противоестественной, ненатуральной. В эти двусмысленные для себя мгновения Алексей вспомнил напутствующий инструктаж преподавателя. «Ни в коем случае не воспринимайте задание как игру. Только как самую жизнь, как роль, в которую необходимо вжиться. Представьте себе, что такая ситуация действительно вами проживается, причем так, чтобы сам Станиславский не сказал вам свое знаменитое „Не верю”». Мысленно повторив слова преподавателя, Алексей увидел ряд продавцов рыболовецких снастей и, издалека тщательно прицелившись, направился к моложавому, немного сутуловатому мужчине пенсионного возраста. По тому, как заботливо перебирал продавец снасти своими заскорузлыми руками, как подробно он объяснял особенности каждой детали, Алексей быстро уловил, что перед ним рыбак. Поэтому, перебирая крючки и лески, он невзначай поинтересовался, где бы тут, в окрестностях Москвы, можно порыбачить. Для верности добавил, что он приехал из Рязани погостить у родственников и дома знает немало отменных местечек для рыбалки на Оке. С открытой, располагающей улыбкой поделившись информацией о себе, Алексей между делом поведал, что там можно за час-другой поймать до десятка рыбешек, и он для убедительности руками показал размер. На самом деле Алексей лишь раз выезжал на Оку вместе с Алей да одним сослуживцем с семьей, у которого была лодка; тот-то парень и был заядлым любителем да и немалым знатоком рыбалки. Но времени было в обрез, и Алексей начал действовать решительно, хотя и не отклоняясь от имеющейся у каждого тщательно выверенной и утвержденной легенды. Кроме того, на одном из первых занятий по агентурно-разведывательной психологии Алексей услышал, что неожиданно высказанные доверие и откровенность часто располагают к себе и вызывают ответную реакцию. А выстраивание ситуации таким образом, чтобы соответствовать социальному уровню и индивидуальным интересам собеседника, может ускорить его ответную реакцию и увеличить уровень расположения. И Алексей попал в точку. Человек тот оказался довольно одиноким и при этом до безумия увлеченным рыбаком. За несколько минут он не только рассказал Алексею все прелести ближнего Подмосковья, но и сам предложил присоединиться к нему в будущее воскресенье. Быстро перебрасывая мячик разговора, они обнаружили возрастающий взаимный интерес, и в конце концов Алексей оказался счастливым обладателем имени и телефона своего собеседника. Уже возвращаясь к пункту сбора группы, Алексей подумал, насколько правы были преподаватели, когда требовали не только естественности, но и искреннего интереса к человеку, с которым необходимо было «работать». «Игра должна перерастать в жизнь, игра должна быть жизнью», – мысленно повторял Алексей.
Правда, отличной оценки за первую «работу в городе» капитан Артеменко так и не получил. Он был поражен, когда на следующий день во время разбора занятия слушателям были продемонстрированы видеозаписи их выполнения первого зачетного задания. И не просто продемонстрированы, но прокомментированы все действия, каждый жест и каждая произнесенная фраза. Первоначально вся группа была шокирована: каждого так или иначе пронзило осознание полной подконтрольности с этого момента системе, зоркий глаз которой мог оказаться в самом неожиданном, может быть крайне нежелательном, интимном месте. Алексей на какую-то долю секунды почувствовал тревогу, связанную со смутным, противоречивым ощущением собственной принадлежности чему-то незыблемому, глыбообразному, ненасытному и желающему владеть его душой и разумом безраздельно. На миг ему стало страшно за себя и за свою семью. Но когда первый шок прошел, он испытал облегчение, а вместе с ним другое чувство – гордости. В самом деле, чего ему опасаться, ведь это счастье, что он оказался среди немногих, кому система раскрыла свои железные объятья. Похоже, что и другие члены группы успокоились, особенно, когда комментарии начали снабжаться веселыми словечками или фразами товарищей типа «О-о, а это тот еще Штирлиц!», «Вот оно, лицо настоящего разведчика!» или «Смотри-смотри, как подкатывается!» Перевод ситуации в комическую плоскость и расслабил, и дал ясное представление о неопытности и несуразности действий при выполнении даже такого пустякового задания. Алексей не сразу узнал себя: с экрана на него смотрел озабоченный и несколько испуганный молодой человек, спортивной походкой рыскающий по рынку. Глядя со стороны на себя с плотно сжатыми челюстями и оценивая предвзятым взглядом, капитан Артеменко дал обещание отныне довести до автоматизма, до совершенства контроль за каждым словом и каждым движением, действовать так, как если бы вся его жизнь кем-то записывалась и анализировалась. «Как же мог я вести себя столь неосмотрительно, чтобы даже не заметить наружного наблюдения, ведь все были предупреждены заранее?» – спрашивал он себя со всей строгостью и не находил ответа. Однако оценки преподавателей оказались более мягкими, принимающими во внимание волнение слушателей. Зато четыре часа разбора действий каждого дали много пищи для размышлений, побуждали постигать искусство артистичного проникновения в чуждую среду, внедрения в чужую интимную зону, постижения чужого образа мышления. Главными ошибками Артеменко и почти всех его товарищей профессионалы назвали неспособность слиться со средой, стать ее органичной частью, вести себя точно так же, как основная масса, и ничем, абсолютно ничем не выделяться. Особенной критике подвеглись нервозность, поспешность и ненатуральность выполняемых действий. К самому разговору с рыбаком специалисты претензий не предъявили, хотя тут не обошлось без курьеза: рыбак тот на поверку оказался бывшим сотрудником Курчатовского института. Он, правда, не распространялся о ядерных реакторах, но в группе надолго запомнили, как при упоминании этой информации преподаватель САР чуть не присвистнул: «Да вы, 508-й, черт возьми, на какую разведку работаете?!» Шутка эта еще долго ходила по группе, напоминая о том, какими непостижимыми и забавными могут оказаться подброшенные самой жизнью случайности.
5
– Запомните, информационное противоборство станет одной из ключевых составляющих войн XXI века. Успех на многочисленных фронтах этой войны может существенно ограничивать маневр правителей стран Запада, во главе с США, в их патологическом противодействии росту влияния России в мире и, особенно, на постсоветском пространстве. – Полковник Сташевский всегда говорил увлеченно, с возвышенной интонацией, хотя и почти без жестикуляции. В каждом мимолетном движении преподавателя агентурно-разведывательной психологии, в каждом его слове угадывалось не просто безукоризненное знание предмета, но и замечательная, проникающая в каждого сила увлекающей убежденности. Этот человек искусно и незаметно заманивал заглянуть внутрь некого ларца колдуна, в котором содержались и изощренные яды, и мудрые противоядия. Алексей его особенно любил за панорамное представление идей, многогранность натуры и способность ненавязчиво выйти за рамки предмета. Он нисколько не обращал внимания, что некоторые из его товарищей не особо проникались рекомендациями, выходящими за рамки их оценок и рейтингов в этом учебном заведении, порой нетерпеливо ерзая на жестких стульях маленьких аудиторий. Он же готов был завороженно слушать этого мага часами, хотя на пространные вещи тот выделял лишь редкие минуты:
– Я, возможно, выхожу, за рамки преподаваемой дисциплины, но уверен, что размышления на эту тему позволят вам лучше понять механизм и направления применения самой психологии для достижения тех или иных задач государства. Я беру на себя смелость утверждать, что времена разведчиков, занимающихся сугубо добычей информации, скоро станут историей. Уже сегодня на первый и главный план выходит информационное противоборство, осуществление жесткого информационного влияния. А в начале XXI века проблема информационного влияния затмит все остальные задачи разведки. Мы проанализировали деятельность разведывательного сообщества Соединенных Штатов и пришли к однозначному выводу, что информационно-технологическое превосходство уже давно выведено в основную задачу американских разведок. Виртуальное пространство с некоторых пор приобрело еще большую важность, чем реальное. С точки зрения, разумеется, ведения войны нового типа. Стало быть, если мы хотим победить в цивилизационном конфликте «Россия – Запад», то должны, пусть не забыть совсем, но уменьшить до десятых долей процента физические диверсии и до десяти – пятнадцати процентов – непосредственное добывание информации. Восемьдесят пять – девяносто процентов деятельности стратегической разведки будущего – это влияние. Влияние на всех уровнях, от изменения взглядов конкретной, отдельно взятой личности до изменения общественного мнения в той или иной стране в выгодную нам сторону. Мы должны признать, что разведка, стратегическая разведка, становится уникальным, универсальным и исключительно утилитарным средством влияния государства. Три «У», запоминайте это, ибо вам придется вносить коррективы в работу военной разведки России. Мы должны научиться преподносить информацию так, чтобы она действовала, как вакуумная бомба, чтобы она разрывала мозги и затем создавала совершенно иные впечатления, новые образы, картинки, выгодные нам. То, на что раньше, во времена Советского Союза, уходили недели, скоро будет решаться за считанные минуты. Или даже секунды… Раньше, чтобы легализовать какую-нибудь информацию влияния, сотруднику спецслужбы приходилось ехать в командировку в какую-либо дружественную страну, например в Индию. Открывать там газету, которая могла выйти всего лишь в нескольких номерах. Издавать эту газету с одной-единственной целью – чтобы важную, заранее заготовленную информацию, может быть, даже единственное информационное сообщение на два-три абзаца, могло перепечатать всемогущее ИТАР-ТАСС. И сделать инъекцию всему миру, вызвать жар у западных правительств.
– Анатолий Иванович, а почему нельзя было сразу пустить информацию от ИТАР-ТАСС?
– Источник информации должен быть нейтрален. Вне подозрений, как жена Цезаря. Тогда к информации будет доверие. И заметьте, – при этих словах полковник менторски вскидывал указательный палец вверх, и создавалось впечатление, что он любуется собой, – на самом деле мы гонимся не за фактами, а за интерпретациями. Факты поставляет независимый в кавычках, скрытый источник, выгодные интерпретации порождаем мы – спецслужбы.
Слушая, Алексей чувствовал, что этот преподаватель совсем не похож на остальных. Если большинство из них делали упор на локальные навыки и понимание деталей, то Сташевский объяснял, для чего, в конечном счете, необходимо владеть деталями. Порой он даже казался белой вороной среди других преподавателей, принадлежавших скорее к категории опытных дрессировщиков, занимающихся натаскиванием служебных собак. Сташевский же всегда проводил прямую линию от какой-либо конкретной мелочи к основному ядру, составляющему стратегию разведчика или даже всей разведывательной структуры. Он легко оперировал при этом бесчисленным множеством примеров, вызывая у каждого ассоциативные картинки, визуальное понимание силы мистического шаманства тайного влияния. Ему были известны многие занимательные истории воздействия психологии, от хитроумных приемов древних римлян до черной магии доктора Геббельса. Начав на первом курсе с возможностей этой великой науки в осуществлении скрытого влияния на отдельно взятую личность, полковник Сташевский прежде всего заставлял искать скрытую акцентуацию любого собеседника. Он утверждал, что в любом, даже самом психологически подготовленном человеке, можно при желании отыскать такие струны, на которых можно откровенно играть, используя широкий арсенал средств, от тайного льстивого поглаживания и поощрения к авантюрному действию до открытого, грубого шантажа. «Везде на планете, где существуют любые формы жизни, есть охотники и их добыча. Так вот, с помощью таинств психологии вы, находясь среди людей, всегда должны оставаться охотниками и никогда не становиться добычей», – определил назначение предмета ментор, перефразируя известного философа, и такой подход Алексею понравился. Преподаватель подвиг каждого слушателя сделать своей настольной книгой канонизированный в академии труд Карла Леонгарда «Акцентуированные личности». Но он не столько обязывал учеников понимать название типов тех или иных личностей, сколько учил точно улавливать, какую форму воздействия избрать, исходя из прогнозируемого поведения того или иного человека. Сташевский неустанно повторял слова немецкого психоаналитика о том, что нет и не может быть жесткой границы между нормальными, средними людьми и акцентуированными личностями, добавляя от себя, что при рассмотрении любой личности под микроскопом всегда можно найти признаки нужной разведчику патологии. Или, другими словами, хотя бы легкой акцентуации, которую вполне можно использовать в своих целях. «Акцентуация является тем раствором, на котором замешан фундамент каждой личности, и если вы проясните акцентуацию, личность становится расшифрованной. Потому что никакая ее надстройка не может быть прочнее фундамента», – часто повторял Сташевский. Затем он заставил слушателей перепахать вдоль и поперек некогда секретный доклад психоаналитической лаборатории Вальтера Лангера о мышлении Адольфа Гитлера, настаивая на том, что каждый уважающий себя разведчик должен владеть принципами моделирования поведения разрабатываемого человека. Разумеется, «Язык телодвижений» Аллана Пиза и всех его многочисленных последователей, «Мотивация и личность» Абрахама Маслоу, «Психология лжи» Пола Экмана были подробно разобраны под углом практического применения разведчиком. Также, как подробнейшим образом исследованы сексуальные влечения по Фрейду, психотипы по Юнгу, психология толпы по Лебону, психопатология масс по Франклу, комплекс неполноценности по Адлеру, агрессия по Берковицу или притязания по Левину. Безоговорочные симпатии к полковнику Сташевскому Алексей уловил у себя тогда, когда убедился, что преподаватель держит руку на пульсе происходящего в мире психоанализа. Он был немало поражен, когда едва только появившиеся в Цюрихе и Висбадене первые книги Карстена Бредемайера об эффективном и изощренном применении речевых компонентов для достижения влияния на собеседника фантастическим образом оказались в академии и немедленно были переведены на русский язык. Артеменко сделал вывод, что российская разведка не только всесильна, но и молниеносна в исполнении своих намерений.
Сташевский был дока в вопросах введения людей в различные психические состояния и использования затем этих состояний для скрытого влияния. Он был сам мастером любой имитации требуемых черт, мог артистично подцепить и виртуозно потянуть за невидимую ниточку любую, даже «бронированную» личность. И магии психологии научил всех тех учеников, которые оказались чуткими к его слову, жаждущими постичь дар колдунов и провидцев. Уже после первого курса многие из слушателей были способны распознать по жестам сильные и слабые стороны своих собеседников, понять образ чужого мышления по одежде, предпочтению цвета, предметам личного обихода, небрежно брошенным словам или случайным выразительным жестам. После второго курса они уже научились выуживать ту или иную информацию, используя отточенные собственные методы, а с помощью различных паралингвистических приемов часто заставляли какого-нибудь незнакомца радоваться или нервничать, сопереживать несуществующему несчастью и, подобно яростному льву, бросаться в атаку.
– Порой вам достаточно одного слова, чтобы ввести оппонента в необходимое психическое состояние, которое станет стартом вашего неоспоримого и длительного влияния на него, – утверждал демонический учитель, почти не меняясь в лице, внешне безучастном. А впечатление порой создавалось, будто лицо его высечено из дерева и потому лишено мимики, тогда как он демонстрировал лишь уникальный уровень самоконтроля. Затем он рассказывал о различных уловках и приемах. А еще он позволял слушателям задавать себе любые вопросы, и порой Алексею казалось, что он делает это из спортивного интереса, из азарта проверить самого себя, решая всевозможные головоломки.
– Анатолий Иванович, почему информация, полученная от людей, считается для разведки наиболее важной и достоверной?
– Не обязательно наиболее важной и достоверной. Но именно люди могут принести вам документы или материализованные элементы искомой информации. Если, конечно, вы научитесь их просить. Именно люди могут совершать поступки, влияющие на жизнь целых государств, например выходить на демонстрации, совершать диверсии, публиковать в газетах сногсшибательные статьи. И опять – если вы хорошо попросите их об этом. Искусство подлинной разведки состоит в том, чтобы совершать великие дела чужими руками. Вы должны помнить, что люди слишком часто слабы, и, пользуясь этими слабостями, вы можете внушать им все что угодно.
– А как же обработка открытой информации?
В таких случаях Сташевский забавно закатывал глаза, и Алексея одолевали сомнения, действительно ли преподавателю не чуждо ничто человеческое или это всего лишь результат его отточенного артистизма.
– Судите сами, выдающийся «револьвер номер один» Эдгар Гувер, работавший в начале нашего века – а это было еще до того, как он возглавил ФБР, – имел в подчинении 40 переводчиков и референтов. И этого хватало на то, чтобы внимательно изучать лишь 500 газет ежедневно. А теперь я спрашиваю вас: сколько будет штатных газетных ищеек, скажем, в 2020 году? Две сотни? Две тысячи? Сколько?
– То есть вы ставите под сомнение необходимость работы с открытыми источниками?
– Отнюдь. Но работа с людьми всегда на порядок результативнее. Кроме того, порой разведка не имеет альтернативы работе с людьми. Я приведу пример. В своих воспоминаниях об активном шпионаже шеф немецкой военной разведки Вальтер Шелленберг говорит о том, что лишь хорошо организованные вечеринки в узком кругу позволили ему войти в контакт с солидными людьми, обладающими и дающими важную информацию. Анализируя потом свою работу, он пришел к выводу, что успех разведки обеспечивается жителями страны, где ведется разведка. Разведка должна вестись всеми возможными средствами, но люди – это самое слабое звено.
– А если люди окажутся очень уж хорошо подготовлены? – не выдержал Алексей, у которого от таких бесед кровь то стыла, то закипала.
– Вот тогда начинается интересная, захватывающая и очень азартная игра. Высший пилотаж, когда профессионалу удается поймать носителя информации на неосторожности или небрежности. Но и тут люди всегда демонстрировали свои слабости. Я опять позволю себе вспомнить Шелленберга, который однажды через своих агентов изучал количество неосторожных разговоров в среде высокопоставленных чиновников. На внешне безобидных вечеринках с душистыми дамами, ароматными коктейлями и веселым смехом, когда в непринужденной обстановке ослабляется внутренний контроль… И что же?! Количество упомянутых сугубо секретных и особо важных сведений оказалось невероятным, настолько непристойно огромным, что он ужаснулся.
Сташевский победоносно посмотрел на аудиторию и затем продолжил:
– Это все – поведение людей! По большому счету, нет особой разницы в том, наблюдаете вы за одним человеком, его вербальными, невербальными, паравербальными действиями, или ведете наблюдение за поведением групп людей. Люди оставляют следы, и ваша задача – распознавать их. Утечка информации всегда может быть обнаружена внимательным взглядом.
– Но это означает, что и нас сможет просчитывать более или менее внимательный глаз?
– Естественно. Потому-то мы и учимся с вами скрывать и фальсифицировать эмоции. Наши ошибки – это следствие неумелого обмана, слабого самоконтроля эмоций, отсутствия репетиций поведения и непродуманной легенды, которая ведет к непредсказуемому развитию событий. У легендарных разведчиков никогда не было страха разоблачения, по меньшей мере, его нельзя было выявить визуально.
– Зачем мы обязательно учимся лгать?
– Потому что правду говорить легко, об этом еще Булгаков писал. А вот научившись отменно, красиво, элегантно лгать, вы сможете распознавать ложь у своих противников. Ведь не существует какого-нибудь признака обмана, только комплекс сопоставлений, который мы часто принимаем за интуицию. Он-то и ведет нас к определенному выводу.
Сташевский улыбался самым каверзным вопросам. Кажется, только ему можно было задать абсолютно любой вопрос. Но у него всегда в запасе был какой-нибудь заготовленный ответ. Так, по меньшей мере, хотелось думать слушателям.
6
Когда наступило время более сложных заданий, Алексей после уроков Сташевского чувствовал себя гораздо увереннее, чем в первые дни. К этому времени он уже научился контролировать эмоции, мимику, жесты, вполне сносно врал и приблизился к расшифровке собеседников. Задача «Внедрение на объект» уже не вызывала столь высокого, как вначале, нервного напряжения, хотя она по своей сути имела более высокую степень сложности. Если вначале слушатели должны были продемонстрировать способность в коротких жизненных эпизодах быстро находить верный способ межличностной коммуникации, то теперь в основе заданий оказывалось длительное и последовательное следование легенде. В качестве учебного объекта слушатель Артеменко получил столичный институт иностранных языков. Заданием предписывалось найти способ доступа на факультет иностранных языков, войти в доверие к кому-нибудь из преподавательского состава, отобрать не менее шести-восьми студентов, провести личностный анализ и определить уровень профессиональных навыков, наконец, представить одну-две кандидатуры в качестве потенциальных доверенных лиц ГРУ. Некоторое время Алексей носил в голове густую паутину соображений и ассоциативных картинок, которые после многочисленного проигрывания в воображении всех возможных версий развития событий наконец приняли облик однозначно выстроенного плана. «Пятьсот восьмой» на некоторое время «стал» представителем иностранной консалтинговой компании, которая в срочном порядке ищет специалистов с отличным знанием французского языка. Компания эта только выходит на российский рынок с намерением продвигать интересы французского бизнеса в России, поэтому находится в состоянии развертывания. Это и объясняет досадное отсутствие визитки с ее адресом и телефоном. Компенсировать эту, невосполнимую, на первый взгляд, брешь должно было знание французского языка молодого менеджера компании по персоналу, равно как и его намерение лично работать с резюме желающих и проводить собеседование с претендентами. Ну и, конечно, его личное обаяние и весь остальной припасенный арсенал воздействия на окружающий мир. Ценилась игра, полная артистизма, виртуозного захвата инициативы, способность убеждать. Не без труда, правда, он справился с перекрестным опросом преподавателей по своей легенде, в ходе которого необходимо было без раздумий осветить различные смежные детали своей мнимой работы. «Хорошо продуманная и отработанная легенда – вот что является основой успеха любой операции», – говорили ему преподаватели САР. «Вы должны вжиться в легенду, принять ее как истинную, пусть другую, параллельную жизнь, только так вы сумеете последовательно придерживаться единой версии и не запутаетесь во лжи», – объяснял Сташевский.
И вот, настроив себя на рабочий лад и даже немного потренировавшись у зеркала, Алексей с дерзкими мыслями, вполне учтивой улыбкой, уверенной нагловатой походкой направился на кафедру французского языка. Перед дверью он вспомнил напутствие Али, которая, застав мужа у зеркала за так называемыми визуализациями, чисто по-женски посоветовала:
– Не обезьянничай, как сейчас перед зеркалом, просто естественно улыбайся – это расслабляет и располагает окружающих. И не уставай говорить комплименты женщинам, – а потом, подумав, все же добавила: – Но… думай в это время о жене и дочери.
– А ты откуда все это знаешь? – спросил Алексей не без иронии.
– О-о, – протянула она, смеясь и как бы отражая невидимым зеркалом его иронию, – я многое знаю. Слушай меня и не пропадешь!
«Вперед, – приказал он себе привычно, как принято в десантных войсках, – ввяжемся в бой, а дальше посмотрим». С тем и вышел.
В преподавательской Алексей вежливо осведомился, с кем можно поговорить на столь щекотливую тему, как работа. Для верности добавил, что предполагается солидная языковая практика для подготовленных студентов старших курсов и… возможно, для некоторых, не слишком занятых преподавателей, так как на первом этапе работы компании рабочий график предусмотрен достаточно гибкий. Его без липших слов отправили к тучной пожилой женщине с большим круглым лицом и свинцовыми, без блеска глазками. По ее позе, необъятным размерам и особенно по тяжелому оттенку глаз Алексей догадался, что она безраздельно властвует в этих апартаментах. Алексей бегло объяснил ситуацию, стараясь предупредить острые вопросы. Кажется, он хорошо проработал план, потому что не чувствовал ни страха, ни трепета перед задачей, представлявшейся ему хоть и лихой, но до мелочей продуманной шахматной партией, в которой он просчитал многие ходы противника. Но когда женщина с неимоверным трудом подняла набрякшие водянистые веки и одарила Алексея свинцово-матовым, въедливым, недоверчивым взглядом, лишенным всякого интереса к его делу, он напрягся. У нее было лицо каменной царицы, непрошибаемое никакими аргументами. Но самое главное, ее абсолютно не заинтересовала тема, которая, по всей видимости, являлась просто избитой и поднадоевшей. Взгляд же ее говорил даже лучше, чем плотно сжатые тонкие губы. Алексей прочитал в ее глазах приблизительно следующее: «Ходят тут проходимцы, забивают головы несчастных студентов всякими глупостями. А те хватаются за дешевую наживку». Он ожидал щекотливых вопросов и намеревался удивить ее обстоятельными ответами, но она сразила его наповал холодным равнодушием. Если бы она задала хотя бы пару коротких несущественных вопросов для соблюдения норм приличия, то, вероятно, он бы зацепился. Но она удивительным образом молчала, и это действовало обескураживающе. А когда Алексей с невозмутимым видом пошел в атаку, она резко осадила его коротким замечанием, что предложений у студентов сегодня хоть отбавляй. Если компании очень уж неймется, можно повесить объявление на доске в коридоре. После целой серии ухищрений Алексея она с большой неохотой начертала на маленьком отрывном листочке телефон кафедры, не приписав к нему никакого имени, и предложила позвонить через несколько дней. Разумеется, ничего не обещая. Она могла бы и не прибавлять фразу об обещаниях, потому что на ее мясистом, несколько обрюзгшем, но тщательно заретушированном дорогой косметикой лице с отвислыми складками кожи не составляло труда прочитать полный и безоговорочный отказ сотрудничать. Ситуация могла быть приравнена к провалу. Алексей понимал, что даже если часами кружить вокруг этой кафедры, подступиться к этой живой крепости все равно не удастся. Но он и не думал паниковать. Такой вариант также просчитывался, а его сценарий имел столько различных ответвлений, что сам черт спасовал бы перед его многосторонней разработкой. Артеменко вышел из помещения, в котором, как он мельком заметил, оставались еще две женщины, очевидно преподаватели, и молодая девушка, вероятно лаборантка. Что-то подсказывало Алексею, что еще можно зацепиться, и для этого нужен хотя бы маленький, пусть даже глупый повод войти в преподавательскую еще раз. Он остановился у окна, добротного, поставленного в советские времена, но старого, с облупившейся краской, и сделал вид, что копошится в своей папке. Он излучал уверенность, открытость и совершенное отсутствие лукавства. И все-таки за показным спокойствием скрывалось напряжение. Когда он уже всерьез подумывал сменить осаждаемую кафедру, ему неожиданно повезло. Краем глаза он заметил, как грузная кабинетная дама тяжело выбралась из преподавательской и, безошибочно выбрав курс, торпедой направилась в одну из дальних аудиторий, причем редкие студенты предпочитали проходить мимо на очень почтительной дистанции.
Алексей мигом возвратился на кафедру. Уже в дверях он столкнулся с преподавательницей помоложе и даже открыл рот, но та, намеренно не замечая его, с необычайно целеустремлемленным видом удалилась. Водяной каплей влившись в помещение, Алексей начал новый этап борьбы. Продвигаясь к визуальной середине между двумя особами женского пола, строгой учительницей лет тридцати четырех в очках и молодой ассистенткой, он объяснил, что заскочил осведомиться, как зовут ту женщину, с которой ему довелось беседовать вначале.
– Вера Андреевна, – холодно сказала преподавательница, сквозь стекла очков окинув Алексея беглым, немного насмешливым взглядом. Он почувствовал себя бумажкой, которую дворовые мальчишки пытаются поджечь при помощи линзы и сосредоточенного пучка солнечных лучей. И успел подивиться тому, что холодный свет может жечь сильнее раскаленного солнечного.
Но ее ответ Алексей расценил если и не как приглашение, то определенно как новую возможность для атаки. Он подошел ближе к ее столу и улыбнулся:
– Откровенно говоря, мне кажется, что предложения нашей компании предназначены совсем для других ушей. И это вполне естественно, ведь у Веры Андреевны в жизни уже все сложилось и определилось. Мне даже показалось, что она несколько завидует студентам и своим более молодым коллегам, перед которыми жизнь сегодня открывает совершенно новые перспективы, в том числе и в применении языка.
Кажется, он попал в точку. Он понял это даже не по реакции этой женщины – она явно не желала подавать виду, что заинтригована. Зато глаза девушки в другой стороне комнаты вспыхнули неподдельным интересом, и Алексей это очень хорошо уловил.
– А что это за компания? – словно бы нехотя поинтересовалась преподавательница.
– О-о, – многозначительно протянул Алексей, – это известная по всему миру консалтинговая сеть Global Consulting. Компания в этом году выходит на наш рынок. И изюминка, я вам скажу, в том удивительном нюансе, что ее сотрудники не только работают по предложенным направлениям, но и могут создавать свои, с учетом национальных особенностей. Именно за счет такой гибкой политики компания приобрела мировую известность. К примеру, если вы работаете по какому-нибудь сегменту рынка, скажем косметике, но чувствуете, что активно развивается частное образование или даже, еще уже, преподавание иностранных языков на дому, вы можете предложить бизнес-план аутсорсингового направления и сделать не только приятный бизнес, но сформировать интересное поле деятельности лично для себя. Создание новых интересных сегментов является стратегической целью нашей компании, а для ее сотрудников – это море новых возможностей.
Алексей мог бы гордиться собой, потому что женщина наконец оторвалась от своих бумаг и одарила его долгим испытующим взглядом. Таким, каким, очевидно, на невольничьих рынках Древнего мира рассматривали зубы рабов. Но тут произошло нечто невероятное, ускорившее развитие событий. Девушка, которой, кажется, не терпелось присоединиться к беседе, решилась подойти к столу; для верности она захватила какую-то бумажонку для преподавательницы. Когда Алексей краем глаза заметил это, он с деланым удовольствием обвел глазами аудиторию – тут присутствовали те же кабинетная серость и невообразимая скука, так свойственные академическим миркам. Что же до преподавательницы, то опущенные уголки ее рта подсказали Алексею: эта, довольно еще миловидная женщина, приближающаяся к среднему возрасту, уже успела загнать себя в бесконечно скучные дебри какой-либо грамматики или, не дай бог, фонетики. И так уныло, под надзором стареющей мымры пролетают лучшие деньки ее жизни, а она даже не подозревает, что ее кандидатский или докторский диплом абсолютно не прибавит ей счастья. Вот уж прав Сташевский, утверждая, что язык – это оружие, но никак не специальность. Но сказал он противоположное:
– Конечно, обитать в таком райском кабинетике института, продвигать свою научную карьеру, испытывать удовольствие от общения со студентами – может быть, высшая радость преподавателя. Но есть и другая плоскость приложения сил. Сегодня мир очень здорово меняется начался неслыханный взаимный обмен с западным миром, который еще вчера был закрыт. Теперь Париж, Лондон, Нью-Йорк открыты для всех желающих. А профессионалы-лингвисты на вес золота. То, что тут можно сделать за годы, там можно успеть за считанные месяцы. – Алексей увлеченно рисовал перспективы, сам уже свято уверовав в то, что существующая только в его воображении компания Global Consulting вот-вот придет на российский рынок и утолит тайные желания всех жаждущих большего. Он чувствовал, что разошелся, и теперь может рассказать о компании и иной жизни столь же много, как если бы сам был ее участником.
– А какие требования этой компании, и есть ли ограничения? – вступила в беседу приблизившаяся к столу девица. Алексей мельком бросил на нее взгляд: милое и одновременно безнадежное эфирное создание с глуповатым выражением лица, вздернутым носиком и сплошь усеянным мелкими прыщиками лбом. «Вот кого бы заполучить», – подумал он.
– Да вы присядьте, – прорезалась наконец преподавательница, выглядевшая до сих пор более чем сдержанной. Маска строгости медленно исчезала с ее лица, и оно стало миловиднее и нежнее. «Если бы она сняла свои ужасающие очки, то, вероятно, превратилась бы в очень даже интересный экземпляр», – подумал Алексей. Он покорно приземлился на жесткий стул у загроможденного бумагами письменного стола терракотового цвета и еще минут пятнадцать страстно рисовал перспективы новой, более яркой жизни, настаивая попутно на том, что для проб себя в новой ипостаси вовсе необязательно сразу бросать размеренную академическую карьеру. Сошлись на том, что в течение недели Наташа – так звали прыщавую лаборантку – подберет шесть-семь кандидатур из студентов, а Ксения Петровна, которую Алексей охотнее называл бы Оксаной, подумает сама и поговорит со своей подругой относительно проб в Global Consulting.
– Наташенька, – говорил Алексей на прощанье лаборантке, – вы только обязательно поговорите с парнями, там есть сугубо мужские направления: машины, станки…
Та пообещала.
Только по дороге к метро Алексей вспомнил, что не сказал женщинам ни одного комплимента. «Эх, бестолковый, – вздохнул он, – заговорился. Ничего, в следующий раз надо начать с комплиментов и шоколадки этой нескладной Наташе. Все должно получиться». Впрочем, он был доволен собой; работа показала, что искусное вранье органично дается ему и действует достаточно эффективно. Он вполне контролирует свои эмоции, а избранная линия поведения позволяет не бояться разоблачения. Что ж, Сташевский был абсолютно прав в том, что самое главное – добиться полного соответствия роли; тогда признаки лжи не будут выпирать, как ребра дистрофика.
И все получилось. Через две недели Алексей имел по меньшей мере три кандидата с полными данными на них, да еще в придачу пять полноценных резюме. Руководителю он представил пухлую папку с характеристиками, с учетом особенностей личности, копиями документов, данными обо всех сферах их жизни. Небезынтересным являлось то, что почти все действия были совершены самими подопытными, как он их называл про себя. Да уж, уровень цинизма у него вырос за время учебы на два порядка, но он оправдывал себя тем, что, во-первых, не наносит вреда этим добродушным людям, а во-вторых, его безобидная ложь санкционирована государством.
Алексей настойчиво копался в своих ощущениях и находил, что ему нравится все происходящее в академии. Он был без ума практически от всех, без исключения, предметов; все изучаемое имело для него такое колоссальное, исключительно жизненное значение, как, пожалуй, ни для кого иного в группе, а может быть, и на всем факультете. И дело тут было не только в том, что ему нравились учебные задачи сами по себе. И даже не в том, что постепенно забывались черные дни удручающего безденежья, униженного пользования бывшими в употреблении вещами с остатками на них невидимых пятен чужой ауры и, не исключено, вредной энергетики. Конечно, Алексей с Алей могли гордиться, что у их дочери наконец появилась новая раскладная коляска. Что они теперь могли не бояться, что денег не хватит до будущей выдачи денежного содержания офицера и что Аля или Женя могут простудиться из-за отсутствия добротной зимней одежды. Могли не переживать за дешевую обувь и невозможность заказать в кафе в воскресенье дорогие сладости. И все-таки на первый план выступал не доступ к материальным благам, а те изменения, которые Алексей с каждым днем ощущал в себе и в своей Але. Вместе они преодолели в незримой пирамиде жизненных потребностей целый этаж, отделявший выживание от достижений. Алексей заметил, что незаметно стал меняться и внешне. Пропали косолапость, угловатость и неуверенность, которую в былые времена компенсировали былая десантная грубость с сальными шутками, пренебрежение к физической слабости. Он сам начал замечать у себя признаки элегантности. Но более всего ему нравилась явившаяся откуда-то уверенная сила. Улетучились колебания, нервозность, навязчивое желание любой вопрос решать с помощью агрессии. На смену внутренней жесткости пришли дипломатичность, изящество вербальных оборотов, спокойная сосредоточенность; имевшие место метания в области различных знаний вдруг приобрели ясную мотивацию и направленность. Постепенно он избавлялся от излишней, воспитанной училищем самонадеянности, сменил ненавидимую в себе застенчивость на непринужденность. Теперь он умел в беседе порхать по различным темам веселым мотыльком, ускользая от щекотливых деталей и вытаскивая нужные подробности. В самом деле, учеба приводила его в восторг от открывающегося доступа к захватывающим дух тайнам; неожиданный жизненный поворот, после которого его знания стали востребованными, привел Алексея к согласию с самим собой. Он обрел новый смысл жизни, ибо с первого дня появления в этом нигде не афишируемом учебном заведении внутри него поселилась уверенность, что он занимается делом чрезвычайной важности. Решение сложнейших и самых непредсказуемых задач государственной безопасности выводило его в иную плоскость самовосприятия, туда, где нужен мастерский, сложнейший пилотаж. И хорошо, что там не бывает размеренной степенной жизни, здорово, что там слишком мало добродетели и слишком много надежного, мистического безмолвия, к которому втайне от себя он стремился. Преодолев первый лингвистический напор, Алексей уже к середине второго курса мог позволить себе заглянуть в философские издания. И хотя он пока еще даже не помышлял о большой литературе, порой уже чувствовал внутри себя смутный голод, страстное желание окунуться в убаюкивающее душу чтение и связанные с ним детские переживания картинных героев. Алексей уже предвкушал эти царские времена, хотя и обязательная программа вызывала в нем гораздо больше воодушевления, чем тривиальный «Боевой устав ВДВ» или банальное «Руководство по стрелковому делу». И он понял почему. Стреляя по три часа в день из пистолета Макарова, он не нуждался более в чьих-либо наставлениях на этот счет, а вот душа, привыкшая к движению, не могла смириться со стагнацией. Тут же все было по-иному, на грани возможного, аскетизм духа и тела компенсировался идиллическим запахом реальной опасности, интеллектуальных сражений и подлинных ристалищ. И непрерывные усилия воли находили понятное объяснение. Зато если первый год семья прожила в мучительном, полусумасшедшем напряжении, то через год Алексей уже мог позволить себе провести половину воскресения с семьей, с упоительной беспечностью гуляя по Москве с Алей и Женей. Воскресенье стало любимым для всех днем. По привычке поднимаясь до рассвета, Алексей ко времени завтрака успевал обработать гору специальной информации. Затем он спешил пробежать хотя бы четыре-пять километров просто по забавным московским улицам, чтобы не потерять физическую форму, а с нею и легкость впитывания тонн информации. На приобретенном по объявлению крохотном, бывшем в употреблении письменном столике у него всегда лежали две-три раскрытые книги, испещренные глубокими бороздами карандашных черточек, добавочных пометок, и блокноты с бесчисленными выписками. И порой он совершал маленькие, шаловливые хитрости, предназначаемые своей верной, милой сообщнице. Например, выкладывал среди фолиантов и брошюр, определенно предназначенных для профессионального изучения, томик Дейла Карнеги, раскрытый на странице «Семь правил семейного счастья». Или крошечную, но авторитетную брошюрку Росса Кемпбелла «Как на самом деле любить детей». А то и просто старательно переписанный каллиграфическим почерком на белом листочке веселый стишок Блока, прямо из ее аквамаринового детства «Маленькому зайчику на лесной ложбинке раньше глазки тешили белые цветочки…» И он не ошибался на этот счет, Аля все видела и все чувствовала. Главным в их отношениях оставалась никогда не прерывающаяся, связующая их волшебная нить любви. Алексей убеждался в этом по возвращении к позднему воскресному завтраку: он видел, каким счастьем светилось ее лицо, с нескрываемым наслаждением наблюдал, как она оживлялась и как, наконец, что бы она ни делала в момент его возвращения, все заканчивалось райскими объятиями. Даже когда в их неприхотливой жизни случались упреки, недоуменные пожимания плечами или досада, Алексей точно знал, что она живет им. И он так же, насколько это было возможно в его сумасшедшем мире, жил ею.
Впрочем, некогда неустроенный быт семьи Артеменко постепенно налаживался и становился более мягким, нежным, с пряным привкусом особой прелести, как бывает всегда, когда бесконечная нужда наконец сменяется неуклонным ростом возможностей. Этот быт никогда не был угрюмым и приглушенным, потому что Аля обладала феноменальной способностью оживлять пространство вокруг себя. Теперь же даже двух десятков квадратных метров им вполне хватало для счастья. Дипломатичность Али и Тони, которые уже через несколько месяцев стали близкими подругами, вполне позволяла лавировать на маленькой кухоньке без напряжения. Обе представляли собой тот тип русских женщин, которые способны прийти на помощь по первому требованию и в то же время не станут влезать в проблемы окружающих, если последние не подают явных признаков желания разделить их. Хотя, откровенно говоря, особая степень деликатности, тонкой чувствительности диктовались и самой обстановкой, и можно было говорить лишь о временами вспыхивающих недоразумениях между женщинами. С одной стороны, в условиях тотальной занятости своих мужчин, женщинам не на кого больше было опереться в быту. Да и в редкие воскресенья семьи могли попеременно брать на себя детей, чтобы вторая пара уделила несколько часов друг другу: пятилетний Саша Юрчишин привязался к трехлетней Жене, как к родной сестре. Внешне они жили, как одна большая семья, хотя настороженность не исчезала из их отношений никогда. Она была вызвана своеобразной тягучей атмосферой академии, окутанной мрачной аурой секретности, строгости и замкнутости. Им хорошо были известны редкие случаи отступничества. Первый произошел в конце первого курса, и о нем с опаской шептались «академики», когда находились вне учебных помещений и вне своих служебных квартир. Речь шла о трех семьях выпускников, явно из «блатных», которые вместо ожидаемых направлений за границу неожиданно поехали в дальние разведцентры страны, причем все в разных направлениях. Не помогли и их крупнокалиберные связи в верхах, и, как говорили, заграница для них будет закрыта надолго, если не навсегда. Слушатели младших курсов недоумевали, изнывая от домыслов, но точная причина официально не сообщалась. Однажды, несколько месяцев спустя, в один из редких выходных поздней осени, когда было еще не очень холодно, а опавшие листья с тихим шепотом шуршали под ногами, Алексей с Алей вышли прогуляться в ближайшем сквере.
– Знаешь, почему те трое бравых офицеров отправились служить не на Запад, а на Восток? – спросила ни с того ни с сего Аля, как будто с вызовом, улыбаясь мужу. Хотя та тема стала уже понемногу стираться из разговоров, Алексей насторожился.
– Почему? – Алексей катил перед собой коляску с малышкой, которая рассматривала букет собранных для нее пестрых листьев.
– Потому что, как докладывают надежные источники, – тут Аля явно съязвила и затем продолжила деланым, радостно-вредным тоном: – они жили одной шведской семьей.
– Что ты имеешь в виду?
– Как что?! Только то, что они там все перетрахались между собой, правда, все друг другом оставались довольны…
Алексей опешил. Он знал, когда в разговоре с ним Аля употребляла какое-нибудь вульгарное слово или даже ругательство, это означало высшую степень ее негодования, смесь крайней брезгливости с сильным эмоциональным возбуждением.
– А откуда ты это знаешь? – спросил вполне спокойно, не поддаваясь на ее уловку.
– Да вот откуда: Тоня проговорилась. Вот мы живем с людьми почти полтора года в одной квартире и даже не подозреваем, что у них есть крутая поддержка в верхах.
Алексей тут же понял, что именно эта информация, а отнюдь не первое сообщение стало причиной ее, казалось бы, беспричинной тревоги. Аля теперь говорила шепотом, но стала бледна, и ее посиневшие губы мелко подрагивали, как мембрана.
– С чего ты взяла? Объясни же толком наконец, – взмолился Алексей.
– Вчера утром Саша разболелся, что-то съел, вероятно. Ну, я приготовила настойку, заставили его выпить, прочистили желудок. А потом, когда уложили детей, пили кофе и случайно разговорились. Слово за слово, и она в дружеском порыве созналась, что Андрей в минувшее воскресенье ездил на крупную встречу. На какой-то вашей закрытой базе, какое-то озеро… Ну, в общем, это неважно. Одним словом, про этот случай там разговор шел…
– Почему он тебя так тронул? Ты выглядишь потрясенной. – Алексей привлек жену к себе и крепко обнял, чувствуя через плащ, что она дрожит, словно от холода. И он, обдавая жаром дыхания ее ухо, прошептал немного требовательно, даже властно: – У-спо-кой-ся!
– Просто мне стало обидно. Пока мы думали о выживании, перебивались на дешевых крупах, варили дочери постные военные каши, другие купались в масле, шалели от собственной глупости и необъятных возможностей. И сами же в этой глупости удавились. И поделом им теперь, нисколько не жалко…
– Ну вот и прекрасно! Каждый в конце концов получает свое. Так что не расстраивайся, мы пойдем совсем иным путем…
Но Аля перебила его, не дала договорить:
– Обещай, что будешь осторожен в общении, ни с кем не будешь сходиться слишком близко и никому не будешь доверять!
– О-бе-ща-ю! – опять прошептал ей на ухо Алексей.
– Просто ты всего не знаешь. Андрей там, на базе, узнавал результаты тестирования и вступительных экзаменов.
– И что же?
– А то, что ты по этим результатам попал в десятку лучших! – опять с вызовом дрожащим голосом выкрикнула Аля.
– Мама, а почему ты громко говоришь? Вера Александровна в садике сказала, что нельзя кричать на улице, – вклинилась в разговор Женечка, повернувшись к родителям и бросив на тротуар свои листочки.
– Ах ты, моя глупая малышка! – ласково проговорила Аля девочке, всплеснув руками и наклонившись к ней. Теперь у нее уже было совсем другое лицо, оно светилось любовью и нежностью. – Да мы просто играем с папой.
– У Андрея результаты близкие, но не такие впечатляющие. Но дело не в этом. А в том, что он-то тебе ничего не сказал. И никогда не скажет! Но есть еще информация, не лишняя для тебя. Основные характеристики по выпуску будут писать преподаватели иностранного, ты знал об этом?
– Не-ет, – проговорил Алексей озадаченно.
– Так вот, мотай на ус, воин. Посмотри другим взглядом на вашу Марину Владимировну. Остается только узнать, кто она по званию. Почти все ваши преподаватели являются офицерами и занимаются выводом нелегалов за границу. А ваша очаровательная Марина Владимировна считается профи номер один в этом вопросе. – К Але уже вернулось самообладание, и она переключилась на игру с дочерью, сначала взяв ее на руки, а затем поведя рядом с собой.
Алексей надолго запомнил этот разговор и переживания жены. Если даже она, столь общительная и столь скрытная в жизненно важных для семьи темах, так переживает, значит, атмосфера академии в самом деле давит своим бетонным прессом, не позволяет расслабиться никому из близких. Алексею казалось, что он догадывается об истинных причинах ее волнения. Выросшая без родителей, мало испытавшая ласковых прикосновений в детстве, не ведавшая о достатке, она была ориентирована на достижения. И потому Аля с особенной, личной обидой воспринимала разницу усилий; ее всегда беспокоило, что кто-то за счет помощи извне мог легко пройти какой-нибудь сложный участок жизни, где им самим каждый шаг давался с неистовыми усилиями, с ожогами и шрамами.
Андрей действительно ничего не рассказал Алексею ни о поездке, ни о своих связях. Но это не изменило их отношений. Алексей изумлялся трансформации своего сознания: он уже привык к тому, что каждый должен двигаться своим путем, а помощь товарищу – это дело личное, не обязательное. А ведь когда на одном из первых занятий по САР преподаватель сказал, что в разведке не бывает друзей, он тогда не понял почему. Считал, что полковник говорит глупости. Потому что навязываемый код отношений противоречил привычной, всем подряд раскрывающей объятия и душу, десантуре. Теперь у Алексея появилось гораздо больше понимания нюансов ведомства, к которому он уже безраздельно принадлежал.
А у амурной истории вскоре появилось неожиданное зеркальное отражение, которое еще больше сблизило Алю и Тоню. Открывшийся новый бытовой эпизод оказался в высшей степени поучительным: две семьи, живущие с подселением в одной служебной квартире, неожиданно поссорились. Не столь важно из-за чего – в тесной квартирке с шатким, колеблющимся, как пламя свечи, микромиром всегда найдется повод для недовольства. Важно, что стены имеют уши, а в таких учебных заведениях все помещения имеют уши большие и чуткие. И досадная ссора – явление для академии из ряда вон выходящее, совершенно немыслимое событие – произошла утром, а уже к середине дня прозвучал грозный приказ собрать весь факультет, офицеров вместе с женами, на четыре часа пополудни в клубе. Благо Аля с Тоней отыскали соседку, которой спешно сунули бумажку с соответствующим денежным знаком за три часа дежурства с детьми.
Когда в просторный зал клуба спешной, решительной походкой вошел начальник академии с несколькими старшими офицерами, все присутствующие замерли. Офицеры и их жены устремили взоры на него, глядя кто с любопытством, кто с восхищением, кто с неподдельным интересом. Алексей находил в облике этого человека нечто героическое, очищенное от рафинированных поз, свойственных высокопоставленным чиновникам. Тут же, напротив, не было никакого чванства, надменного превосходства, и даже грузность тела вовсе не была заметна, как будто превратилась в маститость и статность. Перед собравшимися стоял суровый, непоколебимый человек, хорошо знающий, чего он хочет. Начальник академии, которого сам Алексей видел за полтора года всего лишь четвертый или пятый раз, находился в зале совсем недолго, всего несколько минут, но в восприятии большинства слушателей это был смерч, вызвавший самые разнообразные ощущения.
– Добрый день, уважаемые женщины! Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я попросил вас собраться в этом зале, потому что в нашем коллективе произошло серьезное чрезвычайное происшествие, невиданный случай, подрывающий авторитет и учебного заведения, и профессионального облика разведчика.
Начальник ненадолго умолк, обвел зал пристальным и немного печальным взглядом, как бы выискивая среди сидящих отступников. Наступившая тишина была сродни натягиваемой струне, которая вот-вот должна была со звоном порваться. Он продолжил:
– Честно скажу, что я за время руководства учебным заведением сталкиваюсь с таким впервые. И не слышал, чтобы подобное имело место раньше. Конечно, в таких вопиющих случаях к исходу дня нарушители должны бы быть исключены из академии. – Он сделал особенный акцент на слове «подобное», а в конце фразы опять на миг остановился, и люди в зале затаились, как кролики перед лисом. – Но я попробую сделать первое и единственное исключение. Я хочу сказать вам, что когда вы сюда пришли, ваш мир резко сузился до невыразимых размеров. И никто не знает, где и когда слово, взгляд или даже знак кого-нибудь из нынешних сослуживцев может полностью изменить вашу жизнь. Вы находитесь в фантастической взаимозависимости, о которой сегодня даже не подозреваете. Потому я призываю вас к одному: если вы не можете дружить, не дружите; но ссориться не имеете права.
Начальник академии проговорил свою короткую речь довольно тихо, но внятно, избегая повышенных тонов и даже намека на патетику. Сказанное казалось мнением человека, который много пережил и всякое видел на своем веку. И все-таки слова звучали громогласно, как пускаемые стрелы-молнии, подобные тем, которые мифический старик Зевс метал на землю. Но оттого, что приговор его не был суровым, а напротив, казался всем великодушным и благородным, и сам он представлялся не рубящим сплеча полководцем, но рыцарем, указывающим заблудившимся верное направление. После короткой паузы этот мудрый человек промолвил лишь короткое «Надеюсь на ваше благоразумие», затем сделал бравый офицерский кивок головой вместо прощания и незамедлительно удалился. Несколько человек свиты также поспешили за ним, тогда как курсовой «папа» сразу же вызвал на сцену виновников собрания и предложил прелюдно помириться. Алексей и Аля обменялись полными иронии взглядами, когда еще недавно не желавшие знать друг друга люди тепло, по-родственному обнимались и обещали вычеркнуть происшедшее из памяти…
7
Время учебы, проведенное в Москве, незаметно, но очень ощутимо изменило и Алексея, и Алю. Они еще больше, чем раньше, превратились в жестко ориентированную, предельно мотивированную и самодостаточную команду. Им вполне хватало друг друга, и хотя в академии не было четко сформулированного приказа не общаться с внешним миром, они договорились между собой, что, по меньшей мере, до окончания учебы не станут расширять круг близких знакомств, предусматривающих появление кого-нибудь у них дома или хождение в гости их самих. Они жили как закрытая система, под искусно созданным, невидимым колпаком. Приветливые и общительные внешне, они никого не впускали в свой внутренний мир. Редкие выходные, кажется, не более одного раза в месяц, посвящались изучению Москвы, которая потрясала их своим размахом, бурным и нескончаемым движением, суетой и жизненной насыщенностью, возведенных в абсолют.
Однажды во время одной из таких редких прогулок по Москве Алексея кто-то окликнул по прозвищу, на училищный манер, коротко и звучно: «Арт, ты, что ли?!» Алексей обернулся и обомлел: перед ними стоял училищный весельчак и патологический нарушитель спокойствия Маркирьянов – Губа, да еще и с какой-то юной девицей под руку. Он был сплошь в коже, дорогой, но бездарно подобранной и мешком висевшей на его уже оплывшем теле; довольно глупо улыбался, готовясь оставить свою спутницу для тесных дружеских объятий. Они действительно обнялись и потом как-то витиевато представили своих женщин. Его юная, убедительно длинноногая дама, выглядевшая еще более несуразно в безвкусном наборе одежды с цветовыми диссонансными оттенками, вызывающе ярким лаком на длинных ногтях и до неприличия броско напомаженными губами, снова приклеилась к своему кожаному ковбою. Алексей тотчас подумал, что эта девица – представительница столичной богемы. Но ошибся. За полторы минуты Губа выложил всю свою незамысловатую историю. В это время его Лариса, которую Сема Маркирьянов представил своей невестой, забавно переминалась с ноги на ногу и бесцеремонно разглядывала маленькую Женечку в детской коляске. Впрочем, та не осталась в долгу и оглядела девицу долгим оценивающим, совершенно недетским взглядом.
Из рассказа Маркирьянова выходило, что он уже несколько лет как живет новой, невероятно насыщенной, по его словам, жизнью. Он без сожаления бросил армию, год как развелся, работает в крупном банке в Саратове. У него от первого брака остался сын, но бывшей жене он исправно помогает, и сына на ноги поставит. Теперь заработал деньжат и везет невесту в Париж (когда Сема Губа сообщал последнее, девица, явно не тянувшая на невесту, окинула Алексея и Алю многозначительным и надменным взглядом, словно будущая миллионерша). А сейчас они на несколько дней «застопорились» в столице – ну, веселиться, так веселиться. И тут же предложил «расслабиться в ресторане».
– Никогда не помышлял вот так, посреди Арбата увидеть старых друзей. Давайте зайдем, да хоть… – Он хотел указать на ближайшее питейное заведение, но Алексей опередил его вежливым, но твердым отказом.
– Понимаешь, Сема, мы сейчас спешим, так что никак не получится. Не имею права нарушать договоренности.
– А вы-то что в Москве делаете? – спохватился Губа, тут же забыв о своем предложении. Уже несколько минут только у него одного рот не закрывался, но уйти, ничего не узнав о товарище, он не мог.
– Мы просто гостим у родственников, – поспешил ответить Алексей, – тоже проездом тут.
Губа отчаянно искал зацепку для новой встречи, а Алексей не менее проворно пытался избежать ее, оставив товарища в неведении о своей жизни. Но без главного вопроса не обошлось.
– Ты-то служишь еще?!
– Служу пока еще, – нехотя отозвался Алексей, слегка отворачиваясь, всем видом демонстрируя, что эта тема ему неприятна, – но не исключаю, что брошу это грязное дело.
– Бросай, иначе денег никогда не заработаешь, поверь человеку, который через это прошел… Так, ладно, вижу, сейчас от вас ничего не добиться. Давай телефон какой-нибудь. Завтра приглашаю в ресторан, – не унимался Губа, – вызвоню Утюга, он где-то тут в Москве шарахается… Тоже уволился, и тоже свободный. – Тут он метнул короткий взгляд на свою девушку, словно проверяя по ее реакции, не сболтнул ли чего-нибудь лишнего.
– Записывай: 158-44-12.
– Ну хорошо, давайте, не теряйтесь, – прокричал Сема на ухо Алексею, опять фамильярно тискаясь с ним и с Алей в импровизированных объятиях.
– Что это было? – со смехом спросила Аля, когда Губа с девицей исчезли из поля зрения.
– Неудавшийся полководец Сема Маркирьянов, по прозвищу Губа. Славный малый, но скользит по жизни, как на серфингист на доске. То на гребень волны, то проваливается в яму…
– Да я помню его на выпуске. Мне кажется, с такими надо держаться на расстоянии. Он какой-то взбалмошный, крутится, как юла.
– Совершенно точно. Слышала, какой я телефон дал?
– Кстати, а что это за номер?
– Первые три цифры нашего служебного, а дальше – что пришло в голову.
– Но ведь он же может обидеться на тебя. Все-таки учились вместе.
– Так-то оно так. Но никто не знает, как флюгер завтра повернется. Нам советуют помалкивать и особенно с теми, кто нас помнит по прежней жизни.
Аля вздохнула. Кому как не ей знать, сколько положено усилий, чтобы достигнуть сегодняшнего положения. А ведь все еще было хрупким и ненадежным, как яичная скорлупа.
– Удивляюсь людской глупости…
– Ты о чем?
– У человека сын есть, наследник. А он девиц по Парижам таскает…
Алексей промолчал, подумал про себя, что Губа всегда шокировал непостоянством. Вспоминал в училище, что и его родители плохо жили, а потом разбежались. Так и он… Горбатого могила исправит…
– Эх, а мы с тобой когда-нибудь вот так смотаемся в Париж?
– Непременно смотаемся. Непременно. Но только не сейчас. Позже…
И Алексей нежно обнял жену, думая о превратностях судьбы, о ее странных поворотах. Зачем Сема Маркирьянов пошел в это училище, которое было явно не для него? Затем же, что и он сам. Но он еще хоть как-то был подготовлен к военной службе, Семе же она всегда была чуждой. И вот теперь он все бросил, начал жизнь сначала, бегает, как юноша, пытается наверстать потерянные на полигонах годы. И они с Алей начали новую жизнь. И являются командой. От понимания этого ему стало тепло на душе и так легко, что он мог бы взлететь на ближайший фонарь и, взгромоздившись там, весело прокричать толпе что-нибудь озорное, хулиганское. А с Семой встречаться нельзя. По меньшей мере, сейчас. Алексей воспринял эту встречу более чем настороженно. Он уже долго жил в тщательно оберегаемом мирке и очень боялся, чтобы никто не проник внутрь его со стороны, из его прежней жизни. И чем больше заботился он о защите внешней оболочки, тем больше ценил жену, ее неприхотливость, терпеливость, умение жить семьей, не стремясь завести многочисленных подружек. Впрочем, она вообще не верила в женскую дружбу, считая ее временным союзом коварных соперниц, а пустые разговоры ее раздражали. И Алексей ощущал, что он очень признателен Але за это. Пока они шли Арбатом, тихо разговаривая между собой, его сбивчивые мысли летали над ним, как бы создавая параллельную, дополнительную реальность. Они общались, были с Алей близки, и этого оказывалось достаточно. И в какой-то момент он понял, почему оттолкнул от себя Маркирьянова при всей добродушной открытости и ненаигранной щедрости последнего. Внешний мир после учебы в академии вообще казался Алексею небезопасным, а тут еще он поймал себя на мысли, что именно развод Семы, то, что он так легко бросил семью, что для Алексея было главной ценностью и опорой в жизни, мгновенно создало пропасть между ними. А уже как следствие не нравилось то, что Губа прыгает сейчас великовозрастным кузнечиком по жизни, беззаботно и беспечно. Во всем этом скрывалась вопиющая несерьезность, отсутствие стержня или стратегической линии, и после стольких лет борьбы за свою собственную реальность Алексей не намерен был рисковать всем тем, к чему он еще только приближался, но на что уже считал себя способным.
На следующее утро, по привычке заглатывая французские слова во время бритья, Алексей на миг остановил взгляд на своем лице. Сузившиеся зрачки и выступающие скулы все еще несли отпечаток былой беспощадности, но уже не прежней, а какой-то замаскированной, закамуфлированной. Припухшие от постоянного недосыпания глаза уже не так заметно выдавали максимализм его натуры. Он постепенно превращался в человека уравновешенного, почти спокойного, можно сказать, интеллигентного. Уже давно ему советовали прикрыть воинственно торчавший чуб более мирной челкой. Сначала, когда рекомендация прозвучала мимоходом, адресованная всей аудитории, Алексей тихо проигнорировал совет, потому что старший преподаватель спецдисциплины номер один, то есть оперативной агентурной разведки, говорил как бы всем и одновременно никому. Уж слишком жалко было Алексею расставаться с этой челкой, как будто вместе с нею должен был раствориться и образ победителя, удалого воина, который культивировался в течение долгих четырех лет училища. Но затем, когда полковник Сташевский, непререкаемый авторитет в академии, как-то заметил ему, что мимикрия – удел мудрых, а вызывающая внешность хороша только в кабаке, среди сборища пьяных дебоширов, Алексей намек оценил. Он смотрел на себя в зеркало и не знал, гордиться приобретенным обликом или сожалеть о потерянном. Из зеркала на него смотрел совершенно другой человек. Тот, который пришел в академию, мог убить противника, если того потребует дело. Тот, кто пришел в академию, очень сильно отличался от идущего на войну не по своей воле, защищаясь от захватчиков. А ведь десантник – сам по своей сути захватчик, воин на чужой территории, признающий насилие и только насилие. С диким блеском в бешеных глазах, с желанием отличиться в любой момент, с готовностью мгновенно вцепиться в глотку врагу. Новый же Алексей был полностью адаптирован к жизни в большом городе, к встречам с улыбающимися душистыми дамами и пространно разглагольствующими мужчинами. Он мог находиться среди людей, почти не боясь взрыва агрессии; все меньше требовалось усилий, чтобы подавить желание разорвать кого-нибудь на части – человека, игнорирующего в аэропорту очередь, какого-нибудь хама в общественном транспорте, да просто случайно встреченную, самодовольную физиономию на улице с наполовину опустошенной бутылкой пива в руке. На него теперь смотрели из зеркала очень сознательные глаза, подернутые дымкой задумчивости, в которых светился ум. Это знания, или, лучше сказать, познания, вытеснили из него патологического разрушителя, но он-то себя хорошо знал: пристально вглядевшись в расширяющиеся точки зрачков, Алексей подумал, что невозможно вытравить все. Что-то осталось там, глубоко внутри, засевшее навсегда. Кто ощутил верховенство силы, даже через десятилетия будет чувствовать леденящую прелесть ее фатального, смертоносного обаяния. И он хорошо видел сквозь маску респектабельного молодого мужчины, что этот человек способен на многое: если не убить, то изувечить в порыве неподконтрольного бешенства. Но теперь другой, владеющий знаниями, интеллектуально развитый, был гораздо сильнее примитивно грозного воина с лихо заломленным на затылке голубым беретом и автоматом в руках. Алексей не мог не нравиться себе: открытый, испытующий взгляд, вид успешного человека и руки, уже без мозолей. Теперь он умел быть психологически агрессивным, незаметно вламываться в чужие мозги, чтобы вытащить оттуда необходимую информацию или посеять там зерна нужных ему поведенческих реакций на будущие события. Он видел в зеркале хищника, но хищника скрытого, изощренного, парадоксального, завораживающего и оглушающего тайным оружием. Вот почему он чувствовал себя на голову, нет, на две головы выше Маркирьянова, человека, оставшегося в мире прежних представлений. Он вступал в новую, неведомую, манящую адреналином, но вместе с тем очень привлекательную реальность, и никого из прежнего мира тянуть с собой не собирался. Только жена и дочь, неотъемлемая часть его самого, войдут в потаенную дверь будущего.
Часть вторая Никто, кроме нас
Десантник должен знать только два действия математики: отнять и разделить.
Василии Маргелов, легендарный командующий ВДВ, который ввел голубые береты и тельняшкиГлава первая
(Рязань, РВДУ, январь 1985 года)
Забежав в расположение роты почти одновременно, курсанты на ходу распределялись: чтобы все успеть, четырем обитателям двух двухъярусных кроватей, имеющих общий проход, надо было уметь быстро договариваться. Они были обречены дружить.
– Так, ты с Лехой – мыться, а мы с Кириллом заправим кровати.
И с этими словами, на ходу брошенными Игорю, необычайно подвижный для своего слегка оплывшего тела Петруха Горобец, всегда чрезмерно суетящийся и производящий вокруг себя много шуму, схватил два табурета и, не давая никому опомниться, затащил их в узкий, сорокасантиметровый проход, чтобы, уже в следующее мгновение взобравшись на них, заправлять кровати второго яруса. Его глаза были распахнуты от нервного возбуждения, а большие темные зрачки в беспокойные утренние минуты увеличивались до размеров монеты. При этом Горобец уже каким-то невообразимым образом успел стащить сапоги. «Мальвина чертова в штанах, хитер, как лис», – мелькнуло в голове у Игоря, когда он, сжав челюсти, вскинул требовательный взгляд на девичьи ресницы товарища. Но тот предпочитал суетиться, не встречаясь глазами; его подвижные зрачки бегали, как маленькие колесики в ограниченном белковом пространстве. Он казался Игорю куклой, большой тряпичной куклой с кнопочкой где-то у выбритого затылка. Игорю не нравилась излишняя суета, которая не имела ничего общего с расторопностью и толковостью.
– Беги, занимай краник! – бешено орал ему с другой стороны Алексей, стаскивая с себя всю одежду.
Схватив по дороге зубную щетку и мыло, Игорь стремглав кинулся к умывальнику между абсолютно голыми и наполовину одетыми курсантами. Умывальник походил на осиное гнездо, в которое поддали дыма для разгона острожалого племени. И похожие на растревоженных ос, курсантские поджарые тела озабоченно суетились повсюду, зло жужжа с заточенными едкими фразами вместо оружия. Тут легко можно было нарваться на сварку, если не балансировать между вызывающей грубостью и бесполезной деликатностью. Настоящие драки, впрочем, были крайне редки – они вели к нешуточным проблемам, и потому в случае потасовки в качестве третейских судей выступали сержанты, более старшие по возрасту, с опытом армии, а то и настоящей войны.
На пару с Алексеем Игорю было удобно – они вместе действовали проворно и в то же время вполне корректно лавировали между сослуживцами, где можно, протискивались, где получалось, хитрили. Свое место приходилось отстаивать каждую секунду. Игорь оказался в очереди вторым. Замызганный нанесенной с сапогами грязью, с беспорядочно льющейся на разгоряченные тела водой умывальник гудел паровозом от напряжения; повсюду толпились потные, липко-жаркие тела, везде ощущался терпкий запах отменно работающих молодых желез. Это через час умывальник станет сухим и блестящим с начищенными до умопомрачения краниками. А сейчас, после утреннего кросса, тут с сумасшедшей скоростью, в ярости брызг, в истошных криках, извечной непрекращающейся сапожной ругани работал гигантский человеческий конвейер. Из краников хлестала холодная вода, и раздетые по пояс курсанты плескали ее себе на грудь, плечи, в лицо. О забрызганных штанах не беспокоились – высохнут в процессе безумной беготни. По несколько человек у одного краника брились и чистили зубы попеременно, в строгой очередности пользуясь водой, чтобы в следующее мгновение броситься чистить сапоги. А на их место уже становилась ожидающая в очереди смена. Несколько счастливых обладателей шлангов забирались голышом на считаные секунды под леденящие потоки и точно так же исчезали, на ходу обтираясь полотенцами. На время душа синие казенные трусы моющихся мигом летели на подоконник, безошибочно находя место между зубной пастой и сапожной щеткой. Среди одержимых насладиться водой часто попадались и те, что голыми, в одних тапочках, шныряли туда-сюда. Никто ни на кого не обращал внимания. Был включен страшный хронометр, самый грозный и самый беспощадный вампир каждого подразделения.
Если бы какой-нибудь сторонний наблюдатель окинул внимательным взглядом казарму, то, скорее всего, не отыскал бы никого, кто позволил бы себе спокойным шагом перемещаться в пространстве. Даже сержанты, в силу должности освобожденные от обязанностей уборщиков кубриков, были вовлечены в беспорядочное броуновское движение человеческих тел. Этот же непредвзятый взор отметил бы, прежде всего, бушующие волны задорного мужского здоровья. А сильный запах потных тел молодых самцов ударил бы так же, как морская волна, которая, пенясь, обрушивается на пирс. В казарменном шторме, где каждый действовал с предельной быстротой, несведущего изумило бы совершенство управляемого хаоса. При всей топорности и неопытности школьного молодняка всякий взмах руки или рывок уже имел очень маленькую и вместе с тем понятную цель: поймать сапожную щетку, схватить нитки, протиснуться с табуреткой в проход, чтобы, перевернув плоской, гладкой частью, зачем-то превратить с ее помощью заправленную кровать в элегантный прямоугольник.
К моменту, когда Алексей появился возле умывальника, Игорь был первым. Не потеряв ни секунды, потому что уже успел почистить зубы и занять очередь за сапожной щеткой. Пока водные процедуры принимал Алексей, прибежал долговязый и нескладный, весь покрытый рябью веснушек, с пугающе оттопыренными ушами, Николай Лыков – яркий представитель холодных восточных земель, попавший в третий взвод уже в Рязани после распределения по языковым группам для изучения иностранного. Он одним из первых во взводе получил великолепную кличку – Сизый. Это был молчаливый и угрюмый парень, проживавший жизнь в глубинах собственных переживаний, но в его мрачносдержанном облике присутствовала еще и необычайная, какая-то тупая настойчивость, позволяющая ему поспевать за товарищами. А вот следующий за ним пронырливый Горобец все-таки не успел – всего лишь несколько лишних секунд он провозился с кроватью. Его тоже уже чаще звали Птицей, чем Петрухой или Петром, на украинский манер. Цепочка тут же нарушилась, краник перешел во владение второго взвода. Но Игорь с Алексеем этого уже не знали – они к тому времени, как юркие птицы над гнездами, ворковали над своими кроватями.
Все равно к моменту, когда дневальный неистово заорал ненавистное «Построение через пять минут!», никто ничего не успел. Игорь, правда, давно познал эту незамысловатую военную хитрость. «Построение через пять минут!» на самом деле означало, что в запасе есть минут семь, а может быть, даже и восемь. Несколько глоток на всякий случай матом обругали дневального – за то, что слишком рано выдает позывные. Детина с округлыми богатырскими плечами у тумбочки дневального смущенно улыбался, словно он был виноват в том, что время течет слишком быстро. На самом деле время текло, как всегда. Просто задач для пятнадцати минут оказалось слишком много: кровать, сапоги, умывальник, воротничок, приготовление сумки для занятий. А кому-то еще и уборка кубрика. Молодежь кружилась одним, величиною со взводный кубрик, волчком.
Но сегодня Игорь к уборке не имел никакого отношения. Поэтому, мысленно послав весточку невозмутимому дневальному: «Да пошел ты…!», он решил разобраться с набиванием на одеяле кантика – вещи, которую даже он, сын военного, понять не мог. Надо было добиться от заправленного одеяла непоколебимой формы плиты с причудливыми, неестественно острыми уголками. Стоя на двух табуретках, они с Алексеем ловко управлялись каждый со своей кроватью. Впрочем, Игорь об этом не задумывался, да и вообще давно ни о чем не думал; автомататические действия незаметно и быстро отбирают способность думать. Он просто радовался, что все получается. Да и разве может быть по-другому, ведь уже заканчивается пятый месяц их учебы и первый курсантский отпуск на носу. Но внезапно его пронзила мысль: он же не подшил вчера вечером воротничок, потому что командир отделения сержант Кандыбин отправил его проверять ОЗК – общевойсковые защитные комплекты – для сегодняшнего занятия. На дрянных прорезиненных костюмах, предназначенных для противодействия оружию массового поражения, было множество мелких вилочек для фиксирования резиновых пуговиц, и он добросовестно проверил наличие их всех, а где не хватало, заменил. Теперь же Игорь сильно рисковал оказаться в роли отстающего. Внезапное маякнувшая перспектива причастности к самому страшному греху вызвала тупую боль внутри, где-то под ложечкой. Игорь мгновенно пошарил рукой между матрацем и простыней и аккуратно, даже с какой-то трепетной нежностью извлек много раз сложенный кусок белоснежной материи. Если не прятать это добро, товарищи без зазрения совести растащат. Не со зла, конечно, но просто загнанные прямолинейными, припирающими к стенке обстоятельствами и порожденным ими стремлением наиболее просто решать любую проблему. Игорь решительно оторвал кусок и, тщательно спрятав оставшееся добро, метнулся к берету, в котором должна была находиться иголка с нитками. На месте ее не было. Ах, твою мать, подарочек!
– Какая тварь взяла мою иголку с ниткой из берета?! – это был даже не вопрос, а истошный крик души, потому что это был вопрос, обращенный к стенам. Существовало негласное, неписаное правило: если ты допустил, что у тебя что-то стащили, значит, сам и виноват. Потому-то, кстати, и метались в казарменной жизни двойками-тройками, в которых каждый выступал еще и охранником личных вещей. Но мгновение потери в следующую секунду уже стало частью его личной, никому не нужной истории, и мысли Игоря теперь были обращены не на поиск, а на максимально быстрое решение проблемы. Во взводном кубрике в тот момент находились человек семь курсантов.
Добрая треть взвода, так что спасти ситуацию еще можно было вполне. Он решил попытать счастья, громко крикнув с оттенком отчаяния:
– У кого есть белые нитки?
Никто даже не оглянулся, словно не существовало ни вопроса, ни его самого. Тогда он повторил вопрос, снабдив его отменным, трехэтажным, громогласно вывернутым ругательством в адрес всех тех, кто находился в расположении взвода. Если бы Игоря сейчас видела его учительница Антонина Сергеевна, считавшая его «скромным и вполне воспитанным мальчиком», она бы, пожалуй, упала в обморок от энергетического удара, произведенного абсолютно не цитируемым словосочетанием, сотрясшим пространство, подобно подземному толчку. Тотчас к Игорю протянулись сразу две руки с мотками белых ниток – волна отчаяния докатилась и до забаррикадированного сознания товарищей, не задумывавшихся о том, что звук произнесенного слова являет собой энергию, вихрь, склонный материализоваться. К счастью, в офицерском планшете у Игоря был припасен набор иголок. Курсант быстро извлек его и с первого раза, тщательно прицелившись, прострелил ниткой игольное ушко, затем оторвал метр нитки про запас и уже собрался шить, как к нему подкатился Витя Катюшонок из первого отделения. В руках он держал иголку без ниток, кривясь в наивной полуулыбке-полугримасе. На нем был незастегнутый китель, из-под которого в верхней части, оттеняя тельняшку, сверкал белизной воротничок.
– Братан, не рычи. Это я твою иголку взял – ну, так вышло. Возвращаю с извинением и трепетным чувством благодарности.
Игорь хотел было разразиться ругательствами, но удержался. «Какой смысл, ведь правила не переделаешь, – мог бы подумать он в этот момент, если бы клещи обстоятельств не сжимали до боли его голову. – Хорошо, хоть сказал да вернул иголку – и на том спасибо».
– На, намотай мне в берет. – Он со злостью и досадой ткнул в руки сослуживцу запасной метр нитки. Что означало: намотать нитку на иголку, вставленную в берет. Хоть какая-то компенсация затраченных нервов.
– Рот-та, построение через одну минуту! Выходи строиться в центральный проход! – работал глоткой дневальный.
– Твою мать! – сам себе громко бубнил Игорь. – Не успею!
Если бы он мог, то заплакал бы от досады; но кому объяснишь, что он не успевает не из-за собственной нерасторопности, а вследствие стечения обстоятельств. Никто тебя тут не пожалеет! Ответственный офицер будет кривиться от неудовольствия, сержант – звереть, а курсанты – преисполнятся тайной радости, что не они сегодня вляпались. И пойдешь ты на кухню чистить кастрюли или очко натирать лезвием в уборной – вместо лекций. Впрочем, на лекциях своя борьба – не уснуть, уронив голову на стол, и не вляпаться из-за этого в новую историю. Каждая минута посвящена борьбе. Но Игорь об этом не размышлял, он просто был весь подчинен распознаванию символов и знаков – из этого состояла его жизнь. Сделать серию правильных выборов и не попасть под подлый, бездушный маятник, откуда ох как тяжко выбираться…
– Так, внимание, третье отделение! – в проходе стоял старший сержант Иринеев с сапожной щеткой в руках, а за ним выглядывало спокойно-печальное, лишенное эмоций лицо подошедшего взводного.
Все почтительно встали, повернувшись лицами в сторону офицера. Игорь осторожно продолжал пришивать воротничок, еще двое курсантов мерными движениями, как бы украдкой, чистили войлочными кусочками ткани бляхи своих ремней.
– Иринеев, почему у вас курсант Петроченков снова ничего не успевает? Уже была команда строиться, а у него еще даже кровать не застелена. И, ясное дело, он до сих пор не брит.
Капитан Чурц говорил в нос, тихо, гнусаво и почти невнятно, так что некоторые курсанты в дальней части взводного кубрика даже не расслышали своего командира взвода. Игоря всегда удивляли спокойствие и холодная отстраненность этого офицера, как будто он был не участником событий, а кинозрителем, сторонним наблюдателем. Но по мере того как офицер говорил, лицо Иринеева наливалось злобной яростью, глаза с тупой ненавистью исподлобья смотрели на испуганного, забившегося кроликом в дальнем углу клетки Рому Петроченкова.
– Потому что, товарищ капитан, курсант Петроченков – медлительное чмо, которое оторвали от мамкиной сиськи и пристроили в училище. Что, мне за него кровать застилать?! Не успевает – отчислить к чертовой матери, его сюда никто не звал. – Было видно, как внутри сержанта все клокочет от негодования и нетерпимости к этому неуспевающему, который словно болезненный волдырь торчал на безукоризненном теле взвода.
– Иринеев, слишком много слов и мало дела, сержант. Вам люди даны, чтобы вы их не обзывали, а научили. Если он у вас зарос, как дикобраз, – а я это отсюда вижу, – пусть отделение носит его, моет, подшивает, бреет, кровать застилает. У нас воинский коллектив, а не шобло.
Последняя фраза была своеобразным хитом взводного. Изумляло всех то, что капитан Чурц даже не изменил тональности своего голоса, звучащего, как из погреба, глухо, невнятно и бесчувственно. Таким голосом никуда не спешащий городской житель мог говорить товарищу: «Ну хорошо, если этот автобус слишком полон, поедем на следующем».
– Есть! – сквозь зубы прорычал теряющий терпение Иринеев. – Внимание, взвод! Третье отделение, строиться в кубрике, остальные – выйти к месту построения роты.
– Дидусь, Терехов, Артеменко, Осипович! Взять Петроченкова за руки, за ноги – и в умывальник. Три минуты – помыть и побрить его. Марш! Лыков – застелить кровать Петроченкова. Нога – почистить его сапоги. Горобец – подшить его китель. Сержант Кандыбин – доложить о готовности курсанта Петроченкова к занятиям через четыре минуты. Время пошло!
А вот фраза «Время пошло!» – любимая у сержанта Иринеева. Отделяющая невидимым барьером его положение – избранного, посвященного, обладающего статусом неприкосновенности – от положения курсанта – бесправного, отданного ему во власть, подобно крепостному крестьянину. Все видели, что Иринеев завелся не на шутку. И знали, что сержант умел накручивать себя, вводить по собственному желанию дозу свирепости. И чем дольше он бурлил гейзером, тем спокойнее и уравновешеннее становился капитан Чурц. Как будто они были сообщающимися сосудами и все раздражение взводного перетекло в жилы замкомвзвода. На самом деле непробиваемость взводного на фоне его кротовой дотошности доводила сержанта до исступления. Указания на чьи-либо недостатки Иринеев воспринимал как личное оскорбление и потому тут же жаждал немедленного отмщения. Но в своем слепом и лютом гневе он не видел того, что бросалось в глаза всем остальным: сквозившую насмешку взводного над их повседневной суетой. Безучастные глаза командира как бы посмеивались над бессмысленностью военного вышкола. Они будто бы говорили: ну, давайте, давайте, все равно потом превратитесь вот в таких капитанов, как я, – лишенных страсти, честолюбия и излишних амбиций. Игорь дивился этому мрачному постоянству офицера и, утопая в произведенной им дополнительной суете, покорно бегая и выполняя указания, уже теперь, с первых дней учебы в училище, примерял ситуацию на себя. И к своему изумлению, он уже отказывался от такой роли, уже сейчас знал, что не стал бы поступать так, как этот капитан, в действиях которого он, сын профессионального военного, не мог не рассмотреть скрытой неполноценности и связанной с нею бесполезной мстительности. Молча затаскивая Петроченкова в умывальник, нелепо двигаясь с громоздким, хотя и податливым телом, пыхтя под ним, Игорь думал, что, верно, не потому их взводный принимает сам столь шокирующие решения и потворствует волчьим наклонностям сержанта, что судьба была немилостива к нему, а напротив, его жизненный и карьерный путь изогнулся в отвратительную кривую из-за отстраненности его самого от жизни подчиненных. Чурц казался ему рано уставшим человеком, неприглядно затерявшимся в собственной жизни, поэтому и тешившимся чужими унижениями, которые, хотя и кажутся справедливыми, на самом деле являются производной низости, личной неспособности и душевной мелочности.
Рота уже давно замерла и построилась для утреннего осмотра, а старшина докладывал отчужденно взирающему на мир капитану Чурцу, когда, затащив Петроченкова в умывальник, курсанты поставили его на забрызганный пол, грубо намылили лицо и стали брить. Игорь с тяжелым сердцем стал свидетелем и участником жалкого зрелища человеческого падения, сравнимого лишь с тем, когда оступившийся в горах вдруг теряет равновесие и начинает скользить по осыпи, его же товарищи пытаются помочь, но на самом деле еще больше подталкивают несчастного к пропасти. Об этом он думал, глядя на полубезумные дымчатые глаза Петроченкова, который не только не сопротивлялся, но окончательно поник, сдался обстоятельствам и поэтому стал угрюмым и, по всей видимости, был неспособен оценить происходящее. Его руки безнадежно, плетьми повисли вдоль тела, колени подогнулись, а плечи сгорбились, как будто он был стариком с тяжелой ношей, а не статным восемнадцатилетним юношей. Это было немыслимое, исключительно мужское оскорбление, все равно что судилище у позорного столба, всеобщее порицание, перешагнуть через которое и жить дальше, словно ничего не произошло, немыслимо и невозможно. Это была психологическая травма, рана сродни ножевой, после которой оставаться в строю равным было бы фантастикой, несбыточной сказкой. И хуже всего то, что Петроченков понимал это. Хорошо осознавали и исполнители волевого указания.
– Рома, ну ты же каратэ дома занимался, ты ж мужиком был, что ж ты так опустился! – причитал на ухо Петроченкову Антон Терехов. Сыну военного врача, ему было особенно неприятно исполнять эту предательскую экзекуцию, и он говорил скороговоркой, словно извиняясь за насилие над лицом товарища. Он интуитивно понимал, что чужое лицо – слишком интимное место и их действия не пройдут бесследно, еще долгое время Петроченков будет с ненавистью и болью помнить прикосновения чужих рук к своей коже.
– Да чё ты его приглаживаешь?! – орал с другой стороны Глеб Осипович, нестандартный москвич, неизбалованный и неизнеженный, не в пример большинству юношей столицы. – Знал он, куда шел?! Чего мы должны его жалеть, если он на всех нас положил?! Вы слышите, он уже воняет, потому что не моется?! У-у, чадо! – Если Терехов осторожно мылил лицо Петроченкова, который на свою беду имел черные, как воронье крыло, волосы, моментально видимые жирными черными точками на подбородке, то Осипович оказался решительным цирюльником и главным насмешником с бритвенным станком.
Игорь и Алексей молчали. Да и дело уже было сделано, надо было опять хватать Петроченкова на плечи и тащить, как подраненного зверя, в кубрик. Приказ есть приказ. Но по мере того как Осипович завершал бесцеремонное орудование бритвенным станком по лицу Петроченкова, Игорь видел, как на круглые кроличьи, еще испуганные и немигающие, но все больше тускнеющие глаза неудачника накатываются большие прозрачные слезы. Парень не утирал их, как будто руки его были парализованы, или ему, может быть, самому хотелось ощущать свои слезы, чтобы лучше запомнить день и час своего губительного унижения. Игорю в какой-то момент стало невыносимо жаль этого наивного, не готового к предельному напряжению парня, который, он теперь уже точно знал, навсегда потерян и для училища, и для ВДВ. И для армии вообще, потому что армия везде одинакова. И еще Игорь знал, что вместе со своим пресловутым каратэ и множеством иных навыков, приобретенных благодаря натаскиванию за деньги родителей, он сам еще слишком мало совершил волевых актов и слишком долго находился в зоне комфорта. И теперь, как оторвавшийся от дерева лист, он уже начал свое замедленное падение, которое неминуемо закончится ударом о твердую землю. Конечно, этот Петроченков, вполне вероятно, может стать когда-нибудь и где-нибудь авторитетным врачом или видным инженером, но позорный момент своего морального уничтожения все равно запомнит на всю жизнь. Действительно, мысленно подчеркнул Игорь, когда-нибудь и где-нибудь, но не здесь и не сейчас. Просто он, этот самовлюбленный мальчик, который дефилировал ряженым франтом в своем городе, которого, вероятно, затискивала в объятиях мать, за которым умиленно вздыхали девочки, слишком перебрал в своих тайных мыслях желания выглядеть великолепно, царственно, круто. Слишком сильно замахнулся и в ключевой для броска момент фатально потянул руку. «Не по Сеньке, видать шапка», – вспомнил он своего простоватого и вместе с тем мудрого деда Фомича из такого же глухого, как и он сам, украинского села Межирич.
И сам Игорь знал, что никогда не забудет это неприятное, в оспинных рытвинах лицо, с выпученными полубезумными глазами и застывшими на щеках слезами. И все же когда Игорь потом размышлял о судьбе Петроченкова, в нем происходила переоценка ценностей. Как будто это событие заронило в его душу зерно необычайного, ранее несвойственного ему чувства. Он мог бы найти это странным, но неожиданно всецело принял сторону Осиповича. И чем дальше бежало время, тем меньше жалости у него оставалось к Петроченкову, тем больше он понимал, что каждому – свой путь и каждому – вдыхать свой воздух. И тем меньше желал, чтобы когда-нибудь и где-нибудь его жизнь оказалась в зависимости от таких, как этот чужак. Прошло еще немного времени, и всякое инородное для ВДВ тело, каким оказался неженка Петроченков, стало почти ненавистным Игорю, вызывало в нем желание выжигать такие бородавки каленым железом, вырезать, как гнойники на здоровом теле.
Игорь быстро забыл, что публичное наказание Петроченкова удивительным образом спасло и его самого от унижения за не пришитый вовремя воротничок. Все внимание, как это обычно случается, переключилось на первого в роте аутсайдера, и, легко улучшив момент, Игорь довел шитье до конца, потратив на нехитрое дело меньше минуты и затем сразу же навсегда вытеснив воротничок и связанные с ним переживания из своей памяти.
Рома Петроченков в самом деле не дотянул даже до отпуска. Что было явным демаскирующим признаком его принадлежности к так называемым «блатным» – тем, кого устроили в училище через высокопоставленных родственников или просто за взятку. Вместо того чтобы показательно исключить курсанта, не выдержавшего испытаний, от Петроченкова избавились тихо, и он дослужил положенный срок где-то на задворках армии или, быть может, в беззаботном военкомате. Те две или три недели, которые курсант Петроченков еще находился при роте, он казался отрешенным и безмолвным: ни с кем не разговаривал и на все смотрел отсутствующим взглядом. Он не посещал более занятий, его не привлекали к нарядам или работам; оставленный, заброшенный и опустошенный, он сидел одиноко у окна и взирал на рвущиеся от ветра последние листья, на первый снег и зябнущих от холода птиц. Преданный забвению, он только физически еще находился здесь, в то время как мысли уже унесли его далеко; он смирился со своей участью утлого суденышка, не выдержавшего темпа с остальными кораблями флота.
Единственное место, где Петроченков невольно пересекался с остальными, была курилка. Однажды, когда Рома молча, с угрюмым видом, уставившись в пол равнодушным взглядом, появился там во время общего перекура, курсанты других взводов брезгливо зашикали на него, как на прокаженного. И, сделав несколько затяжек, Рома исчез. На нем висел ярлык изгоя, и Игорь подумал, как легко общество соглашается с тем, что ему предлагается. А ведь никто даже не знал, да и не захотел узнать, что творится на душе у этого маленького серого человека. Игорь и сам удивлялся своей жестокости, осуждению и полному безразличию к дальнейшей судьбе Петроченкова. И только когда тот исчез навсегда, Игорь мимо воли подумал: «Ну вот, и второй человек выпал из обоймы с начала учебы. А скольких мы еще потеряем?» Он вспомнил и первого – Андрея Симонова из пятого взвода, интеллигентного и аккуратного паренька, выделявшегося щуплым видом, мелким лицом в подростковых угрях и подозрительно небольшим для десантного училища ростом. Но хотя тот также исчез, и еще тише, чем Петроченков, результат его исключения самым неожиданным образом отразился на судьбе старшины Мазуренко. Выяснилось, что, когда в один из особенно холодных дней Симонов последним выходил на построение на утреннюю зарядку, Шура не сдержался и нанес ему роковой для обоих удар в лицо. Тройной перелом челюсти решил судьбу и первого, и второго. Первого тихо исключили из училища и под шумок, при совместном содействии влиятельных родителей и не менее влиятельных военных, комиссовали. Второго – сняли с должности старшины роты, разжаловали в рядовые, сделав простым курсантом. «Вот она, настоящая мужская жизнь, – размышлял после этого Игорь. – Если слаб, то подвинься и не мешай». Ему не жаль было и Симонова; почему, собственно, все они должны были мерзнуть на морозе в тонких, насквозь продуваемых хэбэшках, непрестанно падая на лед и отжимаясь, чтобы тело не одеревенело от стужи? А он, привыкший дома к поблажкам и потаканиям, намеревался и тут лукавить, последним выходя из казармы, чтобы меньше быть на холоде. «Правильно поступил Мазуренко, – неожиданно для себя заключил Игорь. – Терпи или уходи, хотя и уйти-то не так просто…» Но для себя он сделал совершенно однозначный вывод: сцепить зубы и держаться. Во что бы то ни стало!
Игорь удивлялся тогда реакции роты. Все тайно признавали, что явное бесчинство и самосуд Мазуренко были следствием не столько неуравновешенности обладающего невероятной силой человека, сколько его уверенностью, что героям все прощают. Его почти не осуждали, а если кто и был против, то высказывал это как-то тихо, робко и неуверенно. А вот про Симонова почти все в один голос твердили, что он, дескать, получил свое. Потому что, гнус эдакий, прятался где-то в уборной, чтобы выйти последним и не мерзнуть, как ждущие его остальные сто тридцать человек. И людям, пришедшим сюда в поисках настоящего мужского дела, была гораздо ближе какая-нибудь грубая реплика Мазуренко, как то «Спать будем в морге!» – ответ на чей-то наглый вопрос из строя, а будет ли рота вообще спасть этой ночью, чем подтягивание слизняков до уровня среднего бойца ВДВ. И поэтому Игорь также, осуждая Симонова, испытывал чисто мужскую, рыцарскую симпатию к Мазуренко. И при этом он забывал совсем, что ведь и сам мог бы считаться «блатным», но не считался таковым. Однажды он с ужасом подумал об этом и тут же решил никогда не пользоваться возможностью обратиться к дяде. Не состоять в этой сомнительной компании курсантов, а быть членом мужского братства, привыкшим терпеть боль, неудобства и зуд неутоленных желаний. Только после отчислений Симонова и Петроченкова Игорь по-иному начал воспринимать нарочитую суровость своего отца и показную эмоциональную скупость дяди. Ведь благодаря этим двум мужчинам ему тут, в огромной казарме, где на двухъярусных кроватях спали сто тридцать человек, вполне было комфортно. В таком случае, поделом им, ушедшим, – слабым, аморфным, безликим!
В сущности, сам Игорь всегда знал, что станет офицером. Неважно, какого рода войск. Каким-то образом с раннего детства в его жизнь ворвались и укоренились незыблемые принципы, привитые то ли отцом с матерью, то ли их незамысловатым образом жизни, то ли самим временем и местом становления. Сам он никогда не задумывался над причиной их появления и, вероятно, не сумел бы ответить, почему в тех или иных обстоятельствах он поступает именно так, а не иначе. Обостренное понятие чести и исключительности мужского предназначения как воина было настолько органично вплетено в его мировоззрение, точно на генном уровне досталось в наследство от тех стойких скифов и воинственных скандинавов, которые формировали характер древних обитателей берегов Днепра и Роси. В этом смысле Игорь был поразительно предсказуем и последователен, его логика, как четко написанная компьютерная программа, никогда не давала сбоев. И на земле не существовало такой кислоты, которая была бы способна разъесть, растворить его жизненные принципы; ни чужая лихая сила, ни мифические золотые горы, ни заманчивый соблазн обольщения. Он, сколько себя помнил, жил неприхотливо, бесхитростно, без тени лукавства, почти ни о чем не мечтая, не хватая с неба звезд, не попадая в сети собственных заманчивых иллюзий, ибо их просто не существовало. Была, правда, в его жизни одна-единственная любовь, вынесенная из глубокого детства: самолеты. Однажды, уж он не помнил при каких обстоятельствах, отец взял его с собой на военный аэродром. Там он впервые увидел рычащий, подобно лютому зверю, истребитель, который вдруг резко, по немыслимо крутой траектории, подняв ураганный порыв ветра у земли, ударив пылью в лицо, взмыл в небо. Волна горячего воздуха обдала его лицо, заколдовав и приворожив. Он испытал неподдельное, непревзойденное восхищение совершенством! Чудесная машина из гладкого блестящего металла показалась ему живой, умеющей дышать и чувствовать. И может быть, даже разговаривать. Восьмилетним мальчиком он стоял тогда, потрясенный и застывший, как статуя; он был раз и навсегда покорен фантастической, непредсказуемой силой машины, которая потом еще несколько раз сотрясала воздух, проносясь с быстротой молнии над ними и оставляя за собой причудливый ватно-дымчатый след.
Но Игорю не суждено было стать летчиком, он рано ясно осознал это и безропотно принял. Да он и не ставил перед собой такой цели, просто любовался сказочно прекрасными железными птицами любой масти. Всякий самолет вызывал в нем смутные ощущения полной свободы, ничем не сдерживаемого порыва, и глубоко в подсознании идеальное, пленяющее взгляд движение самолета ассоциировалось у него с безмятежностью и независимостью от любых обстоятельств. Полет являлся зеркальным отражением абсолюта мечты, победы человеческой мысли над бесконечностью, означал возможность любых побед. Он был символом полного счастья, которое, как известно, не может воплотиться полностью. Между тем, сценарий его собственной жизни был предопределен нехитрым родительским сценарием; по существу, он стал логическим продолжением отцовского. Реальная жизнь с раннего детства заставила его крепко стоять на земле, удерживая прессом нескончаемых обязательств, которые Игорь рано привык выполнять. Кочевая жизнь семьи с бесконечными контейнерами, чемоданами, многочасовыми перелетами, монотонными переездами заставила его с ранних лет довольствоваться малым, не имея ничего сверх необходимого. Он научился не строить воздушных замков и не путать благодать с забытьем. Все будни Игоря состояли отнюдь не из сказочных хитросплетений; в них не было места ничему воздушному, романтическому или пылкому.
Вплоть до отъезда в Рязань Игорь пребывал в уверенности, что его отец достиг всего, чего хотел. Лишь однажды он усомнился в этом, что оказалось к месту и ко времени. Игорь на всю жизнь запомнил, как они втроем – рядом был еще несмышленый брат-шестиклассник Витя – рыбачили в последнее лето его детства на маленькой, основательно заросшей по берегам осокой и покрытой в заводях тиной, когда-то легендарной речушке. Отец давал какие-то наставления касательно будущей жизни в военном училище, как вдруг в небе на несказанно низкой высоте пронесся истребитель. Игорю показалось, что самолет на мгновение отразился в речной глади, которая тут же стала вибрировать грациозной ковровой дорожкой от мощного потока воздуха сверху. Полет самолета был совершенно неожиданным и потому чарующим, захватывающим, как цирковое представление, пронзающим сознание особенным, изломанным звуковым ритмом и замысловатым, поддразнивающим танцем. Они втроем дружно задрали головы, неотступно следя за разорвавшим тишину самолетом, и Игорь вдруг с изумлением обнаружил, что его всегда твердый и непреклонный родитель как-то расслабился, растаял, словно конфета на солнце. Он понял, что и его отец, сильный и мужественный, достигший успеха, в действительности наивно, по-детски мечтал всю жизнь о несбыточном. Возможно, о самолетах, о непокоренном бездонном небе, и этой мечте, как и его собственной, не суждено было воплотиться в жизнь. Это самое большое откровение за его короткую жизнь въелось, как проповедь случайного пророка, заключенная в единственном, все объясняющем жесте, как выглянувшее из непроглядных туч солнце, внезапно осветившее ранее скрытое откровение.
И электрический разряд внезапной, глубокой скорби пронзил чуткое сердце юноши, оставив в нем неумолимую, щемящую боль за недовоплощенность отца и за уготованную ему самому точно такую же недосказанность.
Отъезжая в училище, Игорь очень хорошо осознавал: для него приготовлен слишком узкий коридор, чтобы можно было спокойно плыть по течению. Единственное преимущество, которым он обладал, – плыть быстрее. Но, к немалому удивлению Игоря, в училище у него оказалось много преимуществ. Связанных, как он понял позже, с его непритязательностью и привычкой к терпению. На работы и наряды он вовсе не обращал внимания, порой удивляясь маскам разочарования на лицах своих сослуживцев, которых назначали дневальными. Он видел, как откровенно портилось настроение у несколько романтичного Алексея Артеменко, прозванного за скрытую страсть к мечтаниям Артом. Недоумевал, почему сожаление и злость появлялись на лице Антона Терехова – Терехи. Сожалел, когда случайно прорывалась, подобно сбежавшему молоку, досада у шельмоватого, вечно взвинченного Горобца, которого за природную изворотливость величали Птицей. И втайне беззлобно смеялся, когда противно урчал кто-нибудь из старослужащих, типа незадачливого Вадима Шепелева, нареченного за постоянное недовольство Урюком. Если и ему самому не хватало артистичности в восприятии окружающего мира, то товарищи его и подавно не блистали качествами избранных. Все они почему-то казались большими детьми: точно так же обижались, когда были лишены игрушки, и так же наивно радовались, когда гладили их по голове. И все они неизменно раздражали Иринеева, которого тотчас выворачивало от любого проявления протеста и который умел сам себя в считаные мгновения довести до состояния слепой ярости. Эту ярость со временем перестали бояться, но с нею всегда считались – сержант был готов мстить, давать невероятно гадкое поручение, внезапно отправлять на грязные работы, во время, предназначенное для отдыха, устраивал поучительный эксперимент. Иринеев не любил всех без исключения, ко всем относился пренебрежительно и даже презрительно, и это было видно. Но Игорь менее всех страдал от замкомзвода, вернее, испытывал он неприятные ощущения только от страданий товарищей – бессильных, податливых, уязвимых.
Игорь же, поразительно апатичный внешне, отличался подлинным бесстрастием. Он никогда не употреблял баррикадных фраз или мятежных жестов. Не потому, что не хотел протестовать, просто ему была чужда не только любая форма протеста, но и вообще умение ярко выражать эмоции. Кроме того, ему незачем было восставать против установленных правил, он был подготовлен к ним. В нем совершенно отсутствовала любая форма плутовства, а если бы он когда-нибудь всерьез задумался над собственным мировоззрением, то, верно, определил бы его как средневековое, насквозь пронизанное предрассудками. Он не привык и не умел протестовать с детства и поэтому часто производил впечатление стойкого оловянного солдатика из известной сказки. Он вынес из этого неожиданного умения совершенно очевидную практическую пользу: его командирам поразительно удобно было с ним. Даже в сослагательном наклонении он никогда не выдвигал никаких дополнительных условий или пожеланий. Ко всем этим достоинствам можно было бы смело прибавить еще одно качество, о котором Игорь сам не догадывался. Он оказался на редкость выносливым и к тому же абсолютно лишенным брезгливости. Попадая в наряд по роте с Артом или Птицей, он заметил, что им легче таскать по полу гигантскую «машку», натирая ее до блеска, или драить громадное пространство холла и лестницы, чем убирать в уборной. И он уступал просьбам, легко соглашаясь на более грязные работы. Вернее, на те, которые считались более грязными, потому что для него самого вид работ не имел никакого значения. Игорь не отдавал себе отчета в причинах, почему так, и, откровенно говоря, не задумывался над этим. Это была данность, его стартовая позиция, которая возникла из образа жизни до училища: из необходимости помогать по дому матери, из спокойного отношения к обычной просьбе деда помочь убрать нечистоты у свиней или коровы, из косной привычки весной перекапывать огород, летом косить траву, а под осень «копать картошку».
Наконец, существовал в училище предмет, который всякого доводил до сумасшествия. В самом деле, строевая подготовка монотонностью, беспристрастностью и отсутствием всякой логики развития изнуряла всех, но только не Игоря. Алексей сказал ему как-то, что усиленное, рьяное битье ногой об асфальт с одной лишь целью – провалить его пяткой – ведет к распаду личности. Игорь усмехнулся в ответ: он не знал, что такое распад личности, и эта фраза вообще была не из его жизни. И как это Леша может отчетливо чувствовать то, о чем твердит? И это ведь форменная слабость – чувствовать всякие глупости, которые мешают спокойно жить.
Тем не менее, Игорь все больше привязывался к Алексею, светловолосому земляку с серьезными серыми глазами и глубокими суждениями, в которых он часто улавливал томление ранней зрелости, смешанное с почти чуждой ему самому романтикой. Слишком многое в поведении и мироощущениях задумчивого Алексея виделось противоречивым, вызывало его недоумение и оставляло расплывчатый, словно из рассеивающегося дыма, знак вопроса. Игорь никак не мог взять в толк, как человек пришел в военное училище, не только не любя, но чувствуя явную неприязнь к армии и военной службе. С ним самим ведь ничего подобного не происходило, а полиэстетическое восприятие действительности являлось своеобразной защитной пленкой. Оно, как синтетический полимер, не пропускало в душу ничего чрезмерно чувствительного, эмоционально-сентиментального, отчего можно было бы прийти в замешательство или смятение. Неистовая радость, умиление или фатальное уныние были одинаково чуждыми ему чувствами, и он тайно радовался этому. Что же касается его странной связи со строевой подготовкой, то хотя исступленное топание по плацу под собственный счет ничуть не вдохновляло Игоря, но и не отравляло ему жизнь, как многим другим. Зато хождение ротной коробкой с зычной, надрывно взлетающей песней придавало военному построению особый блеск, напоминало о принадлежности к несокрушимой рати, власти, ради которой не грех до хрипоты драть горло. Игорь не понимал, вернее, не отдавал себе отчета в том, что именно его возбуждает: была ли это неистовая детонация энергии мужской силы, сжатой казарменными стенами, а тут в одночасье выброшенной в пространство, или здесь имел значение смысл песен, может, еще что-либо. Кроме того, это ощущение было из детства, из далекого грузинского Ахалкалаки, где его отец был заметной фигурой в части и где хорошо спетые патриотические строевые солдатские песни порой с лихвой заменяли скудные телепередачи. И всякий раз, когда пламенная песня взвивалась ввысь вихрями неподражаемых вибраций, когда звучание набирало силу, незримую, но вместе с тем явную, озорную, бесшабашную, внутри у него замирало, сердце билось громче и почему-то слезы выступали на глазах. В такие моменты перед глазами проходили в тяжелых доспехах ратные полки древнерусских воинов, летела неудержимая конница бесшабашного Буденного с шашками наголо, шел на врага уверенный танковый клин, и, наконец, рассекала небо, поражая синхронностью движений, бесподобная и несокрушимая пятерка грозных металлических соколов от конструкторского бюро Сухого. В сознании же надолго застывал отпечаток незыблемой военной удали, росла жажда самоотречения, обострялось восприятие человеческих возможностей, которые порой казались безграничными.
И все-таки, если бы Игорь мог в это время пристально и без спешки взглянуть на себя в зеркало, он, верно, удивился. На него бы смотрел осунувшийся молодой человек с серым, угрюмым лицом и горящими от возбуждения и непрестанного напряжения глазами. Так выглядит зверек, которого впускают в маленькое помещение и потом гоняют для дикой забавы с улюлюканьем и щелчками кнута. Под глазами у своего зеркального двойника Игорь обнаружил бы темные круги от непрестанного недосыпания, а руки показались бы более заскорузлыми и огрубевшими, чем у самого ярого огородника. Если бы не погоны с желтой полосой и многозначительной буквой «К», между Игорем и чернорабочим из кочегарки нашлось бы слишком мало существенных отличий. И очень хорошо, что он не обращал внимания на свое отражение в зеркале, заглядывая в него, чтобы найти на подбородке несколько некстати вылезших волосков, он просто не видел себя, не мог увидеть. Иначе он бы поразился изменившейся внешности, внезапному и стремительному взрослению. Заметил бы неуклюжую походку, как если бы обе ноги его болели, а он, превозмогая боль, старался бежать на полусогнутых ногах.
Приспосабливаясь к новой жизни с тяжелыми, порой предельными нагрузками, Игорь никогда не задумывался о причинах и цели своего пребывания в училище. И дядя, бравый полковник кафедры марксизма-ленинизма, хвалил Игоря за правильность избранного пути.
За первые, самые трудные полгода счастье оказаться в гостях у дяди выпало Игорю целых четыре раза – полковника нельзя было упрекнуть в том, что он баловал племянника. В один из таких моментов, когда Игорь опустошал вторую тарелку наваристого украинского борща, а его тетя – добрая фея – многозначительно вздыхала, дядя пророчески изрекал:
– Терпи, Игорек, это все временно. Прими как стихийное бедствие. И запомни: воздушно-десантная подготовка и тактика. Это то, что надо командиру. Тактика, чтобы командовать и понимать команды. ВДП, чтобы не угробить технику и людей при десантировании. Все! А эти глупости, разбивание кирпичей, лопание досок руками, метание саперных лопаток – это все забудь. Это ребячество, баловство! У нормальных это проходит, как только получают лейтенантские погоны. Запомни, дорогой мой, война выигрывается не лопатками и бицепсами, война выигрывается мозгами. Ты – будущий командир, так что думай! Вижу, отец будет гордиться тобой, когда в отпуске тебя увидит…
Подобный монолог, только в ином наборе слов, у дяди повторялся в каждый приход Игоря, местами менялись только предложения, иногда добавлялись несколько новых слов. Но смысл Игорю был ясен, как и неизменный сценарий короткого увольнения: плотный обед с десертом, горячая ванна и несколько часов сна, пока дядя с тетей смотрели телевизор. Затем Игорь на короткое время присоединялся к ним, но с наступлением темноты беспокойство само собой нарастало в нем. И позже, когда дядя отправлялся на прогулку с боксером, беспечно-игривым, прыгучим, повсюду развешивающим слюни, маршрут прокладывался мимо ворот училища – Игорь, естественно, был без увольнительной. И ему порой казалось, что отношение дяди к нему приблизительно такое же, как к этому душевному псу, которому видавший виды полковник, с ласковой усмешкой говаривал: «Ну, чё ты хочешь, дуралей?», когда тот пронзительно и преданно заглядывал хозяину в глаза перед прогулкой. А дуралей восторженно помахивал обрубком хвоста, смотрел, как на бога, иногда ухитрялся лизнуть шершавым языком не менее шершавую щеку пытающегося увернуться хозяина. Ради прогулки пес готов был откликаться на любую кличку, и Игорь за это-то и недолюбливал собаку – начало радости боксера означало конец его собственного короткого отрезка блаженства. Они с псом были на равных в восприятии действительности. То был период, когда Игорю сложно было судить о превратностях человеческой привязанности, и через двенадцать лет после тех тоскливых уходов в расположение роты, получив известие о смерти дяди, Игорь долго с мрачной отстраненностью размышлял об этом. Дядя сошел в могилу ровно через полгода после того, как его по старости покинул пес, до последних дней по-щенячьи любивший хозяина…
Глава вторая
(Рязань, РВДУ, январь 1986 года)
– Ну не сволочь Утюг! Вот так взять, оставить свой кусок работы и урыть!
Алексей повернулся к Игорю, лицо его было искажено гримасой негодования. Двоим им предстояло перемыть более сотни кастрюль и не менее пяти сотен различных тарелок – от плоских металлических до маленьких фаянсовых из-под масла. В маленькой мойке клубился гадливо-удушливый пар, смешанный с кислым запахом гниения, плесени и пищевых отходов. Изъеденные грибком стены мойки наводили непроглядную тоску, и только у единственной лампочки радовала глаз обнадеживающая радужная полоска света. Игорь периодически щурился на нее, словно играя с электричеством, и каждый раз она казалась иной – то наивной, то игриво веселой.
После гневной тирады Алексей бросил Игорю пустую кастрюлю и потянулся за следующей, чтобы отработанным движением освободить ее от объедков и затем опять ловким броском отправить товарищу. На улице стояла глубокая холодная ночь, они же старались работать как можно быстрее, «шуршать», как называлось это в РВДУ, чтобы успеть еще вздремнуть час-другой до рассвета. Игорь с интересом слушал товарища, с легким напряжением следя за его руками и лишь изредка вглядываясь в лицо собеседника. И подумывая иногда: «Эх, Леша, Леша, и чего так переживать из-за пустячного события?» Игорь не менее искусно расправлялся с кастрюлями в баке с моющей пастой, а затем отправлял их во второй бак с почти кипяченной водой, над которой висело еще одно, более плотное облачко пара. Друзей отделяло друг от друга около трех метров узкого продолговатого помещения мойки. Оба были в темных рубахах-робах, которые швами неприятно напоминали телу о себе и о незамысловатой роли их владельцев в этой азбучной схеме. Рукава по локоть закатаны, руки – в жирных разводах от остатков пищи и грязной пленки с поверхности воды. Но ни это, ни даже периодические брызги жирной воды в лицо ничуть не смущали. Потому что друзья уже успели усвоить: обращать внимание на мелочи – значит лишить себя сна.
– Да ладно, Леш, пусть испытает судьбу, тебе жалко, что ли? – ответил Игорь и с лукавым прищуром поглядел в лицо товарищу в тот момент, когда тот бросал ему очередную грязную кастрюлю. От пара лицо Алексея изрядно раскраснелось, на нем читались озабоченность и досада, а то и злость на Утюга. Лоб под взъерошенной челкой пересекла глубокая борозда, но не было ясно, то ли он возмущен уходом Осиповича, то ли тайно завидует его беспечно аморальному решению. Работая, Игорю было забавно наблюдать за товарищем, но мысли его жили отдельно от резвых рук.
– Да мне наплевать глубоко на его поступки! Главное, чтобы он себе хорошо делал не за наш счет!
Алексей вдруг на миг приостановился и с некрасивой гримасой передразнил Осиповича:
– Парни, выручайте, уже невмоготу мне. Сейчас схожу к «маслорезке», покалякаю, может, что выйдет. Потом отработаю по полной. – Алексей вздохнул, подумал о чем-то, принял свой нормальный облик. – И он хочет сказать, что так товарищи поступают?! Объявил и сбежал! А мы его отпускали?!
«Что-то его не на шутку будоражит, – подумал Игорь, от которого не ускользнула широкая амплитуда жестикуляции Алексея. – Ох, задело!»
– Чего ты мучаешься? Ты ж сам говорил, что тебя на «бабу не тянет» в условиях всего этого. – Игорь обвел глазами вспотевшие грязью стены мойки, словно напоминая, где они. – Или завидуешь?!
– Да чему там завидовать?! – Алексей в сердцах хлюпнул кастрюлю в бак, и несколько горячих жирных капель брызнули ему на дерматиновый фартук и руки. Но он не замечал брызг. – Просто тошно от этого! Нельзя опускаться до уровня животного. Это все равно, что вот эти помои жрать!
И Алексей после произнесенных слов сделал многозначительный жест ладонями вдоль шеи от себя, показывая, как его тошнит от сексуальных намерений Осиповича. «Маслорезкой» была некая пышнотелая Ната с прыщавым лбом, оттопыренным под белым халатом, чудовищно раскормленным задом, полными, весьма чувственными пунцовыми губами. За девицей, как это обычно бывает, числилась душещипательная история о неудавшейся любви с «непорядочным» курсантом и сумрачный шлейф дурной славы, как от всякой легкой добычи для телесных услад. Игорь вспомнил, как комично, скабрезно и диковато топорщились под халатом с неприлично глубоким декольте ее гигантские прелести, как томно глядели по сторонам ее большие, довольно выразительные, хотя и совершенно глупые, коровьи глаза. И ему стало противно от мысли, что можно прикоснуться к ней в поцелуе или, не дай бог, для еще какой-нибудь, щекочущей нервы, цели. Плотные шары ее вполне еще упругих грудей, как и источаемый от нее самой запах хлеба с маслом, казались Игорю вызовом его восприятию женственности, которое – он вполне понимал это – являлось инфантильным. Саму комнату, где налитая соком Ната мясистой рукой, вооруженной спартанским тесаком, с виртуозностью безжалостно кромсала масло, Игорь всегда обходил, словно там располагалось логово нечисти. Но эта титулованная красавица была единственной дамой в ночной курсантской столовой, а может быть, в этот момент и во всей ночной крепости с высокими серыми стенами. И конечно, этот прискорбный факт кое-что значил для изголодавшейся по женским ласкам части обездоленного и ущемленного сообщества в погонах. Вероятно, Алексей думал о том же, потому что проговорил вдруг почти с ненавистью:
– А ты видел ее лоснящиеся губы?!
Игорь поморщился, как будто Алексей спросил, видел ли он эту молодую женщину в непристойной позе. Он стал быстрее тереть ворсистой тряпкой по кастрюлям. Некоторое время они хранили молчание, но мысли все равно возвращались к походу Осиповича.
– А у тебя уже… это было? – спросил Игорь осторожно.
– Ну, было, но не с такими же… Мы такие вечера закатывали… О-го-го! – Алексей многозначительно поднял глаза вверх, как если бы хотел взглянуть на небо сквозь разводы на потолке. – «Да, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя…» Знаешь загадку: «Висит груша, нельзя скушать»? Так вот отгадка там другая…
– Какая?
– Классная телка… Такая, знаешь, и развратница, и подруга…
– Так таких не бывает. Они или так, или так…
– Вот то-то и оно… Потому и загадка такая. «Висит груша» – в воображении, значит. А «нельзя скушать», потому что нет таких в природе.
В голосе Алексея зазвучали нотки обреченности, как будто ничего веселого в жизни уже не может случиться. Как будто им осталось теперь вперемешку с боевой подготовкой лишь болтать у вонючего помойного бака о заветном да обжигать руки в горячей воде с разъедающей кожу пастой для мытья посуды.
– Ты вот как себе жену будешь выбирать, чтобы с ней было кувыркаться классно или чтобы была верная, преданная подруга?
Глаза Алексея вспыхнули пытливым блеском, но в них Игорь видел и провокационные искорки, ощущал вероломную подсечку сознанию. Игорь не раздумывал с ответом, он знал его по пестрой кинокартине семейной жизни своих родителей:
– Я задам только один вопрос: поедешь со мной к черту на кулички, к месту службы? Если да, то моя жена…
Алексей нахмурился и посерьезнел:
– А мне надо, что моя жена была мне подругой во всем, чтобы я мог советоваться с ней, обсудить любую тему, чтобы не было вообще ничего такого, о чем бы мы не могли разговаривать. И чтобы очень сильно любили друг друга…
От Алексея исходил такой жар убежденности, захлестывали такие неведомые Игорю эмоции, подсвечивая изнутри, что было ясно: высказываемые мысли – не просто результат умствования. Игорь нутром понимал, что Алексей говорит правильно, но его суждения все же были далеко оторваны от его, Игоря, жизни, казались ему нереальными и оттого недостижимыми. Планка желаний у Алексея во всем находилась где-то выше и в стороне от его личной планки, и потому Игорь считал, что путь Алексея слишком фантастичен и граничит с глупым, ребячливым заговариванием самого себя. А раз так, то нет смысла об этом думать… И все же Игорю было интересно слушать своего земляка, с которым он уже успел основательно подружиться. Ему казалось, что товарищ слишком мало приспособлен к армии, а порой он и вовсе удивлялся, зачем этот человек пришел в военное училище со своим абсолютно иным, несвойственным военным, способом мышления. На некоторое время Игорь углубился в свои размышления.
Вдруг на пороге замаячила развязная фигура Осиповича. По его довольной физиономии, по походке вразвалку, с которой он ввалился в мойку, по плотоядному причмокиванию и сытому, рассеянному взгляду они тотчас поняли, что предприятие удалось. Тем не менее, они разом вскрикнули: «Ну что?!» Вместо ответа охальник делано зашевелил губами под приплюснутым носом, продвинулся еще на шаг, оперся локтем о край железного шкафа для посуды и не без артистизма и напускной мечтательности уставился в потолок:
– Что, слоны, месим парашу? Быку ем?
Теперь уже манера Осиповича рассеяла последние сомнения.
– Слышь, Утюг, хватит кривляться! Ну что она там? – почти заорал Алексей. Игорь приоткрыл рот от любопытства.
– Ну что-что?! Баба как баба, все при ней. – Осипович, продолжая ухмыляться, начал сообщать звероподобные подробности похода за разрядкой. Игорю от сальных нюансов этих плотских отношений стало не по себе, внезапно возникло тошнотворное ощущение, что они втроем сидят в выгребной яме и толкуют о пользе белых жирных червей. Такие отношения между мужчиной и женщиной казались ему противоположным любви полюсом, вечной мерзлотой, куда его не тянуло, несмотря на зреющую в глубинах его естества искорку сугубо физического, телесного желания. В нем росла волна не то чтобы возмущения или неприязни, но какой-то иррациональной брезгливости к сослуживцу. Игорь смотрел на Осиповича, как смотрят на струпья прокаженного, а Ната представлялась ему просто громадной и противной язвой. «Фу, как же все это грязно! Как же Осипович уродлив! Как же надо хотеть чьего-то тела, чтобы соблазниться на такое паскудство?!» Игорь заметил, как по мере рассказа хмурился и озадаченный Алексей, который наконец взорвался:
– Слушай, Утюг, ну ты и животное! У тебя ж девушка в Москве, которая ждет тебя.
– Может, и ждет, конечно, – нехотя согласился Осипович, – но, может, и не ждет. Мало, что ли, таких случаев было. Дождется, тогда будем говорить. А сейчас природа требует свое. Сегодня, сейчас! Разве вам понять, мечтатели, бля, звездочеты… Ладно, – завершил он разговор, который в самом деле становился тягостным, – я пошел в зал собирать посуду.
Действительно, к тому времени они успели освободить тележку от кастрюль, и теперь Осипович должен был притащить гору керамических тарелок, с которыми обходиться уже надо было нежнее, чем с неприхотливыми кастрюлями, на которых после скоростной мойки оставалось немало вмятин.
Они довольно долго работали молча, и каждый обдумывал происшедшее. Игорь явно не понимал и не мог принять жизненные принципы Осиповича, хотя беглое и пошлое описание зоологического совокупления оставило в восприятии Игоря свои туманные видения, которые – хотя он не признался бы в этом даже самому себе – перешли в наступление и начинали завладевать воображением. Порой ему казалось, что он тоже готов поддаться соблазну и вступить в мимолетную связь с любой женщиной, пусть даже падшей и потерянной, лишь бы один раз вкусить всю сладость недоступного плода. Но уже в другой момент он ругал себя за слабину и твердил, что принципы в жизни важнее всего. Он вспомнил, как несколько недель тому назад был в наряде по роте и, натирая краники в умывальнике до умопомрачительного блеска, слышал ночной разговор двух только что вернувшихся из увольнения сержантов – коротконогого богатыря Кандыря и дылды Качана. Оба Павла бахвалились друг перед другом, но коротышка явно переигрывал. Кандырь был ростом не более метра шестидесяти, правда, силищей обладал поистине неимоверной. Командир отделения второго взвода любил забавляться двухпудовой гирей, с которой обращался, как футболист с мячом. Но когда один из курсантов вздумал прилепить ему двусмысленное прозвище Котыгорошек, кряжистый непримиримый Паша взбеленился, схватил молодого детину за грудки и за ремень и молниеносным броском отправил его на второй ярус кровати. Грозное предупреждение было оценено по достоинству, и больше никто не вешал ярлыки на непредсказуемо взрывного человека, которой обладал уникальной способностью заводиться за секунду. Но, как казалось Игорю, физическая сила не до конца компенсировала комплекс Кандыря, и он в борьбе с инфантильностью все время искал всяческих доказательств своей полноценности. Теперь же в разговоре он нарочитым полукриком возбужденного дикаря с гордостью сообщал гиганту Качану: «О-о, мы сегодня Люську, ну, помнишь, козу крашеную с Дашков, прямо в Сучьем парке оттрахали!» На последнем слове сержант Кандырь сделал особенное ударение, примитивно, по-бычьи фыркнул, причмокнул от недавнего удовольствия и многозначительно заглянул в глаза своему замкомзвода. Очевидно, упомянутая легкомысленная особа была знакома обоим, потому что Качан не стал расспрашивать, зато решил подразнить самолюбие Кандыря, которого в роте все считали отпетым мужланом и туговатым на ум. «И тебе, юродивому, дала?!» – усомнился сержант с нескрываемой, немного шутливой ироний, после которой затрясся большим рыхловатым телом от смеха. «Сам ты юродивый, – сделал Паша обиженную мину, – спросишь у Головина». Совсем не понимая подвоха, он для доказательства пустился в кошмарное сладострастие воспоминаний, свойственное впечатлительным, застрявшим на одной функции самцам. Игорь оказался невольным слушателем откровенного, пересыпанного руганью рассказа, со смакованием едких, западающих в память подробностей о сексуальных похождениях. Он хотел было уйти, чтобы не слушать, но потом решил остаться – не столько из интереса, сколько из принципа. Ведь он имел конкретную работу, которую обязан был выполнить, невзирая на помехи. Так пусть, если хотят поговорить, идут ко всем чертям. Так, по крайней мере, он себе объяснил, почему не ушел. Паша Кандырь, видно, уловил этот нюанс, потому что во время рассказа пару раз дружески подмигивал Игорю; тот же силился, как мог, оставаться невозмутимым. Союзник в лице курсанта был особенно важен Кандырю, тем более что великан несколько раз отмахивался, как будто протестуя против пошлого рассказа, явно ему неприятного. Но он сам выступил зачинщиком разговора, поэтому выбора у него не оставалось. И когда сутяжный акт все-таки был описан в самом уничижительном, сальном тоне, с похабными подробностями, когда Игорь как наяву увидел перед глазами обнаженные, тускло освещаемые луной участки распахнутого тела, корчащегося от сладострастных ощущений, когда услышал громкое хлопанье ладони по ляжке или ягодице, его опять заполонили противоречивые ощущения. Он чурался грязи, описанное скотство отношений вызывало в нем беспредельное отвращение, но в то же время какая-то роковая сила переворачивала его внутренности, вызывая смутное, сладковато-приторное вожделение, беснование пробуждаемой плоти. В Сучьем парке, практически примыкавшем к одной из стен училища, по словам Кандыря, всегда можно было встретить пару-другую похотливых шлюх. Игорь ни разу не был там, старательно обходя парк, словно то был омут или минное поле. Но в какой-то миг ему вдруг захотелось кого-то, совсем абстрактную девушку, чтобы обладать ею без запаха, без словесной прелюдии, вообще без души… Он сокрушался, что все эти гиблые, дрянные мысли возникают у него из-за того, что никогда еще ему не довелось любить. Если бы у него была девушка, его возлюбленная, то неважно, сколько и где ему пришлось бы ожидать встречи с нею. А потому в поступке Глеба Осиповича присутствовала для него неприемлемая скверна, несмываемая порча, безнадежная червоточина. Но у Игоря не было девушки, не было незабываемых встреч под луной, которые хотелось бы вспоминать в подробностях, не было щемящей любви. Была лишь мучительная, убийственная тоска по неиспытанному чувству, изредка по ночам до училища – сказочные миражи и волшебные галлюцинации, смешанные с ощущением несказанности, потери чего-то важного, что он не должен был иметь, не имел права потерять. И потому его мысли порой зависали между неиспытанной любовью и неутоленным зовом плоти. И он не мог разобраться, что для него важнее в отдельно взятый момент, что вызывает мятеж в сознании. Но все сомнения и колебания, как штормовая волна, смыло училище, все, даже незадачливые видения, растворилось в пелене новой, навязанной со всех сторон мотивации. Все уничтожило… Осталась только грязная желтая пена на еще не высохшем песке, как бывает в месте, откуда схлынула волна. Лишь когда Осипович молча закатил в мойку очередную телегу с посудой, а затем опять исчез в проеме двери, Игорь, словно очнувшийся от дурмана, тихо спросил Алексея:
– Леша, а у тебя осталась дома девушка?
Алексей вздохнул. И Игорь понял, что он думал о том же. И кажется, как и он сам, сомневался в непоколебимости собственных принципов.
– Как бы тебе сказать? Вроде бы и есть. И вроде бы и нет.
– Разве так бывает?
– Бывает… Когда никто никому ничего не обещает. Было неплохо вместе. Забавно. Встречались, проводили вместе время, но не строили стратегических планов. Все осталось, как повестка в армию с открытой датой – можно в любой момент ее заполнить и отправиться служить, а можно упрятать в дальний ящик стола на неопределенный срок.
– А ты хотел бы, чтобы она тебя любила, ждала?
Алексей вздрогнул, затем опять остановился и погрузился в размышления. После глубоко вздохнул.
– Нет, – твердо ответил он. – Сейчас началась новая жизнь, неизвестно, как все повернется у меня и у нее. Так зачем держать друг друга на крючке? Мы так и договорились: разберемся, если дождемся друг друга. А если нет, то без обид.
– А я бы хотел, чтобы у меня была невеста. И мне было бы тепло и спокойно, если бы я знал, что где-то она есть.
– А у тебя не было девушки? – в свою очередь спросил Алексей.
– Была, – почему-то соврал Игорь, даже не понимая, зачем он так поступил. У него в памяти была детская дружба, которую ему самому хотелось считать любовью, думать о ней как о свершившейся, имевшей место любви. – Просто мы много раз переезжали, и все нарушилось.
Игорь хотел пристально, для убедительности взглянуть в глаза товарищу, но мимо воли его глаза несколько раз закрылись и открылись, как бы смахивая с ресниц обман. Алексей ничего не заметил или не обратил внимания. Приостановившись, он на миг перенесся в свое прошлое, в котором, как казалось Игорю, так же как и у него, осталось что-то мутное и неоформленное.
Тут в мойку колесом вкатился старший прапорщик, откровенно поморщившись от резких запахов и пара, к которым они, находясь тут уже около двух часов, давно привыкли. Это был начальник столовой, который слыл знатным вором в училищном королевстве. У бравого представителя «золотого фонда Советской армии», как он с ласковой многозначительностью величал себя, главным достоинством был большой круглый и уже выпуклый живот, придававший ему сходство с беременной женщиной на последних месяцах. Под этим пузырем короткие ножки семенили безобразно, а жирное неприятное лицо с двойным подбородком и сальной бородавкой дополняли редкий портрет десантника – ведь он тоже был частью ВДВ, чем определенно гордился. Создавалось впечатление, что своим непомерным весом массивная складка жира оттягивает нижнюю губу, и оттого рот его всегда оставался слегка приоткрытым.
– Значит, так, дгузья мои, – начальник столовой напустил на себя строгий вид, хотя даже первокурсникам был не страшен, – огугцы соленые чтобы мне в бак не попадали! От них свиньи дохнут.
Затем он изрек многозначительную фразу, приперченную несколькими отборными ругательствами, отчаянно картавя и с особенной комичностью произнося «г» вместо «р». Курсантам даже показалось, что прапорщик делает это намеренно и что он слегка подмигнул, когда говорил о проблемах свинарника. В том смысле, очевидно, что курсанты, поскольку едят или, по меньшей мере, должны есть эти огурцы, являются тварями похуже свиней. «Эх, заехать бы по твоей жирной морде, так, по-простому, по-нашему», – подумал Игорь, старательно кривя рот в резиновой улыбке, которой позавидовал бы американский продавец гамбургеров. Вместо удара он выдал учтивый ответ: «Мы их отдельно собираем, товарищ прапорщик. Очень тщательно проверяем». Игорь показал начальнику маленькую, погнутую временем и шальной рукой кастрюльку и краем глаза заметил, что Алексей при этих словах отвернулся, то ли давясь от смеха, то ли удерживая себя от язвительного замечания. Из предыдущего односложного общения с начальником столовой они уже знали, что любимым словом этого гиганта военной мысли было «тгипер», и поэтому ждали ключевой фразы. И он, предсказуемый в действиях, как беспородный дворовой пес, не обманул курсантских ожиданий:
– Шкафы для посуды буду лично пговегять утгом. Если в шкафах обнагужу тгипер, пеняйте на себя. Доложу Лисицкому. Ясно?
– Так точно!
После этого начальник столовой поспешно выкатился из душной мойки и исчез в сложных лабиринтах главного здания военного училища.
– Интересно, вытянулась бы его жирная морда или нет, если бы мы сказали: «Так вы и есть самая главная свинья, товарищ прапорщик»?
– Мне другое интересно: он свой прибор в бане видит или на ощупь находит?
Но как они ни пытались компенсировать пережитое унижение, после посещения мойки прапорщиком разговор не клеился. И они доделывали свою работу в молчаливой полудреме своих мыслей, метавшихся призрачными тенями над реальностью, раскалывающих на части не до конца сблизившиеся частички сознания каждого из них. Через некоторое время к ним присоединился шумный Осипович, отмывший к тому времени большой обеденный зал. Затихли каскады звуков, издаваемых металлической посудой. Еще через час, после оттирания самой мойки и лестниц на своем этаже, они могли идти спать. Но тут пришел курсант из второго взвода – наряд этот был сборный, по несколько человек с каждого взвода – и сообщил, что их замкомвзвода Паша Качан приглашает всех к столу, если, конечно, работу закончили. Это был неожиданный сюрприз, потому что их-то сержант Иринеев не церемонился и никогда не приглашал никого к столу. Общался из их взвода только со старшиной Корицыным и лишь в нем готов был признавать человека. А этот вот, вроде бы чужой, случайно оказавшийся в роли дежурного по столовой, пригласил и вел себя с ними на равных. Двухметровый здоровяк, блиставший мышцами, казался неуступчивым и злым с виду. На самом деле сержант Качан вполне был терпим и расположен к дружескому общению. Сытный ужин из необъятного противня жаренной на настоящем масле картошки с мясом и луком был до безумия сладок. Картошка издавала сильный, уже позабытый домашний запах, уносила от этих казенных, неприветливых стен в далекую украинскую провинцию, где бабушка виртуозно готовила только что выкопанную молодую картошку одинакового размера, присыпая ее зеленью, кусочками слегка поджаренного сала и сочными ошметками выкормленной в домашних условиях курицы. Но той ночью Игорю казалось, что даже дома он не пробовал столь вкусных деликатесов…
До пяти утра, когда они должны были снова начать работу, оставалось еще добрых два часа, и мнения в отношении места для заслуженного отдыха у Игоря и Алексея неожиданно разделились. Алексея магнитом тянуло в казарму, где было тепло, а скрип кроватной пружины казался не просто уютом, но верхом блаженства натруженного и ноющего тела. Но там пришлось бы расстилать кровать, потом застилать ее в потемках за час до подъема роты, выравнивать одеяло и делать еще множество неприятных мелочей. И наверняка выслушивать впоследствии упреки Иринеева. Суетиться ради большего комфорта на час Игорю совсем не хотелось, тем более что в столовой на трех составленных вместе стульях, под сложенной вдвое списанной скатертью он чувствовал себя вполне сносно. Спокойствие истосковавшейся по одиночеству и размышлениям души и вожделенное желание покурить заметно перетягивали на чаше весов тягу плоти к комфорту. Проводив взглядом с крыльца столовой Арта и Утюга, медленно удаляющихся по обледенелому асфальту тяжелыми, переваливающимися походками очень сытно поевших людей, Игорь порхнул спичкой и с наслаждением задымил. Над училищем коварной колдуньей склонилась ледяная, словно оцепеневшая от холода, до безумия тихая ночь. Перед взором Игоря раскрылся нарисованный мир, застывший в сотне метров на склоне ненавидимого и одновременно любимого курсантами Сучьего парка с тысячами одуряющих легенд. Деревья с насмешливо повисшими темными кудрями замерли, застигнутые врасплох в своем причудливом танце. А раскрашенный, вечно загадочный круг луны казался упрямым, тупо уставившимся на землю немигающим глазом сквозь дымчатую вуаль неба. Совсем как чем-то недовольный сержант со сдвинутыми на лоб бровями. Обледенелые углы зданий, высвеченные пучком направленного света от училищного прожектора, выглядели завернутыми в целлофан. Игорь улыбнулся сам себе, и радостная, томительная нега от внезапного единения с холодной ночью охватила его целиком, приняла в темные, хмурые объятия оцепенения. Ему было приятно поеживаться некоторое время от медленно подступающего мороза, но, как выскочивший из парной заядлый банщик, он знал, что накопленного тепла тела хватит ровно на сигарету. И это – он также знал наверняка – самые приятные и самые шальные мгновения его училищной жизни. Что думал он о жизни и куда стремился теперь? Только то, что когда-нибудь он получит лейтенантские погоны и начнет свой собственный разбег по взлетно-посадочной полосе. Узкой, но зато длинной, почти бесконечной. Он взглянул на свои руки – заскорузлые и сморщенные от дрянной неблагодарной работы и воздействия воды с моющим средством – и опять улыбнулся сам себе. Наряды уже давно не давались ему тяжело, как и все остальное – сама учеба, караульная служба, кроссы, вечные уборки… Теперь, после почти полутора лет новой жизни, бесконечного недосыпа, долгих переходов в лесные лагеря и обратно, караулов, он незаметно привык к непосильной работе, ему стало все равно, чем заниматься. Все получалось порой неблестяще, но и не хуже, чем у других. Как когда-то в школе. Но тогда он не знал, зачем ему необходимо учить то или иное правило. Тут же все носило прикладной, вполне утилитарный характер, многое было написано кровью, тысячи раз выверено самой жизнью. Все, что они реально изучали, уже само по себе стояло в двух шагах от смерти, о которой им постоянно напоминали. И ему в глубине души были приятны эти напоминания и личная причастность к чему-то явно нешуточному, почитаемому и имеющему грозные контуры. Ох, как хотелось ему поскорее закончить учебу и отправиться в стонущий и рвущийся Афганистан – место, где он точно мог бы себя проявить. Мысли о славе, о героическом поступке приходили так же часто, как и в забытые школьные времена. В те секунды, когда Игорь думал о предстоящем великом деле, в его глазах многие глупые и ненужные усилия приобретали совершенно иной, оправданный смысл, а себя он ощущал потомком отважных викингов. С каждым днем Игорь чувствовал, что независимо от полученных знаний и усвоенных навыков он становится способным на еще большее, даже на такое, что когда-то казалось недопустимым и страшным. И это тоже ему нравилось, потому что он уже точно знал: выпускника РВДУ от первокурсника, в принципе, отличает не сумма сногсшибательных знаний, а какая-то отдающая степной дикостью и варварством «способность на все». Это знание, уловленное в паузах между простыми фразами курсантов старших курсов, офицеров и преподавателей, вполне позволяло Игорю уже сейчас мыслями переноситься в пространство своих мечтаний, где он представал гордым генералом, боевым командиром, умеющим вести войну, рассчитывать силы, панорамно видеть обстановку всего театра военных действий, предвидеть все, что будет совершать. Не конкретные действия и приказы, но форму их принятия и осуществления – жесткую, бескомпромиссную и безжалостную. Вот что отличает профессионалов, каким он стремился стать! Таким, чтобы отцу было приятно на него посмотреть и оценить весь уровень славы одним только взглядом на карту пройденных им опасных военных маршрутов. Чтобы ордена на его груди говорили сами за себя. Чтобы немыслимый, сказочный почет явился логическим продолжением его деятельности, непреклонных решений, направленных на великие победы. Он не знал, кого он должен будет побеждать, не представлял, кому именно необходимы будут его выдающиеся военные достижения. Но он хорошо видел свое предполагаемое место, место решительного полководца и удачливого командира. Вот о чем мечтал этот молчаливый вчерашний школьник, ничего не ведающий о наслаждениях. Непроизвольная конвульсия тела, содрогнувшегося от холода, вырвала Игоря из плена размышлений, которые всякий раз непроизвольно уводили его к любимому образу маршала Жукова. Он быстрым шагом вошел в столовую, закрыл дверь на щеколду и уже через минуту устроился на жестких стульях, ничуть не жалея о койке. В самом деле, после такой работы условия отдыха становятся абсолютно не важными. Но, к своему удивлению, он не смог уснуть тотчас, как рассчитывал. Разные мысли кружились в голове, сталкивались друг с другом, вызывая болезненный скрежет, оставляя неизгладимый след беспробудной, невыразимой тоски, не позволяющей уснуть. Наконец в полудреме Игорь нащупал нить, ведущую из лабиринта его тревоги. Он вспомнил довольно странный и вместе с тем знаковый разговор с Алексеем на первом курсе во время первого увольнения в город.
Разговор возник совершенно случайно, когда они гуляли в воскресенье по унылым полуразрушенным, как в послевоенное время, закоулкам Рязани с угнетающе хмурыми и ютящимися коробками хрущевок, наводящими тоску облупленными стенами и наспех завешанными окнами. Но ребята не замечали абсурда советской архитектуры и не испытывали щемящих приступов стыда за серую омерзительность действительности. Напротив, они оба почти ликовали от неуемного ребяческого восторга, связанного с новыми, ранее неведомыми ощущениями. Их действительность в сравнении с городской была гораздо мрачнее, имела больше скверны и ожесточения. В памяти осталось ощущение, как их ноги, как будто впервые в жизни облаченные в ботинки, не чувствовали холодной пронизывающей поземки и после сапог являли такую фантастическую легкость, что, казалось, каждый мог бы легко допрыгнуть до окон до второго этажа, если бы в том была необходимость. Они сознательно избегали больших шумных улиц, чтобы не нарваться на патруль. И не испортить себе настроения унизительным козырянием, неумолимо напоминающим о том, что они давно себе не принадлежат, что стали частью могучей системы, смертоносной машины, которая вращается подобно исполинскому чертову колесу и которую боятся даже за океаном. Совсем как дети, они выскальзывали к киоскам с мороженым, покупали по две порции и опять ныряли в глушь переулков, где мещанское болото скрывало их от вороненого глаза какого-нибудь ментора в погонах. Их совершенно не смущали мороз и комичный, вероятно, несуразный вид двух здоровых молодых людей в шинелях и с мороженым в руках, которое они поглощали по привычке спешно, кусками, лишь во рту растворяя его горячей молодой энергией. Так, с опаской и оглядкой, поедают пищу молодые псы, знающие, что в любой момент может появиться более сильный, старший собрат и отобрать все, что будет в наличии. Наевшись досыта в каком-то захудалом кафе, они купили билеты в кино и после сеанса опять прятались между нескончаемыми дворами чужого холодного города. Так спокойнее. Им казалось, что если притаиться в глубинах кирпичных подворотен, они смогут сохранить независимость и свободу или хотя бы их притягательную иллюзию. И все же на одной из маленьких улочек неподалеку от центра им повстречался командирский уазик, внезапным неотвратимым привидением выплывший из-за угла. От непроизвольного спазма их дыхание одинаково перехватило и руки потянулись было откозырять, но машина, визжа мотором от резкого увеличения скорости, высокомерно пронеслась мимо. Потом они выяснили, что оба заметили грузный силуэт, начальственно развалившийся на месте рядом с водителем.
– Когда меня уже так будет возить машина?! – сказал в сердцах Игорь, поддавшись мгновению зависти к атрибутам несомненного успеха, но тут же осекся под внимательным взглядом товарища. Алексей глядел на него пытливо, его брови вздернулись, а серые зрачки несколько расширились. Игорь уже успел заметить, что Алексей легко заводился, когда дело касалось его принципов. И эти принципы заметно отличались от его, Игоря, мироощущения.
– Для тебя в самом деле важно вот так ездить на машине и думать, что ты управляешь половиной мира? – В интонации Алексея присутствовала ирония. Как будто не он сейчас стоял на рязанском тротуаре в нелепой шинели, от которой фигура казалась стиснутой и угловатой. Как будто не они вместе прятали, словно помешанные, маленькие хлястики от своих шинелей как самое дорогое, бесценное сокровище – их курсанты постоянно утаскивали друг у друга, и без них невозможно было ни увольнение, ни спокойное существование в стенах училища.
– В самом деле, – честно ответил Игорь, тоже посерьезнев, – не из-за того, что в машине мягко и удобно, а потому, что эта машина свидетельствует, что едущий в ней выполняет важную работу, занимает большую должность, одним словом, добился в своей карьере многого. Ты разве хочешь всю жизнь бегать по лесам и захватывать объекты?!
Игорь видел, как Алексей, пока он говорил, негодующе замотал головой и даже отвернулся, слегка наклонив голову и крепко сжав челюсти, как он не знал, куда упрятать руки, и нервно то совал левую руку в карман, а правую в разрез шинели на груди, то опять вытаскивал их, словно вспоминая, что это запрещено.
– Нет, ты не мотай головой, скажи, зачем ты пришел в училище? – Теперь уже Игорь смотрел на него пристальным, испытывающим взглядом, неотступно следя за каждым движением полноватых губ, за напрягшимся и заострившимся лицом, за наклоном головы. Только сейчас Игорю показалось, что он впервые видит истинное обличье товарища, полное суровости, уверенности в своей правоте, желания жить и дышать полной грудью.
Ему подумалось, что он так мало знал о человеке, с которым ежедневно делил обязанности, выполнял множество всяких простых и сложных действий, прятал под маской камуфляжа все то личное, что тщательно скрывалось от ста тридцати человек.
– Зачем я пришел в училище?! Я пришел, чтобы стать лучше, сильнее, увереннее. Чтобы, – тут Алексей кашлянул в тряпичную перчатку, очевидно, пытаясь скрыть или уменьшить возбуждение, – если, это возможно, – тут он опять запнулся, – стать сверхчеловеком. Потому что мне твердили, что это единственное место в нашей стране, где готовят великих воинов…
– А что дальше, когда ты станешь, ну, например, как Шура Мазуренко? – В тоне Игоря сквозила насмешка, как бывает у учителя, который видит, что ученик выучил урок, но не понимает его сути. Алексей воспользовался мгновением паузы, чтобы глотнуть морозного воздуха.
– Дальше применять полученные навыки. По полной программе. Неважно где: в Афганистане или в другой точке мира, лишь бы знать, что ты – один из лучших, из избранных, допущенных к тайне, которая скрыта от других.
– Но неужели ты не понимаешь, что один человек на войне ничего не значит?! – с досадой выкрикнул Игорь.
– Отчего же, понимаю. Просто для меня это неважно.
Игоря удивила твердолобость товарища, которого он всегда считал более интеллектуально развитым, чем себя. Ведь это совершенно простые, букварные истины!
– Один – ты никто! А если ты командир, то успех войны зависит не от того, какие у тебя мышцы и можешь ли ты кулаком разломить кирпич, а как ты оценишь обстановку, какое примешь решение, какой приказ отдашь и как его выполнят твои подчиненные.
Теперь уже Игорь завелся и считал своим долгом втолковать другу то, что он не понимал, поскольку никогда до училища не видел армии.
– То, о чем ты говоришь, никто не отменял. Но это вторично. Это как бы понятно и так. Но главное – какой ты сам, что ты лично из себя представляешь! Помнишь: «Никто, кроме нас»?
Игорь снисходительно улыбнулся и ничего не ответил. Он понял, что спор бесполезен и каждый останется при своем мнении. Единственное, что он хотел уточнить, так это, куда намерен двигаться Алексей после училища.
– Выходит, – сказал Игорь с еще большей иронией, даже с сардонической ноткой, – ты и генералом стать не желаешь?!
– Не хочу! – совершенно серьезно заявил Алексей.
«Во дурак, – подумал Игорь, – вообще не понимает, что лепечет!»
– А что скажешь о начальнике училища? Он и генерал, и не «толстое рыло», и Герой Советского Союза, ну, в общем, уважаемый человек. – Игорь улыбнулся, поглядывая на товарища.
Алексей разозлился и молча развел руками. Ему нечего было сказать.
– Вот то-то и оно. Запутался ты… Ладно, пошли к кинотеатру, – потянул его Игорь.
Засыпая в столовой, Игорю почему-то вспомнились слова Алексея о сверхчеловеке. Отчетливо вспомнились, хотя уж год минул с того увольнения. Есть ли вообще такое явление, когда речь идет о войне? Он подумал о парнях с факультета спецназа. Они учились почти по той же программе, только каждый день у них был иностранный, казавшийся Игорю довольно скучным занятием. Ну, еще подрывное дело в несколько раз чаще, чем у них. Немного иная тактика, ориентированная на тихое уничтожение объектов, а не на громкий захват, как у них. Но это все ерунда, мелочи, убежденно подумал он. Супербойца не существует в принципе! Есть талант большого командира, умело двигающего массами! Вот тот же Алексей твердит о супербойцах, а раскис от жалости к свиньям, когда их отправляли в свинарник рязанского полка на заготовку. Действительно, свиньи – животные с фантастическим чутьем; чуя свою близкую смерть, они подняли такой истошный визг, звучали такие реалистичные, почти человеческие мольбы о пощаде, что даже их вездесущие сожители – мохнатые, великанского размера крысы с устрашающе выставленными вперед желтыми зубами – перестали сновать под ногами и сидели в углах с каким-то жалостливым, будто понимающим видом. Точно провожали соседей. А Алексей переволновался и кричал о невозможности переносить визги свиней, которые оказались для него чудовищным испытанием, но сила приказа, не подлежащего обсуждению, была выше. И они все же вдвоем втащили в машину трех огромных, упирающихся боровов за грязные, хрустящие и скользящие в руках уши. Так вот, не что иное как приказ, решимость командира бороться с любым противником делают супербойца! А вовсе не его накачанные штангой бицепсы. И с этой мыслью Игорь уснул, преисполненный спокойствия, радости и гордости, что головоломка решена для него самого. Решена раз и навсегда, и возвращаться к ней он не намерен, кто бы ни говорил о ней иное… В коротком, но удивительно ярком сне, что было большой училищной редкостью, он видел ровно движущиеся колонны воинов, видел на коне великолепного Жукова, принимающего парад Победы, видел пепельно-серое лицо поникшего, уставшего от жизни Сталина и потом неожиданно увидел себя – крупного военачальника, отдающего боевой приказ…
Глава третья
(Бородинское поле, сентябрь 1987 года)
1
– Это Вэ-Дэ-Вэ! Мы – десантные войска! Нет – задач невыполнимых!
Истошные выкрики человека впереди строя вырывались откуда-то изнутри него, из таких ошеломляющих глубин сознания, что порожденный звук казался дивным, потому что имел самостоятельно живущую, непостижимую сознанием вибрацию и силу воздействия. Выжигающую, стреловидную, запускаемую с убийственным намерением разрушения. И эта сила разносилась по полю, проникая в каждого из трехсот двадцати восьми воинов в пятнистых маскхалатах с засученными рукавами. Твердые руки, отточенные движения, неистовая энергия. Эта необузданная сила организованной массы вонзалась в душу каждого из них, отражалась и выплескивалась еще более сильной, бешеной, сатанинской энергией, которую невозможно ни остановить, ни победить. Он один истошным голосом орал заводящие первые слова каждой фразы. И тогда из трехсот двадцати восьми глоток вырывалось яростное и созвучное, ответное сочетание слов.
– Мы – десантные войска! Вэ-Дэ-Вэ!
– Нет задач невыполнимых! Вэ-Дэ-Вэ!
Лицо кричавшего искажалось от нечеловеческого напряжения, глаза вспыхивали вулканическим огнем исступленной, ничем не сдерживаемой страсти.
– Нет задач невыполнимых! Вэ-Дэ-Вэ! – вторили воины в маскхалатах, пронизанные молнией вечного сражения.
То были настоящие, волшебные мантры, особое сплетение звуков, воздействующее на всех вместе и на каждого в отдельности, нескончаемый заговор войны, о сути которого никто в строю не думал. Но вихри холодного озноба почему-то пробегали между лопаток, и после них наступала абсолютная пустота, с которой можно бесстрастно идти врукопашную или кидаться грудью на пулеметную амбразуру. Не думал о магии воздействия слов и Игорь, и у него, как и у остальных, химерические огни сами собой вспыхивали перед глазами и энергия утраивалась, удесятерялась, становилась одной из трехсот двадцати восьми – сильной, готовой смести все вокруг.
– Первый – ить!
В ответ они делали несколько ударов, оканчивая устрашающим выдохом, схожим на рык: «Ха-а-а!»
– Второй – ить!
И опять прием из серии быстрых, замысловатых ударов, последний из которых должен нести смерть воображаемому врагу: «Ха-а-а!» Угрожающий выдох воинственной массы был подобен пуску противотанковой ракеты.
– В парах! – не слыша себя, орал забойщик.
Моментально ряды обращались друг к другу.
– Ить!
Это сигнал первому приему, в ходе которого один ряд в одно мгновение выплевывает серию нещадных ударов другому.
– Ить!
И все опять меняется, жертвы преображаются в разящих витязей. Игорь удивлялся, что он совсем не чувствует боли от ударов. Как заколдованный, заговоренный! Только порой перехватывает дыхание, когда кулаки или сапоги партнера в течение двух-трех секунд, как выбрасываемые пружинами механизмы, с внушительной силой врезаются в живот, грудь, бока. Неуловимая подсечка, и он лежит на земле, но опять никаких физических ощущений, только хлопающие звуки ударов и шумный шлепок – от падения тела на землю. Как будто все происходит не с ним. Опустошенное, вакуумное сознание позволяет занять непривычное, невесомое положение между осязаемым, метафизическим миром и инфернальным, парящим над всем пространством, энергетическим ветром непримиримого духа. Но в следующее мгновение он уже на ногах и теперь своей ногой, как косой, выбивает у партнера из-под ног землю, чтобы повалить и, схватив за руку, добить прямым ударом ноги в грудь, сверху вниз, каблуком. Не жалея!
Точно также, в грандиозном полусне, в гипнотическом облаке ощущений, они отработали удары со штыками-ножами, а затем с автоматами и пристегнутыми к ним штыками, и только после этого несравненного зрелища, жуткого и эксцентричного для зрителей, но привычного для них самих, батальон, в такт ударяя сапогами о землю, удалился с поля. Оставив небольшую группу курсантов ломать руками доски и кирпичи, чтобы окончательно убедить зрителей в том, что ВДВ всемогущи, способны на любое сумасбродство, на любой подвиг. В том, что «никто, кроме нас». И Игорь даже не думал об этом, просто он чувствовал внутри себя немыслимо возрастающую силу, в нем появлялись способности и желания, которых он ранее не имел и которые приобретал в момент своего единения с массой. Когда под воздействием заклинаний он полностью, без остатка растворялся в этой массе, то одновременно становился ее частью, ее тараном, готовым совершать любые, невозможные ранее поступки, он готов был крушить, ломать и побеждать. Он раздваивался. Знал, что Игорь Дидусь один и Игорь Дидусь другой в этой полубезумной, охваченной стремлением к огню массе – два совершенно разных человека. Когда тайная и загадочная кнопка включалась в нем, Игорь чувствовал, что как будто выкован из железа, что получил в один миг немыслимую власть над всем человечеством и готов был следовать за своим невидимым богом хоть на край света. Готов был принести ему в жертву весь сущий мир. Во имя великой империи! Презрение к смерти у всей этой массы и у каждого ее отдельного организма в такие мгновения было доведено до абсурда. Возведено в степень абсолюта!
Так через сто пятьдесят лет после гигантского сражения курсанты отдавали дань священному Бородинскому полю и невиданным зрелищем приковали тысячи глаз зрителей. Тут совершался культ, магическое жертвоприношение, и поле, дышавшее накопленной энергией погибших и выживших русских воинов, дарило молодым преемникам всю неистовую силу земли, всю информацию о героях, напитывая бессознательное новых героев, создавая архетип победителя, первообраз непобедимого русского богатыря. Как и кутузовские полки, они явственно ощущали за резким, терпким запахом земли едкий дурман воинственности, неуемной воли и жажды неумолимого боя. Игорь чувствовал прилив этой дикой, варварской энергии неустрашимости всякий раз, когда приходилось совершать ритуал ВДВ – коллективный призыв войны. К культу войны обращались все чаще и чаще, и Игорь сам не заметил, как невообразимое сладострастие превосходства проникло в его естество и заразило навечно. По своей наивности он полагал, что это гениальное изобретение генерала Маргелова, хотя на протяжении веков каждый полководец считал вызов неизбывного духа войны первой необходимостью и первой предпосылкой побед. И только очутившись на месте Бородинского сражения, представив, как упорно лезли заговоренные Наполеоном французы и как бесстрашно отражали их охваченные жаром схватки русские полки, он вполне осознал значение культа. На этом поле присутствовала аура смерти и бессмертия. И Игорь убедился, что введение воина в транс гораздо опаснее для врага, нежели количество его пушек и ядер.
После учебного боя на глазах у зрителей они должны были надеть форму русских гусар, чтобы сыграть несколько сцен того времени, отражая наскоки переодетых в полевую форму французов солдат и офицеров Кантемировской дивизии. Уже стаскивая маскхалат, Игорь услышал сдавленный вскрик Лыкова:
– Дед, у тебя кровь!
Игорь посмотрел и увидел расплывающееся кровавое пятно и дыру, проделанную в маскхалате штыком-ножом. Его тут же обступили товарищи, но сам он все еще не чувствовал боли.
– Так, быстрее переодеваемся, у нас через две минуты выход на поле, – кричал проходящий мимо Лисицкий.
Ротному мгновенно доложили о ситуации.
– Как себя чувствуешь, двигаться можешь?
– Рота! Строиться! Замкомвзводам вывести личный состав к месту построения! – зычно скомандовал Лисицкий теперь уже роте, и его команда эхом передалась по живой цепи уже выскакивающих к месту построения русских солдат времен 1812 года.
– Эх, жалко, – с тоской посмотрел им вслед Игорь, придерживающий рукой бок и чувствующий, как боль теперь разрастается и начинает охватывать его сознание.
– Ладно, на двух воинов у русских будет меньше. Но наши все равно победят, – уверенно заключил Нога, произведенный на втором курсе в сержанты.
Осмотр врача выявил, что штык-нож во время выполнения одного из приемов пробил складку кожи на боку, но, смягченный ребром, легко прошел по касательной. Было подозрение на перелом ребра, и после перевязки медик потребовал находиться в машине по меньшей мере до окончания празднеств.
– Так можно и проткнуть насмерть, – качал головой худосочный капитан, перевязывая Игоря, подумавшего: «В самом деле, можно. Но пусть это будет не сегодня».
Глядя на поле через маленькое оконце автомобиля, Игорь недоумевал: отчего он так долго не чувствовал боли. Ему нравилось это коллективное самовнушение сокрушительной силы ВДВ, вбивание в сознание мысли о принадлежности к совершенной иной категории людей, непохожих на остальных, неуязвимых, нечувствительных, охваченных неистовостью мессианства. Это ни с чем несравнимое коллективное чувство, называемое в училище десантным шовинизмом, он ощущал все чаще и глубже. В нем была заложена и неслыханная провокация сознания, и феноменальная, а потому чрезвычайно приятная власть сообщества неукротимых воинов над остальным миром. Это странное ощущение ненавязчиво воспитывалось самой окружающей обстановкой. Криком «Ить!» на утренней зарядке, звуком гулко бьющих по мостовой сапог во время бега роты, проникающей в самое сердце строевой песней, патриотическим возгласом замполита, воинственной фразой участников войны в облике Мазуренко, самим видом заломленного берета… Суть десантного шовинизма состояла во внутренней установке, непонятной непосвященным, безмятежности, трижды помноженной на исступление. В готовности испепелять непокоренное еще пространство, с остервенелостью псов грызть любого обозначенного командиром противника, в бушующей радости от собственной ярости… В отличие от своего друга Алексея, Игорь не задавал себе вопросов относительно происхождения этой внутренней установки. И для него, в конечном счете, было неважно, является ли она частью реальности или результатом психологического внушения. Но если даже последнее, то этот самообман все равно был сладок и обладал привлекательной, внушающей уважение силой.
2
У Игоря был не один повод оценить силу этой внутренней установки. Впервые это случилось во время первого летнего отпуска год назад, когда он отыскал девушку, одну из двух сверстниц, с которыми дружил до поступления в училище. Вчерашняя девочка, до его отъезда в училище еще тонкая, как ива, почти без признаков созревания, она вдруг совершенно изменилась. Мало того, ее формы стали волновать окружающих молодых людей, провоцировать бесстыже скользящие взгляды на ее набравшей крепости груди или влекущих округлостях ягодиц. Она, несомненно, знала об этих взглядах, принимая их как комплименты. Весомым довеском к этому стал ее невозмутимый и вместе с тем лукавый, дикарски распутный взгляд, который вызывал внутри у Игоря неведомое ему ранее жжение. Правда, обладала она сиплым голосом, ее манеры иной ценитель женственности нашел бы вульгарными, а на ее девичьих руках, с обкусанными ободками грязных ногтей, уже появились признаки будущей узловатости и заскорузлости. Но ничего этого Игорь не замечал, ибо от нее исходил настойчивый пряный запах молодой самки, пробуждавший у него эротическую одержимость, для избавления от которой потребовалась бы критическая концентрация воли. Конечно, форма общения в упрятанном в глубинах черкасских полей селе оставалась традиционной и без претензий, но тем лучше было для Игоря, не слишком верившего в изысканные речи. За него колоритно говорила его форма, которую он почти не снимал в родном Межириче; так и виден он был за версту, и тратиться на новые одежды родителям не надо было. Вполне логичным оказалось его приглашение в местный клуб, дружеское, ни к чему, впрочем, не обязывающее.
Ночная сельская дискотека сама по себе взрывоопасна алкогольными парами, туземными замашками грубоватой толпы и примитивным внутривидовым состязанием бесхитростных самцов и самок. Но когда среди сельского однообразия вдруг появляется чужак, да не просто случайно заехавший гость, а настоящий городской франт в вызывающей военной форме, беды не миновать. Если к этому добавить, что в лихо заломленном на затылок берете Игорь и сам никого не замечал, танцуя только со своей подругой и покуривая в сторонке во время пропускаемых им быстрых танцев, то можно понять, какую неприязнь вызывала его броская фигура. Для местных молодцов его берет производил эффект красной тряпки, которой помахали у пенящейся от злобы морды раззадоренного быка. Да и сам Игорь, кажется, не удивился, когда не успел после окончания дискотеки он вместе с девушкой отойти на несколько сот метров, как услышал явно пьяный голос из тени.
– Эгей, десантура, стий, раз-два! – скомандовал ему на распространенным в украинских селах суржике. Парни находились вблизи автобусной остановки, лавочки которой в ночной жизни местной молодежи, очевидно, играли роль излюбленного места для посиделок.
– О-о, это точно командир, – тихо сказал Игорь своей спутнице и затем, улыбнувшись в темноту, громко, спокойно и в то же время миролюбиво спросил: – Чё случилось, мужики?
– Да вин, на хрэн, нарываеться на грубисть, пишлы, хлопци, поговорымо з цым городськым хахарем, – подстрекательским шакальим рычанием прозвучал другой, гнусавый голос.
Из темноты к ним вышли три довольно упитанных парня на хорошем подпитии. Лунные блики задиристо играли на их сжатых скулах и по-волчьи горящих в ночи глазах, в которых Игорь прочитал неотвратимую жажду приключения. Он их хорошо понимал и легко считывал информацию с жестов, слов, тембра голоса: им нужен был адреналин, праздник. Он чувствовал внутри себя небольшое беспокойство, тревожную игру нервов, как спортсмен перед стартом. Но это был не страх, скорее, предчувствие схватки – так испанский тореадор глядит на приближающегося быка.
– Так ты дэсант?! – усиленно кривляясь, с вызовом спросил первый, делая ударение почему-то на первый слог слова «дэсант», – а я морпех. Дэсантура проты морпеха. Як гадаеш, классна розвага?
Яркая луна нависла прямо над ними большой лампой. У парня была огромная, как у ротвейлера, голова с кудрявой шевелюрой и увесистые кулаки. Он был на голову выше Игоря, небрежно, по-сельски одет, причем ворот его рубахи был перекошен, а одна штанина топорщилась из-за того, что была захвачена носком. Как ни странно, он был единственный из троих обут в сандалии, тогда как остальные бодро шагали по захолустной пыли в кроссовках. Игорь же был в хромовых сапогах с тяжелыми набойками, да и стесняющие его движения узкие брюки явно шились не для участия в деревенских потасовках. Он выставил вперед ладонь, будто бы желая сказать парням «Стоп», и сделал последнюю попытку разойтись мирно.
– А может, в другой раз? Договоримся на завтра…
Но первый вояка – морпех – уже с угрюмой молчаливостью двигался на него, и по сжатым кулакам было понятно, что он ничего не слышит. Игорь бросил короткий взгляд на девушку: та застыла в немом оцепенении, боясь пошевелиться. Ошеломленная, она представляла дальнейшее развитие сюжета безнадежным побоищем, тогда как Игорь знал, что выход из таких ситуаций всегда кроется в парадоксальном, неожиданном шаге, который противник не может просчитать или предугадать. Он легким рывком вперед сделал короткий подскок и хлестким ударом ноги сбоку, как футболисты выбивают мяч у нападающего противника, влепил кудрявому громиле прямо по коленной чашечке. Ему послышалось, а может, показалось, будто что-то хрустнуло, затем раздался сдавленный крик, и большая голова подсевшего на больную ногу парня оказалась на дистанции выгодного удара. Чтобы не дать сопернику опомниться, Игорь тут же нанес два размашистых удара кулаками правой и левой рук в район облупленного картофельного носа. Задира, к удивлению самого Игоря, повалился на дорожный ковер пыли, схватившись двумя руками за ногу у коленной чашечки, и тут только Игорь мельком заметил, что она выбита и выпирает из штанины совсем не в том месте, где должна находиться.
Все произошло настолько быстро, что от неожиданности шагавшие позади вожака остолбенели. Они на мгновение замешкались, стушевались, и Игорь, воспользовавшись этим, взял инициативу в свои руки.
– Кто дернется, убью! – прорычал он, сам не узнавая и оттого пугаясь своего рыка. Но, увидев, что психологический перевес теперь на его стороне, и не давая неприятелю опомниться, Игорь схватил девушку за руку и потянул: – Пошли!
Инцидент был неожиданно исчерпан – вместо того чтобы догонять спешно удаляющуюся пару, два парня опустились к катающемуся в пыли собутыльнику.
Только доставив свою спутницу домой, Игорь осмотрел костяшку правой руки – она была сбита и ныла немного тупой болью. Повинуясь детской привычке, он приблизил ссадину к губам и медленно облизал запекшуюся кровь, сплевывая каждый раз, когда рот наполнялся слюной. Содержимое во рту имело странный терпкий вкус. То был вкус лавра, усиливающий экспрессию триумфального шествия к дому на окраине села. Он шел и улыбался сам себе в теплом мраке лета: только в миг своего торжества над обстоятельствами Игорь сполна осознал истинное могущество и магическую власть внутренней установки, усиливающейся под воздействием атрибутов духа. Ведь он-то сам не слишком заметно изменился. Правда, повзрослел, возмужал, его мышцы окрепли, он стал еще менее чувствительным к боли. Хорошо выучил несколько приемов на все случаи жизни, таких, что входили в подготовку роты. В итоге по своим физическим силам – и Игорь это хорошо знал – он никак не мог бы противостоять трем деревенским здоровякам, каждый из которых был не только старше по возрасту, но и выше, тяжелее, опытнее и опаснее его. И все же, сам не зная почему, уверовал в свои силы настолько, что вышел бы драться со сворой без всякого трепета, без тени сомнения, вообще без раздумий. И именно это решило исход рискованной сельской потасовки, в которой бьются не изощренно, без знания предмета, но с тем откровенным, выросшим из примитивного тщеславия остервенением, которое может привести порой к безумным увечьям или даже к смерти. Но быстрый умелый отпор вызывает в первоначально дерзких сельских парнях присущую им трусливость, и потому противники Игоря сдались тотчас, когда осознали, что атакует их не просто отчаянный парень, а человек с определенными, делающими его сильным установками. Поэтому для Игоря эта ночь была окрашена гордостью, испытанной за принадлежность к особому племени – неуязвимому, непобедимому.
Глава четвертая
(Рязань, РВДУ, февраль 1987 года)
1
Как приготовление к главному делу жизни – постижению искусства войны – воздушно-десантное училище с его особой театрализацией военных ритуалов, образовательным нигилизмом и воинствующим мистицизмом казалось Игорю почти идеальным местом для выковывания служителей культа войны. Игорю нравилось, что вместо излишнего умствования, опостылевшего еще в школе, в училище ценились только сугубо практические навыки, утилитарные возможности. Никто, и в первую очередь сами преподаватели, не делали ставок на скучную, пресную и лишенную прямой связи с жизнью учебу. Фундаментальные знания тут считались небезопасными; они могли лишь привести к истерии в неподходящий момент, подорвать стойкость в противостоянии смертельной опасности. Сами учителя прожили активную часть жизни в непримиримой борьбе, и их формула обучения сводилась к одному: правильному выбору направления главного удара и момента атаки противника. Все остальное оказывалось менее важным.
И эта единственная добродетель без труда вписывалась в жизненную философию курсанта Дидуся.
В основе созданного в стенах РВДУ реализма лежали язвительно произносимые на каждом занятии слова старшего преподавателя тактики полковника Барсукова «Война все спишет». Непритязательный и, казалось, отлученный от подлинной жизни полковник с торчащими ушами, красными, несколько обвисшими щеками и впечатляющей кличкой Упырь, данной за вечно брезгливое выражение кислого, искривленного усмешкой лица, беспрерывно шлифовал молодые организмы обучающихся курсантов методичным напоминанием о войне. Об их будущей войне. Колдун в погонах неустанно учил, что роковая минута наступит для каждого и главным качеством командира может стать только нестандартное решение. Пусть, на первый взгляд, провальное, кажущееся нереальным, но если курсант аргументированно и дерзко мог доказать необходимость его принятия, желанная и достаточная для субботнего увольнения четверка была обеспечена. При всей, разумеется, святости незыблемых пунктов Боевого устава ВДВ, который, как неустанно повторяли полковники, написан кровью всех погибших десантников.
Самый авторитетный в училище преподаватель огневой подготовки с насмешливой и недостижимо сладкой фамилией Халва тоже внес свою лепту в курсантское мировосприятие. Неисправимо глухой вследствие горделивого отказа надевать шумоподавляющие наушники во время стрельб из гранатометов, высокий и долговязый, возвышающийся над всеми, точно поднятая ростовая мишень над стрельбищем, он смотрел сквозь пальцы на курсанта, неуверенно излагающего теорию действия пороховых газов в канале ствола. Но только в том случае, если тот оказывался достаточно проворным, чтобы с первого выстрела завалить силуэт бронетранспортера на дальности триста метров. А если он еще столь же уверенно владел скорострельной пушкой, отбивающей пятьсот выстрелов в минуту, и с блистательным спокойствием был способен изувечить из пистолета зеленое поле грудной фигуры воображаемого противника, то вполне мог позволить себе путаться с назначением даже столь многозначительной части оружия, как носик шептала. Если же курсант испытывал трудности с метанием гранаты или, не дай бог, не мог сразить мишень танка, горе ему. Ибо громогласный, как сам Зевс, и абсолютно непреклонный Халва обеспечивал таким дополнительные уроки во время отпуска. То был знатный чудак в полковничьих погонах. И впрочем, типичный пример военного учителя. Игорь слышал, что над его преданностью военному делу потешались даже молодые офицеры. Шептали со снисходительной улыбкой: мол, не обращайте внимания на зарвавшегося старика, он даже дома жену и двух взрослых дочерей норовит построить казарменным языком, крича им по утрам что-то типа: «А ну, кобылы, бегом на зарядку!» Курсант Дидусь мог позволить себе улыбаться – его стрельба из различных видов оружия неизменно заканчивалась поражением всех целей. Сказывались природное спокойствие, уравновешенность характера и навыки, приобретенные в детстве, когда отец приобщал его к военным хитростям.
Предметы, непригодные на войне, в самом рейтинговом военном учебном заведении Советского Союза не пользовались успехом. И Игоря это бесконечно радовало. Для получения зачета по физике на втором курсе он успешно выкрасил новую партию чугунных батарей, неожиданным рвением снискав невообразимое доверие изящной, похожей на высушенную бабочку преподавательницы неопределенного возраста в громадных очках с роговой оправой. Еще какие-то несносные глупости типа дат съездов Коммунистической партии и тривиального перечисления мифических свершений во время различных пятилеток дались ему, как и большинству курсантов, путем ловких манипуляций со шпаргалками. Премудрая и на первый взгляд абсолютно неприступная математика сдалась, как крепость Очаков, после длительной, не лишенной хитростей осады. Обман, впрочем, тут был вполне позволителен – главное, не попасться. Заходили сдавать столько раз, что древняя, как боги античности, математичка, за глаза называемая Мумией, перестала воспринимать почти немое кино с быстро мелькающими курсантами. И даже на пасмурное лицо капитана Чурца с затуманенным, вечно отсутствующим взглядом набегали светлые пятнышки, когда изобретательные подопечные сдавали друг за друга зачеты или присылали вместо себя даже курсантов других взводов. Всего башковитых оборотней насчитывалось в роте не более десятка, но подвиг математической реинкарнации они совершали виртуозно и с истинным наслаждением. Славу Всевышнему, говаривал ротный в экзаменационную пору, что гимнастику для мозга сдавали не на втором, а на четвертом курсе, а то бы ее не сдал никто. Игорь охотно верил командиру подразделения, у него и на втором курсе эта наука вызывала неприятную оскомину.
Действительно, РВДУ являлось местом, где приветствовалось умение действовать руками, и желательно сразу в нескольких плоскостях. И это Игоря особенно устраивало, поскольку уравнивало все учащееся братство точно так же, как благообразная работа садовника рождала предельное родство некогда вразнобой растущих кустов. Здесь не требовалось ничего индивидуального: пытливого ума, заковыристого характера, глубоких знаний, изумляющего глаз совершенства. Оценить могли разве что виртуозное владение редким оружием или уникальным приемом, способным быстро и гарантированно превратить феноменально развитое тело в беспомощную, раскисшую массу нефункционирующих человеческих клеток. Такие знания и умения мгновенно подхватывались и поощрялись, информация о них распространялась сначала по роте, а затем могла выйти и на училищные просторы, делая отличившегося известным в рамках высоких стен РВДУ из серого бетона, которые, впрочем, не слишком надежно ограждали всех этих неверующих монахов от внешнего мира.
2
Но наряду с этим было в училище еще нечто такое, что вызывало тихий ропот у всех без исключения. Этот страшный, завораживающий неопределенностью и напускной таинственностью ритуал назывался простым сочетанием слов – «строевой смотр». Опасались его больше экзаменов, тревог и внезапных проверок потому, что только смотр грозил непредсказуемыми метаморфозами для всех его участников. Смотр неизменно сопровождался приступами военной патологии, обозначаемыми емким армейским термином «шкалиться». Это слово не отыскать в толковых словарях, этимология его абсолютно неизвестна. Тем не менее, оно существует. Пожалуй, большая часть курсантов имела бы трудности с объяснением его значения. И даже Игорь, впервые услышавший сей учебно-боевой термин еще ребенком в части, где служил отец, вряд ли взялся бы за роль интерпретатора. Между тем это таинственное слово, чаще всего употребляемое непосредственно перед размашистым смотром или масштабными маневрами, обозначало сложный перечень мазохистских манипуляций, совершаемых людьми в погонах. То ли определение выросло из слова «шакалиться», то есть превращаться в рыскающего по окрестностям шакала, побитого обстоятельствами сложных взаимоотношений с хищниками, то ли произошло от слова «скалиться», что, вероятно, могло обозначать «обнажать перед всеми клыки» и «порыкивать». Этого не знал никто, но «шкалились» все, включая ротного. Последний, правда, делал это незаметно, даже как-то элегантно, заретушированно даже для проницательных взоров. Но и то, что командир коротко стригся, надевал совсем другие сапоги и фуражку, менее щеголеватые и уравнивающие его с остальными офицерами, значило довольно много. Игорь мимо воли усмотрел в этом уничижительном акте осознанного обезображивания еще большее стремление слиться с массой. Это ему не нравилось, но, изумляясь происходящему, он все же взял на заметку этот урок военной мимикрии. К ротному курсант Дидусь испытывал противоречивые чувства. С одной стороны, он признавал опыт боевого офицера, прошедшего по апокалиптическим тропам Афганистана, не потеряв здравого смысла. С другой стороны, Игорь явственно ощущал, что Лисицкий относится к роте без любви, даже не так, как дрессировщик в цирке к своим животным. Прагматично и слишком бесчувственно. Ротный казался ему человеком с ампутированной душей, в нем было что-то от лукавого. Курсанты для него являлись только материалом, лишь кирпичиками для строительства лестницы на следующий этаж иерархического сооружения под названием «Советская армия». И потому заботился он о них ровно настолько, насколько это способствовало его карьерному росту.
Хотя подготовка к пресловутому смотру начиналась за две-три недели, спокойствия это не гарантировало нисколько. Ни бесконечная чистка оружия и шанцевого инструмента, ни скучное вязание метел и непрестанное приведение «в идеальное состояние» территории, ни стирка по ночам обмундирования – ничто не предотвращало нервозности, истошных криков и сочного обругивания друг друга в течение нескольких бессонных ночей перед смотром. Больше всех ругался Кирилл Лыков, который на свое горе умел стричь и не умел отказывать. Ночная очередь в импровизированную парикмахерскую была расписана на неделю вперед, в течение которой он спал по два-три часа.
Игорь не роптал из-за того, что ему приходилось в ночь перед смотром стирать свои вещи. Он все воспринимал как должное, неотъемлемую часть посвящения в офицеры Советской армии. Приблизительно так же он относился к копанию траншей, подметанию плаца, укладке дерна на облысевших газонах, привязыванию листьев к обкраденным осенним ветром деревьям, перебрасыванию лопатой тонн снега – он работал универсальной машиной. Но качественно провести ночную стирку можно только вдвоем, потому что в одиночку ни за что не выкрутить обмундирование и уж тем более одному почти невозможно завладеть взводным утюгом. Тут должна действовать надежная команда. Когда непреклонные обстоятельства начали диктовать план предстоящей ночи, Игорь прочитал на лице Алексея неподдельное нежелание провести ночь за делом, которое можно было совершить и днем. Предупреждая возможную ругань друга, Игорь лишь преспокойно сообщил ему, что их время пользования утюгом забито на два часа ночи. Пока Алексей поносил уродов, придумавших смотры, Игорь, заметив, что мороз крепчает, прикидывал, успеют ли они высушить одежду за ночь утюгом.
Стирали они одежду, как всегда, рядом с умывальником прямо на полу. В этом не было ничего примечательного и удивительного для курсанта РВДУ, првда, дело было зимой.
И этот факт призван был втиснуть в сознание курсантов важность именно этого смотра. Отвоевав небольшой клочок пространства и расположившись среди десятка других стирающих, они разложили обмундирование на кафельном полу, до того оттертым дневальным и вполне пригодным для такой процедуры, обильно полили брюки, кителя и тельняшки из шланга и принялись намыливать. После по очереди терли их щеткой для чистки одежды до тех пор, пока мыльная пена, непрестанно смываемая шлангом, не стала ватно-белой, как свежевыпавший снег. Затем принялись отжимать обмундирование, взявшись за концы с двух сторон и медленно закручивая до появления бугристых узлов. Когда же брюки и китель превратились в сплошную спираль, их начали растягивать, отчаянно выдавливая воду до последней капли. После отжимания одежду растягивали на кроватях, а сами сторожили утюг, уже не покидая бытовки: любая договоренность могла ничего не стоить, если утерян момент передачи волшебного прибора. Радость курсантам приносило лишь понимание, что они такие не одни – без малого три четверти роты тихо и настойчиво копошились в ночи. И то же самое было на других этажах казармы.
К утру у изрядно намаявшихся курсантов все было подстрижено, подшито, выглажено, начищено. Одежда досыхала прямо на них, и сопротивляющаяся влага медленно покидала ткань, отступая перед энергией молодых горячих тел. Игорь к началу смотра вообще позабыл о перепитиях стирки – строиться они выходили в шинелях, да и рюкзак со снаряжением приятно грел спину. Бессонную ночь медленно побеждала надежная, как солнце, энергия молодости; она проникала во все члены, заполняя свежестью еще тяжелые головы.
И тут подлыми хлопьями повалил снег, что означало только одно: природа не желает жить по законам человека.
Обидно было еще и потому, что вчера свой кусок плаца они грызли лопатами и очищали метлами зря.
И вот, когда под разверзшимся небом все училище в течение четырех часов простояло с рюкзаками и оружием, медленно превращаясь в белых, оглушенных неподвижностью кур, Игорь испытал нечто похожее на озарение. Он вдруг со всей ясностью понял смысл заветных, священных в армии слов «шкалиться» и «смотр». И может быть, в тот момент даже сумел бы объяснить этот смысл. И плечи уже ныли не так остро, как вначале, а тупой, отдающейся во всем застывшем теле болью, голова же стала утопать в дурмане самоотравления. Игорь почувствовал облегчение, переключившее загнанное в дремучие дебри сознание на простые и понятные образы. Ускользала перспектива обеда, но не было сил огорчаться по этому поводу. Не хотелось непрестанно шевелить пальцами ног в сапогах, чтобы не отморозить их, но рефлексы организма, инстинктивно борющегося за выживание, автоматизировали это действие. В мыслях всплывало обморочно жаркое лето и он с удочкой, бесконечно спокойный, разомлевший, на берегу Роси. Образы мигали, появлялись и исчезали снова. Игорь не сдавался, поглядывая на незаметно притоптывающих товарищей. Внешне все оставались неподвижными, но если бы точный прибор фиксировал колебания тел, возникла бы видимость странного танца, похожего на долгую жуткую агонию. Игорь видел каменно-мрачные лица, застывшие с непроницаемыми выражениями, как у изваяний. Вернее, то было одно, общее для всех, стадное выражение. Не боли или безысходности, но силы абсолюта, дарующего каждому нечувствительность. И если бы им всем пришлось медленно умирать здесь, на плацу, выражение бы это не изменилось, ибо оно слишком уж походило на посмертную маску. Он бросил взгляд на Алексея, слегка удивившись: на лице товарища читалась злобность, смешанная с неимоверным страданием. «Не на пользу ему метание между ротой и командой, пребывание вне строя расслабило его, сделало слишком уязвимым к боли, которая у всех давно уже притупилась», – подумал вдруг Игорь. Он опять сравнил выражение лица друга с остальными. У других давно исчезли раздраженность и досада, отключились вообще эмоции – осталось только смирение: пусть все будет, как будет, мы будем стоять, подобно пешкам на шахматной доске, столько, сколько нужно. И вот, когда людьми стало завладевать отполированное сознанием, холодное, как выстуженный зимой плац, безразличие, началось представление. Сначала пронесся шепот: «Идут, идут…» Командиры взводов и сержанты в последний раз зашипели на подчиненных и замерли. Вдруг все разом напряглись и насторожились: явился он. Из-за спин более рослых товарищей Игорь видел широкий силуэт невзрачного человека с большим мясистым лицом, с сильно выпирающим из-под шинели животом. Глухо, слишком глухо звучали на морозе слова «Товарищ командующий!» После них внезапный порыв леденящего ветра и вовсе украл остатки доклада. Весь строй невероятно сосредоточился: сейчас пойдет вдоль рядов. Но вместо смотра личного состава этот чудак неожиданно для всех направился в расположение второго батальона, и пестрая царственная свита мигом бросилась вслед за ним. Те несколько минут, что командующий провел в казарме, никто не шевелился; боль и напряжение уступили место искусно нагнетаемому страху. Генерал-коротышка затем вышел и, как казалось Игорю издали, бешено сверкая недовольными глазами, брызгая на окружающих слюной, направился в столовую училища. Было видно, как под шинелью перебирают слишком тонкие ноги, не желая семенить, но и не умея делать широкие петровские шаги. Один раз тучное туловище поскользнулось на растоптанном снегу и очень рискованно пошатнулось. Когда командующий поймал равновесие, многие беззвучно выдохнули: «Хух!» А то ведь беды не оберешься! Казалось, довольно трудно этим нетренированным ногам нести столь массивное тело. И начальник училища, худощавый и осанистый, шел за ним намеренно медленно, специально слегка наклонив голову, чтобы казаться ниже своего патрона. Училищный строй в этот момент охватило электрическое напряжение – застывшие фигурки светились преданностью и покорностью. Командующий явился, блеснул яркой кометой, ослепил невероятным блеском и исчез, растворился где-то в пространстве. А курсанты и младшие офицеры училища все еще стояли, не получив никаких распоряжений. Игорь, завороженный, даже боли от холода в руках и ногах не чувствовал – столь потрясающим откровением оказалось явление этого героя народу. Интуитивно он ощущал, что это просто миф, мираж, дурман. Но это видение было ему приятно, ибо в нем усматривалось неизбывное свойство армии – заменять блеском тупость, фанфарами компенсировать отсутствие доблести, а суровой надменностью – фальсификацию действительности. Курсант Дидусь воочию видел, как Ничто оказывалось способным стать Всем. Это Ничто было выше науки и искусства, громаднее богатства, могущественнее морали. До него не дотягивалась обыкновенная действительность с привычной системой ценностей, и это казалось особенно забавным, особенно захватывающим, пленительным.
Наконец явился комбат и вызвал ротных. Прошло еще пять минут, и многие уже откровенно беспорядочно притопывали ногами от холода, прежде чем капитан Лисицкий скомандовал:
– Внимание, рота! Сейчас повзводно сдаем оружие. Укладываем снаряжение. Старшина – роту на обед. После обеда получаем парашюты на укладку. Место укладки – тир. Проверяющий офицер воздушно-десантной подготовки – полковник Карасев. Готовность к погрузке уложенных парашютов для совершения ночного прыжка – двадцать часов тридцать минут. Вопросы есть?!
– Никак нет! – дружно прогремела рота, уже радуясь окончанию акта бессмысленного стояния и еще не вполне понимая, что впереди вторая бессонная ночь. Но то уже будет иной акт, другая серия.
– Зашибись, – крикнул Игорь не то сам себе, не то Алексею, когда они толпились в проходе, поднимаясь по лестнице на третий этаж.
– Безликость! Тупость! Ослоумие! Послезавтра – экзамен по боевым машинам! – злобно ревел Алексей в ответ. – Как сдаватъ-то будем?! И когда спатъ-то будем?!
– В морге! Ты разве не знаешь? – раздался позади голос ухмыляющегося Терехова. – Вы уже слышали, что генерал отстранил от исполнения обязанностей командира шестой роты и уволил начальника столовой?!
– Да ну! Откуда знаешь? – зашикали со всех сторон.
– Да не орите вы, я только что слышал, как офицеры разговаривали!
– Молодец! – искренне воскликнул Игорь. – Вот так надо командовать. Шашкой налево и направо, чтоб все боялись!
Он и в самом деле думал, что генерал – молодчина. Командир, даже такой аморфный и расплывчатый, как амеба, должен вызывать страх. Беспричинный и трепетный.
– Вот вам и пятнадцать минут смотра. Для кого-то постояли – поплевались. А для кого-то – карьера, судьба! – проронили рядышком, но без восхищения, а лишь констатируя факт избирательности фортуны.
– А как, вы говорите, фамилия нового командующего?
– Да Ачалов, кажется. Но могу ошибаться. Связи у него крупные в Генштабе.
– Кто ж теперь в столовой «тгипер» будет искать? – передразнил кто-то из потока, медленно плывущего на третий этаж. Застывшие тела бились друг о дружку, пытались согреться, выйти из состояния мертвенного оцепенения. Игорь подумал, что и впрямь, один человек столько бы не простоял на морозе, не выжил бы. Только рати, массе такое под силу…
– Да какая разница, мало, что ли, прапоров в Советской армии. Кандидат воровать курсантское мясо быстро найдется, не переживайте… – ответил чей-то бас с налетом хрипотцы.
– Слушай, ну он же толстый, этот генерал, ну как свинья! Какой он, к черту, командующий?!
– Да наплевать на брюхо! Главное, чтобы шашка заточена была! Вы видели, как его все боятся?! Как огня!
– Правильно! Настоящий генерал!
Но Игорь уже никого не слушал, он все размышлял над поступком генерала. Он подумал, что это, пожалуй, достойно Жукова, как-то приказавшего стрелять в одесских бандитов. Жестокость командира всегда оправдана, она сжимает мозги всех тех, кто рассчитывает на вольницу, она убивает расслабленность, исцеляет малодушие. И все это она совершает заранее, задолго до того, как потребуются те или иные качества войскового подразделения. «Ох, молодец, этот генерал, хоть и сволочь редкая», – заключил для себя курсант Дидусь, потирая застывшие руки.
3
Несмотря на усилившийся ветер, ночной прыжок состоялся. Генерала никто больше не видел, но везде уважительным шепотом поговаривали, что все перемены – это его рук дело. Заехал на денек, завертел вихрь и исчез, оставив возвышаться над училищем свою всемогущую, похожую на взбитые сливки тень. И эта тень командующего сама по себе источала непредсказуемость, степень и высокой вероятности нового командирского каприза, появления какого-нибудь замысловатого волевого решения, не вяжущегося с обманчивой внешностью.
Прыжки организовали в два потока, не решившись в такой ветер бросать курсантов в рампу; могли быть фатальные схождения, и преподаватели воздушно-десантной подготовки проявили благоразумие. «Если трупы будут, кто станет отвечать?! Этот герой сразу в кусты и морду сделает кирпичом!» – услышал Игорь слова руководителя прыжков, которые тот неодобрительно говорил более молодому офицеру, инструктируя его по порядку действий на площадке приземления. Дикий вой сирены в самолете, обозначавший команду «Приготовиться!», лишь разбудил десантников, спящих в теплом брюхе самолета. Вместе с едва проницаемой пеленой кружащегося снега приближалась новая полночь, и Игорь удивлялся, как это у них выходило уже четвертые сутки спать всего по несколько минут всякий раз, когда это возможно, и оставаться в прекрасной форме, быть готовыми к перегрузкам в любой момент времени. «Мы уже, как дикие звери, спим в снегу, едим корешки, как легионеры Цезаря, и клыки у нас всегда наточены», – оптимистично резюмировал на аэродроме перед взлетом Антон Терехов, когда после проверки парашютов курсанты тут же падали в снег и мгновенно засыпали. Дидусь не без радостного удивления сделал для себя замечательное открытие: двадцать минут сна урывками для напряженного организма все равно, что обычному человеку проспать всю ночь.
Курсант отметил, что чувство опасности за эти дни основательно притупилось и почти исчезло чувство страха при прыжке. Он вспомнил, что впервые не испытывал эмоций от разрывающего голову воя и ярко-мигающего света желтой и зеленой ламп в самолете во время специальных сигналов «Приготовиться!» и «Пошел!». Убегая по клепаной дорожке к двери в небо, Игорь дивился тому, что его товарищи из следующего потока, которые будут прыгать после разворота самолета минут через тридцать, даже не проснулись на звуки и вспышки света. Игорь шагнул в темную неотвратимую бездну, улыбаясь сам себе от беспричинной радости и отдаваясь дикому, безудержному потоку. Убийственные порывы воздуха хлестали, терзали его лицо, и только тогда его вдруг посетила отчетливая мысль об инстинкте бессмертия, о котором часто толковали более опытные воины. Ему показалось, что он осознал, что это такое, уловил момент, когда понял это, и успел обрадоваться новому ощущению. Почудилось, что в один миг весь он, его личность распадается на мириады частичек, каждая из которых наполнена энергией, а затем все они внезапно собираются воедино и выстраивают новую мозаику, уже совсем другой личности, как бы титулованной, посвященной в некую тайну, прикоснувшуюся одновременно и к смерти, и к совершенству. Его ощущения были сродни ликованию.
Сначала его рвануло, как пробку из бутылки, и он мимолетом подумал: «А ведь скорость четыреста пятьдесят километров в час, в самом деле, не шутка», – а потом еще сугубо курсантская, практичная мысль молнией рванулась и улетела в небо: «А ведь хорошо, что шапку крепко завязал и ее не сорвало». Затем его дико закрутило в воздушном водовороте, перевернуло вверх ногами, потом обратно, как будто он был грушей на дереве, которую настойчиво стряхивал рачительный садовник. Игорь краем глаза увидел уплывающий в ночи Ил-76 с подсвеченными на крыльях лампочками. Мифическое воздушное животное, грациозная фантасмагория, бесподобно пригнанная к густому, запорошенному небу. Он не сопротивлялся, только сильнее поджимал под себя ноги, чтобы лямка, не дай бог, не попала между ног – тогда парашют может не открыться. Наконец короткий провал в какой-то временной пролом, в виртуальную щель заставил сознание встрепенуться – идет раскрытие купола. Уже в следующее мгновение он завис между небом и землей, и казалось, что тут нет ни ветра, ни холода, как в вакуумной полости. И лишь голоса невидимых товарищей возвещали о том, что это та же, продолжающаяся жизнь, только ее иная форма.
На площадке приземления, которой служило какое-то заснеженное поле под Рязанью, дул такой ветер, что погасить купол самому не представлялось возможным. Парашюты с мягкими замками, позволявшими отстегивать лямки, были пока только у офицеров и у нескольких сержантов. Эти люди и освободились из парашютного плена первыми и стали помогать остальным. Игорь даже не сопротивлялся, когда его несло, словно под парусом по снежному морю, – он, подобно римскому наезднику на квадриге, бешено летел по нескончаемой пустыне. Осознанная, бесстрашная игра с захмелевшей от снега природой вводила в состояние транса, хотелось неистово заорать от возбуждения, просто и незамысловато: «Э-ге-ге!» Присутствовал тут элемент какого-то адского, безудержного веселья, чисто русского раздолья с отважным «А, будь что будет!» Игорь только на первом курсе поражался: отчего приключения, если они сваливаются на голову, непременно являются пестрым букетом? Свое собственное объяснение появилось у него много лет спустя. Если случается что-то нерядовое, оно обязательно вызывает встряску мозгов у многих. А многие – это ведь люди, и некоторые из них шалеют от счастья, некоторые – от горя и стресса, наплыва новых эмоций, неважно. Вот и происходит вслед за одним сбоем программы цепная реакция других событий – комичных, трагичных, просто отклонений от нормы, они-то и заполняют прочно резервуары памяти. Поэтому, когда в два часа ночи выяснилось, что пропал курсант Островский из соседнего взвода, курсант Дидусь был невозмутим, как краснокожие герои Фенимора Купера. Отсутствие могло означать, что он, возможно, расшибся вследствие спуска на полураскрытом или запутавшемся парашюте, а может при неудачном приземлении. Любая версия являлась чрезвычайным происшествием. Ротный Лисицкий с непроницаемым лицом, напряженными желваками и деланым чувством юмора выглядел совершенно адекватным насыщенной ночи. Во всяком случае, ни один его жест не выдавал внутренних переживаний, а свойственное капитану подергивание жидких усов в уголках искривленного рта могло одинаково выражать досаду, скрытую радость, раздражение и еще очень многое. Он выстроил всех в одну, невероятно длинную шеренгу на дистанции видимости двух стоящих рядом и… дал старт новому трудовому подвигу. Изможденная, с оружием за спиной, с отчаянным матом и проклятиями всему миру, отплевываясь, кряхтя, барахтаясь в глубоком снегу, рота двинулась по полю. Непрекращающийся снег, изящный, бесконечно красивый в беззвездной ночи подразнивал воздушностью верхнего слоя и бесил предательской цепкостью слежавшегося нижнего; он отсвечивал в ночи неизвестно каким образом и в другой обстановке показался бы пленительно ласковым. Но не теперь, когда, изгибаясь под порывами ветра, курсанты проваливались по колено. «Интересно, если Островский погиб, его успело присыпать снегом?» – думал Игорь, продавливая борозду в снежном море, кажущемся бесконечным. Он удивился, что так легко думает о возможной смерти товарища. Как быстро зыбкая, сковывающая все члены усталость, продолжительные напряжение и голод, постоянный проникающий до костей холод, вообще, искусственное введение в состояние войны притупляют ответственность, сужают круг желаний! Мыслимо ли это, чтобы смерть конкретного, живущего рядом с тобой товарища вписывалась в простое, вместительное и бесчувственное понятие «потери»?! Какая-то часть его мозга, отмеченная такими важными зарубками общественной морали, как «совесть», «долг» и тому подобное, настойчиво твердила, что это неправильно, недостойно, малодушно. Но другая, порождающая гнусный, ошеломляюще откровенный голос, убеждала его в обратном. В том, что если это смерть, то она произошла по вине самого Островского, и если это ЧП, то почему ротный медлит сообщить руководителю прыжков, а отправил их на бездарное прочесывание поля? Так он думал, отгоняя мыслями приближение предела, когда тело перестанет слушаться импульсов мозга, но понимая, что через какое-то время это состояние окажется таким же неизбежным, как и наступление рассвета.
Неожиданная команда раздалась по цепи: всем повернуться кругом и двигаться в обратном направлении, постепенно сходясь в точке сбора парашютов. Прошло еще не менее получаса, прежде чем все доплелись до указанного места и сформировали нечто, отдаленно напоминающее строй. Но ротный тут проявил неожиданную строгость и безжалостность. Незаурядный знаток ненормативной словесности, он выравнивал подразделение до тех пор, пока под воздействием угроз и обжигающей брани человекообразный студень не превратился в монолитную конструкцию. Только после этого Лисицкий счел нужным сообщить о найденной пропаже; выяснилось, что у Островского, который был последним в потоке, произошло непроизвольное раскрытие стабилизирующего парашюта в самолете, и его, последним семенящего к двери, попросту остановил выпускающий офицер.
…Рота вернулась в казарменное расположение почти под утро, и, сидя в грузовике среди товарищей, расположившихся теснее, чем шпроты в банке, Игорь сквозь сон соображал, чего бы он хотел больше всего: поесть, поспать или просто попасть в теплое помещение. А еще он знал, что в девять утра должен начаться экзамен по тактике, который никто не отменит и не перенесет. Ничего, они все сдадут экзамен, сдадут, как всегда… С иронией повторяя друг другу избитую фразу: «И есть десантные войска, и нет задач невыполнимых!». Дидусь натыкался во время наезда машины на ухабы то на твердое дуло автомата Алексея, то на костлявое плечо Сизого, иногда кто-то локтем попадал ему самому в бок, и он собирался выругаться, но передумывал, потому что для этого потребовалось бы слишком много усилий.
Глава пятая
(Рязань, РВДУ, 1989 год)
Игорь не отдавал себе отчета, что именно роднило его с Алексеем Артеменко. Интуитивно он понимал, что они совершенно разные люди и, встретившись в иной обстановке, в более спокойной и широкоформатной среде, где каждому в отдельности было бы уютно, вероятно, не сблизились бы. Но накаленная и разряженная, как на высоте Эвереста, атмосфера училища требовала чьей-нибудь поддержки. Так же, как в высоких горах альпинисты ходят в связках, страхуя друг друга на самых сложных участках, так и в условиях этого неординарного учебного заведения совершенно необходима была взаимовыручка. Для оптимального распределения усилий, за счет чего можно выигрывать состязание со временем. Чтобы во время бесконечных подъемов по тревоге один из них хватал в оружейной комнате сразу два автомата, а другой – два рюкзака со снаряжением, так было быстрее. Только после того как путем долгих тренировок такое распределение внутри взвода произошло, требуемый норматив стал легко выполним. Без надежного товарища невозможно наверстать пропущенные из-за нарядов темы, приобрести практические навыки, которые нужно долго отрабатывать, ощупывая каждый выступ оружия и каждый сантиметр швартовочных лент. Разобрать скорострельную пушку, отработать установку в боевых условиях противотанковой управляемой ракеты на башне боевой машины, подготовить боевую машину к погрузке и десантированию, показать на зачете действия гранатометного расчета и еще великое множество подобных мелочей, из которых и состояла выучка. Их можно было освоить, только двигаясь в паре, полностью доверяя друг другу, и потому такое осваивание военных премудростей становились непременной частью загнанной, исковерканной, до безумия извращенной жизни-учебы. Более того, малейшая ошибка одного – неправильно завязанный узел или неверно пущенная лента, несвоевременно поданный выстрел или неспособность в считаные секунды разобраться с заклинившей лентой скорострельного гранатомета – приводила к позорному неуду и безжалостным насмешкам со стороны товарищей для обоих.
Но дело было не только в страховке. Игорь долго размышлял над тем, что так объединило его с Алексеем, надолго связало их судьбы в один пучок. То, что они земляки? Вероятно. Национальная, сугубо украинская способность приспосабливаться к обстоятельствам и не только «терпеть негаразды», как любил говорить его дед Фомич из Межирича, но и придумывать всякие приспособления, уловки для преодоления препятствий. Вот и в армии он давно заметил, что как ни старшина роты, так обязательно украинец. Прирожденная тяга к обустройству, умелому управлению, ловким трюкам-решениям – да, безусловно, все это имело прямое отношение к национальному характеру. И Игорь пришел к мысли, что хотя они совершенно случайно подружились, на самом деле все гораздо сложнее. То, что плохо давалось ему, легко брал на себя Алексей, и, наоборот, что казалось Алексею высшей математикой, для него было проще вскапывания огорода в далеком украинском селе. Алексей мог мгновенно разобраться в нюансах боевой обстановки на топографической карте, в штрихах и знаках, зато он, Игорь, первоклассно замыкал запаску в двадцатиградусный мороз. Алексей перед смотром мог проспать очередь на утюг или плюнуть на ночную чистку лопатки и котелка; для него же это было невозможно. Он готов был не спать несколько ночей, лишь бы все выглядело безукоризненно. Да, в глубине души он признавал, что завидовал некоторым способностям Алексея, легкости и даже некой грациозности и филигранности исполнения, заметно оттенявшей его собственную угловатость, врожденное мужланство и инфантильное недопонимание некоторых хрестоматийных, с точки зрения городского жителя, истин. Игорь, который раньше всегда гордился своими фразами, будто с одного удара забитыми по самую шляпку гвоздями, признавал теперь личное обаяние и даже определенную харизму Алексея и его аккуратное, настойчивое ввинчивание в ситуации. Но он также отчетливо видел и то, что именно они, эти ярко выраженные личностные качества чаще всего становились для Алексея источником проблем во взаимоотношениях с командирами. Алексей стремился выделяться интеллектом, а в армии это карается с не меньшей жестокостью, чем неповиновение. А вот Игорь твердо усвоил первый солдатский закон: выделяться нужно тем, что ничем не выделяться. Это как камуфлированная сетка, которую носят разведчики, – ты победишь любую ситуацию, если научишься сливаться с местностью и окружающим миром. Потому Игорь и вел себя обезличенно, как бы растворяясь в той воинской массе, поражающей своей предсказуемостью в быту. Ибо именно эта святая простота и является главной добродетелью военного, от солдата и до маршала. Настоящая армия, Игорь был абсолютно в этом уверен, по меньшей мере, до времени чрезвычайных ситуаций и особого военного периода, не признает яркой индивидуальности, она карает любую самобытность как порок, демаскирующий признак. Игорь сравнивал Алексея с несносным, невыдержанным и слишком самонадеянным бойцом, считая его желание проявить себя явным недостатком. Но, взирая на слабые, как полагал Игорь, стороны характера товарища, он, тем не менее, не отдавая себе ясного отчета, восхищался его способностью заглядывать за пределы того узкого пространства, которое им отводилось. Будучи из военной семьи, Игорь свято верил, что даже ошибаться имеет право только один человек в подразделении – командир. Единственное, на что имел право бравый солдат, это медлить с выполнением распоряжения, если он чувствовал, что выполнять его глупо и опасно. Ведь неслучайно курсанты к концу первого курса наконец-то осознали тонкий смысл известного училищного принципа «Не спеши, а то успеешь!»
Но в будничной жизни они оставались ломовыми лошадьми, запряженными вместе, и Игорь небезосновательно считал, что без его сухой практичности и терпения склонность друга к романтическим переживаниям давно подвела бы его. Вот это они знали оба и поэтому упорно держались вместе и были весьма полезны друг другу, как два химических элемента, которые только в чудесном соединении обеспечивают стабильный иммунитет каждому. Способность Алексея бесстрастно и вместе с тем емко и красочно оценивать прошлое оказалась весьма ценной для Игоря, только в эти мгновения его внезапно прошибало: по странному стечению обстоятельств сам он никогда не имел личного прошлого. Его прошлое являлось достоянием его родителей, частью военной судьбы отца; его личная жизнь казалась ему самому костью, периодически бросаемой собаке с неокрепшими зубами, из которой та настойчиво, трогательно и чаще всего безрезультатно пыталась выгрызть то, чего уже там не было. Но еще хуже дело обстояло с будущим, которого Игорь также не чувствовал. Алексей толковал ему о каких-то упоительных перспективах, которые казались его другу слащавыми сказками, несбыточными шоколадными фантазиями. Для него парадигма будущего была до умопомрачения проста – служить, и точка! Но все-таки эти разговоры о прошлом и будущем открывали ему глаза на многие вещи, о существовании которых он доселе не подозревал. Хотя и интуитивно понимал главную проблему Алексея: тот застрял где-то между прошлым и будущим, и поэтому настоящее для него порой становилось невыносимо тягостным. Тогда как он, Игорь, жил исключительно настоящим моментом и мог научить этому незамысловатому ремеслу своего товарища.
Всякий раз обнаруживалось, что каждый из них иначе готовил себя к серьезному делу, имеющему, правда, неясные очертания и контуры. Вопрос придания смысла жизни проскальзывал почти во всех высказываниях Алексея, и Игорю это нравилось, потому что он раньше никогда не задумывался над подобными вопросами. Игоря даже удивляло, что Алексей намеревается самостоятельно сделать выбор дальнейшего пути, ведь он знал: военному особенно сложно влиять на свое будущее, и если слишком об этом заботиться, можно потерять все. Офицер, по его разумению, должен стремиться только к одному – как можно быстрее подняться по карьерной лестнице до Академии имени Фрунзе, а дальше – если уж очень повезет, то дотянуться до Академии Генерального штаба. Но в такие дали никогда не заводила его шальная мысль даже во время самых отважных мечтаний в бесконечной, вещей тиши дремучей караульной ночи.
Но и Игорь умел удивлять своих сослуживцев. Запутанность мыслей и немногословность он научился превращать в неоспоримые преимущества, принимая неожиданные, шокирующие окружающих решения будто бы в ущерб себе. Однажды, еще до первого отпуска, когда Иринеев распределял курсантов на работы, он назначил на наиболее грязные участки работы несколько человек, и в том числе Алексея, которого явно недолюбливал. Но, помимо уже назначенных, необходимо было еще несколько пар рабочих рук. Тут сержант пошел на мелкую хитрость, спросив, может, кто-то сам желает присоединиться? Вопрос был, скорее, как он говорил, «проверкой на вшивость», и замкомвзвода раскрыл рот от удивления, когда Игорь сам вызвался пойти с Алексеем и Глебом Осиповичем в мойку. «Ну, вы, хохлы, как будто смазаны салом», – только и проговорил он. Мойка слыла особо грязным и ненавистным местом, и не столько из-за самой работы, сколько из-за того, что работающие там практически были лишены возможности поесть жареной картошки с мясом – в силу невероятной загрузки и практически непрерывной работы беспощадного дьявольского конвейера по превращению грязной посуды в чистую. Чувство голода в течение долгих месяцев учебы оставалось наиболее острым после желания спать. В результате полугодичной закалки в стенах училища любой курсант был способен уснуть тотчас, в течение сорока-пятидесяти секунд в любом положении. «Дайте мне точку опоры, и я… усну», – с задором шутили они в первой год учебы. И стоило любого из них разбудить посреди ночи и осведомиться, будет ли он участвовать в поглощении продуктов – неважно, сала или шоколада, можно было не сомневаться на этот счет – через секунду курсант приобретал вид полноценного едока. И на такую-то жертву добровольно вызвался Игорь, заведомо зная, что изумит этим товарищей. Так он поступал не один раз, заслужив добрую славу человека, которого невозможно наказать работами или внеочередным нарядом. И удивительное дело: сержанты почти совсем оградили его от подобных задач. Нарушителей-то всегда было предостаточно. Терпение и усердие при выполнении монотонного будничного труда стали тем фактором, из которого Игорь научился высекать маленькие искры признания, и потому замешательство и удивление окружающих являлись самой звонкой монетой, которую он мог выбить из них за нестандартные поступки.
Но не только этим различались два сослуживца из самого центра солнечной Украины. Игорь, которому были одинаково чужды и слезливые романтические переживания, и архаическая тоска по пряному уединению, удивлялся, отчего, например, Алексей так мучительно стеснялся ходить в полевом лагере в общую уборную. Что его, собственно, беспокоит – все десять вечно безнадежно загаженных отверстий или разжиревшие до кошачьих размеров крысы, обнаглевшие до такой степени, что могли наблюдать с одного конца уборной за курсантом, сидящим в другом? Проницательность, живучесть и неизбывная, на глазах растущая наглость этих мутирующих и бесконечно умных животных внушали жуткий ужас, и Игорь порой в ночном карауле размышлял: а до чего бы могло дойти, если бы четвертый курс периодически не устраивал отчаянную стрельбу по крысам из пистолетов? Так вот, именно тогда, когда они уже были близки к выпускному дню, а Алексей почему-то отказался стрелять по лютым тварям, Игорь понял причину. Он сам сумел изловчиться и вогнать пару кусков жгучего железа в гадкое, лощеное тело твари, отчего оно с отвратительным звуком лопнуло, залив стены уборной кровью и разлетевшимися внутренностями. Игорь отчетливо видел, как неимоверно расширились зрачки его товарища, когда он увидел в метре от себя шмат крысьего тела с торчащими из кровавой массы волосками шерсти. Алексей тотчас повернулся и вышел из уборной, решительно разрядив свой пистолет и уложив его в кобуру. Брезгливость! Вот отчего Алексей бывал таким вопиюще застенчивым! Они постоянно прикасались к грязи, дерьму, крови, поту, отработанному маслу боевой машины, гнусной гари ревущего дизеля, ко всему, что было антитезой показанной в фильмах романтике с неизменно парящим кристально белым куполом на фоне бесконечно голубого бездонного неба. Но ведь так не бывает! К славе, к крупным военным победам идут по колено в дерьме! А нередко – захлебываясь в чужой крови, в людской. Жуков вот лично ползал перед Сталинградской битвой под пулями, изучал особенности обстановки. Как солдат, и его руки по локоть проваливались в грязь!.. И лично посылал бойцов туда, откуда не возвращаются.
Но было нечто, одна чудная и неиссякаемая тема, которая манила Игоря и которую его друг мог преподнести не только бесподобно, но и достаточно чисто, без примеси цинизма, неизменного спутника такого человеческого стада, как воинский коллектив. И Игорю, готовому смириться с любой грязью, любой безвкусицей и даже скотством военного вертепа, безумно хотелось, чтобы эта тема, именно одна эта тема оставалась хрестоматийно незапятнанной, незыблемой. И темой этой была, конечно, любовь к женщине.
Вряд ли кто в первой роте РВДУ особенно задумывался над тем, что отношение к женскому теплу, как раздваивающееся русло реки, неумолимой рукой стоящего над всеми конструктора делилось на два взаимоисключающих потока. Один был безнадежно заражен вирусом альфа-самца, стремящегося к грубому, нескончаемому покрытию многих самок репродуктивного возраста, правда отнюдь не с целью производства потомства; другой состоял из приверженцев тихого и напряженного поиска подруги жизни, способной выдержать рваный ритм гарнизонов, стихийность десантной службы и броневую логику военной карьеры. Первые вслух смаковали похабщину интимных встреч, сливая во всеобщий унитаз извращенного познания уйму порнографических деталей, визжа и измываясь над покоренными, как они полагали, девушками, испуская звериные рыки неутоленного желания в отношении более стойких. Другие многозначительно помалкивали. Раскрашенные в белый и черный цвета, кощунственно плотоядные мастер-классы задевали всю стоголовую семью, порой открывая шлюзы для импровизированных ристалищ, после которых решительно все участники оставались инфицированы подлым вирусом непристойности и гипертрофированных вкусовых раздражителей. Впрочем, свою лепту вносили и преподаватели, с видом ветхозаветных кудесников раздающие рецепты счастья, столь же уморительные и лишенные деликатности, как и сами наставники. «При выборе жены надо глядеть не на попочку, а на папочку», – долго ходила по училищу язвительная притча, авторство которой приписывали звучному генеральскому имени в высших эшелонах власти.
И, на удивление скептикам, вторая группа с поразительной последовательностью все более набирала силу, пришпоривая животные инстинкты в пользу отношений другого толка, наполненных горячим дыханием самоотреченности, порождающей в конце концов семьи и потомство. К четвертому курсу первых оставалось все меньше, а вторых становилось все больше, причем цепная реакция браков на третьем и выпускном курсах, как и штампованного стремления обрести членство в КПСС, лицемерной и деспотичной партии Советов, оказалась неодолимой. И все больше появлялось перебежчиков из одного стана в другой, втайне покусывающих губы за свою былую тарабарщину. К этой когорте, к немалому удивлению Игоря, присоединился изысканный Антон Терехов, который на втором курсе безудержно рассказывал о чрезвычайно успешной реализации своей эротической одержимости в отношениях, как он выражался, с одной ужасной развратницей. С глумливой улыбкой своим хорошо подвешенным языком он описывал и ее заботливое кормление себя с ложечки, когда она сидела у него на коленях, и потрясающе яркие нюансы их разнузданных слитий, и выразительность табуированных для многих, иных форм секса. Но к концу третьего курса Терехов стал неожиданно сдержан во время окопных рассказов. Настолько, что даже на вопросы орды смакователей, привыкших бесцеремонно стоять у окошка чужой спальни, перестал отвечать внятно и поспешно уводил разговор в другую плоскость. Каков же был шок Игоря, да и остальных тоже, когда на выпускном курсе славный мушкетер витиевато объявил, что женится… Естественно, на своей Анжеле, которая за полтора года сумела преодолеть дистанцию от любвеобильной сучки (так он величал ее на старте отношений) до подруги жизни. И все стали вдруг лицемерными джентльменами, а на свадьбе искоса, с плохо скрываемым любопытством поглядывали на блистающую наливными формами Анжелу, почему-то видя ее в своем грешном воображении преимущественно в тех непристойных позах, которые так увлекательно, в утонченно-красочных иллюстрациях описывал ее легкомысленный любовник. Сам он, чудесным образом превратившийся в картинного супруга, упражнялся в креативности свадебной постановки. Все бы это не вызвало в душе Игоря бури возмущения, негодования и бессильной ярости, если бы ярый женоненавистник Иринеев не зафиксировал волшебное превращение сослуживца. А замкомвзвода был мастер использовать чужие слабости. Он столь безжалостно лупил язвительным словами, как молотом по голове, при каждом удобном случае глушил сардоническим потоком из своего глумливого брандспойта, что сумел придать образу Терехова тухловатый привкус. Игорь знал причину – Терехов шел на красный диплом, превосходил тщеславного старшего сержанта во всем, но тут поплатился за открытость и несдержанность своей добродушной и настежь распахнутой натуры.
Удручающий опыт товарища явился для Игоря не просто шоком, но осязаемым травматическим уроком. Он навсегда приказал себе быть зашнурованным, как ботинок десантника во время прыжка. Он почему-то испытывал стыд и боль за Антона Терехова, легко распознавая в его былой вульгарности донжуана всего лишь защитную реакцию от самой этой окопной среды. Размышляя над «расстрелом» Терехова из мизантропической пушки замкомвзвода, Игорь сначала не мог понять, как человек из культурной семьи, обладающий утонченным восприятием мира, мог в течение долгого времени совершать такую оплошность. «Да он специально это делал, чтобы с Иринеевым и Корицыным быть в доску своим, – обронил однажды Алексей, когда они случайно коснулись этой темы, – к чему стремился, на то и напоролся». – «И точно, – подумал тогда Игорь, – ведь это долгая жизнь в толпе подорвала его индивидуальную этику, уничтожила с корнем его былую склонность к рыцарству и картинным оформлениям действительности, заменив очарование и пестроту беллетристики навевающими грусть штамповками и отталкивающими нормального человека крепкими эпитетами. Но таким, как Терехов, которые здесь оказались в меньшинстве, почти невозможно бороться с иринеевыми, лишенными морали и стремящимися к племенному промискуитету, простейшей форме удовлетворения своих плотских желаний в человеческой стае».
Но Игорю было наплевать на все советы и рекомендации. Единственным человеком, с которым ему хотелось говорить на эту щекотливую тему, был Алексей. Особенное вдохновение к теме любви у товарищей появилось, когда в жизни Алексея возникла Аля. Завороженно Игорь слушал каждое слово друга, всякая мысль о человеческих, межличностных отношениях становилась для него сокровищем, любая идея обдавала гипнотическим ароматом идиллии. Игорь ловил себя на мысли, что он ничего не знает об этой важнейшей части человеческого бытия, не сведущ даже в самых простых вопросах. И потому, очарованный пережитыми тактильными ощущениями друга, он собирал кристаллы и создавал собственный узор, пригодный для своей амурной болезни, к которой он стремился с настойчивостью магнитной стрелки компаса. Вскоре Игорь уже точно знал, какая жена ему нужна. «Она должна быть надежная, как чека гранаты», – сформулировал он однажды. «А еще?» – спросил Алексей. «И все. Этого вполне достаточно».
Глава шестая
(Кировабад, 345-й полк, август – сентябрь 1989 года)
1
– Ну что ж, лейтенант, сразу предупреждаю: не сладко тебе придется. Вон, видишь, группа полувоенных людей у казармы?
Тут кэп, командир полка, властным жестом ткнул пальцем в окно, грязное снаружи от вечных пыльно-песчаных ветров Закавказья. Через стекло вдалеке, по другую сторону плаца, хорошо были видны фигуры солдат в желтых песчанках с множеством карманов. При виде своей будущей роты сердце молодого лейтенанта сжалось, он весь напрягся, как перед боем. Выйдя из казармы, солдаты лениво, как тараканы, расползались по местности. Одни вразвалочку кружили возле, другие присоединялись к курильщикам, третьи толпились без всякого смысла возле входа казармы. Игорь видел, как перекосилось лицо командира от негодования, словно у рачительного земледельца, который увидел на своем поле безбоязненно поднимающуюся стену сорняка, до которого не имел возможности пока дотянуться. Не ускользнуло от новоиспеченного командира взвода и то, с какой досадой полковник взглянул на громко тикающие круглые часы над дверью своего кабинета, как бы давая понять, что время и так расписано по минутам, но человек не в силах, как говорил известный книжный герой, объять необъятное. Игорю стало больно и скверно на душе, он тут же поклялся себе, что ситуацию, по меньшей мере в своем подразделении, он исправит. Тем временем командир подошел к столу, взял огромную чашку с зеленым чаем, неизвестно как умещавшуюся на маленьком блюдце с навязчивым отпечатком чайного круга, и быстро, с характерным звуком, по-крестьянски отхлебнул, а затем продолжил объяснение местных порядков хриплым грудным голосом:
– На обед уже собираются, хотя еще почти полчаса до построения. Будут курить, маяться. Седьмая рота – это сатанинская рота, полковое логово нечисти, канализация. Впрочем, как и весь полк – только что выведен из Афганистана, его бы расформировать да заново новый набрать… Ну, да ладно… – Кэп громко, не стесняясь лейтенанта, отхлебнул чаю из чашки. – Почти половина седьмой роты – афганцы, и они видят мир исключительно через стеклышко зацепившей их войны. Все себя мнят героями, больны завышенной самооценкой и думают, что Родина им должна. Хотя многие ничего толком не умеют, живут приобретенной до них славой и укоренившимися правилами дедовщины. Правда и в том, что в роте трое или четверо с орденами, и Красные Звезды у них в целом заслужены. Но это не значит, что с ними надо сюсюкать. Начнешь заигрывать – пропадешь. А они тебя обрабатывать будут! Готовься! – Кэп повысил тон, но, метнув короткий стреловидный взгляд на насупленного съежившегося лейтенанта, несуразно выглядевшего в своей парадной форме с рубашкой цвета свежевыпавшего снега, совершенно дикого, немыслимого здесь в пустыне, опять вернулся к прежней, спокойной манере разговора. У Игоря же, внешне бесстрастного, только немного побледневшего, мысли кружились каруселью и сбивались в невообразимый хаос. «Вот оно, начало, неотвратимое, которого так долго ждал, о котором думал, мечтал. Справлюсь ли? Точно справлюсь, иначе бы не ехал сюда, в эту дикую глушь!» Ему все-таки было страшно. Как это он придет, начнет командовать ротой разнузданных, но заслуженных афганцев, уже знающих запах войны и крови? Как он будет утверждать себя среди них? Ведь Красная Звезда на груди, он помнил это по Шуре Мазуренко, многое позволяет, действует, как солнечный свет, режет глаза окружающим…
А кэп – сам получивший в Афгане звезду Героя и ставший в ВДВ живой легендой – тем временем невозмутимо продолжал:
– Командир роты формально имеется, но в настоящий момент в госпитале, болеет, а вообще, служить, по-моему, не собирается. Есть зам по воспитательной работе, пугливый старлей из Новосибирска. Немного подавлен суровой действительностью ВДВ, но в целом на него опереться можно, парень неплохой. Ну, зато ты – рязанский, а значит, на месте разберешься. Кто Рязанское закончил, тот выдержит. Если, конечно, захочет. Через неделю зайдешь лично ко мне на доклад – относительно дел в роте, напрямую, независимо от непосредственных начальников и комбата. Мне нужен свежий взгляд. Да и на тебя взглянуть не лишним будет… Все ясно, командир первого взвода седьмой роты?!
Полковник пристально осмотрел Игоря оценивающим взглядом, пытаясь понять, что скрывается за его безукоризненно отутюженной белой рубашкой с золотистыми погонами, что за мысли упрятаны за упорным взглядом.
– Так точно! – выдохнул Игорь, стушевавшийся и готовый упасть в обморок от избытка информации и стремления начать службу в самой гиблой роте. Во рту у него пересохло. Ему, впервые в жизни оказавшемуся в кабинете командира части, все казалось дивным: и старый, аэродромом раскинувшийся на треть кабинета, прямоугольник стола, и слегка покосившийся шкаф с документами, и неприступный, тускло-стальным взглядом взирающий на людей громадный сейф. Все вещи тут выглядели внушительно, лапидарно и имели четкое практическое предназначение; ничего лишнего, никакого намека на роскошь или украшение помещения. И все же в этом кабинете, в каждом его уголке и на каждом сантиметре стола чувствовалась грозная, величественная, захватывающая энергетика героя, и освободиться от ее влияния ему, Игорю, вдохновленному картинными историями об афганском полке и его командире, было не под силу.
Сам командир, Василий Васильевич Пименов, чем-то походил на непритязательного, несокрушимого спартанца. Невысокого роста, плотно сбитый и подвижный, он прослыл человеком крутого, но справедливого нрава. Мог явиться ночью и неожиданно проверить караул, перепугав одним своим видом; мог заглянуть в столовую, устроив там переполох. Придя в полк, грозный полковник заставил всех офицеров сдавать нормативы, чем вызвал недовольство одних и уважение других. Однажды, застав весьма авторитетного в полку капитана в наряде в хмельном виде, без сомнения отправил его на гауптвахту. Зато в другой раз, когда у солдата не раскрылся на прыжках парашют и он сумел приземлиться на запасном, не раздумывая и не разбираясь в причинах происшествия, предоставил ему на десять суток отпуск. И не дал ходу делу, когда полковое расследование показало: чтобы отличиться, солдат сам пошел на такой шаг, перевязав себе пучок строп шнурком. Игорь хорошо знал, как, будучи майором-комбатом, его теперешний командир обеспечил разгром крупной базы афганских мятежников. Возглавив полк, не зазнался, не забронзовел и по-прежнему вызывал уважение как неординарная личность.
Кэп во время коротких монологов прохаживался по кабинету, как хищный зверь в клетке зоопарка, возбужденный назойливыми посетителями. Иногда создавалось впечатление, что полковник разговаривает сам с собой, словно размышляя вслух. Он казался Игорю невероятно живым, поджарым и абсолютно не похожим на привычных училищных полковников, тяжелых, с отвисшими лицами, на которых чаще всего прочитывался притупившийся интерес к жизни. В этом же был иной химический состав. Острый изгиб подбородка, тонкие, такие же острые формы небольшого носа, ромбовидные скулы и резкие, уверенные жесты выдавали в нем жесткого командира и упрямого человека. Да и форма его с трехзвездными погонами, хотя и была заношена и не блестела натертыми металлическими частями, все же какими-то едва видимыми штрихами подчеркивала, что перед ним бывалый вояка, подлинно боевой, а не книжный командир. Все на нем и вокруг него несло печать выверенного и четко поддерживаемого порядка, и впечатление о нем у Игоря не испортили даже свежие, утром выступившие соляные разводы под мышками на светло-зеленой рубашке без рукавов, основательно выбеленной постоянно висящим над Кировабадом солнцем.
– Если возникнут проблемы, разрешаю прийти раньше. Меня дела в этой роте очень сильно беспокоят. Фактически за ротного и будешь… пока. После обеда на построении полка представлю тебя твоему комбату, а пока знакомься с личным составом, не теряй времени.
– Разрешите идти?
– Давай, дерзай, лейтенант! – махнул рукой полковник, и в его глазах мелькнула тень сомнения к чрезмерно козыряющему лейтенанту. Колючий взгляд командира спрашивал: «А кроме «Есть!» и «Так точно!», лейтенант, что еще умеешь делать? Ладно, посмотрим на тебя через пару дней…»
Игорь выбрался из кабинета и ладонью вытер испарину на лбу. Церемониал представления занял всего несколько минут, но от напряжения он чувствовал себя опустошенным, выжатым. Безумно захотелось прислониться спиной к прохладной, выкрашенной в неясный цвет стене и постоять пару минут, закрыв для верности глаза. Да нельзя, накрахмаленная рубашка вмиг почернеет. Он ощутил, как от всеохватыващей духоты струйка пота стекла под майкой между лопаток. То ли еще будет! Как же они тут служат в этом вечном пекле?! Узкий и длинный, как тоннель, штабной коридор был пуст, и напряжение как-то сразу отпустило Игоря, он обмяк, расслабился и до лестницы прошел совсем не молодцеватой, а даже острожной походкой, сам пугаясь громыхания тяжелых подкованных сапог по грубому дощатому полу. Игорь думал о впечатлении, которое произвел на командира полка. Правильно ли он представился? Вроде все сделал, как учили. Но, кажется, строевой подход тут ни к чему, смотрелся глупо и бездарно… А даже по тому, как кэп относился к формальному соблюдению иерархических почестей, Игорь угадывал конкретного прагматичного человека, ценящего реальные достижения гораздо больше обрамляющей их бутафории.
Через несколько минут молодой лейтенант уже шел под выжигающим все живое огненным шаром, неминуемо приближаясь к пресловутой седьмой роте. Хотя он взбодрился и настроился на непримиримую борьбу неизвестно с кем, внутри у него все кипело, клокотало, натянулось канатом, в голове все смешалось, и он даже не знал, с чего начать.
Одного взгляда на непочтительно глазеющих на него бойцов было достаточно, чтобы понять: училищные методики, строгость и муштра тут не покатят. Нужна хитрость, сноровка. К черту, сначала прощупать, чем они дышат…
– Товарищ лейтенант, а вы не наш часом? – На Игоря насмешливо и любопытно смотрели большие черные глазищи солдата без головного убора, но с вьющейся молодыми виноградными стебельками шевелюрой. Эх, взять бы за эти кучеряшки, да обрить голову наголо, вот тогда бы знал, как к офицеру обращаться. Но внутри Игорь чувствовал себя неуютно, даже скверно и подавленно и потому спросил просто, не выдавая эмоций:
– Какая рота?
– Седьмая… – прозвучал незамедлительный ответ, после которого черные глаза опять испытующе, с невероятной бесцеремонностью впились в молодого лейтенанта, пытаясь заглянуть ему в душу. Игорь не заметил, как прошел нужную ему казарму, и теперь чувствовал, что находится под прицелом множества заинтересованных взоров, изучающих его как экзотический экземпляр человеческого рода. В самом деле, в парадной форме он и в цивилизованном месте выделялся бы, а тут, на обочине советской империи, такой внешний облик раздражал, напоминая, что где-то, на недостижимом отсюда расстоянии, находится совсем иной мир, наполненный пестрыми красками и яркими цветами.
– Значит, к вам, – коротко ответил лейтенант. Он сразу уловил скытый подвох в словосочетании «наш лейтенант», бывалый солдат с первой секунды послал ему плутовской сигнал «не мы ваши, а вы – наш». Что означало лишь то, что принимать его за своего начальника только из-за того, что он носит офицерские погоны, никто не намерен. И поэтому Игорь мимо воли испытал раздражение и неприязнь к солдату, которые он, однако, решил приберечь до поры до времени.
– Ну, что я вам говорил! Нам лейтенанта прислали! – повернув голову к разбросанным по казарменному пространству сослуживцам, почему-то радостно возвестил солдат. И тут же обратился к Игорю, не давая ему опомниться.
– А вы из Рязанского? – участливо поинтересовался он, сунув для верности правую руку в глубокий карман песчанки. В фамильярном жесте сквозило желание протестировать командира на прочность, зажать его в тиски неожиданных обстоятельств и, пока тот еще не знаком с местными порядками, навязать ему свою игру.
Игорь видел, что ситуация развивается по невыгодному для него сценарию. Изменить правила, сверкнуло в голове, и как будто высветилась перед глазами горящая строка: срочно взять инициативу в свои руки!
– А в котором часу обед? – спросил Игорь вместо ответа. Намеренно задал вопрос о приятном и не ошибся, солдат проворонил ситуацию.
– Для нашей роты в тринадцать сорок.
Игорь взглянул на командирские часы с кумачовой звездочкой на циферблате – до обеда оставалось еще чуть больше пятнадцати минут.
– Давайте так сделаем. Вы построитесь повзводно, по штату, познакомимся, и я отведу вас на обед. Есть в роте старшина?
Игорь увидел, как неприятно сморщилось обветренное лицо солдата при словах «отведу вас», но, очевидно, любопытство взяло верх.
– Старшина-то есть, но он в каптерке. На обед не пойдет, потому что плохо себя чувствует. А роту я построю. – И, демонстративно не вынимая руку из кармана, опять повернул голову в сторону и возвестил грозным голосом: – Эгей, мужики, строиться на обед! Повзводно!
Вскоре рота построилась. Впереди во взводах стояли пугливые молодые солдаты, угловатые и нескладные, затюканные стариками и потому услужливые, в замусоленной одежде с отвисшими на коленках и задах брюками. Сзади гурьбой, мало напоминавшей строй, толпились необузданные старослужащие. Игорь удивился, что некоторые из них были без кителей, прямо в черных майках. А один вообще наповал сразил молодого лейтенанта: прямо к майке в районе груди у него был прикручен орден Красной Звезды, а вместо кепки он нахлобучил на голову широкополую шляпу, какую носят пограничники. Вот эти-то парни в майках и составляли ядро постоянно действующей против армейской дисциплины оппозиции; они были беспредельно наглы и вели себя с откровенным вызовом в каждом жесте и каждом слове. Любое их движение заключало в себе демонстративное противоборство, форму постафганской самореализации. «Даже не войско, а туземное племя, – с досадой заключил про себя Игорь. – Так просто их не взять – нужна крепкая, длительная осада, как основательно укрепленной крепости, нужен таран, которым можно пробить ворота непонимания, сделать бреши в стенах неприятия всего, что составляет основу армии, ее управления, ее незыблемую дисциплину».
К вечеру напряжение Игоря еще более возросло. Его представили командованию батальона, похожему на штаб подразделения. Комбатом оказался относительно молодой капитан Шницын. Увидев его впервые, Игорь подумал, что такие в других частях еще ходят в ротных, а этот уже дослужился до командира батальона. Самоуверенный и амбициозный, с неподражаемым апломбом, он, однако, действовал поверхностно, не вникая в корневую систему военного организма. Ему нужны были пристойные результаты стрельб, отлично выполненные прыжки, отремонтированные, свежевыкрашенные казармы и отсутствие чрезвычайных происшествий. Его интересовало только то, что составляло основу, суть карьерного роста. В помощниках у него числились хронический безнадежный алкоголик – зампотех, давно уставший от службы и, вероятно, от самой жизни, майор Сеньцов, который, впрочем, превосходно разбирался в устройстве боевой машины десантной и был способен обеспечить выход из парка батальонных БМД. И как водится, воспитатель, хитрый колдун, худой и сгорбленный, как кощей, брызгающий на всех окружающих серо-зелеными, глубоко проникающими лучами из выпученных, невероятно зорких глаз-прожекторов. Этого майора со странной, но хорошо запоминающейся фамилией Стериопало (и Игорь сразу уловил обстановку) опасались батальонные офицеры и стороной обходили старослужащие солдаты. И не зря. Учтивый до лести, слащавый до приторности, с эластичной улыбкой, старательно формируемой тонкими губами, он производил недвусмысленное впечатление человека непредсказуемой взрывоопасности, как радиоуправляемый фугас. Вот только кнопка управления детонацией находилась неизвестно где.
Познакомился Игорь и со своим коллегой, заместителем командира по воспитательной работе, который представился коротко и мягко: Саша. «Из интеллигентов», – тотчас подумал Игорь и не ошибся. Воспитатель не только всем своим видом показывал, что не претендует на роль хозяина в роте, но и сторонился подчиненных, обходя по возможности заведомо острые углы. А когда Игорь случайно увидел торчащий из офицерской сумки корешок художественной книги, то ему все стало ясно. Надеяться на этого не стоит… Поздно вечером Игорь пересчитал оружие в оружейной комнате и понял, что бороться с ротой ему придется один на один. За ротой числились семьдесят четыре автомата, четыре пулемета и четыре ручных гранатомета; он же обнаружил в несгораемых шкафах семьдесят шесть автоматов, а затем на одном из шкафов – еще один «лишний» пулемет. Командир первого взвода озабоченно почесал затылок. Если в расположении роты такое творится, что можно обнаружить в полку, в тайниках внутри боевых машин, например? Патроны и гранаты, вне всякого сомнения! Интересно, знает ли кэп про неучтенное оружие в полку, эдак ведь кто угодно может сбыть его местным криминальным структурам?! У училищных методистов, наверное, челюсти бы отвалились, если бы они про такое прослышали… Когда глубокой ночью после невероятно долгого первого дня службы Игорь возвращался в офицерское общежитие, то уже не обращал никакого внимания на скудную растительность, стоящие в пыли низкорослые, совсем не такие, как он привык видеть в Межириче или Рязани, деревья. Он все еще брезгливо морщился от хлестких порывов ветра, несущего все ту же мелкую, проникающую, кажется, в каждую клеточку песчаную пыль. И все-таки Игорю казалось, что он здесь, на этих задворках цивилизации, находится целую вечность, что Кировабад уже стал его миром, навечно влез в его сознание. И только нестерпимо грязная, уже совсем не белая, абсурдная в этих условиях парадная рубашка напоминала, что он еще только-только прибыл к новому месту службы. Взглянув на темные разводы на рубашке под одним из фонарей, Игорь улыбнулся: ему не было жаль замаранного белого цвета, потому что он хорошо знал: цвет новой, неотвратимо надвигавшейся жизни не был белым. А парадная рубашка не скоро ему понадобится.
2
Ранним утром, за четверть часа до подъема, в пять сорок пять, неугомонный лейтенант уже был в роте. Вечером он полагал, что ночью многое передумает, приступит к созданию какого-либо плана. Но едва голова коснулась подушки, как он улетел в невесомость сна и очнулся только от пронзительного звона большого механического будильника, который способен был разбудить все офицерское общежитие. Идя в часть, он ежился: холодный серый рассвет казался мерзким, пронизывающим насквозь. Полоска дымчатой облачности застилала горизонт. И как только может дневная жара чередоваться с таким собачьим холодом? Одно только радовало: были любопытно наблюдать за застывшей природой, даже листья на кустах замерли, словно ошеломленные приходящим днем и несущимися с ближайших гор пыльными ветрами. Но, построив роту на зарядку, Игорь не обнаружил шестерых дембелей. Еще человек двенадцать из старослужащих поднялись и пошли в строй в тапочках, явно давая понять, что утренний кросс для них – что-то из области фантастики. Они и без того плелись в строй обозленные из-за прерванного сна и походили на порыкивающих собак, решающих, стоит ли буянить и затевать драку. У сторон пока было слишком мало информации друг о друге, и поэтому они шли на компромиссы, отделываясь тихим ворчанием под нос или претензиями, выбрасываемыми в пространство. «Ну, что ж это за жизнь такая, мать вашу, настала?!» – такие крики, снабжаемые шквалом отборной нецензурщины, то и дело раздавались из глубины казармы при подъемах. Игорь прекрасно понимал, что за этой бранью стоит еще не выработанная политика старослужащих в отношении его самого, сомнения солдат, которым с первых дней службы вбивали в голову необходимость подчинения офицерам и которые уже готовы выйти из-под контроля любой власти. Игорю стало ясно: настоящее столкновение не за горами. А произошло оно буквально через неделю после появления в роте командира первого взвода, совсем непримечательным утром, после того как въедливый лейтенант понял, что дембеля прячутся от него по утрам в каптерке – большой кладовой, предназначенной для имущества роты и совмещенной с небольшим помещением для просушки вещей. Как выяснилось, изобретательные солдаты соорудили там спальное помещение для избранных и переходили туда досыпать на наваленные на пол матрацы до самого завтрака. Вряд ли им было уютно, но игра переросла в борьбу принципов, изводящий армреслинг. Офицер решительно отобрал ключи от каптерки и мягко намекнул старшине, что его придется заменить, если тот не будет пришпоривать роту.
– Да что вы, товарищ лейтенант, ей-богу, хотите, чтобы рота строем ходила, как у вас в училище?! – Старшина вздыбился, как ретивый, стянутый уздой конь. Было такое впечатление, что еще чуть-чуть, и из носа у него повалит пар негодования. – Молодые вот пришли, их и третируйте. А мы свое уже отслужили. И отвоевали! Эти люди, которых вы хотите заставить кросс бегать и шагать на плацу, кровь живую видели, умирали на войне, от которой теперь государственные мужи отмахиваются. Оставили бы нас в покое, мы вам обеспечим и порядок, и все остальное. По нашим, афганским правилам. У нас сейчас и имущество в избытке, и боевая подготовка не хромает, чего не скажешь про другие роты.
«Ну и горазд же врать старшина, – думал Игорь, глядя на взрослое, табачного цвета, как у индейца из американского кинофильма, лицо сержанта, – только дай слабинку, живьем съедят тотчас. Проглотят, как крокодил зазевавшуюся жертву. Какая уж тут боевая подготовка, когда солдат в строю в майке шлепает…» Но убеждать уставших от службы солдат, которым давно ослабили удила, все равно что толочь воду в ступе. Игорь хорошо понимал это. Нужен хитроумный ход, нужна ловушка, действующая подобно удавке. Иначе он с ними не совладает.
– Может быть, я бы и принял такую позицию. А еще лучше – отправил бы всех афганцев по домам. Но только не я такие решения принимаю. А вы остальную роту разлагаете. Потому выхода у меня другого нет, как требовать одинаково от всех.
– Зря вы так, товарищ лейтенант. Потому что ничего из этого не выйдет. Только себе нервы будете портить, глупости военные тут никому не нужны.
Глаза старшины бесовски сверкнули, и из них на Игоря посыпался поток злых искорок. Он почувствовал в голосе солдата, озвучивающего идеи старослужащих, скрытую, пока еще дремлющую, но готовую прорваться наружу угрозу. «Откуда у них, у этих вчерашних детей, такая решимость на лицах, – думал Игорь про афганцев. – И на что он намекает, на то, что в хозяйстве роты будут недочеты? Пожалуй, надо переселяться в казарму», – размышлял молодой командир, все более хмурясь. Ему казалось, что неотвратимая развязка совсем близко и перевес явно не на его стороне. Надо придумать нечто сногсшибательное, что поменяет отношение к нему. Что вынудит этих оболваненных войной людей достойно дослужить срок, не уронив его, Игоря, командирскую честь. И не допустив унижения их человеческого достоинства, ведь они все-таки за Родину кровь проливали… Вот о чем идет речь, а не о каких-то там частностях в виде строевой или любой иной подготовки. Если бы это было в соседней роте, он бы закрыл глаза на позор армии, на ее тотальное разложение. Но коль уж он попал сюда, то его долг, его миссия – изменить ситуацию вокруг себя, потому что, в конечном счете, стоит вопрос о его добром имени, его офицерской состоятельности. С чего же начать, черт возьми?! Чем глубже он копал, тем большее возмущение вызывали беспорядки в глубине больного, насквозь прогнившего организма армии. На третий день Игорь уже знал, что старики заставляют молодых бойцов по ночам работать, стирать им, гладить, посылают в столовую жарить картошку с ворованным из общего котла мясом. А то и просто так издеваются. Например, для забавы проводят импровизированные состязания на «лучшего крокодила» – это когда все молодые бойцы по команде дембеля упираются руками в одно быльце кровати, а ногами – в другое. Игорь в воображении своем рисовал издевательские сцены: напряженные тела вчерашних подростков дрожат от усилий под веселые, а может, и пьяные ухмылки и зубоскальство «стариков». Потом солдатики ползают по деревянному полу наперегонки, чтобы дембеля погоготали вдоволь. Пинки, зуботычины, злобная ругань… Есть еще «электрический стул», гонки с табуретами, да мало ли что еще – фантазия «стариков» всегда растет по мере отлынивания от дела. Это были примитивные молодые люди, которых вырвали из своей среды, несомненно рабоче-крестьянской. Студенты, как правило, предпочитали увиливать от армии, имеющие средства – откупались. Эти же и дома-то еще не сформировали для себя цели и ориентиры, а тут их окончательно сбили с толку. Разложение роты, полка, армии давно приняло системный, необратимый характер, и не ему делать революцию. Но и оставить все немыслимо! Тогда уж лучше вообще отказаться от военной службы и офицерской карьеры. «Каждый должен честно выполнять свою работу на отведенном тебе маленьком участке», – полагал молодой лейтенант. Наступил момент, когда важным для него стало не одобрение и признание начальников, а вопрос собственной выживаемости. Ибо он с положением дел мириться не хотел, солдаты же не только не желали идти на уступки, но, напротив, перешли в наступление. И ребята эти оказались не из робкого десятка, ведь Афганистан пробудил в них воинственное, сугубо маскулинное, милитаристское начало. И деть их некуда, до увольнения в запас последних афганцев оставалось как минимум три-три с половиной месяца. Да если он ничего не придумает, за этот период они его живьем съедят…
Пружина разжалась с угрожающей быстротой, как водится, утром. Как обычно, в шесть утра прозвучала команда «Подъем!» и командир взвода строил роту в расположении.
– А этот здесь уже? – не открывая глаз, проворчал в полусне один из замкомвзводов стоявшему рядом дежурному по роте и, услышав короткое «Да», громко простонал: – У-у, пидор, не угомонится никак.
– Дежурный, разбудите старшего сержанта Прившина, сообщите ему на ухо, что его рота ждет, – скомандовал Игорь молодому сержанту.
Насчет построенной роты командир взвода, конечно, преувеличивал, потому что в строю к тому времени стоял только молодой состав. Дежурный по роте помялся и в нерешительности посеменил к кровати дембеля. Боязливо подкрался на цыпочках, по сформированной и укоренившейся щенячьей привычке. Осторожно тронул его за плечо, нагнулся и жалобно промямлил:
– Александр Иванович, – тут он вдруг осекся, – товарищ старший сержант, тут подъем, и товарищ лейтенант требует вас.
Не поднимая головы, старослужащий прорычал громко:
– Идите со своим лейтенантом вместе… – тут он во всех непереводимых подробностях обозначил, куда и как далеко идти дежурному и вместе с ним надоедливому лейтенанту.
Кровь волной прибоя хлынула к голове Игоря и хлестким шлепком ударила в виски. Он больше не колебался. Оттолкнув дежурного, он вдруг ухватил за ножку табурет, сбросил с него аккуратно уложенную одежду старшего сержанта и, приподняв над головой, со всего размаху врезал им по укрытой одеялом голове.
– А-а-а! – истошный крик, переходящий в глухой рев, вмиг раздался в казарме и, как показалось самому Игорю, выскользнул в открытые форточки и понесся дальше по всему плацу, оповещая всех обитателей полка о том, что в седьмой роте свершилось что-то неординарное, сверхъестественное, знаковое для всех. Старший сержант Прившин в состоянии болевого шока вскочил с кровати и ошалевший, с перекошенным лицом, держась за ухо и все еще не понимая, что с ним произошло, побежал к умывальнику. Из его уха обильно сочилась кровь, буйная струйка которой быстро пробила себе путь к бычьей шее возмутителя спокойствия. Игорь же, сам озверевший и потерявший терпение, метал громовые тирады в адрес всех тех, кто еще не встал в строй. Он все еще не выпускал из рук табуретку, которая – и все видели это очень ясно – могла немедленно найти применение в случае малейшего неповиновения. «Старики» не спеша, тихо, с сохраняемым достоинством встали в строй, предпочитая не связываться с обезумевшим офицером.
3
Дальнейшие события развивались с необыкновенной стремительностью. Весть о чрезвычайном происшествии быстро распространилась по полку, обрастая слухами и небылицами. Батальонный воспитатель, вкрадчивый и язвительный, вызвал командира взвода на откровенную душещипательную беседу, суть которой сводилась к призыву публично покаяться и необходимости офицерской инквизиции в виде общественного суда за небывалую для взводного дерзость. Игорь понимал, куда клонит майор – главным делом интригана в майорских погонах было переложить ответственность со своих манерных, почтительных плеч на любые другие. «Репутация штаба батальона, – и майор Стериопало заявил это прямо, – это вам… сами понимаете…» Боязливый идеолог в погонах был готов сколь угодно много оболванивать окружающих тяжеловесной пропагандой, но когда в воздухе пахло дымом, предпочитал предать анафеме, похоронить заживо кого угодно. Только бы ничего не изменилось в его размеренной жизни. Комбат, кажется, принял сторону искушенного в подобных делах майора, особенно когда из санчасти доложили, что у сержанта перебита барабанная перепонка и, по всей видимости, потребуется операция. Если так, дело могло выползти за пределы полка, и только его командир мог теперь разрешить возникшую головоломку. Но кэп был на каких-то сборах, и ни начальник штаба, ни заместитель командира полка не решались разрубить гордиев узел. Командира ждали на следующий день, так что, как возвестил замполит полка, утро вечера мудренее.
Несмотря на усталость первых дней, ночью Игорь проснулся от шума поезда на железной дороге. В офицерской гостинице наконец стихло – очередная офицерская попойка, организованная то ли от глупости, то ли от ощущения безысходности, только недавно завершилась. Кое-кто завтра не выйдет на построение, будет отлеживаться и рассказывать посыльным, что отравился. Кому-то сойдет, а кому-то нет. Кто-то, по всей видимости, для себя уже решил, что вообще не будет служить. Потянет волынку несколько месяцев, денежное содержание платят исправно. А потом будет выбираться из этой богом забытой дыры, черного провала, невидимой глазом трещины на карте мира.
Может быть, зря он приехал сюда, в ютящееся на задворках жизни Закавказье? Может, лучше было бы поехать в цивилизованное место, в Псков или Тулу? Ведь стоило только слово сказать дяде… Так и сейчас еще не поздно: приди на телеграф, набери домашний номер дяди в Рязани, и через месяц будешь в пристойном месте. Даже на родной Украине, как Горобец. Ох и хитрая матерая Птица, полетела на теплую благодатную Украину, между Кировабадом и Кировоградом выбрав последнее… Поехал в Кременчуг, в кадрированную десантно-штурмовую бригаду, в двух часах от дома. А как радовался, дурачок! «Жизнь нам дается один раз, и прожить ее надо на Украине». – Игорь вспомнил, как щекастый Петя Горобец передразнивал Островского, которого их заставляли учить в школе. А у него не повернулся бы язык просить. И не повернется! Это во-первых. А во-вторых, о чем это он вздумал жалеть?! Разве не он сам отвечает за мир, в котором живет? Разве не воздастся каждому ровно в той степени, в какой он направил свои усилия на изменение мира вокруг себя, на его улучшение, на достижение высоких целей своих? Именно так говорила мать, и так наставлял отец. Он осознанно взял ответственность за себя, сделал свой выбор, потому что здесь настоящая служба, только пройдя сквозь дерущую горло пыль, сквозь вечный оскал солнца, сквозь дрянь старой казармы и подванивающей гнилью столовой, можно показать, на что способен. Стать кем-то в этой жизни, приблизиться к героям, о которых мечтал. Жуков. Суворов.
И во мраке ночи, напряженно думая, как победить разнузданную толпу, которую объединяет лишь общее название «Седьмая рота», Игорь придумал совершенно неожиданный, весьма любопытный план. Только бы кэп разрешил…
Утром лейтенант Дидусь, как и ожидал, был вызван в штаб полка. Он приготовился к основательной эмоциональной взбучке, но командир, внимательно оглядев его, спросил:
– Что, лейтенант, в тюрьму желаешь?
– Никак нет, товарищ полковник.
– Дело подсудное, и если родители этого сержанта или он сам повернут в определенную сторону, защищать тебя не станем, понимаешь это?!
– Так точно.
– Да что ты раскудахтался?! Давай по существу докладывай! – приказал кэп, раздражаясь и метая время от времени короткие испепеляющие взгляды в сторону застывших с похоронными лицами командира батальона и воспитателя.
И командир взвода коротко доложил обстановку в роте, стараясь не детализировать негатив, но четко обозначить проблемы. В конце вместо того чтобы кротко ждать приговора, Игорь вдруг изложил свой план перевоспитания роты, который разработал накануне ночью. План этот казался бы сумасшествием в нормальной воинской части, но не в условиях полка, распластавшегося в сухом предгорье Кировабада. Заключался он в отправке роты на бессрочное занятие по тактике в район далекого безводного полигона Герань, в нескольких десятках километров от города. Вместе с единственным офицером – командиром первого взвода лейтенантом Дидусем, который рискнет провести это тактическое занятие.
– Что скажешь, комбат? – с прищуром спросил командир полка капитана, когда Игорь изложил свою идею.
– Скажу откровенно – она мне не по душе. И может, среди прочего, принести новые ЧП.
Комбат высоко приподнял подбородок, слегка, на несколько градусов отвернув лицо, подчеркивая этим свое негативное отношение к дальнейшему развитию сценария. Полковник откинулся в кресле, нещадно вдавив его крепкой спиной.
– А что скажет замполит? – кэп подчеркнуто называл майора замполитом, высказывая таким оригинальным способом презрение к племени военных идеологов.
– Извините за формулировку, очень небезопасный бред, – невнятно пробубнил замполит, основательно продавливая слово «очень», нарочно сутулясь, словно кланяясь, изобразил на лице с маслянистыми глазами суровую мину.
– Как фамилия пострадавшего сержанта? – спросил командир полка, обращаясь к комбату, как бы раздумывая и оттягивая время для принятия окончательного решения.
Комбат открыл было рот и посмотрел на юного командира взвода.
– Старший сержант Прившин, – молниеносно отреагировал Игорь, осознав затруднительное положение комбата. А про себя подумал: «Вот то-то и оно, что перевелись цезари, никто уж солдатом не интересуется». Вытянувшись в струнку, он тайком косился на командира полка, наблюдая за ним и почему-то испытывая к этому человеку все более растущую симпатию. И по всей видимости, ход их мыслей совпал, потому что кэп уверенно подвел итог:
– Знаю я Прившина. Косая сажень в плечах, харя – во (тут он руками показал ширину лица сержанта). Как два лейтенанта. И как с ними бороться, если они нас откровенно посылают (командир полка был не из стеснительных и, конечно, уточнил куда). Так вот, мне идея лейтенанта по душе, хоть и рискованная. Завтра в отъезд после завтрака. Выпишете два «Урала», путевку сегодня же подпишете у зампотеха, проверьте машины в парке. Бак с водой. Сухой паек. Наладить связь с батальоном по радиостанции. Ну и остальное все, как учили. Все ясно, товарищ капитан?
– Так точно.
4
В Герань рота прибыла засветло. С ротным воспитателем в казарме остался только старшина да один молодой боец с гниющими от фурункулов руками. В помощь по хозяйству. Разумеется, освобожден от похода был и Прившин, который лежал в санчасти. Все ж решение командира полка ясно сигнализировало и офицерам, и сержантам, что, несмотря на то что дело лейтенанта и открыто, он получил кредит доверия, который намерен был употребить для доведения начатого до конца. Спрыгнув с грузовика на каменистую землю, Игорь увидел, как взбитая ботинками сухая пыль, чем-то напоминающая порошкообразное молоко, мелким облаком взметнулась до колен. Маленький верткий скорпион с причудливо вздернутым и загнутым кверху смертоносным хвостиком, пугливо семеня ножками, понес свое хотя и мерзкое, но довольно изящное желто-блестящее туловище прочь от свалившихся с неба людей. «Ого, вот это то, что надо для тактики, – подумал Игорь, вспоминая местность по выпускному курсу, – ничего тут не изменилось за полгода. И наверное, ничего не меняется веками». Жуткая, тоскливая, скудная обстановка и клонящийся к горам, пока еще яркий шар солнца встретили странных людей с автоматами за спиной, приехавших с неведомой целью. Только мелкий кустарник с жесткими задиристыми колючками и тонкими листиками усеивал каменистые горы. Из этой пустоши, безлюдной и дикой пустыни с нарисованной горной грядой на горизонте, казармы казались верхом роскоши. Здесь нельзя было отыскать ни воды, ни приемлемой для человека пищи, невозможно и сбежать куда-нибудь, разве что в горы, которые напоминали безжизненное лунное пространство. И если подняться на вершину одной из них, то можно было увидеть, как они бесконечными темными грядами, безжалостно разрезанными дремучими ущельями и провалами, уходят вдаль и теряются, смешиваясь с линией горизонта. Но именно это и нравилось Игорю, именно к этому он стремился, ибо знал, что порой человеку нужен ад для понимания того, что обычная, ничем не примечательная реальность в действительности и есть земной благодатью.
Как только «Уралы», подняв за собой трехметровый столб пыли, скрылись из виду, лейтенант приказал ставить палатки. Но ему был уготован первый сюрприз, ловкий удар в солнечное сплетение.
– Вам надо, вы и ставьте, – резко сказал один из старослужащих и, проходя мимо палатки, с нескрываемой неприязнью пнул ее ногой. После этого жеста даже молодые солдаты отошли от палаток, робко сбившись в небольшие группки. Игорь знал почему: в нем они пока еще не видят защитника, тогда как старики могут замордовать, а то и искалечить. Но у лейтенанта в запасе были свои, заранее припасенные козыри.
– Младший сержант Хибик, вы сегодня дежурный по роте?
– Я, – вместо «Так точно» выронил сержант, который прослужил только год в армии. Внутри у Игоря опять зашевелился вулкан раздражения, грозящий перерасти в слепую ярость, но он огромным усилием воли погасил волнение.
– Захватите трос от походной оружейной комнаты, замок к нему и следуй за мной. – И командир взвода предусмотрительно взял в свои руки запасы воды, надежно зашнуровав бочку тонким стальным тросом, навесив массивный замок и забрав ключ себе.
– Вызовите ко мне замкомвзводов.
Четыре сержанта нехотя приплелись к командиру, всем своим развязным непримиримым видом показывая, что борьба между ними и зарвавшимся лейтенантом будет не на живот, а на смерть. Один из них, сержант Храмовской, уже успел где-то отловить небольшого угрюмого варана и, привязав его стропой за туловище, таскал за собой с вызывающе-наглым видом, как мелкую собачонку. Но Игорь дал себе слово, что впредь будет выдержан и последователен. В конце концов, ведь это его личная методика перевоспитания роты, одобренная командиром полка. Второго шанса кэп не даст, это он знал наверняка. Поэтому спокойным строгим голосом он обрисовал сержантам панораму предстоящего боя, приказал приготовиться к обороне, вырыв окопы для стрельбы стоя, изготовить карточки огня и выполнить еще множество мелких приготовлений. Сержанты выслушали, откровенно ухмыляясь. Они переминались с ноги на ногу, давая понять, что лейтенант зря тратит время, а один из них даже с наглым вызовом зевнул, словно спрашивая: «Ну что, товарищ лейтенант, все уже?» Другой же, старший сержант Скиба, который возрастом был ровней командиру взвода, в конце постановки задачи вдруг посмотрел на Игоря глубоким, без усмешки, взглядом аквамариновых глаз и тихо спросил:
– Товарищ лейтенант, а вы-то бой настоящий видели?
Игоря обдало ледяным потоком от этого законного вопроса и стало неприятно внутри, словно он по ошибке глотнул какой-то вонючей жижи. Но он промолчал, а потом сказал сдержанным, ровным тоном:
– Боевой практический опыт Афганистана готов внедрять при условии предварительного обсуждения. Замкомвзводам доложить по готовности. Предупреждаю, что оценка будет дана отдельно каждому солдату и каждому сержанту. Теперь свободны.
Как и предполагал отважный в своих устремлениях лейтенант, первые двое суток царил сущий хаос, неподвластный ни управлению, ни контролю, ни влиянию. Рота представляла собой чудовищный вертеп. В присутствии бывалых воинов юные бойцы стали марионетками, безропотно выгрызающими каменистый грунт. Собственные окопы они готовили днем, ночью же – устраивали для своих, похожих на уголовников, сослуживцев. Те же предавались безделью, время от времени собираясь, чтобы вместе поклевать тушенку из сухого пайка, поболтать или подурачиться с несчастными варанами, которых тут было так же много, как ящериц в украинской степи.
Лейтенант Дидусь невесело провел первую ночь на полигоне. Завернувшись в предусмотрительно прихваченную зимнюю камуфлированную куртку, он сначала долго и с откровенной тоской взирал на полосу гор, которую сначала робко и застенчиво, а потом все решительнее, настойчивее, исступленнее проглатывала мгла. Горнопустынную гряду сковали тяжелые оковы тишины, и лишь изредка откуда-то издали слышался странный пугающий звук, похожий не то на вой, не то на звериный призыв, не то на стон самой природы. «Совсем не так, как над Росью, совсем не так, как над Украиной», – с тоской подумал лейтенант, и в голове бешено несущимся метеоритом опять просвистел неумолимый вопрос: «Зачем я здесь?!» «Нет, – в который раз он отбросил сомнения, – я тут с большой и важной целью. И задуманное выполню!» Звезд не было совсем, и чем больше Игорь попадал под власть пелены, приглушающей контуры и тона всего сущего, тем более казался себе одиноким, потерянным неудачником. Ему уж больше не казалось, что он – сказочный герой, пробирающийся сквозь дебри; скорее, тот же персонаж, но только заблудившийся в буреломах и сбившийся с направления. А может, зря он, со своими принципами, явился тут с намерением переделать всех и вся?! И ничего, может быть, кроме бесславия и позора не получит?! Но как ни кружились стаей черных воронов мысли лейтенанта, они все равно возвращали его в ситуацию, в которой пути к отходу отрезаны, а он со своей ротой – одни на всем белом свете, и от результата возникшего противостояния зависит вся его дальнейшая судьба. И только когда Игорь множество раз прокрутил в голове немое кино будущих событий, он сумел заглушить тяжелые мысли усталостью и забыться на несколько часов в беспокойном сне.
Утром он опять походил на плотно сжатую пружину. Еще до рассвета вскочил и, скинув куртку, по привычке отжался несколько десятков раз, стряхнул с ладоней впившиеся мелкие камешки. После еще нескольких упражнений да привычной сигареты умылся, почистил зубы, побрился почти на ощупь, с трудом разглядывая свое лицо в маленьком осколке зеркала. Затем спокойно объявил подъем. И тут лейтенант стал замечать, как медленно менялось выражение лиц уставших, отвыкших от перегрузок «стариков» – по мере понимания серьезности уготованной им в Герани ловушки. В мятежных головах старослужащих появились первые хитроумные проекты примирения. По ночам, несмотря на сентябрь, становилось неимоверно, до нервного озноба, холодно, и дембеля инициативно организовали костер и заготовили дрова на ночь. В лагере беспорядочно выросло несколько палаток.
К концу второго лагерного дня бойцы со злобно-мрачными лицами, подобно выпущенным погулять узникам, бродили среди скудной пустынной растительности, по колено в пыли, которая поднималась до пояса при каждом шаге от пересушенной, казавшейся тревожной и изможденной земли. Игорь тоскливо, но сдержанно-спокойно взирал на солдатский беспредел, делая периодически обход и указывая на ошибки взявшимся за работу солдатам. «И как только Цезарь ухитрился за ночь возвести и лагерь и крутой вал вокруг него?» – вопрошал себя молодой командир, и ему от такого сравнения становилось душно и тошно. «Ничего, даст бог, дождемся результата. Мне спешить некуда, завтра уже будут сохнуть от жажды, когда вода на вес золота, она и спасет», – уговаривал он сам себя для ободрения. На второй день вода во флягах закончилась у всех, и сухие, рассыпающиеся в грязных руках галеты, вперемешку с горстью отвратительно хрустящих на зубах песчинок, уж не лезли в глотку ни с кашей, ни с тушенкой. Старослужащие осторожно, но настойчиво спланировав беседу, затеяли у костра задушевный разговор. Кроме трех замкомвзводов Игорь согласился на присутствие еще троих делегатов из числа наиболее влиятельных дембелей.
– Товарищ лейтенант, давайте договариваться, нам все это уже осточертело! – запальчиво начал сержант Храмовской, один из армейских авторитетов, который и не командовал никем, и никому не подчинялся. Это он, чуть ли не единственный в полку, безбоязненно щеголял в тельняшке и в шляпе с прикрученным орденом, прикрываясь внутри строя молодыми солдатами. Пока он говорил, присутствующие на сходке закурили, щелкнув дважды зажигалкой. «Берегут уже сигареты, которые заканчиваются, если только две на шестерых курят, – подумал Игорь, – совсем, как мы в училище».
– Давайте, – согласился командир взвода, сердце которого впервые после выхода в Герань радостно забилось, – мне тоже этот бардак опостылел.
– Есть деловое предложение, – услышал лейтенант вкрадчивый, с лисьей хитринкой, голос рядового Симакова, который также не занимал должностей, но находился на вершине негласной солдатской иерархии, – начинаем отношения с чистого листа. Вы нас, «стариков», до дембеля не трогаете, мы же обеспечим полную красоту в роте. Все будет просто ажурно: порядок, ремонт в казарме, результаты стрельб и так далее. Мы вам лучшую роту в полку сделаем.
Этот малый был, в отличие от остальных, щуплый, с изъеденным глубокими оспинами лицом и отрешенным, будто бы не от мира сего, взглядом. Игорь накануне отъезда внимательно ознакомился со всеми документами и характеристиками на солдат и с удивлением узнал, что Анатолий Симаков вместе со старшим сержантом Григорием Скибой пришли в армию со студенческой скамьи. Остальные в лучшем случае были выпускниками профтехучилищ, в худшем – прятались в армии от тюрьмы.
Командир взвода предполагал такое начало разговора, но готов был поиграть. Он не отвечал некоторое время, специально выдерживая долгую паузу. Он должен их всех перехитрить и переиграть. Иначе и быть не может, это он – офицер, он – командир и представитель власти. И он настроен серьезно.
– Что скажете, товарищ лейтенант? – спросил через некоторое время Симаков.
– А что думают остальные? – вопросом на вопрос ответил командир взвода.
– Остальные поддерживают Симу, – поспешил поддакнуть долговязый сержант Архипов, замкоммандира первого взвода, передавая окурок Храмовскому.
Дидусь обвел долгим пристальным взглядом всех сидящих у костра. Молодые, здоровые, решительные парни, уставшие от войны, получившие отсрочку у смерти, мечтающие о нормальной жизни. Жаждущие прикосновений к женщине, блистательных свадеб, собственных семей, трепетного писка рожденного ребенка, будущих побед. Но столкнулись с препятствием, командиром взвода, который поставил цель – добиться своего во что бы то ни стало! Сегодня они сплотились, как пауки, вокруг него, но он ведь тоже не подарок.
Игорь взглянул на небо. Ночь уже опустила на лагерь свое тонкое матовое покрывало, сквозь которое сверху струилось дивное мерцание удивленно глядящих звезд. Где-то сбоку настенным спальным торшером торчал осколок луны, да потрескивающий костер за спиной командира взвода отбрасывал заманчивые блики. Пустыня казалась молчаливой и оттого пугающей. На лицах солдат угадывалось уныние. Напряжение загнанных в угол прорывалось в каждом из них, и Игорь с удовлетворением отметил витающую над сидящими перед ним людьми некоторую долю озлобленности. Ему вдруг стало легко и весело на душе.
– Мои требования очень просты, – начал он тихо, подкурив сигарету, – сержантский состав выполняет мои команды по управлению ротой – это первое. И сержанты, и старослужащие – на всех построениях, по форме одеты – это второе. – После этих слов кто-то присвистнул от удивления, но Игорь сделал вид, что не заметил. – С утра все палатки снять и поставить заново, как это положено в походном лагере, – я укажу где и как. Это третье. – Он намеревался говорить дальше, но коротышка Симаков со смелой дерзостью перебил его.
– Товарищ лейтенант, да вы нас, что, за овец держите?!
Игорь осекся, но парировал встречным, наигранно учтивым вопросом:
– Симаков, можно я закончу?
– Да валяйте уж, чтоб мы могли все фантазии ваши собрать вместе. Книгу потом напишем. – Симаков в порыве ярости отшвырнул носком ноги камень, и тот, издавая шуршащий звук, полетел в костер, чем вызвал фейерверк взметнувшихся в небо искр. Но Игорю показалось, что бешенство это, скорее всего, показное, предназначавшееся исключительно ему.
Пару человек ухмыльнулись, одобряя фамильярность зарвавшегося солдата, но Игорь строго продолжил:
– Ну спасибо, Симаков. Так вот, дальше четвертое требование. Все сами роют окопы и представляют их мне. Сержанты, кроме того, представляют окопы отделений и взводов, а также карточки огня.
– Наверное, хватит, товарищ лейтенант. Наши уши уже вянут, – опять взял на себя инициативу Симаков, вытирая ладонью края пересохшего рта, там, где слюна вступала в противоборство с пылью. Игорь не видел лица солдата, но его голос давал ясное представление об истинных чувствах Симакова. – Ведь вы ж сами понимаете, что это нереально и что такого никогда не будет. Никогда!
Последнее слово он повторил с особенной страстью, запрессовав в него всю гордость, горечь, яд, упорство тех, кто был на настоящей войне.
– Что тут для вас оскорбительного?
– Мы горы в Афгане грызли, а вы нас хотите втоптать в дерьмо! – почти крикнул Храмовской. – Да вы ни войны, ни службы еще не видели, а нас пытаетесь опустить! – После этих слов один окурок полетел в костер, с силой отправленный туда щелчком. Этот жест, как и неподвижно застывший возле Храмовского варан, указывал на его вызов, его мятеж и готовность к непримиримой борьбе за однажды отвоеванную вольницу.
– Зачем вам эта головомойка, мы через два-три месяца по-любому уйдем, и вы нас не переделаете, а здоровье себе подорвете. И репутацию испортите, – включился в разговор еще один дембель, сержант Седых, которого за громадные размеры величали то Медведем, то Седым, а то Седым Медведем.
– Вот, смотри, Андрей, – при звуке собственного имени Храмовской вздрогнул, его давно так никто не называл, он для всех был Храм или, в крайнем случае, Эндрю Зэ Бэст. Но произнесенное имя ему было явно приятно, потому что напоминало о доме и о другой, интересной и насыщенной потерянными, забытыми и загубленными войной эмоциями. – Вы без конца упоминаете Афганистан. Но я тоже собирался на эту войну, проходил тут, в Кировабаде, горную подготовку, но так сложились кубики судьбы, что война закончена и я туда не попал. Так в чем же я перед вами виноват?!
Афганцы угрюмо молчали, очевидно, каждый вспоминал свою историю отношений с кровавой горной страной.
– Идем дальше. Вот ты, Андрей, заслужил орден. Он свидетельствует, что ты воевал на войне геройски, не опозорил наших отцов и дедов. А сейчас, когда ты носишь его на майке, ты ж этот орден обижаешь и опускаешь, ты Красную Звезду, серьезную награду за твое же собственное отличие, за твою доблесть, ни во что не ставишь! И что, ты так к своей девушке в майке поедешь?! Ведь ты наверняка каждое мгновение помнишь из того дня, за который этот орден получил, ведь так?!
Дембеля опять помалкивали. Кто-то глубоко вздохнул, кто-то заскрипел зубами. Пылающему костру отвечало полыхающее пламя в глазах бывалых, не желающих покоряться солдат. Но ведь и сам Игорь хорошо понимал, что орден, прикрученный к майке, всего лишь вызов тем, кто его на эту войну послал, и демонстрация, не лишенная тайной гордости, что войну он, солдат, эту подлую, мерзкую войну выдержал, не ударил лицом в грязь. И знал, что орден на майке не отражает его сути, не выворачивает его души, которая, может быть, стонет и трепещет. Еще как рвутся их души! В этом Игорь был уверен, чувствовал, что именно эти буйные парни на гражданке первыми будут собираться второго августа, чтобы отметить День ВДВ и вспомнить испытания, выпавшие им в Афганистане. И он не ошибся – парень вдруг заговорил о самом важном и тщательно оберегаемом раскаленной памятью:
– А знаете, как обидно, что нас тут держат за овец. Из нашей роты трое со мной, еще Седой и Скиба, участвовали в операции по освобождению заложников, гражданских контрактников-строителей. Ночной бросок в семьдесят километров по ущелью. Три дозора без единого выстрела, без звука срезали. А потом в рукопашной уничтожили не менее двух десятков сонных духов. Вот этими руками их брали и резали. – И сержант потряс перед костром свои ладони, словно еще раз убеждаясь сам, что именно эти руки обагрены чужой кровью. – А теперь нам что, строем ходить и ямы ваши дурацкие копать?!
– Что ж, государство совершает ошибки. Государство – это люди, а люди имеют слабости. И они, эти люди, ошибаются. Мы полгода назад в этих горах сержанта потеряли. Просто так, по глупости. Его друг на учениях случайно присоединил вместо магазина с учебными патронами магазин с боевыми… – Игорь, отворачиваясь и склонив голову, резким движением отмахнулся от едкого дыма костра, вдруг въевшегося ему в глаза.
– И что случилось? – спросил кто-то, переключившись на короткий рассказ офицера.
– Пуля прошила ему бок, навылет. Разорвало печень. А мы были в горах, довольно высоко. По радиостанции вызвали вертушку, стаскивать на руках было бесполезно. Пытались пережать ему артерии, чтобы остановить кровотечение, но он угасал на глазах. Лицо стало землисто-серым, на лбу пятна, руки повисли плетьми. Я помню, как он то и дело терял сознание и шептал в полубреду: «Жаль, что не в бою, а так глупо». А друг его плакал над ним, как ребенок, они по выпуску вместе жениться собирались, из одного города, невесты подругами были. Вот такие судьбы…
– Он на руках у вас умер? – тихо спросил Храмовской.
– Нет… Еще жив был, когда вертолет прилетел… А потом вечером учения свернули, и все пришли в базовый лагерь – вон там стояли, метрах в двухстах отсюда, – и нам сообщили, что он умер.
5
Тот разговор продолжался далеко за полночь, но стороны так и не нашли компромисса, не договорились. Ввиду особого случая Игорь даже своим табачным запасом поделился, чтобы каждый из сидящих у костра мог насладиться целой сигаретой, не деля затяжки с товарищами. С одной стороны, он уже стал проникаться проблемами этих парней, а с другой – не мог позволить себе курить, не поделившись.
Утром командир взвода приказал роте строиться. Подразделение на удивление довольно быстро сформировало подобие строя. Игорь несколько раз выровнял то, что еще далеко не было монолитом, но имело шанс им стать. Сказал, что дает еще пять минут на одевание и заправку по полной форме, а после построения выполнившие приказ получат по полстакана воды. Все, и даже непримиримый, бросающий грозные взгляды Храмовской, оделись и заправились. Лейтенант незаметно перешел в наступление.
– Товарищи солдаты и сержанты, – начал он намеренно негромко, так, чтобы стоявшие в строю напрягали слух, – два дня полевой жизни показали, что вы хоть и считаетесь элитным подразделением, но на деле представляете собой шобло, группу необученных и неуправляемых людей, позорящих ВДВ.
– Не слышно тут, – рявкнул кто-то из строя, но Игорь сделал вид, что не заметил. Но по строю уже пошел ропот, как рябь по поверхности воды под дуновением легкого ветра. Игорь знал, что он должен постоянно повышать свой личный порог в манипулировании сознанием роты, тогда как порог возможностей каждого из них под воздействием его воли и напора должен постоянно уменьшаться.
– Поэтому я собрал вас, чтобы сообщить: все начинаем с начала, с индивидуальной подготовки солдата. Сейчас повзводно замкомвзвода строят свой личный состав в колонну по одному и подводят к баку, я проверяю заправку солдата и, если нет замечаний, выдаю пол стакана воды. Далее снимаем коряво установленные палатки и разбиваем ротный лагерь по разметке, которую я укажу. Получают еще по стакану воды те, кто все сделает правильно. Затем каждый отправляется на огневую позицию, оборудует и представляет мне свой окоп. Я после выдачи воды сделаю обход и укажу на недостатки подготовки огневых позиций. После правильного оборудования окопа каждый получает еще стакан воды. Кто будет копать плохо или заставлять работать за себя других имеет все шансы подохнуть тут от обезвоживания организма. Командир полка приказал действовать, как на учебно-боевых учениях, где предусмотрено до пяти процентов реальных потерь. Для нашей роты это, рядовой Симаков, сколько?
Симаков, никак не ожидавший такого вопроса, вздрогнул. Но потом взял себя в руки и со всей возможной грубостью в голосе, на какую был способен, ответил:
– Не считал!
– А зря. А я не поленился и посчитал. Получается три и восемь десятых человека. Ну, то есть если от жажды умрут Симаков, Скиба и Храмовской, то…
– А что вы к нам прицепились?! – вдруг злобно, почти с ненавистью заорал Симаков, теряя терпение. Игорь увидел его перекошенное лицо и подумал, что пока с него хватит.
– …то, в принципе, рота задачу выполнит. Пока выкрики из строя спишем на расшатанные войной нервы, но впредь дозу воды будем уменьшать.
– А что вы нас войной попрекаете?! – не унимался Симаков, хотя кто-то из сержантов по-дружески одернул его за рукав.
– Симаков получает только половину дозы, – спокойно резюмировал Игорь, глядя прямо в глаза рядовому.
Еретик промолчал, судорожно сжал кулаки, заскрежетал зубами и отмерил командиру взвода взгляд, полный презрения и лютой злобы. По мере того как командир говорил, по строю все больше прокатывались волны ропота, слышались возгласы негодования и раскаты целых каскадов ругательств. Еще несколькими устрашающими фразами командир взвода обрисовал разрушительное воздействие солнца на солдатский обезвоженный организм, преследуя две цели сразу: и предупредить о реальной опасности, и запугать, сломить всеми возможными способами. Игорь знал, что это «старики» бушуют и подбивают более молодых к мятежным настроениям. Он решил, что до поры до времени будет терпеть это, добиваясь главных уступок, а уж затем незаметно подкрутит и остальные гайки. Он убедился, что находится на правильном пути, когда к нему стали по одному подходить солдаты и сержанты. Каждого он внимательно осматривал и затем наливал полкружки самого чудесного в мире, самого сказочного напитка – еще холодной с ночи воды. Лейтенант Дидусь предусмотрительно заставлял молодых солдат выпивать воду тут же, при нем. Он видел, как старослужащие, слишком гордые, чтобы что-то просить, облизывали шершавыми, с белым налетом, языками свои пересохшие облупившиеся губы. Он чувствовал, что капитуляция близка, что ему удастся вывернуть наизнанку их привычную форму доминирования. Нескольких, с демонстративно висящими ремнями, расстегнутыми пуговицами, он отправил в конец строя, но, подходя к волшебному баку во второй раз, высекая искры огненными, наполненными ненавистью и все еще непримиримыми взглядами, они из гордости помалкивали и давали понять, что их дух никогда не будет сломлен столь дешевым и подлым способом. Симакову командир взвода налил чуть больше половины порции, но все равно меньше, чем всем остальным. Багровое, едкое от напряжения лицо солдата выдавало эмоциональный накал и затаенную готовность к выступлению. Взгляд непримиримого коротышки оставался колючим и злым; он способен был на танталовы муки, только бы не уступить, только бы не растерять собственную дерзость. Но Игорь чувствовал, что лед тронулся, в солдате исчезает надменность и желание противоречить во всем.
«Ничего, – размышлял Игорь, напоив роту и наблюдая за довольно резвой установкой палаток, – мы еще посмотрим, кто кого». Щурясь, он косился на расправившее огненные щупальца солнце – приближалась пора неимоверной жары, от которой будут подкашиваться ноги, пересыхать во рту и гореть внутри, как в набитой дровами печке. «И пусть будет так, пусть плавится земля под ногами, я выдержу все! Пусть это солнце заставит выть от жажды!» Готовность стоять до конца переполняла его, и он чувствовал, что его грозный вид не оставляет надежду на сомнения в серьезности его намерений хотя бы одному человеку из этих семидесяти трех оголтелых вояк, вздумавших противостоять ему. Только после первой маленькой победы он немного расслабился, удостоверившись, что не перегорит, что сумеет довести начатое до конца. В то же время Игорь принял все меры предосторожности, вызвал ротного медбрата и дополнительно проинструктировал его на случай теплового удара, заставив пристальнее наблюдать за состоянием солдат.
В самый разгар третьего, переломного дня Игорь увидел движущийся к лагерю тяжелый «Урал» с гигантским, как у кометы, хвостом из взметнувшейся из-под колес вековой пыли. Командир передал по цепи команду подразделению строиться. Рота собралась прежде, чем «Урал» достиг места стоянки и из него ретиво выпрыгнул заместитель командира полка с несколько удивленным лицом. Игорь скомандовал «Равнение на средину» и вполне бодрым, почти строевым шагом подошел к подполковнику с докладом.
– Как тут у вас дела? – вкрадчиво спросил подполковник, на лице которого Игорь все еще читал нескрываемое недоверие к себе и к происходящему вокруг. Так специалисты, знающие толк в цирковых представлениях, смотрят на незапланированный, но неожиданно удачный номер.
– Вполне удовлетворительно, – коротко отрапортовал Игорь, – прошу вашего ходатайства продолжить тактическое занятие до конца недели. Или до моего доклада по радиостанции.
Подполковник изумленно уставился на лейтенанта: он-то, не знавший, что инициатива исходит от командира взвода, похоже, ожидал, что будет просьба свернуть лагерь.
– Ну что ж, тогда боритесь, дерзайте. Не пропускайте сеансы связи. Послезавтра доставим вам сухой паек. Воды пока хватает?
– Так точно.
И подполковник исчез так же быстро, как и появился, будто его и не было. Но короткий приезд заместителя командира полка произвел неожиданно отрезвляющее, а на некоторых даже ошеломляющее действие. Слова «послезавтра» и «сухой паек» бойцы, пожалуй, слышали. Они произвели эффект молнии на безоблачном небе: всем дали понять, что лейтенанта безоговорочно поддерживают в штабе полка. А раз так, придется умерить спесь.
Действительно, к концу дня все указания командира были выполнены, правда, окопы старослужащих были вырыты явно не ими. Игорь напоил всех, кроме дюжины отступников. Им он предложил вырыть окопы в другом месте, в двух сотнях метров от лагеря. Остальной же роте дал возможность умыться, заправить фляги, после чего увел ее на целый день на занятия. Перед возвращением в лагерь Игорь опять проверил у бойцов фляги и заставил выпить или слить скудные остатки воды. Когда стало темнеть, Игорь наполнил до краев одну флягу водой и отправился к месту, где старослужащие должны были отрыть окопы. Лейтенант не особо удивился, когда обнаружил, что никто ничего не сделал. Он застал дембелей сидящими и лежащими прямо на земле; они были невероятно грязны; небритые, покрытые пылью лица казались усталыми и даже изможденными.
Но глаза их горели красными углями, как у волчьей стаи. И все же, несмотря на то что саботаж был ожидаем, буря лютого гнева поднялась в нем. Неповиновение, открытый отказ исполнить его волю, мятеж – это доводило его до исступления, и подчиненные хорошо понимали это. Но и в среде афганцев командир тотчас почуял нешуточное клокотание страстей, порывы холодного ветра, направленные на него, вот-вот могли перерасти в неудержимый шквал. Противостояние неминуемо приближалось к кульминационной точке. «Кто же тут за вожака? – задавал себе вопрос Игорь, сурово разглядывая дембелей и наталкиваясь на ненависть и вызов во всем – в позах, мимике, жестах, взглядах, наконец, в самом приеме взводного: никто даже не пошевелился, не подумал встать перед ним. «Вот так досталась шайка, а ведь стоит только одному начать рычать, как пойдет цепная реакция, подхватят», – подумал Игорь, прежде чем обратиться к афганскому сообществу.
– Так, друзья мои, я все понял, – сказал он, пытаясь сохранить как можно более спокойный тон, хотя внутри у него все дрожало от гнева и он побаивался выхода его наружу, – на этом сегодняшняя инженерная подготовка заканчивается. Вот вам фляга воды, чтоб от обезвоживания не вымерли. – С этими словами Игорь бросил флягу к ногам ближайшего к нему старослужащего. – Всем по глотку, и можно возвращаться в лагерь. Рыть окопы будем исключительно в дневное время.
Этим ближайшим к командиру военнослужащим оказался Храмовской, который расценил жест взводного как личное оскорбление и тут же вскочил на ноги. Кулаки у него сжались, на лице появился звериный оскал.
– Я духов в Афгане резал, как баранов, и никаких чувств не испытывал, – злобно шептал Храмовской, и по раздувающимся крыльям носа, по сузившимся зрачкам, искаженному от бешенства лицу было видно, что нервы у него на последнем пределе. Остальные хоть и не встали на ноги, но сгруппировались и напряглись. Они были похожи сейчас на стаю волков, остановленную пастухом перед стадом; они не решались напасть, но и отступать казалось постыдным.
– Я верю, – громко ответил Игорь и повернулся к солдату, – и что?!
Теперь уже Игорь чувствовал, что разговор происходит не между командиром и подчиненным, а просто между двумя сильными мужчинами, готовыми на все. Игорь дивился тому, что не ощущал страха, напротив, на смену прежнему волнению пришел какой-то странный, обволакивающий холод – свидетель его готовности к любому, самому сумасбродному поступку. Он мог потерять контроль над собой, но результатом стал бы не крик, не гнев, а действие. И он знал какое.
– И тебе бы, лейтенант, глотку перерезал, если б мы в Афгане сейчас были, понял? – Голос Храмовского к концу предложения сорвался на крик, глаза помутились, он был близок к нервному срыву и вот-вот мог броситься на командира. – Потому что ты – никто, чтобы меня унижать, понял?!
– Все?! – грозно спросил Игорь низким хрипловатым голосом. – А теперь ты меня послушай, сержант! С того момента, как ты руку на командира подымешь, из героя превратишься в преступника. Но запомни еще на всякий случай: у меня в пистолете девять боевых патронов, и первый – твой будет, ясно?!
Храмовской молчал, только злобно смотрел на лейтенанта, и Игорь отчетливо видел, как руки его подрагивали от волнения. То, что эти люди без сомнения и страха способны распорядиться человеческой жизнью, он знал.
Но он был уверен, что всепоглощающее желание попасть домой все-таки заглушает все остальные стремления. И это не просто желание! Они хотят вернуться героями войны, в лучах славы, и жаждут признания, похвал и восхищенных взглядов там, дома… И ради этого они… сдадутся. Потому что, в сущности, они неплохие советские парни, бывшие пионеры и комсомольцы, дети своего времени, своей идеологически подкованной социалистической страны.
– А унижаете вы все сами себя. Потому что приказ – один для всех. И приказ этот – выполнить норматив воина ВДВ! И это первый шаг к тому, чтобы честь ВДВ, если потребуется, отстоять! И поэтому, пока вы этот приказ не выполните, будем вместе гнить тут, в Герани. Месяц потребуется – будем сидеть месяц. Два – значит, два. Потому что если завтра новая война, я должен быть уверенным в том, что вы будете врага бить, а не мне в спину стрелять. Я все сказал! Жду вас в лагере.
Игорь произнес последнюю тираду на высоких нотах, но не срывающимся голосом, а спокойно, четко разделяя слова. Как произносит слова командир. Он чувствовал, что почти взял себя в руки, и видел, как медленно утихает пыл с мятежного Храмовского. Бунт был подавлен.
6
Прошло еще четыре дня. Рота стала сносно строиться, хотя в строй бежали лишь молодые солдаты. Окопы были отрыты и показательно оборудованы маскировочными материалами под местность, а к концу четвертого дня даже сержанты собственными руками вырыли в каменистой почве боевые норы, вполне согласованные с Боевым уставом ВДВ. К этому времени солдаты получали воду для умывания и бритья, а тактические занятия сопровождались изучением караульного устава и тактико-технических данных ротного оружия. Командир взвода состоялся! Игорь решил пройтись по всему тому скудному, но жизненно важному набору знаний, который позволяет солдату выживать в мирное и военное время, а командиру чувствовать свое подразделение. И лейтенант Дидусь уловил изменения в настроениях роты, когда однажды услышал, как за палаткой молодой сержант толковал солдату: «Э, да ты овца какая-то. Так не пойдет, это Упрямый Дед не примет, все будем маяться потом, понял?! Чтобы переделал все наново! Полчаса даю». «Ну что ж, – подумал Игорь и улыбнулся, – Дед, так Дед, со времен училища ничего не изменилось. Добавилось только – Упрямый. Не густо прибыли-то».
Но старослужащие становились все более молчаливыми и угрюмыми всякий раз, когда во время короткого сеанса связи командир взвода спокойным голосом докладывал в штаб, что тактическое занятие проходит по плану, личный состав роты здоров, нештатных ситуаций нет. Игорь намеренно делал это при солдате, назначенном им ротным связистом и обученном пользоваться переносной радиостанцией. Он знал, что весть эта тотчас тихим шепотом разнесется по полевому лагерю, и слышал, как громко, не стесняясь, ругаются, орут благим матом старослужащие, расценивая полевой выход как самую настоящую тюрьму. Нет, они не испытывали физических трудностей, их крепкие тела давно привыкли к лишениям, они умели довольствоваться малым. Но их сознание было загнано теперь в глухой угол, гордыня – сначала уязвлена, а затем и вовсе раздавлена, растоптана. Их лишили самого сокровенного – ореола славы и исключительности, который они приобрели на войне в Афганистане. И отнял этот невидимый обычному глазу лавровый венок вот этот лейтенант, не нюхавший пороху, пытающийся встать над ними за счет всего лишь жалкого рвения на службе. Из-за него они похожи на волков, посаженных на цепь, воющих от отчаяния и тоски. Но в то же время Игорь никогда не унижал никого из них, ни разу не ущемлял их мужскую гордость. Напротив, его аргументы апеллировали к справедливости и совести, он требовал лишь уважения к долгу, воинской чести и атрибутам власти. Он всего на год старше их, но сумел взять над ними власть, и от бессилия, от тщетности борьбы с ним старослужащие шалели.
– Товарищ лейтенант, что надо сделать, чтобы отсюда убраться? Уже полторы недели тут торчим, всем тошно, все это вот где уже.
Седой Медведь, сержант Седых, поджидавший командира взвода у командирской палатки, чиркнул большой рукой у шеи, чтобы было яснее, где у них Герань. Он смотрел на лейтенанта исподлобья грозным и вместе с тем смирным взглядом. В его глазах уже не было ни вызова, ни ненависти, и Игорь это отчетливо улавливал. Это, скорее, был взгляд волкодава, признавшего хозяина, без заискивания и виляния хвостом. И более всего это признание выражалось в уважительно произносимых двух словах «товарищ лейтенант».
– Что ж, начало разговора предметное. Объяви роте подготовку к строевому смотру, а сержантскому составу строиться у командирской палатки.
Сержант Седых на полевом выходе исполнял обязанности старшины. Через пять минут сержанты были построены. Командир взвода намеренно не пригласил ротных авторитетов, особенно подчеркнув старшине, что это построение сержантов, младшего командного состава. Когда сержанты построились, а Седых доложил, он перед строем объявил условия возвращения на зимние квартиры. Условия были жестче предыдущих, но вполне реальные.
Сержанты проглотили их беззвучно. Из строя не было ни одного комментария, даже когда лейтенант объявил, что все на строевом смотре должны быть аккуратны, тщательно выбриты и начищены. Он прохаживался перед строем и впервые за время полевого выхода ощутил удовлетворение: нелегко одержанная победа наполняла его радостью и гордостью.
Игорь отдал серию распоряжений по приведению в порядок внешнего облика безнадежно грязной и уставшей до волчьего воя роты.
– Даю вам пять-шесть часов, – закончил он. – Если рота покажет готовность, к вечеру я вызову полковой «Урал», слово офицера.
7
Когда Герой Советского Союза, легендарный полковник Пименов увидел прибывшую из Герани роту лейтенанта Дидуся, он оторопел. Командир полка ожидал увидеть все что угодно, но только не чистое, выбритое и с белоснежными воротничками подразделение. Он не поверил своим глазам и даже прошелся вдоль строя, пристально заглядывая в глаза солдатам, словно пытаясь отыскать в них разгадку головоломки. Затем подозвал Игоря:
– Ну, лейтенант, порадовал ты меня. Готов поклясться, что тебя ждет неслабое будущее. Спасибо!
И с этими словами полковник крепко, по-отечески пожал ему руку. Игорь готов был под присягой подтвердить, что глаза у полковника потеплели, став бархатно-мягкими. Только теперь, впервые с тех пор, как надел лейтенантский китель, он чувствовал себя счастливым. Его действия как командира получили одобрение и признание, и ради этого он готов не спать ночами, заменить уют и роскошь на плащ-палатку и корку сухого хлеба, землю грызть зубами. Именно сейчас, после Герани, Игорь вполне осознал, что он, сам того не осознавая в полной мере, готовил себя к командирской роли всю жизнь, а потом еще четыре года в училище. Пройдя Герань, он окончательно обрел свою главную цель – следовать суворовской науке побеждать.
Глава седьмая
(Абхазия, 345-й полк ВДВ, август 1992 года – апрель 1993 года)
1
– Старший лейтенант Дидусь!
– Я! – Игорь напрягся всем телом и немного подался вперед.
– Во время боевой операции исполняете обязанности командира батальона! – Голос командира полка звучал строго и торжественно.
– Есть! – Внутри у Игоря мгновенно что-то загорелось, запылало, запело отчаянно и дерзко. Хотя лицо его – и он хорошо знал и контролировал это – оставалось бесстрастным и суровым. Ведь прошло всего только три года, как он пришел сюда молоденьким неопытным лейтенантом. Но подумать о происходящем Игорь не успел.
– Внимание! Слушай боевой приказ!
И по тембру голоса командира полка, по спокойствию, сохраняемому с усилием, было ясно, что произошло нечто серьезное, что-то, касающееся каждого из офицеров, застывших в настороженном строю.
– Вчера, 15 августа 1992 года, многочисленные отряды Национальной гвардии Грузии вошли на территорию Абхазии, спровоцировав интенсивный вооруженный конфликт. В зоне военных действий находятся объекты Министерства обороны Российской Федерации и граждане нашей страны. Первому батальону приказываю десантироваться посадочным способом в районе населенного пункта Гудауты и захватить аэродром. В последующем организовать его охрану и оборону…
«Как все предельно просто, как на занятии по тактике, – думал Игорь, вглядываясь в неестественно блестящие глаза командира, – никакой романтичности или сентиментальности, никаких объяснений, лишней информации. Да и что тут, собственно, такого особенного?! Несвойственные десантуре полицейские функции?! Фу ты, глупость какая! Кому сейчас до таких бесполезных мелочей, как соблюдение условностей или моральных принципов, непонятно кому предназначенных. Тем более, это уже было! За полком числится так называемое наведение конституционного порядка в Кировабаде, Тбилиси, Нахичевани… Да и разве освобождение российских граждан и обеспечение их эвакуации не являются железным аргументом в пользу применения силы?! Разумеется, да! Больше чем аргумент! Вперед и вперед, крушить все, что попадется под руку, в этом кэп абсолютно прав!»
– О-о, кажется, жареным запахло, – услышал Игорь реплику сержанта, брошенную, очевидно, своему товарищу. Два людских потока, бряцая оружием, пыхтя под рюкзаками, набитыми вещами и боеприпасами, длинными змеями вползали через рампу в кажущееся необъятным металлическое брюхо военно-транспортного гиганта Ил-76. И хотя размеры возвышающегося над взлетной полосой самолета оставались неизменными, создавался оптический обман, будто это брюхо все раздувается и разбухает и в какой-то момент обязательно лопнет.
– Так это ж клево! – задорным, только что сформированным баском отвечал ему сослуживец. – Нам бы только разгуляться дали, только б шкуру спустить с кого-нибудь, чтобы ВДВ запомнили надолго!
Игорь, считавший заходивших десантников, стоя у рампы, мельком взглянул на говорившего. Здоровенный детина с круглым, лунообразным лицом, розовыми, еще, вероятно, покрытыми пушком щеками. Увалень, про каких говорят: «Иван – коровий сын». Игорь улыбнулся, не переставая считать, – уж очень парень был похож на крепыша с картинки в детской книжке про русского силача, угловатого и немного неуклюжего, но обладающего природной силищей дубов средней полосы.
– Если патроны выдали, считай, бабахнем! Только с кого шкуру снять надо? – весело крикнул первый и, ловко поднявшись по мостку, скрылся внутри блестящей воздушной машины.
– А какая, на хрен, разница… С кого скажут, с того и снимем, – рявкнул юный богатырь уже в пустоту и с трудом, покачиваясь на мостке, как закованный в латы тяжеловесный рыцарь, поспешил в самолет.
В тот же миг взревели двигатели, словно подгоняя воинов. Игорь бросил короткий взгляд вдоль взлетной полосы – погрузка почти всех семьдесят шестых завершалась, и самолеты, задрав хвосты до облаков, были похожи в этот момент на ревущих драконов, готовых лететь за добычей.
«Откуда в нас такая самонадеянность, и что заставляет так страстно верить в свою богоизбранность?» – думал Игорь, принимая доклады ротных о завершении погрузки и готовности к выполнению боевой задачи. Он заглядывал им в глаза и видел блеск неукротимой решимости, который его и радовал, и пугал. В маленькой, специально подготовленной для полевых условий книжечке, которая в свернутом состоянии легко умещалась на ладони, он отмечал остро отточенным карандашом количество офицеров и солдат, боевых машин, оружия, всяческих грузов – вся панорама предстоящего вторжения уже в который раз прокручивалась у него в голове, и он, сам не понимая отчего, леденел. И почему-то перед глазами всплывал розовощекий витязь, образ задорного русского богатыря, ничуть не изменившийся со времен Куликовской битвы. «Эти прорвутся где угодно, – подумал он, – главное, вовремя подсказать направление».
2
Батальон ворвался на аэродром на рассвете. Так, словно на эту обреченную местность неожиданно обрушилось цунами, сметающее на своем пути все живое и способное двигаться. Высекаемые пулями искры, снопы огня, звуки перекрестных автоматных очередей, перекрываемые более мощным и грузным гулом пулеметного боя, беспорядочные крики рвущихся вперед разъяренных, доведенных до бешенства десантников и вездесущий, вдохновляющий, изводящий, переворачивающий сознание терпкий запах. Новоиспеченный комбат еще не знал природу и название этого запаха, в котором смешались порох, кровь, дым, пот, угар и выбрасываемые в пространство снопы неистовой энергии человеческих тел – то был влекущий, оглушающий запах войны. И Игорь, закрепившись на броне боевой машины десантной, впервые чувствовал себя сверхчеловеком, полубогом, управляющим коллективной судьбой, проводящим высшую волю. Он имел невероятную и пьянящую власть, как будто доверенную ему на время Всевышним. И вместе с ней обладал хмельной неуязвимостью, нечеловеческой способностью разрушать и уничтожать. Беспричинный озноб, доставшийся, очевидно, в наследство от улюлюкающих дикарей, загонявших мамонта, бил его всякий раз, когда он проявлял невиданную жесткость. Комбат чувствовал, как он сам твердеет и звереет, словно в мультфильме, когда вместо пальцев вырастают когти дракона, а зубы превращаются в клыки. Он отдавал команды, сведя брови, уверенным твердым голосом даже тогда, когда внутри его сотрясали сомнения. Бросал короткие, отрывистые фразы ротным по радиостанции через находящегося рядом сержанта-связиста, порой перекрикивая рев моторов, орал ближайшим к нему офицерам-взводным, которые, как и он, восседали на разгоряченной от человеческой энергии бронемашине. И с удовлетворением видел, как периодически поглядывают на него подчиненные, в ожидании новой команды, в надежде на похвалу. Он воочию убеждался, что скорость порой не только компенсирует не до совершенства отработанные навыки, но и устрашает, создает эффект неотвратимо надвигающейся, несокрушимой глыбы. Ох, как ему нравилось быть командиром, лидером! Ради таких минут стоило терпеть четыре года в училище и служить в дырявом от ветров гнойном Кировабаде.
Собственно, на аэродроме никто не думал оказывать им сопротивление – это было бы невозможно. С их неожиданным, феерическим появлением в районе Гудауты вокруг возникли беспорядочная стрельба, дикое улюлюканье, громкие крики, внезапно возникающие и тут же пропадающие на траектории движения батальона мрачные тени, зажигающееся и гаснущее пространство, царство хаоса, не подчиняющееся никаким законам. И порой Игорю самому было неясно, перестрелка ли это абхазцев и грузин или это его фланг вмешался и языком безумной, лютой ярости слизывал все живое вокруг. Скорость и ритм боевых действий, право уничтожать всех, кто окажет сопротивление, доводили кровь в жилах десантников до кипения. И сам Игорь, который в самолете еще испытывал смешанные чувства, признаваясь себе, что глубоко внутри у него засел скрываемый за внешней суровостью страх, с изумлением заметил, что этот страх то улетучивался, то опять беспричинно возникал по мере приближения к объекту захвата. Но в конце концов воинственный дух искусственно доведенной до исступления роты охватил и его, увлек своей непобедимой мощью. Стремительно вклинившиеся в пространство десантники отличались беспощадной и, как он отметил вдруг, безжалостной силой убийц. В одном месте, у самого аэродрома, он видел, как один из его спешивших десантников в упор расстрелял человека в темном одеянии, внезапно вынырнувшего из подворотни. Игорь поразился убойной силе автомата, от очереди которого тот был отброшен на несколько метров и после коротких конвульсий застыл, никому не нужный, с разорванными пулями одеждой и телом. Но никто в пылу боя не обращал внимания на убитого, никто не задумался о том, что, может быть, этот человек явился всего лишь случайной жертвой, оказавшейся в запретном месте в неугодный для себя час. И, уже проезжая мимо, Игорь оглянулся и отчетливо увидел, что человек тот был без оружия, по меньшей мере, автомата у него не было, а значит, он вряд ли мог принадлежать к одной из воюющих сторон. Убиенный был шагах в двадцати пяти – тридцати, и все-таки в одно мгновение молодой комбат успел рассмотреть откинутую голову, открытый рот, черную копну волос и закатившиеся, совершенно жуткие, застывшие в ужасе глаза. «Вот она, первая нелепая смерть, – мелькнуло у Игоря в голове, и волна стыда и угрызений совести прокатилась через сознание, – хоть бы глаза ему потом закрыли».
А смертоносный клин буйным напором двигался дальше, выступая и судьей, и палачом. «Война все спишет», – сами собой, мимолетно пронеслись в сознании Игоря слова старого преподавателя по тактике, над которыми они ни разу не задумывались. И вот уже он убедился, что, в самом деле, война все спишет…
Перед въездом на аэродром одна из тяжелых, разогнавшихся БМД на всем ходу сшибла стоявший у дороги автомобиль «жигули». В нем, кажется, никого не было: весть о появившихся в Гудауте десантниках молнией распространилась в округе, и даже враждующие стороны стали тише и разборчивее – так приостанавливаются дерущиеся собаки, ошеломленные появлением озлобленного, разбуженного шумом своры медведя. Легковая машина, смятая и сплющенная, как консервная банка после удара по ней молотком, щепкой отлетела в кювет и, перевернувшись на бок, затихла. И опять с этим необязательным, даже ненужным ударом Игорь ощутил новый прилив необъяснимой силы, принадлежности к некоему сообществу, которому никто не способен дать отпор.
Запах крови и близости смерти захватил его целиком. Он метался по аэродрому, отдавая приказы и в считаные мгновения, с несвойственным ранее лихорадочным азартом корректируя направленные действия взводов, хотя те и так прекрасно справлялись с захватом. Он жаждал смешаться с солдатами и сержантами, чтобы встретиться лицом к лицу хотя бы с одним врагом, которого – это явственно чувствовал – он был способен в этот момент разорвать на части руками. Не спрашивая о его вине, не утруждая себя выслушиванием ненужных объяснений, лишь на том основании, что этот кто-то оказался на линии его наступления. И только командирская ответственность за выполнение общей боевой задачи, обязанность охранять жизнь мирных жителей да контроль за боевой обстановкой удерживали его от какого-либо опрометчивого шага.
Новоиспеченный комбат, хоть боялся себе в этом признаться, тайно жаждал наказать защитников аэродрома за сопротивление. Но таковых на аэродроме не было – когда бойцы в тельняшках и заломленных на затылки беретах, разбивая двери, вышибая их ногами где только можно, врывались в административные здания, обещанные экстремисты там просто не находились, а немногочисленный аэродромный персонал на всякий случай молчаливо падал ниц. Вся операция была завершена с невероятной быстротой, изумившей самих атакующих. И вдруг наступило мгновение какой-то странной, даже неуместной тишины. Только что все звенело, грохотало, повсюду царствовал хаос, а теперь, когда только-только разгорелось пламя борьбы, оно сразу же погасло. И десантники, некоторые уже с лихо закатанными рукавами, с перекошенными от напряжения лицами, ходили вокруг неприкаянные, вопросительно поглядывая то друг на друга, то на поникшие боевые машины, которые разом по команде заглушили моторы. Немного дальше шумела двигателями еще только подходившая к аэродрому артиллерия, да в нескольких километрах от аэродрома временами раздавались очереди, выпускаемые из автоматического оружия.
Уже через несколько минут после появления батальона на аэродроме старший лейтенант Дидусь докладывал командиру по радиостанции об успешном выполнении задачи. Сержант-связист все в точности, условленными словами-сигналами передал по радиостанции и посмотрел на командира умными глазами. «Контрактник, верно из интеллигентов. На таких, пожалуй, все ВДВ держится. Наверняка метит в офицеры», – думал Игорь, глядя в пытливые глаза сержанта.
– Товарищ старший лейтенант, с вами будет говорить «Сокол».
Игорь вздрогнул и быстро приложил к уху наушники.
– Поздравляю, – услышал он спокойный, но тяжелый голос командира, то и дело прерываемый шумом. – Значит, так, наладить охрану и оборону объекта, разместить личный состав, организовать разведку и всестороннее обеспечение. Объект срочно подготовить к применению по прямому назначению – уже сегодня, я думаю, через полчаса-час, начнется эвакуация российских граждан. И еще, – Игорю казалось, что он видит, как командир перевел дыхание, сглотнул комок слюны, – быть в полной готовности, выделить до роты на поддержку операции по захвату военно-сейсмической лаборатории в Нижних Эшерах.
– Есть, – коротко ответил комбат. Он думал, что теперь все по плечу, что нет такой задачи, которую он не мог бы выполнить. Грудь его распирало от гордости – в считаные минуты аэродром был блокирован и захвачен. Правда, теперь его немного смущало то, что им же самим придется заниматься ремонтом выбитых дверей и окон. Мелочи, зато поработали как! Да, нужны такие дни десантникам, чтобы их боевой дух находился в тонусе. А что командир? С каким батальоном пошел? С тем, что сейсмическую лабораторию брал, или с тем, цель которого – выручать блокированный зенитно-ракетный полк? Обойдется ли у них, как у него, без потерь? Или война, уже вступившая в свои права, все спишет?
После отданных распоряжений он отошел покурить в компании начальника штаба батальона капитана Анастасина и заместителя командира по воспитательной работе капитана Андрющенко. Связист стоял поодаль, метрах в пяти-шести от комбата, не отходя на большее расстояние, как будто был прикован к нему невидимой цепью. Ждали сигнал прибытия военно-транспортной авиации, и одну роту Игорь уже отправил для сопровождения российских граждан, оказавшихся в зоне военных действий. Еще одна рота и приданная ей самоходно-артиллерийская батарея закреплялись для охраны и обороны объекта по его периметру, разведвзвод начал шерстить окрестности, первую роту он решил придержать в резерве на случай непредвиденной команды командира полка. Игорю было лестно, что его, старшего лейтенанта, собственно, не так давно ставшего заместителем командира батальона, назначили исполнять обязанности командира, командовать несколькими капитанами, да еще и приданной самоходно-артиллерийской батареей. Но вместе с радостью он испытывал и неловкость, в первую очередь перед более опытным и старшим по возрасту начальником штаба Анастасиным. Игорь признавал авторитет и знания бывалого офицера и намерен был использовать их в будущем.
– А что, Павел Юрьевич, – серьезно спросил Игорь, глубоко и с наслаждением затягиваясь и внимательно глядя в глаза офицеру, – как вам все это нравится? Вы ведь, если не ошибаюсь, три года тому назад тут уже пробовали грузинскую чачу? – И он, отвернувшись, резко выдохнул дым, чтобы тот не попал на близко стоявших сослуживцев.
– Да, верно. Мое мнение: дело дрянь, но приказы мы обсуждать не привыкли. – Анастасии также раскурил сигарету, задымил и, сильно задрав голову, выдохнул в небо. – Полагаю, надолго тут застрянем. Кавказ превратился в потревоженный улей, а пчелы тут кусаться умеют.
Из всех троих один только Анастасии участвовал в бойне 9 апреля 1989 года, когда полк подавлял мирную демонстрацию в Тбилиси.
– Павел Юрьевич, – вклинился в разговор капитан Андрющенко, как бы подхватывая тон Игоря, но переводя его из серьезного в игривый, – не любят нас грузины?
– Не любят, – хмуро подтвердил начальник штаба, не принимая провокационного тона военного воспитателя, наморщив лоб. – А за что нас любить?! Вы бы сильно любили, если б к вам во двор заехал трактор, перерыл землю, угол дома зацепил, изгадил все вокруг…
– Да вы, я смотрю, грузинам симпатизируете, – не столько спросил, сколько констатировал капитан Андрющенко не без иронии.
Но Анастасии был серьезен и тверд в своих убеждениях. Его лицо оставалось непроницаемым и даже несколько угрюмым. Он не скрывал своего скептического отношения к воспитателям, психологам, особистам и всякого рода военным спецам, называя их в доверительном кругу провокаторами.
– Вы, Иван Сергеевич, рассуждаете как вчерашний замполит, идеолог партии. Но все уже давно поменялось, и нам с вами глупо оставаться заржавевшими винтиками совдеповской системы. Это, поверьте мне, небезопасно. А что касается Тбилиси…
Его неожиданно прервал бойко подошедший к комбату один из ротных, который, взяв под козырек, выпалил доклад:
– Товарищ старший лейтенант, в первой роте личный состав и штатное оружие полностью к выдвижению готовы. Командир первой роты – старший лейтенант Гулагин.
– Хорошо. – Игорь хотел было поднести руку к козырьку камуфлированной кепки, но вспомнил, что в правой руке сигарета, и тут же опустил руку. Вышло нескладно, но все сделали вид, что не заметили. Ругнувшись про себя, Игорь распорядился о готовности отреагировать на сигнал командира полка. Пока же приводить в порядок то, что успели изуродовать десантники. Ротный исчез.
– Так вот, – продолжил Анастасии, – когда полк десантников постоит на центральной площади сутки, это не смешно. Когда полторы тысячи молодых пацанов помочатся за углом, заплюют мостовую, набросают окурков да еще огрызнутся нашим раздолбайским матерным языком на случайных прохожих, их, поверьте, мало захочется любить.
– А насколько соответствует действительности то, что лопатками рубили мирных жителей? – воспитатель тоже посуровел.
– Когда толпа звереет, ей может противостоять только еще большее зверство. – Анастасии помолчал немного и добавил: – Особенно это легко на войне или во время какой-нибудь революции, когда каждый солдат понимает, что спрос с него как с гуся вода. Руки развязаны, каждый творит что хочет. И сегодня вы, верно, видели, как наши застрелили случайно попавшего под руку местного жителя. Не уверен, что он обязательно бандит и убийца. И уж тем более, не воин армии противника… Но разве есть смысл доискиваться до правды, которая в итоге может навредить морально-боевому духу батальона. Однако лично мне не по душе, даже очень неприятно, что наш еще вчера легендарный 45-й полк превращается в милицейскую часть.
– А в чем признаки? – не унимался воспитатель, очевидно задетый за живое. Для него, как и для многих других, кто лишь понаслышке знал о Рязанском десантном училище, предметом особой гордости была принадлежность к ВДВ.
– Да в том, например, что мы воюем со своим населением. – После этих слов Анастасии угрюмо сплюнул в сторону, и утверждение его приобрело еще более убедительные оттенки.
– А что скажет комбат? – Андрющенко с ударением произнес слово комбат, и Игоря покоробил его вопрос. Жаль, не получился разговор. Он хотел поддержки и совета от опытного офицера, а этот замполит, козел, все испортил, изгадил. И зачем он это делает? Копает? Может, получил задачу присматривать? И шут с ним! Хотя делает все хитро и изощренно! «Ну и правильно, – решил он с ожесточением, – пусть будет именно комбат, а не И. О. – исполняющий обязанности. Так быстрее вживаются в роль».
– Я скажу, что знамена у нас прежние, десантные. Их честь и будем защищать. А потом, не очень-то уж и «свое» это население и не очень-то и мирное… А кроме того, мы ведь своих спасать прилетели… Ладно, господа офицеры, пора и нам к станку, – сказал он напоследок, увлекая остальных за собой.
Однако через несколько минут Дидусь и Анастасии вновь столкнулись лицом к лицу. Они были вдвоем, и комбат решил загладить возникшее, как он полагал, досадное недопонимание с тем, чтобы оно не переросло в будущем в соперничество. Больше всего Игорь опасался, как бы разное мировоззрение офицеров не создало дисбаланс в коллективе, особенно когда его только что назначили, а батальон вступил в полосу боевых действий. Он твердо знал: ему нужна поддержка, притом самого опытного офицера.
– Пал Юрьич, вы не обижайтесь, замполит наш, как и я, нестреляный, потому и ершится, пытается найти противовес своей неопытности… – Игорь нарочно избрал слово «замполит», говоря об офицере-воспитателе, и это как бы отделяло их, кадровых боевых офицеров, от Андрющенко.
– Да ладно, – отмахнулся Анастасии, – он сам себя накажет.
– Я хочу, чтобы вы знали, – сказал ему Игорь, серьезно и открыто гладя в глаза начальнику штаба, – для меня очень ценно ваше мнение и мне реально необходима ваша поддержка. Независимо от того, что вы думаете обо всем этом. – Тут Игорь глазами обвел пространство, подразумевая и их положение, и начинающуюся войну, и текущий момент. – Главное, чтобы мы в тяжелый момент были соратниками и могли друг на друга опереться.
– Все будет нормально. – Анастасии легко, по-мужски взял его за локоть, и в этом прикосновении было столько же честности и открытости, сколько и мужественности. – Не забывайте только, что все это, – он почти так же показал глазами, как и Игорь, и потом произнес тихо, но очень четко и внятно: – обман в масштабе государства.
Молодой комбат был слегка ошарашен, но не подал виду.
– И ВДВ тоже?
– А ВДВ – в первую очередь!
– Что ж, пусть так. Но я могу рассчитывать на вас, если запахнет жареным?
– Вот в этом можете не сомневаться. Слово офицера!
Когда они разошлись, Игорь, изумляясь, подумал о том, как можно не верить в ВДВ, но быть при этом офицером до мозга костей. Невероятно! Но это именно так, на Анастасина он мог положиться и считал это главным приобретением в своей новой роли.
3
Прошло несколько дней. Почти беспрерывными самолетными рейсами из Гудауты в Россию вывезли, по беглым подсчетам комбата, не менее двух тысяч человек. Бесчисленные, некогда шумные санатории еще недавно невероятно популярного курорта вымерли, точно здесь свирепствовала средневековая чума. Но даже те, кто остался, вели себя тише мышей. За считаные дни зона отдыха превратилась в зону страха, и для одиночной прогулки отныне требовалась немалая отвага. То тут то там шакалами сновали мародеры, готовые поживиться за счет чужого горя. Война обнажала худшие человеческие качества, выпирающие подобно ребрам дистрофика. Казалось, везде, где Игорь ни бывал, он видел огромную свалку, слышал запах гари, гниющего человеческого тела и медикаментов, повсюду на земле зияли ожоги кострищ, а люди ходили пригнувшись, на полусогнутых, пробираясь так, словно опасались попасть в пасть крупному хищнику. Весь окружающий мир, который раньше радовал глаз, стал опасным, и даже чуткий слух не улавливал по утрам пения птиц. Грязь, неизбывный смрад, гильзы под ногами, бинты, испуганные глаза жен и детей российских военнослужащих напоминали о главной причине появления войск, как всегда – на перекрестке чьих-то жизненно важных интересов.
Пока в обязанности новоявленному комбату вменялось неукоснительное соблюдение нейтралитета и обеспечение безопасности россиян. Правда, от внимания Дидуся не ускользнуло, что миротворчество очень быстро переросло в откровенную помощь абхазцам. Первоначальное наступление воинственных грузинских гвардейцев на полторы сотни километров в глубь Абхазии – от пограничной реки Ингури до Сухуми – обеспечило им позиционные преимущества. Обескураженные местные жители, вооруженные лишь стрелковым оружием, сумели организовать сопротивление только в Агудзере, да еще с неделю отчаянно гремели перестрелки в Сухуми. Затем же они тихо ушли из города за реку Гумиста, оставив непредвзятому критику возможность утверждать, что они с самого начала ждали помощь от российского солдата. Российский солдат, в самом деле, подоспел вовремя. Молодой отчаянный воин в тельняшке живо и не без запальчивости ткнул тяжелым сапогом в наглую морду наступающим, самочинно обозначив себя миротворцем с необъятными полномочиями и интересами. Эта сила вызвала временное оцепенение у двух остальных участников конфликта. Но все понимали, что этим конфликт не закончится, ибо присутствовала некая незавершенность до того времени, пока самый сильный игрок определится с дальнейшей судьбой остальных. Разумеется, самым сильным был бравый, дерзкий, готовый лезть напролом, все тот же российский солдат. Но и для него, как оказалось, существовала неприятная заковырка. Время молодых демократий порождало новую, еще неведомую завоевателю-солдату геополитическую реальность. Действующий с прямолинейной активностью автомата старший лейтенант Дидусь лишь благодаря развитой интуиции догадывался, что эта заковырка таит гораздо больше омутов и подводных камней, чем могло показаться на первый взгляд. Он осторожно начал вычислять их, словно замаскированный командный пункт, который следует обнаружить и уничтожить. Что-то подсказывало ему, что наступают тяжелые, неоднозначные времена.
Началось с того, что первые дни бурной деятельности полка закончились тягостным, отвратительным затишьем. Оно не убаюкивало, а напротив, заставляло сжаться, сложиться в томительном ожидании взрыва. Батальоны окопались вокруг объектов, глубоко врылись в землю, но от этого магнетизм обстановки только вырос, как если бы над ними висели тучи, которые с каждым днем все больше и больше наполняются свинцовой тяжестью. Где-то, когда-то должен наступить предел. В один из таких угнетающих дней, когда вечер уже готов опуститься на полевое расположение батальона, в палатку комбата с нетерпеливой поспешностью ворвался посыльный от дежурного связиста. Нервно теребя руками ремень автомата, он сообщил, что командир полка срочно требует связаться с ним по недавно восстановленной телефонной линии. Когда через несколько минут Игорь позвонил Пименову, тот, даже не осведомившись о текущих делах, пробасил ему, чтобы он оставался у телефона для разговора с начальником штаба дивизии. Игорь, не поверив своим ушам, произнес механическое «Есть» и остался один на один с короткими гудками. Буквально через минуту телефон опять затрещал. Игорь сделал, как ему велели: сам поднял трубку и коротко представился:
– Командир первого батальона старший лейтенант Дидусь.
– Вечер добрый, комбат. Тебя предупредили о важности разговора? – строго спросил Игоря зычный металлический голос, звучащий столь фантастично близко, как будто собеседник находился в другой комнате. Игоря удивило, что начальник штаба не представился. Хотя это и казалось противоестественным, он списал все на индивидуальные привычки высокого начальства.
– Так точно, – ответил он звонко, на всякий случай не прибавляя «товарищ полковник».
– Есть очень деликатное, безотлагательное и тихое дело. – Голос проскрипел так, как будто железом скребли по железу, и затем умолк. Игорь смешался. Он не знал, что ему делать, сказать что-либо в трубку или молча ожидать дальнейших указаний.
– Тебе хорошо меня слышно? – проявился наконец голос.
– Так точно.
– Так вот. Сегодня ночью придет человек с небольшой группой людей. Его зовут Умар. Он сошлется на наш разговор, имен никаких называть не станет… И тебе не нужно этого делать… Дашь ему оружия… Все, что попросит… И боеприпасов… Все понял?!
В голосе проскальзывало нетерпение и безоговорочность распоряжения.
– Так точно.
– Тогда выполняй. По выполнению доложить своему командиру полка. О том, что задача вышестоящего начальника выполнена.
– Есть! – воскликнул Игорь и похолодел.
Как же это он отдаст штатное оружие?! С чем сам останется?! А как заполнить ротные книги выдачи оружия?! Ведь если что не так, можно угодить под суд, это ж номерное оружие! Но и выхода другого нет, кроме как подчиниться. Если, конечно, он намерен вообще продвигаться по службе. А может быть, в силу вступили какие-то законы военного времени, о существовании которых он не подозревает? «Одним словом, надо идти на риск», – исполненный мрачной решимости, сказал Дидусь сам себе. Он понимал, что гигантская ответственность легла на его плечи.
Почти сразу же после первой ночной смены караула, получившего специальное распоряжение, к расположению батальона на нескольких автомобилях подкатила группа каких-то темных личностей. Одеты они были по-разному: несколько человек были и в новеньких камуфляжах, тогда как другие – в обвисшей, потрепанной и грязной гражданской одежде. В них без труда угадывались лица кавказской национальности, с присущими горцам самомнением и излишним апломбом. Игорь велел провести к себе их предводителя, а затем направил посыльного к командирам рот с приказом находиться у своих ружейных комнат.
Через несколько минут в палатку комбата втиснулся крепкий бородач. Задернув полог, он с прищуром уставился на Игоря, привыкая к свету керосиновых ламп.
– Прошу, – комбат поспешил предложить гостю место за столом, а сам уселся напротив. Игорь сознательно не представился и не протянул руку незнакомцу, решив вести себя сугубо по-деловому, как инструктировал начальник штаб дивизии.
– Я – Умар, – выдохнул пришелец тихо, но внятно, с акцентом, свойственным детям Кавказа.
В тусклом свете двух керосиновых ламп, подвешенных с обоих концов стола, Игорь вполне мог рассмотреть своего собеседника. Умар оказался молодым мужчиной, который, несмотря на свою совершенно черную густую поросль на лице, выглядел лишь немного старше по возрасту самого Игоря. Он не был здоровяком, но в его жилистой энергичной фигуре угадывались решимость и удаль. Прямой заостренный орлиный нос вместе с наклоном головы вперед придавал ему воинственность. В какие-то моменты разговора в речи горца чувствовалась надменность. В желтом свете чадящих ламп его кожа казалась пергаментной, и только мелкие капельки пота на лбу свидетельствовали, что это живой человек, а не восковой манекен. Одет он был в полевую камуфляжную форму, правда несколько иного покроя и с другим цветовым рисунком, а под подчеркнуто вольно расстегнутой летней курткой виднелась футболка цвета хаки. На голове у него плотно сидела кепка, опять-таки совсем не такая, как у десантников; ее, скорее, можно было принять за охотничью. На принадлежность к касте воинов указывали прежде всего глаза. Маленькие и бесконечно черные, невозмутимо-угрюмые, как бездонные провалы Кавказских гор, отдающие перламутровым блеском, они испепеляли пространство, распространяя энергию непримиримости и разрушения. Это был взгляд недавно проснувшегося тигра, и Игорю показалось, что гость избегает смотреть ему в глаза, чтобы не выдать раньше времени свою звериную натуру.
Дидусь предложил гостю сигарету. Тот молча взял ее и щелкнул зажигалкой, рассеивая в матерчатом пространстве палатки клубы табачного дыма.
– Что конкретно тебе нужно? – спросил Игорь спокойно и четко, продолжая рассматривать незнакомца, чувствуя свою причастность к некой хорошо оберегаемой тайне.
– Десяток ручных гранатометов, четыре десятка стволов и хотя бы один АГС-17. И как можно больше боеприпасов.
Вот только теперь Умар посмотрел Игорю в глаза, и комбат тотчас понял, что все названное с отменным знанием дела будет употреблено по прямому назначению, что человек этот, фанатично преданный непостижимой для обычных людей идее, рожден лишь с одной целью – совершить нечто страшное и погибнуть.
– Хорошо, – ответил он коротко, – пойдем.
– Отправь посыльного за моими людьми, чем меньше твоих будут знать об этом, тем лучше для нас всех.
Игорь, подумав, согласился.
Через полчаса кавказцы вынесли все запрашиваемое оружие из ружейных комнат. Игорь стоял, скрестив руки на груди, и спокойным суровым взглядом смотрел на выросшую гору из оружия и боеприпасов. Ошалевшие ротные, которым комбат приказал исполнить волю высокого начальства, суетились или напряженно прохаживались рядом, охваченные общей нервозностью. Хотя, в конечном итоге, прямую ответственность за оружие несли командиры рот, никто не счел возможным воспротивиться приказу комбата. Игорь с удовлетворением отметил это, мысленно поздравив себя: доверие к нему как к лидеру перевесило риск юридической ответственности. Удивительно, но Умар также понимал, что Игорь распоряжается прежде всего не как комбат, а как признанный авторитет в своем сообществе.
– Я умеею быть благодарным, поверь, комбат, – сказал незнакомец с прищуром, когда оружие рассовали по машинам, – а про оружие не переживай. Что останется – вернем, а что выйдет из строя – поможем списать. Война тут не на один день.
Игорь пристально посмотрел на чеченца:
– Наверное, ты очень важный человек, раз имеешь такие крутые связи в военном руководстве.
– Э, дорогой, – ответил Умар, сверкнув рядом белых ровных зубов, – видит Аллах, что тебе лучше не знать ни обо мне, ни о моих связях. Помни только, что я – твой друг. Держи на память.
С этими словами он вытащил из-за пояса огромный чеченский кинжал – орудие тайного промысла и символ успеха горцев – и вручил его Игорю.
– Оружие за оружие, комбат. Так положено. Умар – твой друг, – повторил чеченец, и Игорь заметил, что только на одно мгновение выражение лица незнакомца стало приветливым, тогда как уже в следующий миг горец снова был невозмутим и непроницаем.
Игорь стиснул кинжал. Он оказался тяжелым и холодным, как ледяные вершины Кавказа. Блеск закаленной стали, слегка изогнутое окончание лезвия с продольной выемкой внушали уважение и вызывали странные эмоции. Игорь представил, как этим оружием перерезают горло. Овце. А может быть, человеку. Ему стало жутковато, но он быстро отогнал опасные ощущения.
– Спасибо и тебе, Умар. Кто знает, может, наше знакомство не случайно.
И с этими словами они обменялись крепким мужским рукопожатием. Игорь подумал, что если ему приходится исполнять чью-то злую волю будучи каким-то образом причастным к тайным операциям, нужно хотя бы позаботиться о личных отношениях. Еще со времен службы отца в Грузии он хорошо усвоил, что такие контакты очень много значат для горных воинов. А тут ведь никто не знает, что будет дальше…
4
Прошло еще несколько дней, и этот эпизод затмили другие, не менее значимые. О ночном визите напоминали лишь переполовиненные ротные арсеналы. Казалось, загадочный визит горцев промелькнул и исчез в дебрях Леты. Но Игорь и сам теперь уже хорошо понимал: грядет что-то лавинообразное, непостижимое и непрогнозируемое. В подтверждение его предположений в один из вечеров в расположение батальона заглянул командир полка, причем не сам, а в сопровождении незнакомого человека, весьма походившего манерами на местных жителей. Он также был в камуфляже, точно таком же, как чеченец Умар.
– Знакомься, Игорь Николаевич, это Мансур, советник министра обороны Абхазии… И руководитель разведывательно – диверсионного направления…
При этих словах кэп многозначительно посмотрел на Игоря, который старался быть невозмутимым; визит этот явно не предвещал ничего хорошего.
– Старший лейтенант Дидусь, командир первого батальона, – коротко отрекомендовался Игорь.
– Есть необходимость собрать офицеров, у Мансура есть что им сказать…
Выступление Мансура было пространным, туманным, но страстным. Он сопровождал убого выстроенную логику, выдержанную в стиле первых красных командиров из народа, зажигательными жестами истинного южанина. Если бы не его фанатично горящие глаза да трехдневная щетина, придававшая доморощенному полководцу сходство с уголовником, то его, пожалуй, можно было бы принять за темпераментного итальянца. Непредвзятые слушатели могли бы признать, что оратору в определенной степени удавалось компенсировать сомнительные артистические данные и четкость повествования напыщенным и ярким изображением героических образов. Вся речь гостя сводилась к одной теме: приглашению абхазским командованием офицеров и бойцов, неравнодушных к судьбе угнетаемого народа, поучаствовать в боевых диверсионных операциях. Конечно, это должны были быть исключительно добровольцы, люди с крепкой психикой и отменной физической подготовкой, которые приобретут уникальный боевой опыт, выполняя почетную миссию защитников за солидное денежное вознаграждение. Несомненно, офицеры получат возможность феерического продвижения по служебной лестнице и, само собой разумеется, награды российской армии. Солдаты – награды и возможность зачисления без экзаменов в любое учебное заведение России, готовящее офицеров. При этих словах командир полка утвердительно кивал, давая понять, что заявление Мансура – не личная выдумка того, а часть государственной политики России на этом клочке земного шара. «Естественно, – продолжил Мансур, – есть прямая опасность для жизни, риск, но ведь… мы на войне. Ребята, это путь к признанию вас как разведчиков и диверсантов! С таким жирным штрихом в биографии можно потом идти куда угодно, хоть в охрану президента, хоть в наставники диверсионных школ. – Мансур потрясал перед слегка ошалевшей аудиторией волосатой рукой, сжатой в кулак. – Поэтому нам нужны только добровольцы, желающие помочь абхазцам в их праведной борьбе за независимость, только бесстрашные волонтеры!»
Чтобы вербовка не выглядела банальным цыганским базаром, командир полка, напустив на себя флер суровости и таинственности, дорисовал общую картину несколькими крупными мазками. Среди прочего как бы невзначай добавил, что эти диверсионные операции будут тщательно рассматриваться на самом верху, – тут он поднял указательный палец, – с впечатляющими последствиями для их участников. Потому как регион этот действительно является нервным узлом жизненно важных интересов России. Полковник, разгладив двумя руками портупею, закончил внезапным предупреждением о строгой секретности этой встречи. Беседы с бойцами должны проводиться исключительно индивидуально, при этом следовало отдавать предпочтение сержантскому составу из числа контрактников.
На следующий день в списке, который составил старший лейтенант Дидусь, значились шесть фамилий – три офицерские, включая и его самого, и три – сержантские. Правда, командир полка молча вычеркнул его фамилию из списка, а когда Игорь попытался запротестовать, полковник как-то мрачно посмотрел на него, сдвинув брови, и недовольно процедил: «Дидусь, ты мне тут нужен. И проявить себя должен как комбат, а не как удалой диверсант». Игорь стиснул зубы – пересмотру приговор не подлежал. Но и резкость командира его насторожила: что это, заинтересованность кэпа в нем или тайное недоверие к освященному высшим командованием диверсионному задуму? «Что-то тут не то, какой-то душок», – думал Игорь, слушая распоряжения командира полка в отношении командированных.
Так теперь назывались участники заговора посвященных в миссию. И именно он должен был отвести своих людей Мансуру на специальную, тщательно замаскированную базу, наладить с ним связь, договориться о деталях взаимодействия.
Перед поездкой в бронетранспортере командир батальона провел короткий инструктаж, не без удивления обнаружив двух знакомых вояк, которые разговаривали при посадке в самолет. Он не мог объяснить, почему обратил внимание именно на них. Верзила, неисправимый охальник, теперь откровенно ухмылялся. Взгляд его являл собой предельную, свойственную богатырям открытость. «Баловень судьбы, такие девушкам безумно нравятся, шагают по жизни легко и беззаботно», – подумал про него комбат и почему-то вздохнул. Не то что его жизнь, похожая на битву за Сталинград. Товарищ гиганта помалкивал, лицо его казалось серым и непроницаемым, как некая трудно объяснимая абстракция на картинке. И только в глазах, если внимательно всмотреться, можно было заметить злые искорки. Третьим был заместитель командира разведвзвода, опытный сержант, к тому же почти дембель. Все трое – производная из хулиганистого сообщества – задиристого, любящего подраться и не лишенного мечтаний о героизме.
Интересно, зачем им эта война? Чтобы подняться в своих собственных глазах?! Рассказывать девушкам и родне о выпавших на их долю испытаниях?! О том, что ходили на боевые выходы?! «Тьфу, как мелко», – в сердцах подумал комбат. Ну хорошо, они – офицеры, знают, зачем пришли в армию. Им надо двигаться по службе, если повезет, до генералов дослуживаться. И сам он записался не потому, что так уж хотел пострелять в живых людей, а потому, что раз уж приехал служить в самое гиблое место во всех ВДВ, то должен до конца по краю идти, стремиться к запредельному риску! Чтобы максимально успешно исполнить роль канатоходца, получив взамен новые возможности. А им, этим временным солдатам удачи, зачем идти в нелегальные диверсанты и пробовать зубы на крепость?! А может быть, это мы, люди, придумываем для себя разные отговорки, занимаемся тихим самообманом ради того, чтобы скрыть свое тайное, животное стремление к крови?! Игорь ужаснулся обжегшей его неожиданной мысли… И командир батальона сказал солдатам несколько хрестоматийных слов, которые мог бы и не произносить…
Игорь подошел к офицерам, которым говорить ничего не стал. Только заглянул в глаза. Командир роты старший лейтенант Жук. Командир взвода лейтенант Измайловец. Документы сданы, признаки знаков различия уничтожены. В глазах – напряженное ожидание, решимость и все тот же блеск мальчишеской мечтательности. Десантники…
– По местам!
5
Щедрый Мансур позаботился накрыть стол – для боевых друзей, как он выразился. Угощения были просты, не изысканны и небрежно, очевидно на скорую руку, расставлены на грубой деревянной поверхности стола, желтыми разводами напоминавшей о былых полевых посиделках. К удивлению Игоря, кроме троих офицеров-десантников рядом оказались еще несколько горцев с колючими взглядами, также облаченных в камуфляж. И среди них он неожиданно рассмотрел своего ночного гостя Умара. Когда глаза их встретились, чеченец едва различимо кивнул ему в знак приветствия. Было неясно, чем вызвана скупость его жестов – природной сдержанностью или намеренным желанием не делать из их первой встречи истории, вообще не сближаться. И все-таки взгляд его несколько смягчился, превратившись из кинжально-острого в просто твердый, непрошибаемый, как стена. Старший лейтенант Дидусь отвернулся, а в голове между тем пронеслось: как-то не по-нашему, не по-русски, без объятий и похлопывания по спине. Когда же разлили чачу, внесли пряные хачапури и остро пахнущие шашлыки из баранины, Мансур на правах хозяина поднял до краев наполненный стакан.
– Тут, на этом перекрестке, совпали интересы России и маленького, но гордого абхазского народа. Многим народам Кавказа небезразлично будущее Абхазии. Даже за этим скромным столом собрались вместе русские, абхазцы, чеченцы. И это очень символично. Давайте выпьем за крепость дружбы! За независимость Абхазии и руку помощи братьев-россиян и братьев-чеченцев!
Игорь смотрел на этого человека в камуфляже и не верил своим глазам. Как же не похож он был на диверсанта, ему, скорее, подошла бы роль комсомольско-партийного агитатора. Да и на коренного абхазца он походил как-то мало – и внешностью, и манерами. Слишком гибкий, неуловимый, с повадками столичного интеллигента, которому явно жмут военные ботинки. Он в них, как на ходулях… Игорь поймал себя на мысли, что не чувствует к этому человеку симпатии, хотя бы даже такой, как к угрюмому Умару. Уж больно скользкий и скрытный, совсем неясно, что кроется в его душе.
Все отхлебнули. Офицеры молча отведали сочной, отменно приготовленной и тщательно приправленной баранины.
– Ну что, Шамиль, скажешь доброе слово? – обратился Мансур к Умару.
Игорь невольно вздрогнул: почему Шамиль? Что тут за система кодов и символов, и что стоит за людьми с двойными именами? Недомолвки вызывали в нем неприятное раздражение. Игорь привык контролировать ситуацию, оставаясь ее хозяином; здесь же все решалось по каким-то иным, неведомым ему принципам хорошо скрываемого лидерства – независимо от званий и должностей, в обход способностей взять на себя бремя ответственности и риска.
Что-то отдаленно напоминающее улыбку или усмешку на одно мгновение тронуло губы Умара. Но тут же лицо его приняло невозмутимый вид. Игорь не мог не поражаться тому, насколько чеченцы отличаются от грузин или абхазцев. Первые бесстрастны и холодны, как индейцы из романов Фенимора Купера, тогда как вторые любое слово подкрепляют жестом, как будто подтверждая, что сказанное соответствует действительности.
– Ты прав, Мансур. От тех, с кем будем плечо к плечу на операциях, нет смысла что-либо скрывать. Тем более свое имя, которое после этой войны… – Хмурый чеченец чеканил слова, твердо глядя на собеседника, и только по акценту можно было угадать его внутреннее напряжение. – Но это неважно… Мы не зря сюда приехали, это скоро все поймут… На войне за нами не заржавеет… Ну, за доверие…
Умар, или теперь уже Шамиль, поднял свой стакан, взглянув опять на Игоря. «Одержимый человек, – оценил его Игорь. – Отмороженный, говорили про таких на родине в Межириче. В том смысле, что непредсказуемый, готовый повести себя по-любому». Игорь, глядя прямо в глаза Шамилю, сделал ответный жест, как бы кивок наполненным стаканом, подумав, что люди, подобные ему, как правило, живут на грани возможного и невозможного. Такой же дружественный жест машинально сделали его офицеры, у которых вместо стаканов были наполнены чачей солдатские жестяные кружки. Потом пили еще и еще. И сытно, по-солдатски, ели. Из разных тарелок, не обращая внимания на сумбурную, полупоходную сервировку. К удивлению Игоря, почти не разговаривая друг с другом. Чеченцы казались высокомерными и надменными, в их обществе абхазцы и привыкшие к задушевной беседе во время застолья российские офицеры вели себя неестественно сдержанно. Игорю тоже было неуютно, несмотря на гостеприимность Мансура.
В заключение Дидусь сказал несколько фраз, очень хороший, но емкий тост – в армии не любят лишних слов и тем более философских аккордов. Все должно быть предельно просто и ясно.
Возвращаясь в расположение батальона Игорь задумался. Неужели пришла настоящая война? Как Афганистан… Ведь предупреждали же в училище: ребята, каждый из вас непременно познает войну… если захочет. И вот он притянул свою войну, или это она притянула его? Но это уже не столь важно. Главное: в его жизни это, кажется, случилось. Ну и пусть! Так даже лучше…
6
В ноябре абхазцы решились на наступление, которое, несмотря на тщательную проработку, тут же захлебнулось в пенистых волнах яростного сопротивления неожиданно хорошо подготовленных грузинских формирований. Теряя десятки людей, атакующие, словно направляемые Люцифером демоны, барахтались в совершенно некстати выпавшем снегу. Они механически и фатально рвались вперед, а затем, точно подавившись бисквитом из минных осколков и пуль, ошеломленные, откатывались назад, и многочисленные черные трупы в безумных позах оставались застывшими силуэтами в снегу на грузинской стороне. Грузины же как будто все предвидели и всякий раз оказывались наготове.
С каждым днем это заколдованное войной пространство все больше тонуло в потоках крови и покрывалось зловонной коркой скверны. Игорь Николаевич, усилием воли сдерживая нетерпение ввязаться в драку, со стороны наблюдал за борьбой противостоящих сторон. Он в самом деле не испытывал никаких чувств ни к одной из них, воспринимая происходящее исключительно сквозь призму военного приказа. Для него и те и другие были противниками, и он только и ждал приказа наказать или тех, или других, или всех вместе, неважно. Он не задумывался, как для России лучше, просто безоговорочно доверялся высшему командиру, который точно знал, как надо. От старшего лейтенанта Дидуся требовалось одно: точно исполнять все распоряжения, и он их исполнял. Но пока получил лишь приказ не мешать разборкам, особенно когда инициатива была в руках абхазцев. Табу предполагалось снять только в том случае, если грузины перейдут в наступление. Тогда следовало мгновенно вмешаться и заставить грузинскую сторону отказаться от попыток вернуть свою территорию. И поэтому десантники ожидали в полной боевой готовности, в каждой боевой машине десантной был загружен полный боекомплект, все бойцы имели по четыре набитых патронами магазина и по две гранаты. Но на этом и оканчивалась их война. За ними, правда, оставалась еще одна, весьма неприятная миссия. Забирать во время коротких перемирий трупы. Игорь мог и не ездить с группой посредников в зону боевых действий, посылая туда кого-нибудь из заместителей или даже одного из ротных. Но молодой комбат считал своей непреложной обязанностью продемонстрировать, что ему чужды замашки барина и он, подобно остальным офицерам батальона, всегда готов быть на передовой. С самого начала службы он сказал себе, что никогда не позволит себе уподобиться штампованным штабным молодцам, которые готовы на любые ухищрения, только бы избежать риска. Эти «дикорастущие», как их называли боевые, не боящиеся пороху офицеры, с готовностью укрывались в коридорах штаба, за что были презираемы десантными командирами. Игорь скорее бы умер на месте, чем позволил хоть раз излишне оберегать свою шкуру. И дело тут было вовсе не в громоздких возвышенных понятиях «Родина» или «Защитник Отечества», а в незыблемых офицерских принципах, прочных, как стены средневековых замков, в убеждении, что именно таким должен быть офицер. Если бы Игорь покопался в себе, то с удивлением обнаружил, что и принадлежность к ВДВ здесь почти ни при чем – будь он командиром танкового или артиллерийского батальона, все происходило бы точно так же.
Чаще всего во время сбора убитых, находясь на боевых машинах, десантники лишь угрюмо наблюдали за тем, как абхазцы, подобно большим навозным мухам, ползали по полю, долго разглядывали побелевшие маски-лица и затем стаскивали к большому грузовику скрюченные внезапным морозом, похожие на больших, сломанных кукол тела. Здесь витал запах смерти, совершенно особый, уникальный запах, легко забивающий аромат насыщенного кислородом воздуха. От этого едкого, приторного запаха цепенели все: и скорбные абхазцы, и воинственные миротворцы, как будто осознавая, что все тут происходит по прихоти точно не Бога…
Впрочем, не все так плохо складывалось у абхазцев. Все чаще и все откровеннее в штабе полка, куда старший лейтенант Дидусь ездил на совещания, с восхищением называли имя Шамиля Басаева. Того самого Умара, которому он передал часть оружия. Поначалу Шамиль возглавлял небольшой отряд, но уже очень скоро стал командиром крупной интернациональной диверсионной группы. Поползли слухи о его особой жестокости к противнику. Там, где действовали его головорезы, оставались отрезанные человеческие головы и расчлененные тела; грузины знали его бойцов по почерку, люто ненавидя и откровенно боясь. И сам Шамиль, и его сподвижники быстро обросли дурной славой склонных к зверствам людей. Но ни российские, ни абхазские командиры не вмешивались в его дела. Более того, его поощряли, ему потакали, о нем говорили с полуулыбкой, в которую запрессовывались одобрение, восхищение и признание. И вот уже осенью Шамиль стал командующим гагринским фронтом, а в январе нового, еще более кровавого 1993 года на совместном заседании президентского совета Абхазии и парламента Конфедерации народов Кавказа он был назначен командующим экспедиционным интернациональным корпусом в Абхазии, асфальтным катком давившим правительственные грузинские войска. И Игорь знал, почему так происходит. Устрашение противника действовало настолько эффектно, что изобретенное Шамилем психологическое оружие порой оказывалось сильнее гранатометов и минометов. Игорь знал и то, что его офицеры и солдаты-контрактники влились именно в военное формирование Шамиля, который для всех уже давно перестал быть Умаром и держать свое имя в тайне. Догадывался командир первого батальона, что его подразделение – не единственное в полку, откуда пришло пополнение к чеченскому командиру. Тому было множество подтверждений, и однажды Игорь оказался невольным свидетелем довольно неприятного разговора командира артилиерийского батальона майора Кержена с командира полка. Разговор этот, проходивший на повышенных тонах, касался погибшего офицера-артиллериста. Было точно известно, что офицера нет в живых, но тело погибшего не было найдено. Кому-то надо было ехать к родителям офицера в далекую деревню под Саратовом, чтобы объясниться… И после того случая Игорь уже почти был совершенно уверен, что очень скоро такая ситуация коснется и его самого. Потом, когда это случилось, он даже решил, что своими мыслями притянул к себе события.
Как-то ранним зимним утром, почти сразу же после скромно-постного Нового года с куцей батальонной елочкой в ведерке, когда Игорь поехал с бронегруппой выступать в давно приевшейся роли безгрешного посредника при сборе трупов, к нему подошли два абхазских офицера. «Командир, там тебе надо посмотреть», – невзначай бросил ему грузный, в годах уже абхазец глубоким, подвальным голосом, поразивший грязно-черной бородой или, скорее, небритостью и большими, печальными глазами. Игорь кивнул и молча спрыгнул с брони, провалившись в глубокий пушистый, как всклоченная вата, снег. Абхазцы подвели его к большому, распластанному на снегу телу. Когда Игорь взглянул на убитого, его охватил ужас. Потеряв дар речи, он все смотрел и смотрел: это был тот красавец солдат-богатырь, которого он несколько месяцев тому назад в составе диверсионной группы отправил к Шамилю. Только теперь Игорь увидел, насколько был молод лежавший перед ним парень. Спутать его было невозможно ни с кем: ясное, открытое, исконно русское лицо, посеревшее и заострившееся в маске смерти, отражало навечно застывшее выражение детскости, непонимания и удивления. Возможно, обнаруживший его абхазец специально не закрыл закатанные к небу глаза, и Игорю даже на миг померещилось, что солдат жив, что он просто устал после тяжелого перехода и откинулся на снегу отдохнуть. Но рука, прижатая ладонью к животу, с запекшейся кровью, да несколько больших багряных пятен крови на камуфляже убеждали совсем в ином. В отличие от других воинов на поле, этот был без зимней куртки и шапки, и Игорь смекнул, что его привезли сюда. Неподалеку были даже видны большие черные вмятины в снегу от недавно рыскавшего тут бронетранспортера. Да и снег возле него был изрядно истоптан.
– Видыш, командир, труп еще теплый, – тихо проговорил присевший на корточки пожилой абхазец и закрыл своей ладонью распахнутые глаза мертвого солдата, – его уже утром зарэзали.
Игорь, потрясенный, не отвечал, и абхазец взглянул на него. Некоторое время они пристально смотрели друг другу в глаза, точно старались запомнить этот момент: комбат, пораженный смертью, – и привыкший к общению с мертвыми, спокойный, видавший виды человек. «И как он может так легко и спокойно рассуждать о жизни и смерти?!» Игорь смотрел на абхазца и видел невозмутимые и вместе с тем смиренные, скорбные и тихо вопрошающие глаза священнослужителя или монаха. За пеленой печали можно было угадать глубокое понимание смерти в неотвратимой человеческой бойне, без ее осуждения, но с полным неприятием. И Дидусь отчего-то понял, что именно такие глаза должны быть у человека-похоронщика. Игорю стало тошно от подкатившего к горлу комка. Почему, когда нажимаешь на спусковой крючок и автомат грозно сотрясается у тебя в руках от дикого разряда огневой очереди, ты ощущаешь неимоверный прилив силы и готовность расстреливать врагов, желание изрешетить их?! А когда видишь мертвое тело молодого воина, в горле становится сухо, некуда деть шершавый язык, а под коленками ощущаешь слабость? И только в такие мгновения дивишься тому, как уязвима плоть и как непрочна ее связь с миром.
Игорь вез тщательно завернутое в плащ-палатку тело солдата, размышляя о превратностях судьбы. Предстояла перспектива общения с его родителями. Был ли он пленным, пытали ли парня перед тем, как добить? Герой ли он или сломался перед смертью? Сейчас все это неважно. Героем мы его непременно представим! Пусть хоть родители будут спокойны. Пусть, если у него есть братья и сестры, гордятся им. Командир почти наяву слышал исступленный крик матери солдата, похожий на грудное клокотание раненой, но еще живой птицы, в своем безумном горе непонимающей, неспособной оценить происходящее.
Смерть этого солдата придавила Игоря непоправимой реальностью, как тысячи смертей до него и тысячи после. И комбат удивился, что наряду со скорбью его мучают совершенно неуместные в этой ситуации вопросы. Например, он думал, что этот солдат мог избежать смерти, не стремись он так настойчиво в эту трижды клятую, бесовскую группу диверсантов. Потом мысли Игоря неожиданно повернули в другое русло: интересно, а скольких врагов уложил этот парень, скольких уничтожил своими руками, и не является ли его собственная смерть лишь логической платой в длинной цепи погибших? И если бы он остался в живых после всех совершенных убийств, как бы жил дальше, сумел бы не разорвать своими сильными руками чью-то наивную, менее искушенную войной плоть, сумел бы противостоять своим порывам, фатальному стремлению оставаться на грани между жизнью и смертью?! Смог бы он вообще быть мирным гражданским человеком, строителем, или программистом, или кем-нибудь еще – неубийцей? Ответов на эти вопросы у молодого комбата не было…
7
Прошло еще почти два месяца. За это время произошло немало событий, служивших доказательствами тому, что это и их, российских десантников, война. В конце зимы нашел свой последний капкан старший лейтенант Жук, который командовал нелегальной разведгруппой. То ли истощенный непрерывными походами за линию фронта, то ли просто потерявший чувство опасности, он нарвался с группой на засаду. Докладывающий Игорю лейтенант Измайловец рассказывал, что, осознав провал и моментально оценив безнадежность обстановки, командир без колебаний приказал отступать, а сам прикрывал уходящих товарищей. Уже потом, через неделю, когда через местных посредников договорились забрать тело разведчика, была восстановлена картина его гибели. Контуженый и почти без памяти, отчаянный старлей оказался в плену. По искалеченным почерневшим членам и переломанным во многих местах костям стало понятно, что его истово, беспощадно пытали. А затем еще живого посадили на кол. Может быть, пытались отыграться за своих погибших, за отрезанные чеченцами головы. Хотели компенсировать свою неутихающую боль чьей-то еще более ужасающей смертью, средневековыми мучениями. За завесой нечеловеческой боли стоит неизменное возвращение к первобытному, к животному, и кто испытал это, тому уж непросто потом вернуться в мирную жизнь, снова обрасти способность наслаждаться полотнами выдающихся художников, музыкальными шедеврами. Воспоминания о чинимых зверствах всегда будут преследовать тех, кто однажды рискнул посягнуть на главное – жизнь человеческую.
Слушая скупые слова лейтенанта, комбат ясно угадывал острый запах приближающейся весны, смешанный с пороховой гарью, потом и кровью. Везде боль, неутихающая, за гранью терпения и понимания, повсюду признаки наступающей смерти и непрерывно возрастающая, непереносимая тошнота. Видел ли лейтенант Жук в последние минуты лучи навечно удаляющегося солнца, или, может быть, оно было скрыто пеленой водянистого тумана? Вспоминал ли он мать, любимую женщину и не проклинал ли то мгновение, когда добровольно решился воевать за чужое счастье? Впрочем, какое чужое счастье?! Каждый всегда воюет исключительно за свое счастье, независимо от того, на чьей он стороне. Это старший лейтенант Дидусь усвоил очень хорошо. Потому что речь тут всего лишь о том, каким ты выглядишь в своих собственных глазах – героем или просто участником представления под названием жизнь. Ибо все остальное – остервенело воюющие стороны, идеи, за которые безжалостно вцепляются в глотку и умирают, красивые лозунги, великолепные жесты – все это только декорации к твоему выступлению…
После скупого удручающего рассказа лейтенанта Игорь тяжело вздохнул, признаваясь в своем бессилии сделать что-либо, чтобы восстановить справедливость, назвав лейтенанта героем. Более того, он даже не мог помочь матери Жука получить пенсию. Потому что в тот момент, когда оборвалась связь со старлеем, тот не значился больше в штатных списках батальона! На то было четкое указание свыше, и нарушить его комбат не имел права, даже если бы очень хотел. Каждый определяет свой выбор сам. Старший лейтенант Жук сделал ставку и не угадал, ну совсем как в азартной игре. Как в русской рулетке, когда в пистолетном барабане всего лишь один патрон. И он нашел его, этот единственный патрон. Но ведь он сознательно играл в азартную игру…
Вместе с телом сослуживца резко повзрослевший, хмурый лейтенант Измайловец привез большую часть когда-то переданного оружия и пламенный привет от Шамиля Басаева, пользовавшегося огромным авторитетом в Абхазии. Тот искренне благодарил за помощь и скорбел о погибшем, грозился отомстить – отрезать два десятка грузинских голов и сыграть ими в футбол… По поводу оружия комбат давно не переживал: недавно подорвался бронетранспортер и списано было столько барахла и железа, что и подумать страшно… Если бы Дидусь хотел обогатиться на этой войне, как некоторые, он бы уже стал миллионером… Но он тут по другому поводу, с иной миссией… После слов о головах Игорь испытал неожиданный прилив омерзения. Разве жестокостью можно что-либо исправить?! Шамиль считал, что да. Лейтенант Измайловец подтвердил: в этом человеке сидит демон и этот демон выполз наружу, он уже не успокоится, пока не насытит самолюбие чеченца. «Только где пределы его самолюбия?» – подумал Игорь. Он еще долго расспрашивал лейтенанта, который почему-то рвался обратно, к Басаеву. Осторожно заглядывая в глаза Измайловцу, Дидусь видел, что это уже совсем не тот человек, которого он направил к чеченцу в начале осени. Что-то леденящее душу смотрело на него из глаз лейтенанта, словно в нем поселилось нечто неистребимое, некое чудовище, разрастающееся до тех пор, пока не захватит все тело, всю душу этого человека, пока не потеряет власть над собой или не найдет смерть от пули. Но чем больше Игорь всматривался в тонкие черты лейтенанта, чем больше наблюдал за его ставшими непримиримыми и резкими движениями, тем больше ему казалось, что он понимает молодого офицера, безоглядно подавшегося в диверсанты. Комбату казалось: он просто комплексовал всегда, и теперь после унижений школы и училища представился случай самоутверждения – за счет негласно данного права убивать. Игорь удивился тому, как по-разному люди стремятся к войне: он сам – ради долга и славы; Измайловец – чтобы подняться в собственных глазах; Жук – по каким-то личным мотивам, никак не связанным с мифом о помощи абхазскому народу и выполнении долга миротворца…
Лейтенант передал привет еще от одного человека. Мансур, нередко навещавший Шамиля, также интересовался делами первого батальона и его командира. Измайловец назвал и настоящее имя Мансура – Антон Суриков, оказавшегося офицером Главного разведуправления российского Генштаба. Что ж, Игорь подозревал нечто подобное, догадывался о корнях… Сообщение от Сурикова было дружеским, простым и вместе с тем настораживающим: скоро штурм Сухуми, надо быть хорошенько готовыми к этой, возможно ключевой, операции в настоящей войне. И он, Мансур, Антон Константинович, очень надеется на таких настоящих офицеров, как старший лейтенант Дидусь. Игорь сглотнул слюну при этих словах. Проверяет? Испытывает? Подумывает о вербовке в свои ряды? Он отогнал навязчивые мысли. Вот они, перипетии войны, до последнего не знаешь, кто есть кто и кто за кем стоит. Это вам даже не Курская битва, черт подери, где понятно, где свои, а где враги…
Игорь знал, что и в других батальонах есть потери. Там, где это было возможно, идеологи войны начали спешно ковать необходимые армии символы – героев – ориентиры для плотно бредущих следом. Один из таких – старший сержант Виталий Вольф, посмертно ставший Героем России. Простой, неискушенный российский парень, честно выполнивший свой долг: под артиллерийским и минометным обстрелом смертельно раненный в голову контрактник обеспечил связь с сейсмической лабораторией. Игорь тотчас поднял в воздух вертолетную группу огневой поддержки, решившую исход операции… И уже только потом доложил командиру полка о принятом решении.
Что ж, полк служил тайным резервом, из которого отчаянно воюющая абхазская сторона черпала силы, выдавая кровавые события за борьбу за независимость. Игорь не утруждал себя лишними, как ему казалось, размышлениями. Разве XX век не знал раньше подобного фарса? Разве он, Игорь, не стремился попасть в Афганистан, который потом был назван ошибкой, бездарным решением старцев из политбюро? Ему, молодому офицеру, ищущему славы, было решительно наплевать на перипетии большой политики! И сейчас наплевать! США и СССР соревновались за лидерство. Теперь место СССР уверенно заняла Россия. Впрочем, в гремучей смеси этой войны – и Игорь почувствовал это явственно – российский спецназовец оставался тем мощным супинатором, на котором держалась вся абхазская подошва. Старший лейтенант Дидусь еще не знал, что только один полк, 45-й, расплатится за активное вмешательство в грузино-абхазский конфликт двадцатью семью жизнями молодых российских парней. Не считая, разумеется, жизни тех офицеров и солдат, которые пошли в диверсионные группы вслед за Мансуром, офицером российской военной разведки Антоном Суриковым. Но даже если бы и знал это Игорь, наверняка подумал, что для такой войны, для такого позиционного успеха – это сущие мелочи. Потому что не дело старшего лейтенанта воздушно-десантных войск задумываться о причинах и следствиях, увязывать в единую цепь все кровавые звенья кавказских войн и особенно ту, которая станет через несколько лет его личной судьбой, – чеченскую.
Просто кто-то сверху удивительно ловко, феноменально жонглировал всеми ими, их жизнями и судьбами… Но только кто они сами – герои или злодеи, этого он не знал и не хотел знать. Мысленно Дидусь сравнивал себя с Шамилем, пытаясь честно ответить на самые неудобные вопросы. Например, о том, а мог бы он таким же командирским маршем пройти по нынешней войне? Ну, если б можно было… Этот Умар-Шамиль только внешне казался прогнозируемым. Где-то внутри в нем заложена мина замедленного действия, и она сработает в тот самый момент, когда его личные интересы перестанут совпадать с интересами дела, которому он служит сейчас. У него же, Игоря, все по-другому. Еще в училище, а может быть, и намного раньше, он отказался от себялюбия. Тем самым отдал себя во власть судьбы, своего предназначения. Безропотная служба богу войны приносила свои, пусть и очень скромные, но дивиденды…
…Звание капитана Игорь Николаевич Дидусь получил досрочно, вместе с утверждением соответствующим приказом в должности командира батальона… Ему светил небольшой отпуск, проанализировав сроки которого, молодой комбат сделал вывод: к штурму Сухуми он непременно успеет…
Глава восьмая
(Черкассы, апрель – май 1993 года)
1
– Игорь, а ты бы и в самом деле пошел с Витей. А то уже до комбата дослужился, а ни семьи, ни даже намека на семью. А ведь с женой-то легче служится, поверь мне.
– А что, Игорек, сходил бы, прогулялся, развеялся. Посмотри по сторонам, тебя ж никто за галстук в загс не тянет…
Игорь не скрывал досады. Не могут понять его старики и оставить в покое. Мать причитала из крохотной кухни, а отец, напялив на нос очки, что-то чинил, сидя за маленьким раскладным столиком. Игорь на мгновение выглянул из большой комнаты, служившей гостиной, и опять утонул в кресле. Отец в роли радиомастера выглядел комично и жалко. Куда только делась его полковничья выправка? «Вот, – пронеслось в голове у Игоря, – не может покоя найти, не сидится ему спокойно, постоянно сам себя озадачивает, как будто на службе. И мне покоя не дает. Неужели и я когда-нибудь перейду в категорию дотошных стариков-педантов?»
– Ну, ты, батя, смешон, – сын выразительно поморщился, – ну кто, скажи, в этот Кировабад, тьфу, в эту Гянджу поганую поедет, ну какая нормальная баба туда попрется, это ж все равно что себя заживо замуровать в стену.
– А ты многих спрашивал? Да и вообще, много ли ты о женщинах знаешь? – Отец появился в проеме двери. Непривычно было его видеть в очках, в домашних брюках от спортивного костюма с оттопыренными коленками, в тапках со стоптанными задниками… Только взгляд оставался все таким же командирским и непререкаемым.
– А ну, что ты там о женщинах сыну толкуешь? – Мать появилась возле отца и ущипнула его за бок. – А ну, выкладывай.
– Я, между прочим, на Кавказе вместе с твоей матерью шесть лет отслужил. И ничего, не выла. А даже весьма рада была.
– Ну ты сравнил грузинские Ахалкалаки с азербайджанским Кировабадом. Это ж, как говорят в Одессе, две большие разницы, – улыбнулся Игорь. За спинами родителей промелькнул Виктор, уже на скорую руку прихорошенный к свиданию. До Игоря донесся настойчивый запах дешевого дезодоранта.
– А что, Игорек, может, в самом деле с Витей пройдешься, проветришься?..
– Слушайте, ну вы достали меня. – Игорь показал жестом руки возле горла. – Вы еще хуже кэпа нашего, который все меня женить намеревается. Вам чего неймется?!
– Так, братан, собирайся, там у нас недостача мужского пола. – Виктор, растянув рот в беспечной улыбке, заслонил собою проем. Он в последние годы заметно вымахал, стал на голову выше старшего брата, выглядел больше, массивнее Игоря, хотя мышцы у того были явно покрепче.
Старший пристально взглянул на младшенького. Самонадеян и непогрешим, каким можно быть только в девятнадцать. Одет, как франтик, грудь колесом, готов на все. Вот оно, новое поколение – непринужденное, раскрепощенное, решительно отвергнувшее постную училищную кашу, сделавшее выбор в пользу гражданской жизни. А ведь еще даже толком не бреется… Эх, где я был в эти годы…
– Поясни, – коротко бросил он брату.
– Поясняю: две девочки из нашего черкасского пединститута – обе во! – тут Виктор поцеловал свои три сложенные бантиком пальца и громко причмокнул, – и обе не нудные. Так вот, одна моя, а вторая – непонятно. То встречается, то не встречается. С одним там деятелем смешным, так, ничего особенного, студентик замызганный…
– Типа тебя? – съязвил Игорь, но брат не обратил внимания на его колкость.
– Но он куда-то уехал, по-моему, к родителям в Жашков. Короче, неважно. Суть дела – моя одна не хочет идти, типа подругу ей жалко оставлять одну скучать. А втроем, сам понимаешь, – тупо и бездарно идти… даже в кино… Кстати, поход в кино ни к чему не обязывает…
– Ладно… Только будешь подсказывать, что говорить, а то я уже забыл, как это разговаривать с девушкой…
Игорь не заставил себя долго ждать. Может, это и уловка. А может, это ему самому нужна была какая-нибудь пристойная зацепка, чтобы отправиться с братом. Может быть… И Витя, похоже, уловил момент.
2
Обе девушки показались Игорю серыми мышками. Обе сельские, из пресловутого, забытого богом Жашкова, как будто нет вблизи Черкасс других поселений. Обе представлялись бывалому командиру по-детски наивными, ничего не знающими о жизни, невинными и даже несколько старомодными для города. И внешностью обе обладали неброской, одеты скромно, неярко и небогато. Предпочитали юбки прямого покроя, причем довольно длинные, какие черкасские девицы уж давным-давно не носят. «Короче, о моде и искусстве обольщения имеют эти девочки очень туманные понятия», – решил для себя комбат. Мимо таких можно пройти и не заметить. Одним словом, безнадежные провинциалки… Но Дидусь-старший быстро убедился, что молодость сама по себе свежа и самодостаточна, порой она, подобно волшебной палочке, создает прелестные узоры на юных образах всякий раз, когда это необходимо.
На правах давнего бойфренда одной из девушек Виктор уверенно проник на влекущую сугубо женскими запахами и звуками территорию общежития, прямо в маленькую комнатушку, где обитали обе девушки. Игоря одолевало смущение; ему казалось неприличным и сверх меры наглым такое внедрение в чужой мир. Но правила диктовал младший брат, и он нехотя смирился, перейдя в категорию наблюдателя. Однако то ли из-за неприхотливого быта, помноженного на почти безукоризненный, тюремно-монашеский порядок, то ли вследствие доверия к Виктору, а может, по природной простоте девушки не восприняли приход как вопиющее святотатство. Это был тот самый случай, когда теснота маленького закрытого пространства располагала к скорому знакомству друг с другом. Игорь, давно отвыкший от женского общества, чувствовал себя скованно. Безнадежно забытый, проникающий в самые глубины его подсознания женский аромат сводил его с ума. Он не находил места и казался неуклюжим. Бравый офицер неожиданно ощутил себя рыбой, которую решили сварить живьем. Виктор же бесцеремонно приземлился на пружинистую, глубоко прогибающуюся и недовольно скрипящую под ним кровать – рядом с непринужденно расположившейся Аленой, худенькой девочкой с миловидным личиком. Она обладала пухлыми, чувственными губками и маленьким вздернутым носиком, который придавал ей гордое выражение даже тогда, когда она не стремилась к этому. Ее портили лишь несколько мелких прыщиков на клиновидном подбородке, какие часто бывают у подростков. «И что он нашел в ней?» – подумал Игорь, поглядев на заостренные, в самом деле как у мышки, черты ее лица.
Другая девушка, Оксана, несколько напряженно сидела за столом, бывшим одновременно и кухонным, и письменным, и обеденным. Капитан, чувствовавший себя в этом юном обществе стариком, мельком отметил более пышные формы, круглое скуластое лицо с тонкими бровями-ниточками и довольно тонкими губами на фоне совсем еще детских, с розовой кожей, щек. Из-за довольно узких разрезов близко посаженных глаз и коротко остриженных светло-каштановых волос лицо ее казалось монголовидным, хотя и не лишенным благородства. Ее губы были плотно сжаты, придавая ей вид сдержанной, отстраненной и слишком скромной особы. Но все это проскользнуло в голове у Игоря неосознанно и лишь мимоходом, потому что в этот момент более всего он был озабочен собой, вернее, своей выдержкой. Он был уверен, что выглядит ужасно глупо, стоя посреди маленькой комнатушки. И в то же время деваться было некуда. Присесть на вторую кровать, аккуратно убранную, Игорю не позволяла непонятно откуда взявшаяся робость, а занять второй стул у стола было немыслимо, так как он оказался бы на непристойно близком расстоянии от девушки. Уверенный в своих батальонных делах, лихой вояка вдруг почувствовал себя беззащитным. Он не знал, куда деть руки, которые ужасно мешали, не знал, что сказать, боялся близости девичьего тела, источающего энергию сочного, только что распустившегося молодыми зелеными листиками деревца.
– Да вы садитесь, мы не кусаемся, – спокойно, но с каким-то скрытым вызовом пригласила Оксана, указывая на стул. Сама она в этот момент подобралась и сжалась, опустила глаза и слегка наклонила голову. Голос девушки показался Игорю тягучим и мягким, похожим на кисель, и эта тягучесть, вместе с привкусом подброшенного ему испытания, слегка покоробила. Но он покорно присел, беспомощно уронив руки на выцветшую застиранную и все-таки совершенно чистую скатерть. В один момент Игорь оказался настолько близко к девушке, что его тут же обдало жаром, словно от открытой духовки. Он остро ощутил запах – приторный, непостижимо активный и проникающий в него подобно химическому элементу. Это не был запах искусно подобранной парфюмерии, это был исключительно природный, мускусный аромат молодого свежего женского тела. Игорь понятия не имел о напоминающем запах пота женском гормоне эстрогене, никогда ничего не слышал о человеческих стероидах или афродизиаках, он даже не был в состоянии констатировать силу воздействия душистого запаха. Лишь его мужское начало независимо от сознания по обонятельным каналам принимало сладостные чары и, теряя натренированную стойкость, становилось податливым и уязвимым. Игорь посмотрел на девушку и удивился: ее глаза оставались как бы зашторенными и казались невыразительными. Получалось, что это он ненормальный, неадекватно воспринимающий действительность, а все вокруг совершенно предсказуемы, цивилизованны. И все-таки, когда он второй раз мельком бросил взгляд на новую знакомую, то смутился настолько, что тут же почувствовал непреодолимое желание вскочить. Внезапно он ощутил, что начинает густо краснеть, что ему не хватает воздуха и грудь сдавливают неведомые тиски. Как если бы он был на экзамене и не знал ответа. Игорь встал, неловко споткнувшись и пристально глядя в другую сторону – на сплошь заставленную книжную полку, словно обнаружил там золотой слиток. Он не видел, как девушки удивленно переглянулись. «Фу ты, черт неуклюжий! Ну-ка, взять себя в руки, капитан Дидусь! Живо!» Игорь всегда терялся, когда от него ускользала инициатива, поэтому знал, что должен что-то предпринять. Он быстро выхватил из ряда стройных корешков наиболее яркий, малинового цвета учебник, им оказались педагогические умствования Макаренко, увидел спасительное слово «Педагогика». Его можно было использовать в качестве зацепки. Поэтому с усмешкой ученика, доказавшего наконец теорему, он повернулся на носке одной ноги и пятке другой, словно хотел выполнить строевой прием «Кру-гом!», и вдруг торжественно объявил девушкам, что он их коллега. «Да-а?» – У них немного вытянулись лица. Но проснувшийся интерес сфокусировался вовсе не на сказанном, а на нем самом – странном, неуклюжем, явно непохожем на обычных молодых людей. Игорь вдруг сбивчиво начал рассказывать, что у него почти триста учеников, восемнадцати-девятнадцатилетних балбесов. Но, уловив на себе осуждающий взгляд брата, так же быстро почуял собственную глупость, осекся и умолк. Наконец ни с того ни с сего он предложил погулять в городе. Алена хихикнула, Оксана томно опустила глаза и промолчала.
Апрельская послеполуденная прохлада несколько успокоила Игоря, и он вновь почувствовал себя хозяином положения. Уверенным жестом поймал автомобиль, распорядился отвести компанию в кафе, угостил всех мороженым, какими-то сладостями и неумело сваренным, пережженным кофе. Его единственным достижением за это время стало то, что девушки наконец перестали говорить ему режущее слух и напоминающее о его бесперспективности «Вы». Правда, и он благоразумно оставил армейскую тему. Уж несколько дней минуло с момента его приезда в родительскую квартиру в Черкассы, а он все не мог привыкнуть к звукам мирно живущего города с его мерно гудящими троллейбусами, украинским говором на рынках и набухшими, смолистыми почками на деревьях.
В течение всего этого времени Оксана, в отличие от излишне говорливой и порой шумной Алены, оставалась скупой на слова и жесты и казалась задумчиво-печальной, как будто душа ее находилась где-то далеко. Если Алена воевала за внимание всех и вся, Оксана все больше слушала, слегка наклонив голову и изредка отделываясь ничего не значащими репликами. Возможно, веселая резвость и непринужденность Алены были бы по душе Игорю, но его уши отвыкли от коробящего слух языкового суржика, так характерного для украинских пригородов. Он вынес это ощущение из детства, прекрасно помня, как русскоязычных детей в школах центральной Украины автоматически относили к касте городских, а украиноязычных – к менее привлекательной категории обитателей села. И он отлично помнил свои горделивые ощущения по возвращении в Черкассы после нескольких лет, проведенных в Ахалкалаки, когда по языковому принципу он тут же был зачислен в авторитетные городские, тогда как в Межириче за своего его принимали все реже, не учитывая его вынужденную русификацию.
И лишь когда, обогнув Холм Славы, они вчетвером спустились к набережной, чтобы неторопливо побродить у Днепра, у Игоря завязалось с девушкой некое подобие разговора, причем у офицера сформировалась убеждение, что Оксана постоянно контролирует свою речь. Смышленый Виктор, держа прижавшуюся к нему Алену за талию, стал отставать, они же, двигаясь на почтительной дистанции друг от друга, шли упорно вперед, как будто им выпал долгий маршрут и в этом движении заключался важный смысл.
Когда Игорь спросил девушку, что определило выбор ее профессии, она призналась, что готова была пойти в любой институт, лишь бы уехать в город. Жизнь в селе или маленьком городке казалась ей вялой, скучной и бесперспективной. Молодые люди там быстро скисают, женщины в тридцать лет становятся безнадежными бабами. Ей бы не хотелось жить так, как ее мать, среди огородов, кур и навоза. А чего бы ей хотелось? В ответ она смешно наморщила нос и чуть усмехнулась: «Посмотреть мир, увидеть что-то красивое, познать счастье…» – «А в чем тогда счастье?» – полюбопытствовал Игорь. Оксана опять улыбнулась: «Это ж так просто, это знают все, даже в забытом богом Жашкове. В любви, конечно. В красивых отношениях, в веселых, здоровых, задорных и сытых детях». – «Разве это сложно», – не унимался с расспросами боевой офицер, для которого сложность представлял разве что захват военного объекта. «Совсем нет, несложно. Только почему-то мало у кого выходит…»
Она любит детей? Конечно! «Хотя, если честно, – Оксана запнулась, подумала, немного растерянно взглянув вверх, как будто разглядывала плывущие облака, – если честно, я испытываю к ребенку старшей сестры противоречивые чувства. И бесконечно люблю, потому что он крошечный, пухленький, беззащитный и пахнет чем-то сладковато-молочным. Но и сержусь, когда он капризничает и в эти минуты невыносимый, а весь мир крутится вокруг него». – «А детей в школе будешь любить?» – «Очень хочу их всех полюбить, но уже сейчас знаю, что это будет нелегко сделать. – Девушка потупилась и, кажется, сжала в кулачки руки в карманах куртки. – Потому что мир даже со времени нашей школьной учебы очень изменился: дети стали беспричинно агрессивными, черствыми, мальчики с ранних лет приобщаются к пошлости, девочки с юного возраста распутны, мир наполняется мутантами…»
Игорь слушал ее сбивчивые речи и удивлялся. Она была совсем не похожа на тех ряженых куколок, на которых он порой обращал внимание на улице, искоса оглядывая. Хотя сейчас она как будто немного оживилась, раскраснелась. Непринужденная осанка, беспокойная от дыхания девичья грудь под воздушной курточкой, легкая, если хорошо приглядеться, сутулость. В ней ощущалась какая-то угловатость и пасмурность, что-то его настораживало. Он не сразу понял, в чем дело, но потом его вдруг осенило: ее напряженная походка! Да она просто не привыкла гулять, и прогулка без определенной цели казалась ей столь же противоестественной, как и ему самому. Зато в ней совсем не было фальши или жеманства, и это подкупало Игоря. Хотя иногда обескураживало… Он удивился сам себе: впервые за несколько часов знакомства он нашел в девушке что-то такое, что в самом деле порадовало его на фоне ее довольно скромной внешности.
«А ваши ученики, ваши солдаты, – спросила она, – они послушны?» Вопрос застал Игоря врасплох, прозвучав как раз тогда, когда он задумался, рассматривая спутницу. Он помолчал и неожиданно для самого себя сказал: «У них нет выбора, они на войне. Если они не будут до конца доверять командиру, если не будут абсолютно послушны, их шансы выжить и вернуться домой вполовину уменьшатся. Как командир я являюсь их охранным иммунитетом». – «А приходилось ли вам… – тут она осеклась и впервые посмотрела Игорю прямо в глаза, – …приходилось ли вам стрелять в живых людей и убивать их?» Взгляд ее проникал в душу и показался Игорю даже строгим, как у церковного служителя. Таким глазам невозможно соврать, хотя в расширенных зрачках мужчина обнаружил и живой девичий трепет, и страх, смешанный с любопытством, и детскую жажду заглянуть за запретную дверь, и взрослое желание понять его личное, сокровенное. Он отвел взгляд. «Нет, я не убивал, конечно, – ответил Игорь, тушуясь и глядя в сторону. – Не приходилось, пока…» И тут он впервые сам заглянул в собственную, обнажающуюся душу. С ужасом обнаружил там разверзнувшуюся бездну, пропасть… Зачем он добавил это страшное слово «пока»? Знает, что скоро придет его час испытать не подконтрольные сознанию навыки? Он и его бойцы – всего лишь миротворцы, но он видел не только смерть от пули, но и зверства, одинаково легко чинимые воюющими сторонами. Его калейдоскоп впечатлений давно вращался с немыслимым для обычного мирного жителя ускорением. Он видел отрезанную голову грузина, посаженного на кол абхазца, запавшие глаза жестоко изнасилованной неизвестно кем и умирающей девочки-подростка. Он видел тлеющие и полусгоревшие трупы беженцев, множество трупов ни в чем не повинных людей, среди которых было много детей. Это были мирные жители, которых вертолет вывозил из маленького горного Ткварчели; его сбили при помощи ПЗРК у Кодорского ущелья… Игорь не мог наблюдать за падением подбитой воздушной машины, но живо представлял, как вместе с кусками металла и горящими обломками обшивки, приборов и багажа разлетаются части человеческих тел, обгоревшие куски плоти, и чувствовал, как распространяется невообразимый, никогда не забываемый, невероятно въедающийся в сознание запах горелого человеческого мяса. Вообще, то, к чему начали привыкать его глаза, иному не приснится в самом страшном кошмаре…
Игорь вдруг тряхнул головой, словно отгоняя назойливые мысли. Получилось так резко, что Оксана отшатнулась и едва не вскрикнула. Она поняла, что затронула слишком болезненную струну. Девушка предложила спуститься к реке, и он согласился. Они подошли вплотную к кромке воды, прямо по слежавшемуся песку, на котором то тут то там виднелись застывшие с осени косы грязно-зеленого ила. Игорь наблюдал, как маленькие каблучки ее туфелек наполовину утопали в сонном, еще не разбуженном окончательно весной речном песке. И в этом было нечто волнующее, как и в самом дремлющем Днепре. Эти новые ощущения приятно поражали его своей невиданной прелестью, совершенно еще не испытанной ранее радостью.
Встречается ли она с парнем, спросил Игорь девушку под воздействием прилива новых ощущений. И удивился тому, как быстро становится собственником всего, к чему прикасается. А ведь у него даже не было уверенности, что девушка, идущая рядом, ему нравится… Она вздрогнула от вопроса, но затем, с присущим ей смирением опустив глаза, дала странный двусмысленный ответ. Она хотела бы встречаться с парнем, если бы такой встретился и если бы у него были серьезные намерения, но… Игорь позволил себе еще большую прямолинейность. А как же тогда ее друг из Жашкова? Оксана ничуть не смутилась. Вообще, когда она говорила, то смотрела как будто сквозь него. «Этот парень просто друг, к тому же он никаких видов на меня не имеет, – пояснила Оксана. – Да и… слабенький он… Хороший, честный, добрый, но слишком хлипкий, мягкий, какой бывает разваренная лапша…» – «Что значит в твоем понимании слабенький?» – «Ну разве может сильный, уверенный в себе мужчина стремиться к работе в школе, признавая, что ни к чему более непригоден?!» – Она сказала это в сердцах, зло, как показалось Игорю, почти выкрикнула. Словно кто-то был виновен в слабости того паренька.
«А к чему должен стремиться сильный мужчина?» – поинтересовался Игорь. Девушка посмотрела на него испуганным взглядом зверька, которого загнали в угол. «Почем мне знать? Точно, к чему-то большему, необъятному, такому, что женщине сложно понять… Мужчины в этом лучше разбираются…» Игорь не стал ее переубеждать, она казалась ему и инфантильной, и слишком взрослой одновременно. Даже не взрослой, а какой-то старомодной, консервативной. Право же, он и себе уже представлялся старцем, эдаким кавказским мудрецом, спустившимся с гор.
Ее суждения Игоря удивляли и даже задевали. Они были не похожи на жизненную стратегию, которую реализовывал он сам. В чем-то они были даже чужды ему. И все-таки в глубине души он понимал, что это не какие-то там детские переживания, а основательно выношенные, много раз передуманные и честно высказанные мысли. Ей, похоже, совершенно не с кем общаться. И уж совсем некому доверить то, что она считает серьезным и важным.
– Эгей! – крикнул Виктор. – Где вы пропали?!
И он вдруг, схватив свою спутницу за руку, чуть ли не бегом увлек ее к берегу. Они оказались вчетвером на пустынном берегу, и только по сереющей набережной гуляли еще пары.
– Купаться будем? – громко вопрошал раскрасневшийся Виктор, в то время как запыхавшаяся Алена приводила себя в порядок.
– Конечно, раздевайся.
Виктор сделал несколько движений, как будто в самом деле собирался броситься в воду, но потом стал дурачиться, щипая Алену и убегая от нее. Он попробовал вовлечь в импровизированную игру Оксану, но та оставалась невозмутимой. Как и Игорь, скрестивший руки и героической позой походивший на египетского фараона, которого у воды священного Нила развлекали подданные. А еще Игорь подумал, как сильно отличаются две девочки, делящие комнатушку в общежитии. И какие, верно, различные у них будут судьбы. А ведь и он с братом словно с разных планет… От этой пронзившей его мысли Игорю на мгновение стало горько и одиноко. Но каждый рожден, чтобы нести свой собственный крест. Так было, есть и будет!
3
Братья вернулись домой, когда уже стояла ночь. Кажется, не было ничего необычного в том, что они не разговаривали между собой о девушках. Виктор некоторое время ждал вопросов, но Игорь так ничего и не спросил. Словно пять лет разницы в возрасте возвели между ними китайскую стену, разделяющую разные поколения и разные судьбы. Младшему хотелось жить веселой и необременительной жизнью, дышать полной грудью, старший за пять лет испытал столько, сколько другим не удается познать за всю жизнь. Дома оба отмахнулись от родительских расспросов и быстро разошлись по комнатам просторной отцовской квартиры.
Игорь долго не мог уснуть, думая о том, что он в свои двадцать пять лет ни разу не имел серьезных отношений с женщиной. Почему так случилось? Он давно перешел в ту хмурую категорию мужчин, для которых флирт имеет все меньше значения и не приносит восторженной радости, свойственной пылкой юности. Ему и раньше в отпусках случалось совершать попытки завоевать сердце какой-нибудь грудастой красавицы с вызывающе яркими губами и покачивающейся походкой. Но уже после нескольких минут общения, после немногих сказанных слов приходило понимание, что контакт с душой невозможен. Даже на войне он избегал становиться циником, женские же циничность и глупость вызывали у него сначала неприятие, а затем и презрение. А потому в общении с такими женщинами он, за редким исключением, не мог заставить себя даже довести отношения до постели – на одну ночь, разумеется. А когда это случалось, за удовлетворенностью плоти стояла неудовлетворенность души, что потом долго не давало ему покоя. Игорь не переставал удивляться, как за иным симпатичным лицом и ресницами сказочной Мальвины прячется духовный урод. Он даже не примерял таких девушек на себя, ибо осознавал невозможность совместной жизни. «Если в оранжерейных условиях города с такой особой точно будут проблемы, то как она поведет себя где-нибудь в Гяндже или Фергане?» – спрашивал он себя, и разочарование неизменно росло.
На первый взгляд, военные создают свои семьи очень странно. Пылкими юношами они легко обещают достать с неба сверкающие звезды, вырвать с них тайну мерцания, испытывая ощущения ювелира, который способен огранить любой алмаз. Но проходит время, и офицеры, за редким исключением, становятся иными – роскошные красавицы и умелые искусительницы быстро перестают их привлекать. И за этим стоит зрелая рассудительность: с определенного времени им необходима подруга жизни, а не разодетая куколка, в которой можно быть уверенным лишь до первого жизненного поворота. В офицере больше, чем в ком-либо ином, проявляются две ипостаси мужчины: завоевателя и единоличного обладателя. И если для городского ловеласа присутствие рядом с ним броской красотки является подтверждением его мужских достоинств, то настоящие полководцы предпочитают владеть собственной армией, собственной женщиной, и при этом женская красота для них не является мерилом. Игорь относил себя именно к числу потенциальных полководцев. Он рассматривал женщину совсем не так, как разглядывают драгоценный камень. Сексуальная привлекательность, способность любвеобильной самки блистать, как он полагал, не имели для него значения. Он был готов ощутить глубину личности, если, конечно, такая глубина существовала.
Первая встреча с простенькой девушкой почти не взбудоражила его закаленную психику, не возбудила никаких переживаний. Игорю немного запала в память лишь странная дуга ее губ с опущенными вниз кончиками. Из-за этого Оксана казалась ему дымчато-задумчивой, витающей в облаках, порой отсутствующей и рассеянной. Но, размышлял он, что-то есть в этом печальном ребенке. И раз уж он в отпуске, то почему бы не попытаться выстроить хоть несколько ступеней в шаткой лестнице новых отношений? С этой мыслью Игорь и уснул…
4
Проснулся он совсем другим человеком: на смену вялости пришли осмысленная решимость и дерзость. Как всякий завоеватель, он начал с плана, пункты которого должен был выполнить так же точно, как пункты наступления из Боевого устава ВДВ. Оставив в покое повесу-брата, он самостоятельно предстал перед Оксаной почти тотчас после занятий в институте, предусмотрительно одарив шоколадкой и респектабельной улыбкой толстую неряшливую вахтершу, которая превратилась в преданного ангела-хранителя Игоря и, кажется, даже потеряла часть своей природной тучности. Принеся в студенческую комнатушку коробочку сладостей «для девочек», он тихо, но весьма настойчиво увлек Оксану в кино. Та не противилась, но заняла позицию наблюдателя. На следующий вечер они исследовали центр города, а еще через день он забрал ее прямо с занятий, чтобы показать зоопарк. Показать – это было слишком громко сказано, так как сам он лишь слышал о зоопарке от Виктора. Но раззадоренное весной солнце позволяло импровизировать, и даже жуткое зловоние возле некоторых клеток не помешало развитию его внезапно открывшихся способностей к юмору, сметным замечаниям и тонкой иронии. Игорь высмеял тощего облезлого и довольно несчастного волка и восхитился многочисленными достоинствами круглорогого муфлона, вызвав наконец ее беззаботный и по-детски наивный смех. Он даже удивился тому, какое колдовское очарование придала радость ее лицу; изменилась форма губ, а показавшийся ряд крепких белоснежных зубов подчеркнул ее здоровье. Правда, в спутнице Игорь все еще обнаруживал слишком мало желания уменьшить дистанцию. Не столько между их телами, сколько между душами. Эмоциональная связь устанавливалась с небывалым трудом, гораздо легче Игорю представлялся захват какого-нибудь аэродрома или отчаянной группы экстремистов. Если он быстро осмелел, крепко схватив поводья инициативы, то она не переставала дивить его фатальной зашоренностъю сознания, пугливостью. Ему нравилось, когда в троллейбусе не хватало места, и при резких поворотах он на правах мужчины поддерживал ее за талию. Кажется, ей эти прикосновения были по душе, она не отстранялась, хотя и не делала движений навстречу. Наконец однажды, когда они сидели в пустом ночном автобусе, в момент резкого поворота ее буквально бросило на Игоря, и на одно мгновение он ощутил ее тревожное, горячее, трепещущее, спелое тело, и яркое впечатление впервые разлилось блаженством по его разбуженной плоти.
Порой Игорь мысленно сравнивал себя с бравым гусаром или с хитрым фавном, настойчиво обольщающим невинную нимфу. Роль последнего и нравилась, и пугала, так как девушка с каждым днем казалась ему серьезнее, чем он мог предположить в самом начале. В самом деле, теперь Оксана виделась ему жрицей очага, и жертвенный огонь непрестанно горел в ней, как бы ведя по жизни. Их беседы стали оживленнее, эмоциональнее и интереснее, и иногда Игорю мерещилось, что он просто пробуждает ее от длительной спячки. За считаные дни неразговорчивая, безучастная и порой даже неулыбчивая Оксана заметно преобразилась. Она перестала бояться взрослого фронтовика, в девушке вдруг отрылись целеустремленность, желание жить достойно. Игорь почувствовал в девушке глубоко заложенную установку, некий священный защитный слой, уберегающий от жизненной коррозии. Как-то, думая о новой знакомой, он решил, что с такими, как она, невозможно иметь сиюминутные отношения, на таких обычно женятся…
Приближались майские праздники, и он уже предвкушал всякий вздор типа маленького пикника с шашлыками на благодатном, заросшем кустарником берегу Роси. Но тут его ждало неожиданное разочарование. Оказалось, что у нее есть масса не слишком приятных, сугубо деревенских обязательств: посадка картошки, помощь в побелке старой бабушкиной хаты. В какое-то мгновение он подумал оставить ее в покое, но странная тоска не выпускала его из своих тисков. Да и чем ему тут, в Черкассах, заниматься – лежать на диване?! Когда же этот бравый боевой офицер вдруг ощутил, что девушка может ускользнуть из его поля зрения навсегда, в груди возникла тупая боль, как от пули, рикошетом зацепившей бронежилет. И мужчина, привыкший брать ситуацию за горло, неожиданно выступил с предложением: он поедет с ней и поможет. Он свободен, ему с ней интересно, почему бы и нет?! Оксана удивилась: ее брови выразительно вздернулись, впервые в глазах приоткрылись шторы, выпустив наружу сверкающую роскошную бирюзу. Она помедлила с ответом, видно, что в ней боролась вчерашняя мученица с просыпающейся принцессой. И тут Игорь настоял на своем: если она колеблется из-за того, что скажут люди, то он сумеет быть настолько деликатным, чтобы не бросить на нее тень. И она согласилась… Комбат мог торжествовать победу. А ведь они даже ни разу не целовались!
Офицерской смекалкой и патентованным, присущим сугубо людям в погонах поведением Игорь уверенно переборол мнительность и предвзятую настороженность женщин – матери и бабушки. Мужской дух в их доме был забыт давным-давно: отец Оксаны умер лет восемь или девять тому назад. То было стойкое, бесподобно гордое женское сообщество, привыкшее сажать весной и копать под осень картошку, а долгими зимними вечерами задумчиво вышивать крестом картины, в тканевые рисунки которых переходила баснословная энергетика терпеливого славянского духа. В комнатах небольшого одноэтажного домика он уже видел несколько таких вышивок; одна из них, с видом украинской деревни, унесла его в мир сильных ощущений. Выбеленные хатки, укрытые соломенными крышами; приветливая криница; колоритный казак в сорочке и шароварах с бандурой в руках выводит свою вечную песнь. Усы его свисают, почти достигая струн, и повсюду простор, пространство свободы и везде много света, счастливой вибрации умиротворенного бытия. «Что и говорить, умели тут, на этой земле, решать любые задачи, тянуть любую лямку и не корить судьбу», – думал украинский офицер российской армии, заглядывая в глубь времен, в корневую систему народа, к которому неразрывно принадлежал… И эти смиренно-горделивые женщины, как три монахини, стали вдруг ему близки. Игорю казалось, что он приоткрыл завесу, скрывающую от него Оксану. Вот почему она лишена воздушной мечтательности, впрочем, как и он сам!
Игорь вместе с женским обществом с наслаждением отдавался привычной физической работе, порой ловя на себе тайные, несколько недоверчивые взгляды матери Оксаны и восхищенные, украдкой брошенные, томные выстрелы зажигающихся, пламенеющих в эти мгновения глаз самой Оксаны. «Ах ты ж, бисова кров!» – шамкала, вытаращившись на него, старушка, обнажая при этом несколько оставшихся в пустом рту гнилых зубов. И в глазах трех женщин Игорь, словно в волшебном зеркале, видел себя рыцарем, чувствовал героем, открывшим жизнь на неизведанном, таинственном, считавшемся необитаемым острове. Игорь переводил взгляд на аккуратно подправленный забор, тщательно выметенный двор, на дремлющего, перекошенного временем пса, кажется, такого же старого, как эта бабка, и изумлялся: откуда в этих украинских женщинах столько энергии, духа жизни и умиротворения? Это совсем не то, что он видел на курсантских переходах от Рязани до Селец, где даже в священном есенинском Константинове, утопающем весной и осенью в земляной каше, его поражали покосившиеся заборы и пугающие полузоологическим бытом и зарослями сорняка дворы. Да что там в области?! И в самой Рязани, если нырнуть в глубь дворов, то в сотне метров от центра можно обнаружить облупившиеся стены, вонючие свалки, словно в них угодила бомба, и шарящее там облезлое, бесноватое кошачье племя…
Когда же после посадки картошки в один день вместо трех он отведал настоящих украинских коржей с маком, растертым неутомимой бабулей в глиняной ступке, он почувствовал себя по-настоящему счастливым. Матери он тоже определенно понравился, и она после трех украинских чарок горилки уж радостно кудахтала и выглядела куда более хлопотливой, чем в первые часы знакомства. Игорь осведомился, все ли есть для побелки хаты и владеет ли Оксана этим немудреным ремеслом. Получив утвердительный ответ, он с неожиданной, наповал сражающей уверенностью заявил, что вдвоем они великолепно справятся с задачей. На нахмурившемся лице матери сначала отразилась растерянность, но после того как бабка с мечтательно-глуповатой миной прогнусавила: «Нехай даги йдуть, caмi впораються», – дело было улажено. Оксана, не меняя выражения лица, так профессионально сыграла в молчанку, что Игорь сам ни за что не догадался бы, желает ли она дальнейшего развития событий именно по такому сценарию.
5
За ней было забавно наблюдать, она оказалась неожиданно ловкой, хотя и невыносимо сметной в широких домашних шароварах с мило оттопыренными задом и коленями. Была она в них теперь похожа на пушистого зверька, юркого, игривого и потешного; уж ничего, кажется, не осталось от недавней скованности, робости и мрачности. И ее лицо, на котором солнечные блики высвечивали то насмешливое выражение, то глубокую сосредоточенность, а то и безмятежную улыбку, преобразилось, став живым и удивительно подвижным. Временами Оксана казалась ему воинственной амазонкой, а временами – кроткой монахиней, и он поражался этим переменам. А еще более изумлялся перемене, которая произошла в нем самом, в том, как он стал принимать эту простую сельскую девушку, не стремящуюся сорвать с неба звезд. Игорь украдкой всматривался в нее, слегка забрызганную бледно-серыми пятнами белил, и думал, что сейчас, когда они остались только вдвоем, она вдруг стала невыразимо влекущей и желанной. «Ангел, истинно мой ангел, – повторял он мысленно, приближаясь к девушке, – эта полетит на край света и останется рядом, вытерпит все». Она повернулась к нему с широко раскрытыми глазами, в которых задорно и пригласительно играла морская волна. И опять Игоря охватила пьянящая власть ее запаха, смешанная с ароматом растущего неподалеку абрикоса. Ему теперь уже было глубоко наплевать на дарованную Богом способность улавливать различные химические соединения, он просто чувствовал невыносимую сладость от считываемой собственным обонянием информации. С ним происходило что-то невероятное, колдовская магия ее запаха расслабляла его, делала податливым и в то же время наэлектризованным, и у него не было ни сил, ни желания бороться с этим обволакивающим ощущением. Оксана вся была соткана из тончайшего цветения буйной весны, и этот аромат был во сто крат сильнее строительного, белильного запаха, ненавязчиво вплетенного в общую картину. Когда Игорь приближался к ней, волшебным образом улетучился и вездесущий едкоприторный, смешанный с мышиным запах затхлой старой хаты. В нем же проснулось ошеломляющее вожделение, запоздалое, долго пробуждаемое, как будто вытопленное жаром из вечных льдов и потому безумное, настойчивое и очень сильное. Игорь изловчился и приблизился к ее почти детским круглым щечкам с едва видимым розоватым пушком, тихо поцеловал их. Коснулся кончиком носа ее носика, оказавшегося холодным и немного влажным, как у котенка. Затем окончательно привлек ее к себе в объятия, ощутив прилив горячей энергии упругого юного тела под рабочей одеждой, твердую грудь, тугие бедра… Страсть в один миг зажгла его всего, подобно факелу, и огненнопунцовые губы их напряженно слились в восторженном и немного диком поцелуе, наполняющим их отношения новым, сакральным смыслом. Трогательная девичья дрожь и пленяющая истома дополнили чародейством картину их сближения. Он удивился, что им совсем не нужно было слов, как будто они знали друг друга долгие годы и все уже давно было обговорено. Украшенная новыми ощущениями действительность казалась теперь столь же ясной, как бездонность небесного свода, зелень травы или восторг при виде распускающихся деревьев. И в нем проснулась старая, давно возникшая в подсознании мысль, которую он всегда держал взаперти и только теперь позволил выйти наружу: он тайно мечтал не просто о семье, но о такой семье, которая будет никак не слабее, не хуже, чем у его старого друга Алексея. И вот контуры именно такой семьи, о которой он мечтал со всей страстью своей устремленной натуры, показались ясно, как репродукция Джоконды у бабушки около печки. Точно какое-то движение небес сообщило ему: это именно та девочка, именно тот человек, что будет с тобой до конца и оценит в твоих скупых жестах всю глубину мужского начала, которое только может быть у настоящего солдата.
Когда они ехали последним автобусом в Черкассы, еще непривычно обнявшись, и Игорь ощущал на своем плече склоненную с обескураживающей искренностью головку, он думал лишь об одном: имеет ли он моральное право предложить этой доверчивой девочке разделить с ним небезопасную жизненную тропу. Вправе ли он вытащить ее в полувоенную Гянджу с суровыми ветрами, пещерным бытом и племенными нравами? В трехкомнатную квартиру без воды, с иллюзорными удобствами избушки на курьих ногах, где живут в одной комнате, вторая служит кладовой, а третья – уборной со сменяемыми ведрами? Игорь поморщился от этой мысли; ему неприятно было даже мысленное пересечение воздушно-белой романтики с грязным исподним жизни. Но он-то уже познал прикосновение к уродливой, изломанной, исковерканной, омерзительной реальности! И что, он изменился, хуже стала его душа? Нет, нисколько! Но тогда должна же отыскаться в этом хаотическом, потенциально апокалиптическом мире еще хоть одна душа, способная разделить с ним кусочек пространства на обочине этого мира… Ведь если даже они мелкие песчинки Вселенной, то и в этом случае должна существовать какая-то зацепка, иначе зачем они явились в мир?! Игорь был полон тревожных мыслей, но что-то подсказывало ему, что если какая-то близкая ему, готовая к терпению душа и существует на свете, то это как раз она кротко расположилась рядом. И это ощущение сказывалось на его отношении к девушке. В те несколько дней, отдающих сказочной вечностью, он долго подыскивал ключевое определение ее характера. Но все оказывалось тщетным, отражало ее суть лишь частично. И вот теперь, когда он трясся в полупустом автобусе, перед глазами само собой с оптической точностью высветилось слово «надежность». И он был очарован этим словом не меньше, чем таинственным теплом ее тела…
6
С какого-то неуловимого момента они начали стремительно нестись навстречу друг другу. Как две охваченные пылким жаром кометы. Игорь не знал, отчего так происходит, но однажды его пронзила смутная догадка: они оба искали любви и были готовы к ней. И сумели обрести это чудо, когда представился случай. Да и вообще, была ли это любовь? Он не был до конца уверен, потому что не мог бы дать точного определения этому чувству. В конце концов он пришел к выводу, что это не так уж важно. Как профессиональный военный, как командир, капитан Дидусь привык принимать ключевые решения в ограниченном временном диапазоне. И то, что сформирвалось внутри него в отношении Оксаны, было простым и неуемным, как аппетит изголодавшегося человека. Больше всего Игорь дивился тому, что в Оксане напрочь отсутствовало требовательное эго, она не стремилась, подобно ему, завоевать мир. Она хотела лишь дополнить собой и расширить мир его представлений и ощущений. В своих чувствах к нему она была настолько смиренна и по-монашески жертвенна, что порой ему становилось стыдно за то, что у него есть определенная жизненная цель, линия жизни вообще. Ей же достаточно было тихого созерцания и таких беззвучных, лишенных слов поступков, напоминающих, что она живет для него. Как-то, долго задумавшись над этим свойством, Игорь пришел тогда к заключению: это высшая мудрость любви и высшая миссия женщины. Находиться с мужчиной рядом и не мешать ему двигаться к цели. Уже много позже он открыл в ней неожиданную нежность, о которой даже не подозревал вначале.
Все свершилось, как должно было свершиться. Просто, жизненно и стихийно. До конца отпуска оставалась неделя, второй курс у нее был позади, на горизонте не проглядывало никаких иных помех, кроме сверкающих льдом вечных гор Кавказа. И тогда, взяв ее за плечи и заглянув в глаза, Игорь спросил предельно просто: выйдет ли она за него? И тут же добавил, возможно, очевидную глупость: это означает, готова ли она ехать в дебри, в кислую пустыню, которая бывает или немыслимо холодной, или безумно горячей; где ничто не напоминает о приближении XXI века? Она подняла библейские глаза и только улыбнулась мягкой, славянской улыбкой, какую он видел когда-то в церкви на иконах. «Святая, – пронеслось у него в голове, – эта выдержит все те испытания, которые выпали и еще выпадут на совместную долю». А она даже не ответила «да», просто прижалась всем телом к нему и спрятала лицо у него на груди. Когда же он наконец увидел ее влажные от слез глаза, почему-то вспомнил, как его вызвал командир полка на беседу перед утверждением в должности командира батальона. Разговор был тогда, собственно, ни о чем, просто кэп прощупывал его, так сказать, на прочность. Сможет ли удерживать бразды правления при более старших, более опытных офицерах? Беседа шла гладко, и только в одном возникла заминка. Когда Игорь заметил, что все в жизни все равно будет, как предписано, предначертано свыше. Командир полка нахмурился, мгновенно погрубел. «Запомни, капитан, на всю дальнейшую службу. Ничто в нашей жизни не предопределено! Мы сами своими намерениями, своей волей можем все перевернуть с ног на голову и обратно! И только, если ничего не будешь предпринимать, если недостаточно окажется твоего упорства, вот тогда только все и пойдет по предписанию свыше». То, о чем они говорили до и после этих слов, оказалось не так важно. Его утвердили в должности комбата. Но Дидусь запомнил встречу прежде всего благодаря новой формуле. Много раз он примерялся к ней, проверял ее точность и с удивлением обнаруживал, что, действительно, ничто в нашей жизни не предопределено. Изумлялся, откуда командир полка, не самый образованный мужлан, извлек эту мудрость, это, кажется, главное жизненное правило. И вот опять, когда его жизненный выбор состоялся, в ушах отчетливо застучали, будто выбиваемые морзянкой, слова: ничто в нашей жизни не предопределено! Оксана же совершенно сбила его с толку, когда, пристально посмотрев на него, произнесла: «Я думаю, мне с первых мгновений казалось, что мы должны быть вместе. Как будто это было предначертано свыше…»
Глава девятая
(Чечня, Старые Атаги, май 1995 года)
1
Колонна, хрипя захлебывающимися двигателями, медленно ползла к перевалу. С брони майор Дидусь настороженно щурился на низко повисшее солнце, необычайно яркое и подозрительно холодное для конца мая. Оно казалось большой желтой лампой на темно-голубом, почти синем потолке неба. Если бы не вездесущая дизельная отработка, вызывающая во рту неприятный кислый привкус, можно было бы насладиться сочным воздухом горного неба. Такое порой удавалось ранним утром или в тиши ночи, и Игорь Николаевич точно знал, что этим воздухом можно даже напиться, как водой из колодца в украинском селе. Да и гордо вылезшая и налившаяся весенним соком трава выглядела роскошно и радовала глаза своей зеленью.
Опытный, матерый уже командир батальона искоса поглядывал на врезавшиеся в почти космическую синеву ледяные пики, которые выглядели издалека молчаливыми седыми призраками, присматривающими со своих мрачных высот за беспокойными людьми. Он невольно подумал о малыше, оставленном с женой непостижимо далеко отсюда, и тяжело вздохнул. Как там его Антоша, ведь скоро годик, а он видел его лишь несколько дней во время короткого отпуска? И может больше не увидеть вовсе… От этого неконтролируемого полета стремительной мысли внутри все похолодело. «Прочь! Ты должен думать только о том, что происходит в данный момент! Ты – командир! И ты сам пришел сюда!» И майор усилием воли переключил внимание на колонну и горы. Но мысли все равно не оставили его насовсем. Вот уже настал 95-й год, и ничто не меняется: люди либо воюют, либо, не скрывая, готовятся к войне. Сколько кровопролитий видели эти надменные хребты за свой бесконечный век, удивляясь, что человек так и не угомонился, так и не повзрослел за тысячелетия. Глубокие борозды морщин, образованнные черными хребтами и темно-серыми бездонными провалами ущелий, словно укоряли в тщетности и мелочности борьбы, напоминали о бесполезности самой войны. И все же, несмотря на не оставляющее ни на минуту беспокойство, в этот момент Игорь Николаевич был вполне удовлетворен и чувствовал себя тут, на юге Чечни, хозяином. Правда, комбат отдавал себе отчет, что это чувство ситуативное, временное, и еще спокойнее ему было бы за перевалом, который рассчитывал пройти к одиннадцати. Или хотя бы к половине двенадцатого. Тогда точно оказался бы вне зоны риска. Уж очень ненадежный народец тут – неустрашимый, мстительный и исключительно злопамятный. И если попал на заметку, за тобой непременно будут охотиться, пока не пришибут. Независимо от должностей и званий. А они, все участники операции в горной Чечне, немало лишнего натворили тут, угробили мирных жителей столько, что им точно не простят… Игорь Николаевич слишком хорошо изучил непримиримых, непокорных горцев. С ними надо было изначально договариваться, а не вести подрывную деятельность, приемлемую для борьбы на территории чужого государства. Теперь он не мог не понимать, что россиян ждет месть. Рано или поздно это случится, и это ощущение было устойчивым и неприятно въедливым, как дым от костра, вызывающий удушье и слезы. «Что ж, война есть война. Лес рубят – щепки летят», – успокаивал себя командир батальона.
Апрель и май оказались трудными для участников горной операции; чтобы сломить сопротивление чеченских поселений, они прошлись по этому дивному краю всей мощью своего военного бульдозера. Изничтожая здешнюю правду и неся на знаменах правду свою. Что с того, что сам он видел в захватах горных селений слишком мало пользы с точки зрения дальнейшей, сугубо военной перспективы. Он радовался только одному: их приход в горы оказался достаточно внезапным, чтобы иметь минимальные потери в штурмовых группах, которые брали на себя все риски во время сомнительных «зачисток» населенных пунктов. Теперь, когда чеченцы из прежних союзников превратились в злых и жестоких «чехов», надо быть настороже постоянно. Предстояла совсем иная, совершенно новая стадия развития войны. Чеченцы мстительнее, изощреннее грузин, с которыми русские столкнулись в Абхазии. Они, как бульдоги, и если вцепятся, хватка мертвая – пока не убьешь, не размозжишь череп, челюсти не разожмут. Но еще страшнее, что они имеют поистине феноменальную способность растворяться в горах, подобно оборотням, исчезать и появляться вновь. Насчет этой новой войны Игорь Николаевич имел свои очень четкие соображения: боевиков надо не просто уничтожать, но выжигать вместе с местностью огнеметами. Он думал как военный, не принимая в расчет чувства и не считая себя ни палачом и даже ни спасителем Родины. Он понимал в такие моменты то, что он и его бойцы одновременно и чистильщики, и самоубийцы, ибо то, что они делают, не прощается. Либо они выжгут все, как раковые клетки, либо расползающиеся метастазы удушат их. Хотя правда была и в том, что если бы нечистью объявили самого Иисуса Христа, ни один бы мускул не дрогнул на его, Игоря, лице. Он уже свыкся со своей ролью, порой пристально вглядываясь в свои мозолистые потемневшие ладони. Так выглядят руки и воина, и убийцы… Но его больше беспокоили ошибки и просчеты, заложенные в приказах, те полумеры, на которые они пошли по распоряжению свыше. Вот это еще аукнется грохотом, брызнет кровью. Только ответ нести за сделанное за эти два месяца будут уже совсем другие люди, не они. Во всяком случае, Игорю Николаевичу очень хотелось бы, чтобы это были не они. Втайне командир батальона уже подумывал об академии, а пока отучится, и тут изменится ситуация, чеченцы утихомирятся, россияне поуспокоятся…
Когда Игорь Николаевич порой размышлял над происшедшими в короткий срок переменами, у него никак не выстраивалась логическая цепочка. Как же вышло, что бывшие боевые товарищи, почти братья по оружию во время грузино-абхазской войны, теперь оказались по разные стороны баррикад?! Как будто кто специально это подстроил, проклял эту горную землю, или, может, ее зацепил хвост заколдованной кометы, оставив порчу на века?! Игорь Николаевич спросил однажды об этом своего доброго друга Павла Юрьевича Анастасина, который командовал теперь вторым батальоном. Тот почесал затылок и долго соображал, а потом выдал ему удивительный ответ:
– Ты, Игорь Николаевич, радуйся, что нас не отправили в состав отрядов оппозиции, которые полгода тому назад щупали на прочность власть Дудаева. Если помнишь, в плену оказалось чуть ли не до сотни наших. Вот кому не повезло – подыгрывать дикарям да еще получить кровопускание в их разборках. Это во-первых. А во-вторых, радуйся, что не мы отметились в бесславном новогоднем походе на Грозный. Вот где горе солдату от безголовых командиров. В-третьих, радуйся, что мы все еще живы и способны выполнить приказ. Так что поводов для счастья у нас хватает. А счастье наше в том, что мы со своей проверенной десантурой на перевалы премся. А там, даст бог, выживем и знамена не посрамим…
2
И все же Игорь Николаевич был озадачен. Не то чтобы ответ его не убедил, но какое-то внутреннее чутье подсказывало ему, что ситуация развивается как-то неправильно, и, несмотря на внешнюю успешность военной кампании в чеченских горах, напряжение внутри него возрастало. Ну не тот это народ, который вот так линейно, огнем и мечом, можно заставить жить по нашим правилам. Что-то подсказывало комбату, что достигнутое ими преимущество в этих горах – лишь маленький фрагмент в общей картине, не обязательно пестрой и яркой. Мерещилась ему эта картина черно-красной, в ней были смешаны цвета земли и крови. Российские войска оставили здесь болезненный ожог, а когда рана подживет и превратится в шрам, этот народ еще покажет свой крутой нрав, обнажит клыки. «Если мы хотим стать тут хозяевами, – думал комбат, – надобно либо с местными лидерами договариваться, либо нещадно их всех истреблять, оставляя тут в каждом населенном пункте по гарнизону, как в древних войнах». Но больше всего Игоря Николаевича изумляло население этой страны. Безобразно черные, невозмутимые, не знающие страха смерти лица. Ускользающие взгляды, медленные и непредсказуемые движения, неопределенный возраст. Игорь Николаевич был абсолютно уверен, что то и дело встречающиеся ему сутулые и сгорбленные люди с пустыми глазами в любую минуту возьмутся за автоматы и без труда управятся с минометами.
Вдруг вся колонна – циничная, железная змея – разом качнулась, впереди, в ее голове, машины замерли, словно наткнулись на неожиданное препятствие.
– Запроси-ка голову, – приказал Игорь Николаевич озабоченно: любое внеплановое промедление сулило только неприятности. Они были вне зоны боевых действий, но обстановка могла меняться так же быстро, как вечно обманчивая погода в горах.
– Товарищ майор, они сами только что вышли на связь, – ответил связист, передавая командиру наушники.
– Что там стряслось?
– Товарищ майор, у нас тут ЧП. Желательно вам лично прибыть.
Через несколько минут командир батальона был в голове колонны.
– Товарищ майор, тут такое дело… – ротный непривычно мямлил, вызывая раздражение командира.
– Доложи, твою мать, как положено! Что за задержка?! – взорвался Игорь Николаевич, зная, что ругань бывает лучшим врагом нерешительности.
– Командир первого взвода лейтенант Лучников и механик-водитель дозорной машины рядовой Кисленко…
– Ну?! – Игорь Николаевич тянул информацию из подчиненных клещами, как на допросе.
– …В плену, кажется… – Теперь, когда командир роты выговорил страшное слово, было видно, как он побледнел, напоминая цветом только что побеленную стену.
– Что-о-о?! – взревел Игорь Николаевич.
– Дозорная машина вон там, на косогоре, – ротный показал рукой, – то ли случайно, то ли специально столкнула в пропасть старенькие «Жигули». Они утверждают, что в легковушке был человек. И «чехи» захватили наших, а пешая дозорная группа не успела среагировать – они были метрах в двухстах. И колонна далеко была – за триста-триста пятьдесят метров, да и непонятно было, что там происходит.
Ротный все это выпалил на одном дыхании, и Игорь Николаевич видел, как большие грязные руки старшего лейтенанта подрагивают, как у алкоголика: офицер был впервые на боевом задании, заменив прежнего командира роты, погибшего в этих горах три недели назад. Этот здоровяк периодически чувствовал себя неуверенно и тогда сжимался, съеживался, подобно животному перед неведомой опасностью. Комбат похолодел, тоска и бессилие медленно подкатили к горлу. Нет, он не думал о том, какими последствиями грозит ситуация лично ему, комбату, выславшему дозор. Игорь Николаевич представил себе, что могут сделать с его людьми разъяренные чеченцы. Кровь начала пульсировать в нем с лютой яростью, требуя немедленных действий. Он отдавал себе отчет, что горцы могут просто отрезать головы офицеру и солдату и выставить их на обозрение батальона, как они нередко делали, запугивая бойцов в Грузии. Что же делать?! Развернуть батальон к бою, пройтись по ним огненной лавиной?! Он, пожалуй, так бы и поступил, если бы точно знал, куда бить. Тут же все размыто, и не исключено, что чеченцы уже спешно уходят с пленниками, которые будут ох каким козырем! Здешний враг тем и опасен, что он, как призрак, нигде и везде одновременно. Если бить его, то бить наверняка, а иначе погибнет здесь еще два десятка наших бойцов. Наступил миг высшего напряжения, когда в экстремальной ситуации предстояло правильно просчитать, кто и каким образом взвалит последствия за развитие событий на свои плечи. Игорь Николаевич великолепно знал это, как знал, что именно ему судьба уготовила ответственность за всех, кто оказался рядом с ним. Так было всегда до этого, и так будет до тех пор, пока он способен дышать.
Стоп! Решение пришло неожиданно, как озарение, из недр его души, как вспышка неимоверной, нестерпимой боли, пронзившей в одно мгновение все тело. Да, он лично пойдет на переговоры. Это сейчас единственный вариант спасения пленных, возвращения ситуации в прежнее русло. Игорь Николаевич обвел взглядом оцепеневший батальон; вероятно, информация шепотом передана уже от головы колонны к хвосту. Кто-то приказал заглушить двигатели боевых машин, и комбат почувствовал оглушительность внезапно наступившей тишины. На него теперь, как на спасителя, взирали десятки пар глаз, горя огнем сплоченной звериной стаи. Люди готовы были подчиниться любому его приказу, поскольку своему командиру полностью доверяли, знали, что он, комбат, не станет прикрываться их телами, как не будет жертвовать чьей-то жизнью ради пустых слов и лозунгов. Когда смерть подступает очень близко, все сразу становится на свои места: ложь обнажается, пропаганда превращается в застывшие, ничего не значащие слова, подвиг – дело чести выполняющего свой долг, и только смерть остается смертью – холодной, никого не щадящей, бесстрастной…
– Сержант Куценко!
– Я! – К комбату тотчас подбежал парень с испуганным лицом. За спиной у него маячила радиостанция с антенной высотой не менее двух метров, которая раскачивалась во время его довольно неуклюжего бега.
– Замкомбата мне на связь, живо!
– Старший лейтенант Замиховский!
– Я, – бойко ответил ротный, преданно глядя в глаза командиру. Он сейчас был готов ко всему, только бы кто-нибудь, хоть сам черт, взял на себя ответственность за происходящее.
– Значит так, организовать охрану и оборону головной и средней частей колонны батальона. Самому…
– Товарищ майор, капитан Белоконь на связи, – доложил сержант-связист.
Игорь Николаевич крепко сжал микрофон, так что жилы вздулись на запястье.
– Капитан Белоконь, остаешься за комбата до моего возвращения.
– Что-что? – Слова замкомбата утонули в шипении наушников, из мелких отверстий звуковой пеленой лился потусторонний шум. Игорь Николаевич сочно выругался и затем громко, уже не обращая внимания на окружающих, бросил в микрофон:
– Жуй хорошо! За комбата остаешься до моего возвращения.
– Ясно! – прозвучало короткое подтверждение.
Игорь Николаевич, не стесняясь площадных армейских выражений, наиболее доходчивых в таких случаях, приказал организовать охрану хвостовой части колоны, подготовить батальон к бою. Упомянул о распоряжениях, отданных Замиховскому.
– Если через полчаса со мной не будет связи и я не вернусь, батальон к бою и выкосить все к едрене фене, понял?!
– Понял!
Комбат повернулся к связисту:
– Снимай радиостанцию живо!
Тот с какой-то собачьей преданностью повиновался, отделываясь от портативной коробки с такой быстротой, словно она жгла ему руки.
– Замиховский!
– Я!
– Как можно скорее пулеметный расчет с двойным бэка и двое снайперов – вон на ту высоту, – комбат рукой указал выдающуюся впереди скальную башню, – только скрытно. Проинструктировать: открывать огонь по моей команде. А если начнется пальба, сметать все, что видят.
– Так точно!
3
Распоряжения летели во все концы, словно телеграммы-молнии, разрезая пространство, ужасая точностью и смертоносной сутью происходящего. Затем командир батальона закинул за плечо обе лямки радиостанции и, расправляя плечи, как паруса, уверенно направился в единственном направлении – навстречу темным демонам гор. Но сам он, легко двигающийся, упруго перепрыгивающий с камня на камень, казался наблюдавшим бойцам и офицерам беззащитной мишенью, маленькой черной точкой, то исчезающей за валунами, то снова возникающей. Игорь Николаевич знал об этом, как знал наверняка, что и свой, и чужой снайперы ведут его, прищурившись в прицел. Он меньше всего думал об опасности, понимая, что только так можно сейчас действовать, что это, как ни странно, самый безопасный путь. Потому что он играл не по общепринятым правилам открытой войны, а по их, чеченским законам. И хотя омерзительное ощущение того, что он мишень, которую в любой момент может бестрепетной рукой снять невидимый снайпер, никуда не улетучилось, он двигался с невыразимой легкостью и внутренним спокойствием.
– Стой! – услышал Игорь Николаевич у себя за спиной голос с характерным акцентом. Он ждал этой встречи и все же вздрогнул от неожиданности. Но уже в следующее мгновение оправился. Решил помолчать, не отвечая и не оборачиваясь.
– Подними руки! – грозно приказал голос, и комбат так же молча повиновался, приподняв вместе с руками и лямки радиостанции.
Вдруг прямо перед ним как из-под земли вырос огромный, заросший черной щетиной, одетый в странный балахон чеченец. Лицо его было сумрачным и беспристрастным, в глазах светилась непреклонная воля, свойственная прирожденным душегубам. Таких бесполезно просить о чем-нибудь; они живут в мире своих звериных представлений, где властвуют инстинкты. Чеченец молча расстегнул у него на поясе кобуру и ловким движением извлек пистолет. Затем вырвал из правой руки радиостанцию и посмотрел на Игоря Николаевича взглядом дикаря, красноречиво говорящим что-нибудь устрашающее, типа: «Ну, теперь мы тебя изжарим и сожрем». «Добро пожаловать в ад», – с холодной ухмылкой сказал сам себе Игорь Николаевич, и сердце его непроизвольно сжалось, а затем вдруг раскрылось, как у сильно захмелевшего человека, которому море по колено. Оно забилось беспокойным, диким боем, как будто хотело вырваться из груди независимо от его желания, и он физически ощущал клокочущую у горла кровь. Нельзя сказать, что ему не было страшно и это ощущение было приятно. Но невозмутимость уже взяла верх над всеми чувствами, глубокий глоток прохладного горного воздуха вернул ему самообладание в тот самый момент, когда он почувствовал ствол, воткнувшийся в спину. Игорь Николаевич был только в разгрузнике, поскольку тяжелый бронежилет, непригодный для задуманной операции, он небрежно бросил сержанту вместе с автоматом перед тем, как отправиться к горцам.
– Сэчас за мной. Бэз глупостей, – проговорил чеченец, показывая взмахом согнутой руки направление движения, и Игорь Николаевич с удивлением обнаружил, что в грязно-черной бороде все-таки существует щель, напоминающая человеческий рот. А он полагал, что это существо способно изъясняться лишь знаками.
Комбат, слегка наклонив голову от закипающей внутри ярости, все же покорно последовал за громилой на расстоянии двух метров, в то время как сзади слышал легкое шуршание тела, такого же проворного и юркого, как горный баран. Они шли не слишком долго, не больше четверти часа, пока наконец не оказались в хорошо защищенном месте между возвышающихся скал. «Да, сюда, пожалуй, и минометы не достали бы», – с тоской подумал Игорь Николаевич, глазами скользя по местности и определяя предполагаемые маршруты движения групп захвата. На всякий случай. Для командира такая информация никогда не бывает лишней.
К удивлению Игоря Николаевича, после прохода под нависшей над тропой угрюмой скалой, которая, кажется, вот-вот готова была обрушиться на испытывающих ее терпение людей, он вдруг оказался перед вооруженной группой. В ней было не более полутора десятка человек, и одеты они были совершенно по-разному: кто в потрепанном камуфляже, кто в нелепом сочетании всех возможных видов одежды – национальной, военной и спортивной. У некоторых на голове были с лихим вызовом навороченные повязки, как у головорезов. Игорь Николаевич вспомнил, что точно так же нередко повязывают платки и его десантники, что придает им грозно-величавый вид и делает их похожими на дерзких пиратов из древних легенд. Но комичность оттопыренных коленок грязных спортивных брюк и потрепанных кроссовок входила в противоречие с трагичностью, возникающей, когда глаза упирались в увесистые стволы автоматов и сталкивались со свинцово-тяжелыми взглядами «чехов». Эти люди, расположившиеся небольшими группками у камней, отдыхали и курили, сжимая в руках автоматы. Очевидно, они ждали распоряжений. При появлении Игоря Николаевича горцы с наглой угрюмой молчаливостью принялись разглядывать офицера, как порой хищники смотрят с тусклым, приглушенным блеском в зрачках на посетителей зоопарка сквозь прутья ограды. Глядя на видавших изнанку жизни чернобородых воинов со злобными взглядами и оскаленными выражениями лиц, он подумал: вот оно, обличье войны, ненасытная ненависть волчьей стаи. Эти люди, готовые зубами разрывать человеческую плоть, стояли, словно разбуженные тени далекого прошлого. В самом деле, они ничем не отличались от средневековых пилигримов, отрешенных и беспощадных искателей Гроба Господнего. Или от воинов Римской империи, продавших душу ради радости легкой наживы и вечного вожделения насилия. И чем больше офицер всматривался в остервенелые лица этих диких людей, чем больше впитывал их мертвую ауру, чем больше ощущал их примитивные, звероподобные устремления, вызывающие ужас и неприятие у нормальных людей, тем больше он переполнялся лютой ненавистью к ним, желая одного: истреблять их, без сожаления и раздумий. Удивительно, но он не мог выделить из толпы ни одного лица: одинаково горящие углями кровожадные глаза, выражающие готовность горцев в любой момент отразить нападение. Просто масса. Масса обезумевшего зверья. Потревоженный осиный рой. Но потревоженный, между прочим, ими самими – россиянами. «Интересно, а ведь, пожалуй, и десантники выглядят точно так же, когда врываются в их селения, каждое из которых – искусно сформированный укрепрайон, – мелькнуло почему-то у Игоря Николаевича в голове. – И точно так же эти потрясенные вторжением на их территорию люди горят жаждой мести нам, пришельцам великой империи, диктующей им свои права на их территории. Но наплевать нам на их чувства и желания, мы тут сила, а силу слушают всегда! Все в мире всегда было, есть и будет свершаться по закону джунглей!»
Громила с густой бородой круто повернулся к комбату, продемонстрировав ему свое большое круглое лицо и грозный орлиный нос с горбинкой, и знаком показал остановиться. Взгляд этого человека оставался угрюмым. «Разве с такими можно договариваться? – подумал комбат. – Эх, зря, кажется, поперся в логово». Теперь Игорю Николаевичу было неуютно под испытующими взглядами чеченцев. Насупившись, по-командирски взявшись руками за портупею, так, чтобы большие пальцы провалились под ремень, а локти образовали острые, как бы защищающие его углы, он отвернулся и стал смотреть куда-то вдаль. Пальцами он тихо гладил грубую, добротно выделанную кожу портупеи, и эти малозаметные чужому глазу движения немного успокаивали его. Он всегда принимал такую позу, когда чувствовал себя неуверенно, но сейчас стало особенно тошно: никто уже не мог поручиться за следующую минуту зыбкого бытия.
Но так продолжалось совсем недолго. Не прошло и минуты, как к нему подошел чеченец помоложе, в камуфляже и разгрузнике, с ухоженными короткими бородой и усами и проницательными хитрыми, как у кота, глазами.
– Э-э-э-э, – зацокал он языком с деланым удивлением, – нэ ждали, что Дэд сам заявится. – После этих слов его губы скривились в подобии улыбки, казавшейся мрачно-зловещей еще и оттого, что в ряду мраморно-белых зубов обнажился один потемневший. Комбат вздрогнул при звуке своего училищного имени – немногие люди знают, как его называют близкие товарищи. В звуке, разнесшемся дробным эхом по скованному скалами пространству, офицеру почудилась некая недосказанная тайна.
Подошедший остановился в двух метрах и, сунув руки в просторные карманы камуфляжа, фамильярно, но почтительно стал рассматривать комбата. Он был без головного убора, и наспех бритая голова придавала ему характерное сходство с уголовником. Игорь Николаевич также счел необходимым немного помолчать, хотя мысли его кружились немыслимым калейдоскопом. «Откуда они меня знают?! Что они задумали?! Что ждать от этих вооруженных людей, которых его батальон несколько дней назад старательно выкуривал из их же селений?! Если так детально работают их осведомители, то нам нелегко будет противостоять…» Интуиция подсказывала ему, что ничего хорошего ожидать не следует.
Так они стояли некоторое время, глядя друг другу в глаза упорными, свинцовыми взглядами, причем никто из них не желал отводить глаз. Чем больше Игорь Николаевич всматривался в горделивый орлиный профиль чеченца, тем больше ему казалось, что он уже где-то видел этого человека.
– Пойдем, комбат, покажу то, что тэбе видэть хочется, – наконец кивнул тот с привычным коверканьем слов и круто повернулся.
Игорю Николаевичу ничего не оставалось делать, как побрести за ним вслед. Чеченец шел странной, тяжелой походкой, едва видимо припадая на правую ногу. «Черт, откуда они все-таки обо мне знают, и где я видел этого человека? Не в Гудауте ли?» – закралось подозрение в шумящую голову комбата. Проходя тесной тропкой мимо группы вооруженных людей между исполинскими валунами, он не сводил глаз с ковыляющего провожатого. Теперь он был почти уверен, что именно этот парень уже попадался ему во время прошлой войны. Одновременно от взора Игоря Николаевича не ускользало надежно защищенное скалами небольшое пространство мобильного лагеря боевиков. Проводник вел комбата куда-то вдоль скальной стены, пока они не оказались у ниши площадью в несколько квадратных метров, похожей на неглубокую пещеру. Солнечные блики лишь изредка появлялись здесь, не добираясь внутрь, где царствовал холодный полумрак. У хорошо освещенного входа сидел молодой боец, почти ребенок, с автоматом Калашникова калибра 7,62 мм, большим и добротным, с деревянным прикладом, тогда как сам чеченец был щуплый и маленький, с глуповатым выражением лица одержимого фанатика.
Оружие заметно усиливало этот несуразный контраст. «Такими автоматами десантники не вооружаются, верно, отбили у мотострелков», – механически констатировал Игорь Николаевич, тогда как юный горец неожиданно резво вскочил перед подошедшим, очевидно старшим в их иерархии. «Да, вот такие отмороженные вояки, снедаемые мальчишеской жаждой военной славы, наиболее опасны – они будут резать живое тело, выжигать глаза, глумиться над трупами…» – Комбат как бы сканировал все происходящее, словно был невидимым глазу бестелесным ангелом, прилетевшим для спасения заблудших душ. Из-под телогрейки у солдата выглядывал край грязно-белой рубахи, и щетины на лице почти не было, отчего его тонкие черты лица казались девичьими. Глаза блестели черным, грозным, звериным блеском, что не могло укрыться от Игоря Николаевича. «У них, дикарей, как у спартанцев: если родился и выжил – значит, станет воином и убийцей», – опять подумал Игорь Николаевич с какой-то растущей тревогой.
– Хады сюда, – рявкнул чеченец в глубину ниши, и Игорь Николаевич, содрогнувшись, обнаружил там две тени, двух человек, которые за какой-нибудь час успели превратиться в живых мертвецов. Пошатываясь, несчастные вышли на свет.
– Стаять! – опять резко скомандовал чеченец, и два судорожно сжавшихся сгорбленных тела замерли.
Теперь дневной свет коснулся их фигур, и Игорю Николаевичу открылась удручающая картина. Молодой, еще не прослуживший и года лейтенант и его сверстник, механик-водитель, с неестественными бледно-серыми заострившимися лицами дрожали не то от холода, не то от нервного озноба. Они не были ни связаны, ни стеснены в движениях, но стояли понуро, на полусогнутых ногах – это были люди, абсолютно сломленные ужасом неотвратимо надвигавшегося приговора. Игорь Николаевич хорошо знал этого лейтенанта: совсем недавно, перед выходом в горы, он отпрашивался на несколько дней в отпуск по семейным обстоятельствам, ездил, кажется, в Коломну, где рожала молодая жена… Высокий, красивый, пышущий молодостью. Лейтенант принадлежал к категории нового поколения офицеров – эдаких юных пижонов, от которых даже на войне пахнет дорогой туалетной водой. У таких в рюкзаках можно обнаружить увлажняющий крем, ножнички для обрезания ногтей, а в душе – неисправимое мальчишество – следствие мягкого режима современных военных институтов, которое может обернуться судьбоносной драмой. Теперь офицер выглядел подавленным, он казался поразительно тонким, если не сказать прозрачным и светящимся, с некрепкой юношеской шеей и длинными, безнадежно повисшими вдоль долговязого туловища руками. Скрюченные тонкие пальцы, словно у музыканта, еще больше подчеркивали покорность судьбе. Он вызвал у Игоря Николаевича неподдельную жалость, но не брезгливую, как у сильного человека при виде слабого и хлипкого, а чувство, скорее похожее на отцовское, когда помимо воли приходится смотреть на мучения сына. «Такую тонкую шею, наверное, легко перерезать чеченским тесаком», – подумал он вдруг и ужаснулся собственной мысли.
Солдата Игорь Николаевич, как ни странно, тоже хорошо помнил – подвижный и пронырливый молодой человек, весь в задорных веснушках, как школьник. Его, кажется, так Живчиком и звали сослуживцы. А запомнил комбат механика потому, что ему не было равных в вождении боевой машины десантной. Да и внутреннее устройство БМД парень знал отменно и мог завести даже то, что давно надо бы списать на свалку. Золотые руки… Он хотел поступить в институт, но, кажется, собирался подзаработать на контрактной службе. А может быть, уже успел полюбить это гнусное дело…
Кто же придумал столкнуть «Жигуленок», кто был автором этого легкомысленного лиходейства? Глядя на грязные от мазута лица пленных, комбат решил, что они в равной степени оба могли выступить зачинщиками хулиганства – на войне так многое сходит с рук. И что теперь, что их ожидает?! Когда Игорь Николаевич подумал об этом, он с содроганием вспомнил девяносто третий год, когда чеченцы из так называемого «абхазского батальона» уничтожили из пулеметов в районе Гагры и печально известного поселка Леселидзе несколько сотен безоружных беженцев. В самом деле, чеченцы в те времена превзошли самих себя, чиня зверства, порой даже казалось, что их полевые командиры состязались друг с другом в жестокости. Или просто воспользовались военным временем для утоления разбуженной и ненасытной жажды убивать. Игорю Николаевичу больше всего запомнилось, как один из них, кажется, по фамилии Гелаев, лично отрезал головы двум десяткам грузинских военнопленных. Но тогда эти случаи, хотя и шокировали десантников человекоотступничеством и неизъяснимой жестокостью, командование российских войск оставило без внимания – все было списано на необходимость устрашения противника. Сам Игорь Николаевич четко знал, зачем «чехи» так делали. Они осознанно превратились в зверье и поступали подобно волкодавам, которые вываливаются в падали, чтобы растворить свой собственный запах в приторно-мрачном запахе смерти, смешать свою темнеющую ауру с черной аурой потустороннего мира. Он вспомнил, как однажды поднял этот вопрос на одном из совещаний в штабе полка – он слишком хорошо чувствовал границу между военными преступлениями, потерей человеческого облика и обычными издержками войны. Но тогда молодому комбату Дидусю, вернее, исполняющему обязанности комбата, очень доходчиво объяснили, что действия чеченцев, обезглавивших несколько сотен изуродованных человеческих тел, приправленных ужасающе кровавыми видеосюжетами, позволят в короткие сроки завершить кампанию и, значит, сохранить еще много жизней российских солдат. И вообще, война – не место для слюнтяев! На войне иногда убивают! И раз так, то какая разница, голову отрежут тесаком или вопрос разрешит пуля. «И вот теперь, – думал озадаченный комбат, – мы пожинаем плоды этого абсурдного мира с его зыбкой границей перехода из человеческого в животное состояние… Но сейчас речь идет о наших жизнях… Вот оно, следствие того безумного картбланша, который чеченцы получили в Абхазии несколько лет тому назад. Они слишком быстро вспомнили, что резать людям головы не тяжелее, чем баранам, и теперь запах крови и завораживающий миг отлетающей человеческой души уже не дают им покоя…»
– Товарищ майор, вы ж нас не оставите, правда?
Игорь Николаевич едва не отшатнулся, увидев, сколько мольбы, неподдельного детского ужаса и желания жить было в округлившихся глазах и голосе этого затравленного веснушчатого мальчика. Такие глаза можно увидеть у коровы, которую ведут на забой. Обреченного солдата душили слезы, юная жизнь не желала мириться с участью смертника, судорожно искала спасительных зацепок. И фатальная беспомощность солдата мгновенно передалась комбату, он невольно сжал кулаки, хотя посеревшее лицо его под наблюдательным взором провожатого чеченца так и осталось непроницаемым, как скала, нависающая над ними. «Что они видели в этой жизни, зачем пришли в мир, с чем уйдут из него? Родились, незаметно выросли и теперь призваны так же, без всякой логики, не оставив по себе ничего, кануть в матовую бездну безвременья. Вот он, бесконечно противоречивый круг мирозданья! Сколько вот таких мальчиков еще придет в этот мир, и сколько вылетит вырванными клочками энергии, пополняя энергетические запасы Вселенной, ведь хоть что-то должно от всех нас остаться?!»
– Пойдем, Дэд, потолкуем, – предложил чеченец.
Игорь Николаевич, ни слова не говоря, отвернулся от своих и собирался уже следовать за провожатым, когда услышал еще раз робкий голос:
– Товарищ майор, вы ж нас не оставите, правда?!
Комбат не выдержал и оглянулся. Солдат-механик был невыразимо жалок и потерян, глаза у него покраснели и блестели от слез, совсем как у незаслуженно брошенного ребенка, которого поставили в угол, в то время как все собираются в цирк. Комбат молча, с горечью посмотрел на оттопыренные коленки его грязного, в нескольких местах порванного камуфляжа. И за эти коленки, и за грязь, и за дыры, и за его неприкаянную душу он, майор Дидусь, боевой кадровый командир, несет полную и безоговорочную личную ответственность. Игорь перевел взгляд на офицера. Лейтенант превратился в полупрозрачное эфирное существо. Он молчаливо покачивался на тонких ногах и слабо реагировал на происходящее вокруг. Но когда Игорь Николаевич опять отвернулся, вдруг рухнул наземь, подкошенный внезапной потерей сознания. Механик с неуместной здесь суетливостью и бросившийся к ним чеченский часовой поставили офицера на ноги. Тот наклонил голову и хотел упереться руками в полусогнутые, подрагивающие, острые, как у мальчика, колени – его, кажется, мутило, и он слабо контролировал происходящее. Но чеченец не позволил ему этого сделать, легко толкнув под локоть, и лейтенант послушно выпрямился, закатив при этом глаза к небу.
– Товарищ майор, вы ж нас не оставите, правда?! – жалобно вновь заговорил-завопил солдат, непроизвольно складывая руки в жесте мольбы. Его лицо окончательно потеряло человеческий облик; теперь перед командиром было уже просто измученное жертвенное животное, которое привели на бойню. И это животное трепыхалось, не чувствуя безнадежности ситуации, подчиняясь инстинкту жизни, последнему осязаемому аргументу, вслед за которым неминуемо следует конвульсия смерти.
– А как думаешь, если я уже сюда за вами пришел?! – Игорь Николаевич не выдержал и тут же пожалел об этом, потому что провожатый чеченец окинул его неодобрительным взглядом, в котором сквозили снисхождение и насмешка. И опять лицо горца, привлекательное в спокойном состоянии, исказилось, осклабилось, и показался темный, вероятно прогнивший, зуб.
4
Когда они подошли к импровизированному столику из нескольких больших камней, поставленных вокруг валуна побольше с немного наклонной и почти плоской поверхностью, Игорь Николаевич оторопел. Перед ним за созданным природой столом сидел тот самый непримиримый бесстрашный и удалой Умар, которому он когда-то по приказу вышестоящего командования передал в Гудауте целую гору оружия. Тот самый хитроумный и очень конкретный, как они говорили, Умар, который в девяносто третьем сумел стать заместителем министра обороны Абхазии, выплыв на поверхность уже под своим собственным именем – Шамиль Басаев. И тот самый Умар, или Шамиль, который наглостью, дерзостью, высокомерием и откровенным презрением к человеческой жизни приобрел дурную славу могильщика, кладбищенского распорядителя. Но и, конечно, тот самый Шамиль, с которым они когда-то сидели за одним столом и который, вероятно, должен был помнить его, Игоря Николаевича. Имя этого человека уже стало черным логотипом чеченского мятежа, хотя еще не приобрело ярко-кровавого оттенка в глазах всего пресловутого международного сообщества. Рядом с ним восседали двое более старших по возрасту людей, оба безбородые, с черными злыми глазами, в черных чеченских шапках, похожие в равной степени и на советников, и на манекенов генеральского эскорта. Сонмище разнообразных мыслей пронеслось у комбата за считаные мгновения. Как теперь вести себя? Начать игру, разыграв воспоминания, обняться с ним? Или, наоборот, сделать вид, что они незнакомы, никогда не встречались? А если он кинется обниматься, а Шамиль сыграет против, выставит его на посмешище? И как это все отразится на судьбах двух людей, спасти, отвоевать жизни которых он просто обязан? Комбату оставалось до каменного столика несколько шагов, а он все не мог избрать четкую линию поведения. Он не испытывал страха, вернее, боялся лишь оказаться несостоятельным и не суметь вырвать две попавшие в смертельный капкан души, не вытащить их из когтей стервятников. Пока Игорь Николаевич приближался, он ощущал действие черной харизмы Басаева, которая обволакивала его, словно жертву, гипнотизируя сокрушительной энергией. Комбат в этот миг готов был поклясться, что он отчетливо видел темную тень убийцы. И опять Игорь Николаевич не мог не признать: эта энергетика в равной степени вызывала в нем ненависть и восхищение. Как и раньше, более всего поражали глаза этого дикого горца: властные, испепеляющие. Это были глаза человека, давно преступившего грань человеческого и нечеловеческого, привыкшего балансировать между жизнью и смертью, готового равнодушно отправить любого на плаху или миловать. Игорь Николаевич почему-то подумал, что люди с такими глазами не только сами могут без сомнений и тяжести в сердце убивать женщин и детей, топтать агонизирующие тела, но и добиться, чтобы подчиненные делали то же самое. «Ведь он и сам готов умереть в любой момент своей жизни, потому что он – воин до мозга костей. Но отчего это, откуда в них такая звериная угрюмость и дисциплинированная сосредоточенность на смерти, ведь они даже строевым шагом не ходят да и возможности оружия знают гораздо хуже, чем мы?» – вопрошал себя комбат в те доли секунды. Но пока Игорь Николаевич думал, мучивший его доселе вопрос решился сам собой.
– Садысь, Дэд, потолкуем, – заговорил Шамиль размеренным, убийственно-спокойным голосом, впиваясь в Игоря Николаевича черными горящими глазами, – рассказывай, зачэм пришел?
Комбат присел, решив играть некоторое время по их правилам, с учетом их нравов и традиций. Он ощутил твердый холод скальной породы под собой.
– Ты сам знаешь, Шамиль, – начал Игорь Николаевич спокойно, хотя чувствовал, как мешает ему сконцентрироваться предательски клокочущее в груди сердце. – Двое моих людей у тебя, но они ничего не сделали такого, за что надо платить головами.
– Плохо знаэшь своих людей, Дэд. Они сбили нашу машину и сдэлали это нарочно. Покалэчили моего человека…
Шамиль говорил один и говорил медленно, как будто смакуя каждое слово, наслаждаясь своей властью и тем, что только он и никто иной решит судьбу двух российских военных. Игорь Николаевич подумал, что ему никто не посмеет помешать, даже он. И когда комбат смотрел на этого чернобородого бойца в широкополой шляпе, какие носят пограничники, оглядывал его добротный разгрузник, из левого верхнего кармашка которого торчал гранатный запал с кольцом, сомнения в успехе исполинским червем стали заползать в его душу. И все же он решил напомнить об оказанной когда-то услуге.
– Шамиль, я пришел как старый знакомый, – он хотел сказать «как старый друг», но передумал. – Я очень прошу отпустить этих двух людей, ну хотя бы в память о нашей встрече в Гудауте.
После этих слов глаза Шамиля внезапно вспыхнули холодным обжигающим огнем. Так загораются глаза боксера, когда он во время поединка вдруг видит, что противник непоправимо открылся и стал уязвим.
– Ты знаэшь наш обычай, знаэшь, что все уже рэшено… Но для тэбя путь свободен. Батальон может идти…
Игорь Николаевич заскрежетал зубами от бессильной ярости, он понял свою ошибку. У этих людей никогда ничего нельзя просить! Они хуже закостенелых вертухаев, гораздо хуже. Просьба ими всегда расценивается только как слабость. Теперь Шамиль вызывал в нем отвращение, а также растущее желание вцепиться ему в глотку, привязать к дереву и пальнуть из гранатомета, чтобы ошметки его дрянного тела разнесло ветром. За своих он будет бороться до конца. Это святое дело, и он, лично он, отвечает за их души, он – их ангел-хранитель.
Некоторое время комбат молчал, низко наклонив голову. Затем поднял ее и, глядя прямо в глаза Шамилю, твердо, как тяжелую штангу, выжал из глотки слова:
– Я без своих не уйду. И отсюда, – тут Игорь Николаевич кивнул в сторону лагеря, – тоже никто не уйдет.
Шамиль выдержал взгляд, да Игорь Николаевич и не ожидал его испугать. Выражение лица горца оставалось абсолютно бесстрастным, безэмоциональным, как будто замороженным. Едва видимая насмешка вынырнула из недр его естества и тут же ящерицей ускользнула, упряталась в норку скрытной души. Глаза же его пронизывали насквозь, заглядывали в самое нутро, ощупывали Игоря Николаевича. Теперь противники смотрели друг на друга в упор, как будто проверяя твердость намерений. Но это оказалось тяжелым испытанием для обоих, и они одновременно отвели глаза в разные стороны. Как два автомобиля, мчащиеся лоб в лоб на бешеной скорости и в последний момент разом избегающие столкновения. Оставаясь при этом непримиримыми.
– Дэло твое. Будэт много крови… Много бэссмысленных смэртей. Это твое рэшение.
Теперь Игорь Николаевич уловил, что дальнейшее затягивание разговора ничего ему не принесет. Началась психологическая борьба, и все, на что он мог рассчитывать, – поставить точку, чтобы мяч остался на поле противника. Вопрос лишь в том, выпустят ли его самого из этого каменного мешка. Но все равно надо рискнуть. Если у Шамиля остались прежние отношения с полномочными людьми в Москве, он не посмеет причинить ему вред. Одно дело, прикрываясь обычаями, убить солдата и офицера, и совсем другое – комбата, пришедшего на переговоры. Эти мысли молнией пронеслись в голове у Игоря Николаевича, и он решился.
– Пусть все будет, как будет. Я все сказал, – молвил, он, поднимаясь и удивляясь тому, как волна холодного спокойствия прошла по всему его телу, словно превратив его в бронзовый, невосприимчивый ни к чему монумент. – Я буду ждать своих людей ровно полчаса.
Затем Игорь Николаевич повернулся спиной к людям, застывшим в молчаливой невозмутимости, за которой они скрывали свою нерешительность, и сделал несколько шагов. Никто его не окликнул, никто не проронил ни слова. И тогда он сам обернулся к Басаеву.
– Пусть мне вернут радиостанцию и пистолет, – потребовал он твердо и спокойно.
Но Басаев все еще молчал, и наступившая тишина казалась зловещей и пугающей. Солнце уже повисло прямо над ними, и можно было видеть, сколь малы стали неподвижные тени, отбрасываемые тремя застывшими фигурами. «Что он сейчас скажет? Прикажет схватить? Не может такого быть, у него есть свои незыблемые принципы! В любом случае – не терять самообладания! Эта маленькая тень не заставит меня трепетать!» – мысленно приказывал сам себе Игорь Николаевич в то время, как чеченец испытующе смотрел на него. Комбату было так холодно, как на Северном полюсе. Ладони и лоб его вмиг покрылись испариной. Наконец сфинкс ожил, его тонкие, скрытые черными зарослями усов и бороды губы скривила усмешка насильника, который думает, сейчас ли расправиться со своей жертвой или немного позже. Еще через мгновение он стал похож на встреченного в лесу волка с осклабившейся пастью.
– Что ж, иди, только не пожалэй потом, – сказал он и кивнул гнилозубому, чтобы позаботился о радиостанции и личном оружии офицера.
– Счастливо. Очень надеюсь, что через полчаса нам не будет надобности встречаться, – спокойно выговорил Игорь Николаевич и, круто повернувшись, пошел мимо группы вооруженных боевиков, которые провожали его ощетинившимися, злобными и в то же время уважительными взглядами.
«Только бы отпустил! Господи, помоги этим двум несчастным! Повлияй на этого демона, внуши ему, что отпустить их будет лучше для всех!» – мысленно повторял Игорь Николаевич слова, как мантры, когда скрылся за скалой. В нем жило такое исполинское намерение выровнять ситуацию, что он, кажется, разворотил бы эти неприступные скалы, взорвал бы весь мир, только бы вышло, как он хотел. Но желание это было светлое, в нем отражалась жажда жизни, столкнувшаяся с дьявольским инстинктом смерти, и сам он, и Шамиль точно знали это. Дальше все могло развиваться по совершенно разным, противоположным сценариям, но он четко держался своей линии. Комбат делал ставку на две опорные точки. Он не мог поверить, что личное знакомство с Басаевым ничего не значит; ведь оно предполагало не только отменное знание друг друга, но и понимание причинно-следственных связей их участия в этой войне, включало осведомленность его, Игоря Николаевича, о связях лидера боевиков с федеральными властями. А кроме того, Басаев не может не понимать, что угрозы комбата будут приведены в исполнение. Да, вся ситуация грозит ему многими новыми жертвами и последующими неприятными разборками, но он пойдет на них, чтобы доказать: обходиться с собой как с зеленым, не обстрелянным противником он не позволит.
Голова его шла кругом от водоворота событий, почему-то остро захотелось выпить стакан водки и не закусывать, только прижаться лицом к большой хлебной корке, впитать в себя пряный, особый, лучший на свете запах. Содержащий аромат самой земли…
Он преодолел почти половину расстояния до колонны, прежде чем решился включить радиостанцию, чтобы дать команду полной боевой готовности батальона, начала развертывания и отправки групп блокирования чеченского отряда. Но радиостанция даже не зашипела. Он поднес металлическую коробку к уху и только теперь заметил, какая она легкая. «Ах, суки, вытащили аккумулятор!» – вслух крикнул он и выматерился долгими, повторяющимися от словесного и физического бессилия тирадами, похожими грохотом на здешний сход камней в глухой провал. Ему стало немного легче, и он ускорил шаг, перешел почти на бег по камням.
– Минометчиков – к бою! – было первой произнесенной комбатом фразой. – Развернуть вон там, – он указал на выгодную природную площадку на каменной осыпи, – я лично скорректирую огонь!
– Старшего лейтенанта Корнилова – срочно ко мне, готовность выхода боевой разведгруппы – четыре минуты. С собой – по два полных боекомплекта!
Игорь Николаевич, еще не восстановив дыхание, раскидывал вихрем летящие распоряжения. Как вдруг перед ним вырос наблюдатель.
– Товарищ майор, вон там две фигуры двигаются к нам, и… кажется, наши…
Комбат прильнул к мигом поднесенному на его требовательный жест биноклю. Вгляделся. За длинным, худым, широко шагающим по камням человеком семенил маленький, более подвижный, размахивающий короткими руками… Игорь Николаевич узнал их и выдохнул с облегчением.
– Отставить готовность к бою, все – в исходное положение. Начало движения колонны по указанному маршруту через десять минут, – крикнул он зычным голосом, и команда тотчас понеслась по радиостанциям и самой колонне. И в голосах солдат, теперь звонких и сочных, в витиевато-напыщенной брани, в освобожденных от скованности и напряжения улыбках, да и во всех жестах и грубоватых манерах теперь отчетливо прорывались восторженные ноты ничем не сдерживаемого счастья: «Пронесло! Не сегодня!»
У комбата же от усталости подкашивались ноги; он чувствовал себя как временно отпущенный на побывку каторжник, как ломовой конь, закончивший переход с непосильным грузом. И все-таки он был счастлив. Тем, что сумел сохранить две человеческие жизни. Тем, что не допустил кровопролития. Тем, что поколебал надменную убежденность в собственном божественном или сатанинском предназначении у этого демона, вознамерившегося подняться выше жизни и смерти… Когда подошли отпущенные пленники, долговязый лейтенант тихим голосом доложил о прибытии, а затем, пристально, по-детски посмотрел в глаза и прошептал чуть слышно: «Спасибо вам, товарищ майор, большое, огромное спасибо». Огромные, влажные глаза лейтенанта блестели от выступивших слез, его мажорность выпарилась, как в школьном опыте на уроке физики. «Вот, оказывается, что надо человеку для того, чтобы ощутить истинный запах земли, убедиться в хрупкости своей жизни, – подумал Игорь Николаевич. – Несколько часов испытаний безумием, во время которых можно отчетливо увидеть скалящийся череп с черными впадинами вместо глаз – свою смерть». Комбату бросилось в глаза, что офицер очень изменился, посуровел всего за какие-то часы в плену. Игорь Николаевич подумал, что уже только за эти слова благодарности стоило рисковать, имело смысл бороться с этим чернобородым зверем. Он так же тихо спросил: «Они ничего не передавали?» – «Только одну фразу: Шамиль шлет привет и заверения в дальнейшей дружбе», – сухими обескровленными губами промолвил лейтенант, и Игорю Николаевичу показалось, что каждое слово давалось офицеру с мучительными усилиями. «И еще вот», – добавил офицер, показывая аккумулятор от радиостанции. Эта последняя деталь была самой значимой – она свидетельствовала, что Шамиль колебался, как поступить… «Отчего он так поступил?! Что не давало ему покоя – тот взаимный обмен, состоявшийся несколько лет назад и требующий по законам его племени оставаться способным на дружескую услугу, даже если мы уже по разные стороны баррикад? Но его глаза уже говорили: война стала для него всем, миссией в миру! Что ж, он еще себя проявит! Непременно проявит…»
5
Предчувствие Игоря Николаевича неожиданно сбылось. Словно он мыслями притянул события. Со времени происшествия на марше минуло лишь две с половиной недели, как мир потрясло грозное, шокирующее, вызывающее оцепенение трагическое известие. Тот самый Басаев, недавний большой друг российских военных в Абхазии, великодушно, по-цезаревски отпустивший плененных врагов и приславший привет ему, Игорю Николаевичу, совершил гнусный захват роддома в Буденновске. После совещания в штабе комбат пребывал в размышлениях; потрясенный, вперившись глазами в карту, он в сотый раз задавал себе вопросы, не имеющие ответов и отдающие мистикой, колдовством. Он не мог понять, как сорок вооруженных боевиков на двух КамАЗах могли лихо проскочить по территории, занятой федеральными войсками, пройти через все блок-посты в Северную Осетию, а затем в Ставропольский край?! Он не мог уловить логики требований Басаева о прекращении боевых действий в Чечне, если за два дня до этого события и так уже было объявлено о прекращении огня. Игорь Николаевич получил и дополнительную конфиденциальную информацию: Буденновск мог и не стать объектом нападения боевиков, если бы не случайная обычная остановка грузовиков на посту ГАИ и препровождение их в отдел МВД. В своих мысленных раскладах Игорь Николаевич допускал, что Басаев частично или полностью вышел из-под контроля прежних покровителей с целью заработать хорошие деньги на войне. Может быть, даже приобрел новых хозяев: появились непроверенные данные о прочной связи Басаева с саудовским террористом Хаттабом. И все-таки что-то не складывалось. «Определенно существуют и силы в самой России, заинтересованные в продолжении войны, – пришел к парадоксальному выводу майор Дидусь. – Но зачем? С какой целью?» Ответов не было.
Через три недели после встречи с Басаевым комбата вызвали в штаб полка на ковер для детального объяснения событий, которые произошли на марше. Несмотря на то что по прибытии он обстоятельно уже доложил устно о происшествии, теперь его заставили все еще раз, и как можно более подробно, описать на бумаге.
– Игорь Николаевич, а ты у нас из Черкасской области? – спросил начальник штаба полка, когда работа была благополучно завершена и несколько плотно исписанных стандартных листов утонули в объемном металлическом сейфе.
– Так точно, товарищ подполковник. – Игорь Николаевич подчеркнуто козырял, и никогда нельзя было разобрать, искренне ли он выполняет привычный ритуал. С другой стороны, на лице его в этот момент проскальзывала присущая лишь ему полуулыбка, в которой опытный наблюдатель мог бы распознать различный диапазон выражаемых ощущений – от легкой, воздушной иронии до осуждения и презрения.
– А что там у вас за газета такая, «Черкаська зона» какая-то?
– Понятия не имею. А что, мои земляки где-то нашкодили?
– То-то и оно, что нашкодили. Вот ты от Басаева людей избавлял, а они взяли да и включили этого отморозка в состав членов редколегии. Как тебе?
– Приеду домой, найду эту газету, ноги повыдергиваю редакторам, – с полуулыбкой на устах пообещал Игорь Николаевич. А про себя с грустью подумал: «А кто ж этого отморозка выкормил грудью?!».
– Ну что ж, вы свободны. Если у особиста будут какие-то вопросы по нынешнему маршу, не обессудьте, – теперь уже отыгрался штабист, намекнув, что может возникнуть недоверие к рассказу комбата. Или что есть основания полагать, будто он не все рассказал.
В ответ Игорь Николаевич коротко пожал плечами, как бы говоря этим примиряющим ситуацию жестом: «Я к вашим услугам». Он вышел из кабинета со смешанными чувствами. И так же, в глубоких размышлениях, направился в штаб батальона. Как же можно так воевать?! Не веря своим комбатам и ротным, одной рукой разрабатывая операции, а другой – тщательно оберегая врагов. Интересно было бы узнать, а действительно ли Шамиль – кадровый офицер ГРУ, как шепчут злые языки? Конечно, то, что ему помогали с оружием и подготовкой, не вызывает сомнения. Обучался диверсионному делу на базе нашего полка, это вообще с десяток офицеров, и в том числе он сам, знают. Затем затачивал свои отряды на Майкопской базе ГРУ… Почему он все-таки отпустил его людей, ведь явно намеревался расправиться с ними? С одной стороны, если Басаев офицер ГРУ, то он не должен вызывать подозрения у своих, и может, более того, должен демонстрировать высшую степень жестокости и зверства. Даже если он в отряде на правах хозяина. С другой стороны, для каких таких высших целей, скрытых от него и других кадровых боевых офицеров, нужен такой ублюдок в качестве засланного казачка? Или те, кто его ведет из ГРУ, готовы на любые жертвы ради чего-то большего, ему непонятного? Допустим, что это так… Но так можно рассуждать, когда говорится о жертвах вообще, гипотетически, безотносительно тебя самого. А когда ты видишь двух молодых ребят, обреченных на смерть, то разве могут оправдать какие-то высшие разведывательные цели их смерть, ведь их бы зарезали, как баранов! Нет и еще раз нет! Он, во всяком случае, никогда не согласится с такой постановкой вопроса. Ведь он знает, что испытали эти мальчики в ожидании приговора. И что же Басаев?! Почему он отпустил этих попавших в капкан детей на волю? Не потому ли, что он, капитан Дидусь, явился к нему и напомнил о старых связях с сорок пятым полком? Но если бы на его месте был кто-нибудь другой, такой же принципиальный, но не знающий о шлейфе Басаева, тянущегося от покровителей из российской власти? Тогда он бы точно не пожалел этих двух несчастных, им бы отрезали головы, а еще хуже, дробили бы пальцы молотками или отстреливали бы их из пистолетов, чтобы прислать потом в Москву жуткие записи мести горных людей, чтобы в очередной раз вызвать волну ненависти двух народов! Да и разве сложно Басаеву было убить двух взрослых мужчин после диких погромов в Абхазии? А может, правда и то, что Буденновск появился неслучайно?! «Ах, мать твою, так я далеко зайду!» И Игорь Николаевич ужаснулся ходу своих мыслей и решил усилием воли переключиться на другие темы, только бы не развивать логические цепочки, которые могли бы привести его самого к сомнению в деле, которое он исполняет. Он незаметно для самого себя смахнул холодный пот со лба и удивился: он весь горел внутри, как будто жар в нем раздули мехами. А когда увидел дверь штаба батальона, удивился во второй раз: он прошел через территорию всей части и не заметил, как очутился у штаба. Как в бреду…
Эпилог
(Москва, март 1998 года)
Мужчины стояли на балконе и курили. Оба отчего-то заметно волновались и были несвойственно напряжены – какая-то несуразная выходила встреча. Жены и дети оставались в комнате, из которой доносился обычный при встрече давних друзей шум веселого разговора, прорывалось приподнятое застольем настроение и ничем не сдерживаемая, беззаботная детская возня. Но у обоих возникло и не проходило чувство, что все происходящее, все произнесенные с пафосом слова – не о том, что главного они друг другу так и не сказали. Но должны сказать. Или хотя бы намекнуть. Но каждый в отдельности не был уверен в том, что, сказав самое сокровенное, будет понят. Вот они вместе с женами уже в течение почти двух часов болтали в комнате о чем придется, но только не о деле, и болотная, илистая недосказанность обволокла их неприятным пленом трясины.
С минуту они курили, храня абсолютное молчание. Как бы примеряясь, что сказать друг другу. Алексей видел, как подрагивали у Игоря руки от странной нервной дрожи, точно у алкоголика, которому срочно надо пропустить стопочку. Видел его смущение и колебание, выражавшиеся в чрезмерно частом расправлении плеч, наклонах головы, напряжении шеи. Он словно набычился, как будто ему предстояла тяжелая схватка. Алексей хотел бы ему сказать что-нибудь типа «Расслабься, брат», но не мог, ощущая и собственное предательски выпирающее наружу напряжение, глупую дрожь в ногах, словно он шельмовал перед старым другом. С каким бы удовольствием, если бы мог, он рассказал сейчас старому другу, что у него за плечами уже специальное учебное заведение по подготовке разведчиков, что он теперь в числе тех немногих нелегалов, для обеспечения деятельности которых государство предпринимает неописуемо дерзкие шаги, фантастические усилия, выделяет поистине баснословные ресурсы. И именно поэтому он не имеет права раскрываться, рассказать, чем и, главное, для чего он живет. О, он бы артистично и в красках расписал, как художник картину, что надолго отправляется на следующей неделе во Францию работать под видом коммерсанта. Он бы непременно добавил, что именно от работы нелегалов, от небольшой группы людей, этой особой касты, элитной и совершенно скрытой от всего общества части людей зависит порой не то что исход какой-нибудь дипломатической баталии на международной арене, но даже контуры будущей геополитической карты континента. Что ему какие-то там батальоны, полки?! Тут целых армий стоит их работа, это ведь стратегическая агентурная разведка! И Артеменко подумал, что, пожалуй, зря они сейчас встретились, надо бы еще лет так через пять-семь, и тогда бы напряжения в отношениях не существовало бы вовсе, как в былые курсантские годы.
Игорь тоже хорошо понимал чувства и свои, и друга. Но относил их на иной счет. И оттого нервничал, считая себя благополучным человеком, случайно попавшим в трущобы. Артеменко казался ему растерянным и колеблющимся, при внешнем благополучии еще не нащупавшим свое исключительное предназначение. «Эх, Леша, то ли сбой произошел у тебя, то ли какие-то неисправимые изменения в судьбе, но только вижу – нет проку от нашего разговора. Может, все из-за неудачной военной карьеры, из-за неуемной тоски по армии? И тебя раздражает факт моего поступления в академию?» Так думал Дидусь, недоумевая, отчего стало вдруг тяжело говорить наедине с тем, с кем всегда было легко. «Только Алька и осталась от прежней жизни, обаяшка, молодчина натуральная, может кого-угодно заговорить». Игорь оказался в Москве по случаю своего поступления в академию, начала совершенно нового, звездного, как он думал, этапа жизни. Он – уже несколько лет успешный комбат, один из лучших во всех их малочисленных, но бесконечно авторитетных элитных в России войсках. Ребята из их выпуска только-только получают батальоны, всего несколько человек успели стать майорами, он же досрочно, за выполнение настоящих боевых задач, дослужился и до капитана, и до майора. Незаметно пролетят три года в столице – они с Ксюшей получат передышку, отдохнут, погуляют по столице, а затем его автоматически ждет солидная должность – замкомандира полка или начальника штаба. Круто, нечего добавить! Быть может, к тому времени и война уже закончится… Хотя нет, лучше пусть продолжается. И не только потому, что в военное время себя можно по-настоящему проявить, выдвинуться в полководцы. А потому, что разная слабовольная и пугливая штабная мразь, привыкшая делать карьеру за счет генеральской или политической родни, на войну соваться боится. Стало быть, ему мешать не будут! А вот Алексей ушел из армии, что-то у него не склеилось, но не совсем ясно, что именно. А если не ясна болезнь, нет рецепта для ее лечения. Эх, жаль парня! Хотя зачем его жалеть? Ведь это его осознанный выбор. Да и не создан он был для армии, в конце концов. Игорь, щурясь, бегло скользнул взглядом по другу, который в это время тоже затягивался и смотрел куда-то вдаль, сквозь вытянувшиеся в образцовую колонну многоэтажки. В задумчивом и, как ему показалось, печальном друге боевой комбат нашел подтверждение своим догадкам. Ну какой из Лешки вояка? Игорь попытался сравнить его со своими боевыми товарищами. С отрывистым резким Анастасиным или рассудительным, но непреклонным в решениях Лаповым. Сравнения были излишни. Даже с интеллигентным до мозга костей артиллеристом Керженом Лешу невозможно поставить рядом. Он как будто с другой планеты. Где не воюют. Только думают, как воевать надо. Вот в чем главный вопрос – в том, что Леша с самого начала был невоенный человек. И жалеть его ни к чему, он умный, сильный, стойкий, он себя найдет в новой жизни. И потом – ему Алька досталась. При этой мысли Игорь вздохнул. Он не то чтобы подумал о ней – просто возник сладкоголосый образ. «Интересно, а смогла бы Алька, как моя Ксюша, поехать за мной в Кировабад? Ну, если бы была моей женой. Сложно ответить», – подумал Игорь, и перед глазами промелькнули холодные песчаные ветры, безжизненные горные пустыни, скорпионы, змеи, выстуженная квартира, одиночество, отсутствие развлечений и еще много такого, от чего – он это видел много-много раз – сбегали лейтенантские жены. Те, что слабенькие. А вот его Ксюша – двужильная… Но, наверное, и Алька все-таки тоже поехала бы. И может быть, не просто поехала бы, но такого бы шороху там навела! Так что отставному капитану Артеменко переживать особенно незачем. А теперь вот они едут работать во Францию… Но что-то определенно не договаривают… Ну и бог с ними! Пусть едут и добиваются своего. Пусть им повезет. А ему вот во Францию не хочется. Для него Москва с академией как подлинный рай. Как сногсшибательный курорт – после горящего, кровящего и гниющего солдатским мясом Кавказа.
– Знаешь, – попробовал начать разговор Игорь, – я вот смотрю на людей, на автобусы, машины. Мне странно видеть, даже как-то дико принимать, что люди спокойно между собой разговаривают…
Он говорил совершенно искренне, он еще не привык к нормальным цивилизованным отношениям между людьми.
– Чудак ты, – посмотрел на него Артеменко и улыбнулся. – Ты просто одичал там, на войне. Но это быстро пройдет. Театры, концерты, гуляния по городу – все рассеется.
Игорь недоверчиво покачал головой.
– Ты ж сюда на три года? – спросил Алексей, и Игорь утвердительно кивнул головой, раздражаясь внутри на вопрос. Ведь он уже спрашивал!
– А потом? Ты же можешь в Москве застрять?
– Не знаю. Да и не очень-то хочу. Там – настоящая жизнь, истинные отношения. Та жизнь отсюда кажется дикой, первобытной. Но она, на самом деле, основана на правилах сильнейшего.
Теперь уже Алексей покачал головой, и по глазам его Игорь увидел, что друг ничего не понимает, ничего не принимает. Как бы рассказать Леше что-нибудь из настоящей жизни. Про Басаева – точно нельзя! Это табу, полный запрет, хотя никто и не предупреждал его прямо. Про то, как головы режут одни люди другим людям, – но какой смысл экспортировать ужасы?! Тогда хотя бы про хулиганство десантное – это, пожалуй, можно.
– Хочешь пару приколов из нашего десантного быта?
– Валяй, только правдивых, без приукрашивания.
– Так вот, стоим однажды в Гудауте. Я обеспечиваю охрану и оборону объекта. Командир полка по связи: «Дидусь, завтра командующий у тебя на объекте будет. Со мной, разумеется. А у тебя там бардак вопиющий! Надо все площадки, дорожки выложить бордюрами и покрасить их. Ясно?!» Я ему отвечаю: «Так точно! Только где бордюры взять?» Кэп мне как рявкнет в трубку: «Ты исполняешь обязанности комбата?! Ты и думай!»
– Ну и что ты? – усмехнулся Алексей, для которого такая ситуация попахивала абсолютным безобразием. Гнетущим абсурдом. Чудовищным, непростительным идиотизмом.
– Я понял: кэп проверяет мою смекалку, насколько можно на меня рассчитывать в боевой ситуации. Я беру три КамАЗа – и на трассу. Перегородил несколько километров трассы, поставил вооруженные патрули и выбил за несколько ходок все бордюры. За ночь ими огородили все площадки на аэродроме и площадке приземления, все покрасили. Зато утром кэп просто обалдел! Не ожидал. Командующий, поскольку не знал об этой задаче, не обратил внимания. Но бонус свой я получил – в виде неограниченного доверия кэпа…
Дидусь смотрел с гордостью, в глазах его сверкали искры бесшабашной отваги. Артеменко взглянул на друга с удивлением и непониманием.
«Не врубается, – разочарованно подумал про себя Дидусь. – Далек он от смысла этих действий, никак не увязывает их в общий пучок. Эх, не понимает, что карьера делается деталями, умением обратить командирское внимание на свои исключительные способности решать любые задачи в любое время. По-маргеловски. Ну да ладно…»
Они поговорили еще немного о десантских буднях, и разговор сам собой перекинулся на ребят из их выпуска, что уже успели освободиться от офицерского груза.
– Ты-то как себя чувствуешь, не жалеешь? – неожиданно спросил Дидусь.
– Да как тебе сказать, – протянул Артеменко, стараясь меньше врать и больше говорить об истинных ощущениях, – не распробовал я еще толком. Не знаю, скажу честно. Конечно, есть мимолетная тоска. Но когда вспомнишь о покраске травы, подвешивании листьев на деревья, дерновании холмов, тошно становится.
– Так то ж только средство. Без него нельзя к цели. – Игорь пытался не замечать уколы товарища, как будто негатив об армии касался его лично. – А на что рассчитываешь во Франции? Заработать денег или перейти в категорию самостоятельных бизнесменов?
«Щупает мои цели, – подумал Алексей. – Что ж, щупай. Если б ты, брат мой, знал мои настоящие цели!» О последнем Алексей подумал с нескрываемой тоской.
– Что получится. По меньшей мере, набраться опыта, посмотреть за пару лет, как у них там бизнес работает, немного мир увидеть и своим девчонкам показать. Ну а если карта ляжет, конечно, создам свое дело…
Артеменко подумал, что, пожалуй, не так уж плохо вышло с ответом. Но он хорошо знал также, что этим лишь успокаивает себя – на самом деле, впервые он испытывал столь явное отвращение из-за своего безапелляционного вранья, из-за того, что вынужден казаться хуже, чем есть на самом деле. И сколько раз теперь в жизни придется выставлять себя в глупом, дубовом виде? Взамен рассказа о своей почти героической биографии.
На следующее утро они прощались. Прощались жадно, надолго, и каждый это знал, чувствовал глубинным сознанием, всеми клеточками. Дидусь намеревался пробыть в Москве три года, Артеменко через несколько дней улетал с семьей в Париж – как минимум года на четыре.
Они крепко, по-братски обнялись. Так, как прежде, когда прощались после училища. Может быть, еще крепче. Старт они уже сделали, но все самое главное у каждого теперь впереди. Нежно, без тени наигранности и кокетства попрощались их женщины и приласкали детей, как своих.
– Ничего, брат, дерзай! Все только начинается! – Дидусь произнес эти слова просто, с непреложной мужской уверенностью командира.
«Как же он все-таки прав, – подумал Артеменко, – провидчески прав».
– Да, брат, – подтвердил он твердо, чувствуя облегчение и радость, – все только начинается!
Киев, июнь 2011 года

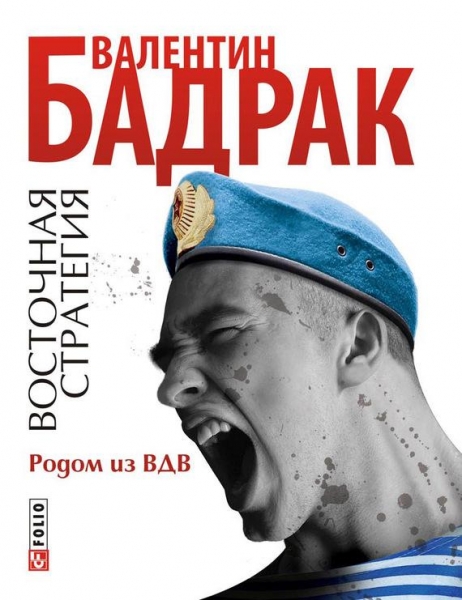







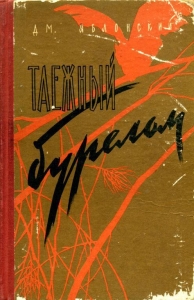
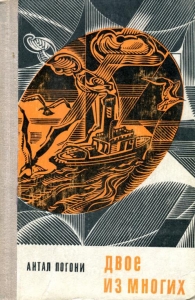

Комментарии к книге «Родом из ВДВ», Валентин Владимирович Бадрак
Всего 0 комментариев