Дэвид Бениофф Город
Тимур Бекмамбетов представляет
Книга, которую вы держите в руках, мне особенно дорога. Ее автор — замечательный американский сценарист и писатель Дэвид Бениофф, известный российскому зрителю лишь как автор легендарных блокбастеров «Троя» и «Люди Икс». Мы встретились несколько лет назад в ресторане старинного по лос-анжелесским меркам отеля «Шато Мармон» после того, как я за одну ночь, взахлеб, прочитал рукопись еще ненапечатанной тогда книги. Влюбившись в героев романа о блокадном Ленинграде, я расчитывал получить права на его экранизацию, но, увы, автор мне отказал. «Это история моей семьи, — сказал он, — и надеюсь, когда-нибудь, когда освобожусь от монстров и суперменов, я сниму фильм о том, что меня действительно волнует…» Многие из наших дедушек и бабушек прошли через испытание той страшной войной, но не многим из них посчастливилось иметь такого талантливого и любящего внука, как Дэвид.
«Город» — книга о молодых и для молодых. Для сегодняшних молодых, которые сутками пропадают в Интернете и ни дня не могут прожить без мобильного телефона, которые любят 3D-кинофильмы и, к сожалению, мало что знают уже о Великой Отечественной войне. Главные герои «Города» тоже молоды: семнадцатилетний Лев Бенёв, сын репрессированного поэта, и двадцатилетний красавец балагур Николай, одаренный студент филологического факультета, мечтающий о литературной славе.
Нелепая случайность сводит героев в Ленинграде в первую блокадную зиму 1942 года. Вместе им суждено прожить странную и страшную неделю, которая определит их судьбы. Здесь нет налета пафоса, нет запланированного героизма, но есть искренняя авторская симпатия к героям — героям, которые спорят и подшучивают друг над другом даже в невыносимый мороз, даже на грани голодного обморока. При этом книга очень трогательная, в ней есть нежная история первой юношеской любви, окруженная страшными декорациями блокадного города.
Мальчишкой я часто приезжал в Питер (тогда еще Ленинград) к сестре на каникулы. Отец сестры — первый муж нашей мамы — ушел на Финскую войну прямо со школьной скамьи. А когда началась Великая Отечественная, ему был всего 21 год. Всю блокаду он провел в Ленинграде, где и встретил мою маму. Вскоре после войны они поженились, но всего через полгода после свадьбы он умер от ран. Трагедия, знакомая миллионам семей. А еще через полгода родилась моя сестра. Кстати, первой читательницей этой книги стала именно она — для меня было особенно важно ее мнение. Книга ей понравилась, хотя я ожидал услышать массу критических замечаний, ведь питерцы очень не любят, когда чужаки (особенно иностранцы) пишут об их городе. Тем более о блокаде.
И хотя история, рассказанная Дэвидом Бениоффом, не документальная, атмосфера блокадного города передана очень точно. Я как будто снова возвращаюсь в свое детство, слышу неспешные, почти всегда полушепотом, разговоры о 900 днях стояния Великого Города.
Тимур Бекмамбетов
и если Город падет и уцелеет единственный он будет носить Город в себе по дорогам изгнания он будет Городом
— Збигнев Херберт[1]Наконец Шенк решил, будто все понял, и захохотал громче. А потом вдруг серьезно спросил:
— Думаешь, русские — гомосексуалисты?
— Узнаешь в конце войны, — ответил я.
— Курцио Малапарте[2]Мой дед ножом убил двух немцев, когда ему еще и восемнадцати не сравнялось. Не помню, чтобы мне кто-нибудь об этом рассказывал. Мне кажется, я знал это всегда. Как, например, знал, что «Янки» на свое поле надевают полоски, а на выезды — серое. Но это знание у меня не от рождения. Кто рассказал мне? Отец — нет, он никогда со мной не секретничал. Мать тоже. Она вообще избегала говорить о неприятном — кровавом, раковом, уродливом. Да и бабушка вряд ли говорила. Она знала все русские народные сказки, почти без исключения — страшные: волки пожирают детишек, ведьмы сажают в печи. Но при мне бабушка ни разу не заговаривала о войне. И уж совершенно точно не рассказывал сам дед — улыбчивый хранитель самых ранних моих воспоминаний, тихий, черноглазый и щуплый. Он держал меня за руку, когда мы переходили проспекты, сидел в парке на лавочке и читал русскую газету, пока я гонял голубей и терзал веточками муравьев.
Вырос я в двух кварталах от деда с бабкой и виделся с ними почти каждый день. У них была своя маленькая страховая компания. Они работали дома в Бей-Ридже, прямо в комнатах-пеналах. Страховали в основном других русских иммигрантов. Бабушка вечно висела на телефоне — убалтывала клиентов. Перед ней никто не мог устоять. Она их очаровывала или пугала, но так или иначе страховки они покупали. Дед восседал за столом, вел все делопроизводство. Маленьким я сидел у него на коленях, не сводя глаз с обрубка указательного пальца у него на левой руке, округлого и гладкого. Две фаланги деду отсекли так чисто, что казалось, будто он вообще без них родился. Стояло лето, играли «Янки», по радио (папа только на семидесятилетие подарил деду цветной телевизор) передавали матч. Дед так и не избавился от акцента, не ходил на выборы, но стал преданным болельщиком «Янки».
В конце девяностых компании деда с бабкой сделала предложение страховая корпорация. Все говорили, что предложение хорошее, поэтому бабушка запросила вдвое больше. Торговались они, должно быть, люто. Но с моей бабушкой торговаться — только время тратить. В конечном итоге ей дали затребованную сумму, и они с дедом по традиции продали квартиру и переехали во Флориду.
Они купили домик на побережье Мексиканского залива. Это был шедевр с плоской крышей, построенный в 1949-м одним архитектором, который стал бы знаменит, если бы не утонул в том же году. Строгий и величественный дом — сталь и бетон — высился на одиноком утесе над заливом. Не таким обычно воображаешь себе жилище пары пенсионеров, но дед с бабкой переехали на юг отнюдь не увядать на солнышке. Дед почти все дни проводит за компьютером — играет онлайн в шахматы со старыми друзьями. Бабушка, которой бездеятельность надоела уже через пару недель после переезда, придумала себе занятие — в Сарасотском колледже преподает русскую литературу загорелым студентам, у которых, судя по тому единственному разу, когда я заглядывал к ней на уроки, явно не проходит стресс от ее сквернословия и сарказма, а также от ее идеальной памяти на стихи Пушкина.
Каждый вечер дед с бабкой ужинают на террасе, открытой темным водам залива, которые простираются до самой Мексики. Спят, не закрывая окон, и ночные мотыльки бьются крылышками о москитные сетки. Деда с бабкой, в отличие от других флоридских пенсионеров, не заботит преступность. Парадная дверь у них обычно не заперта, сигнализации нет. Они не пристегиваются в машине, на солнце не мажутся лосьонами. Они решили, что прикончить их может только Бог, а в Него они не верят.
Я живу в Лос-Анджелесе и пишу киносценарии о супергероях-мутантах. Два года назад один журнал для сценаристов попросил меня написать автобиографический очерк. Я дописал до половины, и вдруг понял, до чего же скучна моя жизнь. Нет, я не жалуюсь. Хотя конспект моего существования читать уныло — школа, колледж, случайные заработки, магистратура, случайные заработки, опять магистратура, супергерои-мутанты. В общем-то жаловаться не на что. Однако, мучаясь с этим очерком, я решил, что мне совсем не хочется писать о своей жизни. Даже пятьсот слов. Мне захотелось написать о Ленинграде.
Дед с бабкой встретили меня в аэропорту Сарасоты. Я нагнулся их поцеловать, а они мне снизу вверх заулыбались. Их всегда слегка озадачивало наличие огромного внука-американца (при росте шесть футов два дюйма я рядом с ними гигант). По пути домой на местном рыбном рынке мы купили помпано. Дед поджарил его на гриле без всяких добавок — только масло, соль и лимон. Как и все его блюда, приготовить эту рыбу вроде бы невероятно легко. Дело заняло десять минут, а на вкус она превосходила все, что я в том году ел в Лос-Анджелесе. Бабушка не готовит. У нас в семье она этим знаменита — ничего сложнее хлопьев на завтрак принципиально не делает.
После ужина бабушка закурила, а дед разлил по стаканам домашнюю черносмородиновку. Мы сидели и слушали хор цикад и сверчков, глядели на черный залив да изредка прихлопывали комаров.
— Я захватил магнитофон. Может, поговорим о войне?
Мне показалось, бабушка закатила глаза, смахивая пепел в траву.
— А что?
— Ты прожил сорок лет, и вдруг тебе интересно.
— Мне тридцать четыре. — Я посмотрел на деда, и он мне улыбнулся. — Что такое? Вы что, за Гитлера были? Скрываете нацистское прошлое?
— Нет, — ответил дед, продолжая улыбаться. — За Гитлера мы не были.
— Но вы думали, что мне сорок?
— Тридцать четыре, сорок… пшш. — Фыркая, бабушка всегда взмахивала рукой, как бы отгоняя глупость. — Какая разница? Женись. Найди себе жену.
— Все бабушки во Флориде так говорят.
— Ха… — ответила она. Ее чуточку задело.
— Мне интересно, как оно было. Что здесь ужасного?
Бабушка кивнула деду, тыча угольком сигареты в мою сторону:
— Ему интересно, как оно было.
— Душа моя, — ответил ей дед. И только, больше ничего не сказал, но бабушка кивнула и затушила окурок о стеклянную столешницу.
— Ты прав, — сказала она. — Хочешь написать о войне — значит, надо.
Она встала, поцеловала меня в макушку, деда — в губы и унесла посуду в дом. Несколько минут мы с дедом сидели тихо, только волны внизу разбивались. Он налил нам еще, довольный, что первую я допил.
— Подружка есть?
— Угу.
— Эта актриса?
— Ну.
— Мне нравится.
— Я знаю.
— Похожа на русскую, — сказал он. — Глаза у нее… Если хочешь про Ленинград, давай про Ленинград.
— Я не хочу про Ленинград сам. Я хочу, чтоб ты рассказал.
— Ладно, поговорим. Завтра?
Он не обманул. Всю неделю мы каждый день сидели с ним на бетонной террасе, и я записывал его рассказы. По нескольку часов утром, потом перерыв на обед, и всю вторую половину дня тоже. Мой дед, который не желал и лишнего слова молвить в компании — то есть в любом обществе, кроме собственной жены, — заполнял словами одну мини-кассету за другой. Слишком много слов для одной книги. Может, правда и страннее вымысла, но редактор ей нужен получше, чем я. Впервые в жизни я слышал, как мой дед матерится и прямо говорит о сексе. Он рассказывал о своем детстве, о войне, о приезде в Америку. Но главное — об одной неделе в 1942 году, о первой неделе года, когда он познакомился с моей бабушкой, встретил лучшего друга и убил двух немцев.
Когда он заканчивал, начинал я. Выспрашивал подробности: имена, места, какая была погода. Некоторое время дед терпел, но в конце концов надулся и нажал на магнитофоне кнопку «стоп».
— Столько лет прошло, — сказал он. — Не помню, в чем я был. Не помню, пасмурно тогда было или нет.
— Я просто хочу, чтобы все было правильно.
— Правильно не будет.
— Но это же ты рассказываешь. Я не хочу перевирать.
— Давид…
— Мне все равно вот еще что непонятно…
— Давид, — сказал он. — Ты писатель. Сочини.
1
Никогда не было так голодно; никогда не было так холодно. Во сне — если спали — мы видели трапезы, которые беспечно поглощали еще семь месяцев назад: весь этот хлеб с маслом, вареники с картошкой, колбасу. Все, что лопали, не думая, глотали, не распробовав, оставляя на тарелках куски, обрезки сала. В июне 1941-го, пока не пришли немцы, мы думали, что бедны. А к зиме июнь уже казался раем.
По ночам ветер выл так громко и протяжно, что, когда он стихал, мы вздрагивали. На мгновение прекращали скрипеть ставенные петли выгоревшей столовой на углу, будто подкрадывался хищник, и мы в ужасе съеживались, как испуганные зверюшки. Сами ставни в ноябре пустили на дрова. В Ленинграде не осталось ни щепочки. Все деревянные вывески, доски от парковых скамеек, половицы из разбитых домов — все сгорело в чьих-то буржуйках. И голубей не было. Их ловили и варили в растопленном льду с Невы. Подумаешь, голубю шею свернуть. С кошками и собаками трудней. В октябре ходили слухи: мол, кто-то зажарил домашнюю шавку и разрезал на четверых, поужинать. Мы смеялись и качали головами — не верили. А сами себя спрашивали: если с сольцой, вкусно ли? Соли еще хватало. Все уже закончилось, но соль у нас еще была. К январю про то, что собак едят, уже знали наверняка. Только тем, у кого где-то была «рука», удавалось кормить домашних животных.
Ходило две теории о толстых и худых. Кое-кто утверждал, будто у довоенных толстых сейчас больше шансов выжить: неделя без еды не сделает из толстяка скелета. Другие говорили: тощие больше привыкли мало есть, поэтому шок голодания перенесут легче. Я поддерживал последних — чисто из своекорыстия. Сам с рождения был недомерком. Носатый, черноволосый, на роже словно черти горох молотили. Скажем прямо, незавидный улов для девчонок. А от войны прямо похорошел. Другие усыхали вместе с остатками карточек: до гитлеровского нашествия выглядели цирковыми силачами, а теперь полчеловека осталось. Мне же терять было нечего — никакой мускулатуры. Как землеройка: вокруг динозавры валятся, а она знай себе промышляет. Так и я был сложен для лишений.
Перед Новым годом я сидел на крыше Дома Кирова. Я в нем жил с пяти лет. До 34-го, когда Кирова убили, названия у дома не было, а потом сразу полгорода в честь Сергей Мироныча переименовали. Я сидел на крыше и смотрел, как под низкими тучами роятся толстые серые аэростаты заграждения, ждут бомбардировщиков. В это время года солнце в небе — всего часов шесть, да и то скачет с востока на запад, поджав хвост. Каждую ночь по три часа мы вчетвером дежурили на крыше, вооружившись ведрами с песком, железными щипцами и лопатами, закутавшись во все рубашки, свитера и пальто — во все, что могли отыскать. Следили за небом. Мы были пожарниками. Немцы решили, что брать город штурмом выйдет накладно, поэтому нас окружили, собираясь уморить всех голодом, разбомбить нас, выжечь.
До войны в Доме Кирова жили тысяча сто человек. К Новому году осталось около четырехсот. Большинство мелюзги эвакуировали еще до того, как немцы в сентябре замкнули кольцо. Мать и сестренка Таисия уехали в Вязьму к нашему дядьке. Вечером накануне отъезда я поцапался с матерью — единственная наша с ней ссора… Вернее, это был тот единственный раз, когда я матери ответил. Она, само собой, требовала, чтобы я ехал с ними, подальше от войны, в самую глубь страны, куда не долетят фашистские бомбардировщики. Только я решил: из Питера — ни ногой. Я мужчина, я буду защищать свой город, стану Александром Невским двадцатого века. Ну, может, я думал не настолько нелепо. Но излагал я веско: если все годные и трудоспособные сбегут, Ленинград падет перед фашистами. А без Ленинграда, без Города Рабочих, которые делают танки и винтовки для Красной армии, — что Советскому Союзу останется?
Мать считала, что это глупо. Мне едва стукнуло семнадцать. Я не варю броню на Кировском, а в армию меня еще с год не возьмут. Оборона Ленинграда — вообще не мое дело, я — лишний рот, который надо кормить. Этими оскорблениями я пренебрег.
— Я пожарник, — сказал я матери.
Это была правда: горсовет распорядился создать десять тысяч пожарных команд, и я доблестно руководил командой пятого этажа Дома Кирова.
Матери не было и сорока, но седая вся. Она сидела напротив меня за кухонным столом, накрыв мою руку обеими ладонями. Очень щуплая была женщина, полтора метра с небольшим. Но я боялся ее с рождения.
— Ты болван, — сказала она. Может, грубовато, но мать всегда называла меня «мой болван», и я уже считал это ласковым прозвищем. — Город был и до тебя. И после тебя останется. Ты нужен нам с Тасей.
Она была права. Окажись на моем месте сын и брат получше — отправился бы с ними. Таська меня обожала — с разбегу напрыгивала, когда я возвращался из школы, читала мне вслух дурацкие стишки про мучеников революции, которые им задавали на дом сочинять, рисовала у себя в тетрадках карикатуры с моим носатым профилем. Вообще, конечно, мне иногда хотелось ее придушить. А сейчас тащиться через всю страну с матерью и сестренкой — вот еще! Мне семнадцать, меня переполняла вера в собственную героическую судьбу. Речь Молотова по радио в первый день войны (НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ. ВРАГ БУДЕТ РАЗБИТ. ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ) напечатали на тысячах плакатов и расклеили по всему городу. Я верил в правоту нашего дела. Я не стану драпать от врага и победу ни за что не прохлопаю.
Наутро мать с Таськой уехали. Часть пути они проделали на автобусе, потом их подвозили военные грузовики, а потом они еще много километров шли по проселкам в худой обуви. Добрались до места за три недели, но добрались. Благополучно. Мать прислала письмо, все рассказала — и как ужасно все было, и как они вымотались. Может, хотела, чтобы мне стало совестно, — мне и было совестно, я же их бросил, но все равно лучше, что они уехали. Надвигались бои, а на фронте им делать нечего. Потом седьмого октября немцы взяли Вязьму, и писем больше не было.
Хотел бы признаться, что скучал, когда они уехали. По вечерам иногда бывало одиноко, да и маминой стряпни недоставало. Но я еще в детстве фантазировал о том, как буду жить сам по себе. Больше всего я любил сказки, где были находчивые сиротки, которым удавалось пробраться через темный лес, любые опасности преодолеть, перехитрить врагов и в скитаниях обрести богатство. Не могу сказать, что я был счастлив — мы слишком голодали. Но я верил, что у меня наконец появилась Цель. Если падет Ленинград, падет СССР; если падет СССР, мир захватят фашисты. Мы все в это верили. Я до сих пор верю.
В общем, в армию мне было рано, а вот копать противотанковые рвы — в самый раз. Днем мы выходили рыть землю, а по ночам стерегли крыши. В бригаде у меня были друзья и знакомые с пятого этажа: талантливая виолончелистка Вера и рыжие близнецы Антокольские. У братьев имелся всего один значительный талант — они умели музыкально пукать. В первые дни войны мы курили на крыше — притворялись солдатами, храбрыми, крепкими, выставив подбородки вперед, мы следили за врагом в небесах. К концу декабря курева в Ленинграде уже не осталось — по крайней мере, из табака. Вконец отчаявшиеся души толкли листья, делали самокрутки и называли такое курево «Осенние костры», уверяя, будто правильные листья курятся хорошо. Но поблизости от Дома Кирова ни одного дерева не было, поэтому курить листья мы и не пробовали. В свободные минуты мы охотились на крыс. В городе исчезли коты. И эти твари, должно быть, решили, что крысиный бог ответил на их древние молитвы, пока не заметили, что даже на помойках им уже нечем поживиться.
После нескольких месяцев налетов мы уже различали немецкие бомбардировщики по вою моторов. Той ночью летели «Юнкерсы-88». Они уже несколько недель как заменили «хайнкели» и «дорнье», которые наши истребители так здорово навострились сбивать. При свете дня наш город был жалок, но когда темнело, в блокадном городе появлялась даже некая странная красота. С крыши Дома Кирова — если светила луна — весь Ленинград был виден как на ладони: Адмиралтейская игла, заляпанная серой краской, чтоб не заметили бомбардировщики, Петропавловка, чьи шпили затянули маскировочной сеткой, купола Исаакия и луковицы Спаса на Крови. Мы видели, как на соседних крышах работают расчеты ПВО. В Неве на якоре гигантскими серыми часовыми стояли корабли Балтфлота. Из своих огромных судовых орудий они расстреливали артиллерийские позиции фашистов.
Красивее всего были воздушные бои. «88-е» и «ишаки» кружили над городом, снизу их было не разглядеть, если не попадались в лучи мощных прожекторов. У «ишаков» на крыльях были нарисованы большие красные звезды, чтобы наши зенитки не подбили. Не каждую ночь, но частенько мы видели: небо освещено, как сцена, и на ней тяжелые, неповоротливые немецкие бомбардировщики закладывают виражи, чтобы стрелки получше целили в юркие советские истребители. Когда сбивали «юнкерс» и горящая туша его фюзеляжа рушилась с небес, будто поверженный ангел, с крыш по всему городу неслись торжествующие вопли. И все зенитчики и пожарные махали летчику-победителю.
На крыше у нас была своя маленькая радиотарелка. В новогоднюю ночь мы слушали перезвон Спасских курантов в Москве. Они играли «Интернационал». Вера где-то раздобыла пол-луковицы. Мы разрезали это лакомство на четыре части и разложили на тарелке, смазанной подсолнечным маслом. Когда лук доели, все масло вымакали пайковым хлебом. Он вообще не был похож на хлеб. Едой даже не пах. Когда немцы разбомбили Бадаевские склады, городские пекарни стали выкручиваться из положения. В муку добавляли все, что можно, лишь бы не отрава была. Голодал целый город, еды не хватало никому, но все равно хлеб материли: и что на вкус он как опилки, и что на морозе быстро каменеет. Об него зубы ломали. Даже сегодня, когда и лица любимых людей забылись, я помню тот хлеб на вкус.
Пол-луковицы и 200 граммов хлеба на четверых — ничего так поели. Завернувшись в одеяла, мы растянулись на крыше, смотрели, как на длинных тросах дрейфуют по ветру аэростаты заграждения, и слушали метроном по радио. Когда не было музыки или новостей, радиостанция передавала стук метронома, и его неумолчное тик-тик-тик говорило нам: город до сих пор не покорен, враг еще у ворот. Метроном по радио — то билось сердце Питера, и немцам так и не удалось его заглушить.
Вера первой увидела, как с неба падает человек. Закричала, показала, и мы вскочили, чтобы разглядеть получше. В луч прожектора попал парашютист — он спускался прямо в город, а шелковый купол над ним светлел, как луковица тюльпана.
— Фриц, — определил Олежа Антокольский, и не ошибся.
Мы разглядели светлый комбинезон люфтваффе. Откуда он взялся? Никаких воздушных боев мы не слышали, зенитки не стреляли. Бомбардировщики не летали над нами уже с час.
— Может, началось? — сказала Вера. Несколько недель по городу ходили слухи, что немцы готовят массированный десант — последнюю попытку выдернуть эту жалкую занозу Ленинграда из тыла наступающих полчищ. В любую минуту башку задерешь — а на город летят тысячи фашистов, метель белых парашютов на все небо. Однако сейчас десятки прожекторов вспарывали тьму, а никаких врагов не было и в помине. Только один, да и он, судя по тому, как беспомощно тело болталось на стропах, уже мертвый.
Застыв в луче прожектора, он подлетал ближе. Он был уже так низко, что стало видно: на нем нет одного черного сапога.
— К нам спускается, — сказал я. Ветер нес его к улице Воинова. Близнецы переглянулись.
— «Люгер», — сказал Олежа.
— Люфтваффе не носят «люгеры», — ответил Гришка. Он был на пять минут старше — и большой знаток фашистского оружия. — «Вальтер ППК».
Вера улыбнулась мне:
— Немецкий шоколад.
Мы кинулись к двери на лестницу, побросав свои пожарные причиндалы, — и бегом вниз по черному колодцу. Дураки, что скажешь. Поскользнешься на стертом бетоне — и падения не смягчит ни жир, ни мускулы: их нет. А значит, что-нибудь себе сломаешь, а если так — наверняка умрешь. Но нам было все равно. Мы совсем еще зеленые, а тут дохлый фриц на улицу Воинова падает, подарки из фатерлянда с собой несет.
Мы перебежали двор и перелезли через запертые ворота. Фонари не горели. Весь город стоял темный — отчасти чтоб бомбардировщикам не светить, отчасти потому, что все электричество шло на оборонные заводы. Но луна светила ярко — все видать. Улица Воинова раскинулась пустынная, шесть часов как «комендантский час». Машин не было. Бензин выдавали только военным и начальству, а обычные машины реквизировали еще в первые месяцы войны. На окнах — полосы бумаги крест-накрест: по радио сказали, что так стекла будут целее при налетах. Может, и правда, только в Ленинграде я видел много разбитых витрин, где на раме болтались одни эти полоски.
На улице мы осмотрели небо, но нашего фрица не увидели.
— Куда он делся?
— Может, на крышу упал?
Прожекторы обшаривали небо, но все они стояли на высоких домах, ни один на Воинова не заглядывал. Вера дернула меня за воротник шинели — огромной, флотской, не по росту, отцово наследство; я в ней еще утопал, но теплее у меня ничего не было.
Я обернулся: нашего немца тащило по улице, черный сапог скреб обледенелую мостовую, а белый купол парашюта еще не опал на ветру. Несло его прямо к воротам Дома Кирова. Подбородок парашютиста упирался в грудь, в темных волосах снег, а лицо в лунном свете — бескровное. Мы стояли очень тихо и смотрели, как он приближается. Той зимою мы навидались такого, что никому не пожелаешь, думали, нас уже ничем не удивить, а оказалось — очень даже удивить. Если б немец выхватил «вальтер» и стал палить, мы бы просто к месту примерзли. Но мертвяк оставался мертвяком. И тут ветер наконец утих, парашют сдулся, и немец осел на мостовую. Еще несколько метров его протащило лицом вниз — последнее унижение.
Мы обступили летчика. Высокий, крепкий. Если бы мы встретили его на питерской улице в гражданском, сразу бы заподозрили, что лазутчик: слишком упитанный, сразу видно — мясо ел каждый день.
Гришка встал на колени и расстегнул ему кобуру.
— «Вальтер ППК». Я же говорил.
Мы перекатили немца на спину. Бледное лицо его было все исцарапано об асфальт, но ссадины бескровные, как и кожа. У мертвых синяков не бывает. По лицу никак не скажешь — боялся ли он, когда умирал, злился ли? Или со всем смирился? В этом лице уже не было ни характера, ни жизни — труп и труп, и родился трупом.
Олежа стянул с него черные кожаные перчатки, а Вера размотала шарф и сняла очки-консервы. На лодыжке у летчика я нашел ножны и вытащил отлично сбалансированный нож с серебряной гардой и лезвием в пятнадцать сантиметров. Гравировку при луне прочесть не смог. Нож я вложил обратно в ножны, а их пристегнул к своей лодыжке — и впервые за много месяцев ощутил себя настоящим бойцом.
Тем временем Олежа вытащил у трупа бумажник и, ухмыляясь, сосчитал рейхсмарки. Вера забрала себе хронометр вдвое больше обычных наручных часов: немец носил его поверх рукава летной куртки. Гришка нашел складной бинокль в кожаном чехле, две запасные обоймы к «вальтеру» и тонкую изогнутую фляжку. Отвинтил колпачок, понюхал и передал мне:
— Коньяк?
Я отхлебнул и кивнул:
— Коньяк.
— Когда ты успел коньяк попробовать? — спросила Вера.
— Пришлось.
— Когда?
— Дайте сюда, — сказал Олежа, и фляжка пошла по кругу. Мы вчетвером сидели на корточках вокруг с неба свалившегося летчика, отхлебывая по глотку — может, коньяк, может, бренди, может, арманьяк. Разницы мы не понимали. Что бы там ни было, в животе от него теплело.
Вера не сводила глаз с лица немца. Смотрела без жалости, без страха. В ее глазах читались только любопытство и презрение: оккупант прилетел бросать свои бомбы на наш город, а вместо них рухнул сам. Сбили его не мы, но мы все равно торжествовали. Никому из Дома Кирова раньше не попадался труп врага. Утром про нас только и будет разговоров.
— Как, по-твоему, он умер? — спросила Вера. Его тело не уродовали пулевые отверстия, ни кожа куртки, ни волосы не были опалены — вообще ничего не видно. Кожа слишком белая, у живых такой не бывает, но кровь ниоткуда не текла.
— Замерз, — ответил я.
Веско так ответил, потому что знал, что так оно и было, хоть и доказать нечем. Летчик выбросился с высоты нескольких тысяч метров над ночным Ленинградом. Даже у земли мороз такой, что костюмчик его бы не спас, что говорить про заоблачные выси, где тепло только в кабине.
Гришка поднял фляжку и торжественно провозгласил тост:
— За мороз.
Коньяк опять пошел по кругу. До меня он в этот раз не добрался. Шум мотора мы бы услышали за два квартала. Город в комендантский час был тих, как сама луна, только мы слишком увлеклись трофейной выпивкой. Мы сообразили, что нам светит лишь когда «газик» свернул на Воинова. По асфальту застучали цепями тяжелые колеса, а в нас уперлись лучи фар. Нарушение комендантского часа без пропуска каралось расстрелом на месте. Уход с пожарного поста карался расстрелом на месте. Мародерство каралось расстрелом на месте. Без суда и следствия. Всю милицию забрали на фронт, в полупустых тюрьмах заключенных становилось все меньше. Зачем кормить врагов народа? Если ты преступник и тебя поймали, ты — покойник. Не время цацкаться с тобой в судах.
И мы побежали. Дом Кирова мы знали как свои пять пальцев. Забежим во двор за ворота, нырнем в промозглую тьму ветвящихся коридоров — нас и три месяца не найдут. Солдаты орали нам вслед, приказывали стоять, но куда там! Голосов мы не боялись, остановить могла только пуля, но курок пока никто не спустил. Гришка первым добежал до ворот — он у нас был самый спортивный, — подпрыгнул, уцепился за железную перекладину и подтянулся. От него не отставал Олежа, я бежал следом. Мы все очень ослабели, мускулы растаяли от нехватки белка, но страх подгонял, и мы карабкались изо всех сил.
На самом верху я оглянулся: Вера поскользнулась на замерзшей луже. Она смотрела на меня, глаза круглые от ужаса. Стояла на льду на четвереньках, а у немецкого трупа уже затормозил «газик» и выпрыгнули четыре бойца. До них было метров шесть, в руках — винтовки, но мне бы хватило времени кулем перевалиться на другую сторону и юркнуть в дом.
Хотел бы я сейчас тебе сказать, что у меня и мысли тогда не возникло бросить Веру: мол, раз друг в опасности, я кинусь на выручку без промедления. Но если говорить правду, в тот миг я ее ненавидел. За то, что неуклюжая так не вовремя, за то, что панически глядела на меня этими своими карими глазищами, словно бы назначила своим спасителем меня, хотя целовалась только с Гришкой. Я знал, что не смогу жить и помнить этот умоляющий взгляд. И она это знала. Я ненавидел ее, спрыгивая с ворот обратно, ненавидел, когда подымал ее на ноги и тащил к железным прутьям. Я ослаб, но в Вере было не больше сорока кило. Я подсадил ее — солдаты орали, топали по асфальту сапоги, клацали затворы винтовок.
Вера перевалилась на другую сторону, и я стал карабкаться за ней, наплевав на солдат. Послушайся я их приказов, они бы столпились вокруг, обозвали врагом народа, поставили на колени и шлепнули. Выстрелом в затылок. На воротах я был хорошей мишенью. Но, может, они были пьяные, может — из города, такие же, как я сам, и ни одного выстрела в жизни еще не сделали. А может, специально мазали бы, потому что понимали: я тоже патриот и защитник города. А из дома высунулся лишь потому, что на мою улицу с высоты свалился немец, а какой мальчишка устоит и не пойдет поглазеть на дохлого фашиста?
Подбородком я уже зацепился за верхнюю перекладину, и тут меня за лодыжки ухватили руки в рукавицах. Крепкие руки, армейские, а в армии кормили два раза в сутки. Вера вбежала в дом и ни разу не оглянулась. Я изо всех сил вцепился в прутья, но солдаты стащили меня вниз, швырнули на панель и встали вокруг, тыча мне в щеки дулами «Токаревых». На вид им всем было не больше девятнадцати; любой бы не задумываясь вышиб мне мозги.
— Гля, счас обосрется.
— Пирушку себе тут устроили? Шнапсом разжились?
— Как раз капитану. Пускай с фрицем прокатится.
Двое нагнулись, подхватили меня под мышки, рывком поставили на ноги, довели до урчавшего вхолостую «газика» и пихнули на заднее сиденье. Еще двое за ноги и за руки подняли немца и швырнули в машину ко мне.
— Ты его там погрей, — сказал один, и все захохотали. Умереть не встать. Потом сами набились в машину и захлопнули дверцы.
Я решил, что еще не сыграл в ящик только потому, что им хотелось расстрелять меня прилюдно — в назидание прочим мародерам. Всего несколько минут назад я себя чувствовал гораздо сильнее мертвого летчика. Но сейчас, когда мы мчались по темной улице, объезжая воронки и кучи битого кирпича, немец как будто ухмылялся мне: шрам его белых губ раскалывал мерзлое лицо. У нас с ним одна дорога.
2
Если рос в Питере — боялся «Крестов», этой мрачной кирпичной кляксы на берегу Невы, жестокого и сурового склада потерянных душ. В мирное время здесь содержали, наверно, тысяч пятнадцать заключенных. Сомневаюсь, чтобы к январю осталась хотя бы тысяча. Сотни мелких преступников отправили в Красную армию — прямо в мясорубку германского блицкрига. Еще сотни умерли от голода в камерах. Каждый день охрана выволакивала из «Крестов» обтянутые кожей скелеты и сваливала на сани штабелями по восемь.
Маленьким меня больше всего пугала тамошняя тишина. Идешь мимо, и кажется: вот-вот услышишь вопли головорезов или шум драки. А за толстыми стенами — ни звука. Будто заключенные, большинство из которых ждали суда, этапа в ГУЛАГ или пули в затылок, отчекрыжили себе языки в знак протеста против своей судьбы. «Кресты» были крепостью навыворот: враг там содержался внутри. И все мальчишки Ленинграда не раз слышали: «Вот будешь так себя вести — в "Кресты" загремишь».
Камеру свою я едва успел рассмотреть: охрана впихнула меня внутрь, на миг высветив фонарями некрашеные каменные стены и четыре койки в два этажа, все пустые. Два на четыре метра. Я перевел дух, потому что сперва боялся: вдруг придется делить это пространство с каким-нибудь чужаком, у которого наколки на костяшках? Но через некоторое время — несколько минут? часов? — черное молчание стало физически давить, забираться в легкие. Словно тонешь.
Тьма и одиночество меня, в общем, не пугали. В Питере в те дни электричество было такой же редкостью, как свиная грудинка, а квартира наша в Доме Кирова, когда уехали мать с Таськой, стояла пустой. Долгие ночи были темны и тихи, но всегда откуда-то доносился шум. С немецких позиций громыхали минометы; по бульвару дребезжал армейский грузовик; стонала соседка сверху — старуха умирала, уже не вставала с постели. Не звуки, а кошмар, само собой, но хоть что-то раздавалось — и подтверждало, что мир вокруг никуда не провалился. В «Крестах» другое дело — здесь было по-настоящему тихо, раньше я в таких местах не бывал. Вообще ничего не слышно, и не видно вообще ничего. Меня заперли в приемной смерти.
До ареста я верил, что блокада меня закалила, хотя на самом деле в январе мужества у меня было не больше, чем в июне. Вопреки распространенному мнению, ужас храбрости не способствует. Хотя, возможно, если все время боишься, легче скрыть страх.
Что бы такого спеть или прочесть наизусть? Я сосредоточился, но все слова в голове слиплись, как соль в окаменевшей солонке. Я лежал на верхней койке и надеялся хоть на какое-нибудь тепло, что ни есть в «Крестах». Лишь бы оно сюда поднялось и меня отыскало. Утром мне светила только пуля в голову, но все равно хотелось, чтобы внутрь уже просочилась капелька дневного света. Когда меня втолкнули в камеру, я, кажется, успел заметить под самым потолком щель зарешеченного окна, хотя точно вспомнить уже не получалось. Я попробовал считать до тысячи, чтобы скоротать время, но всякий раз сбивался где-то на четырехстах. Тюфяк скребли призрачные крысы — оказалось, мои же пальцы. Казалось, ночь никогда не кончится. Словно фашисты сбили это драное солнце. Они так могут, чего б не смочь? У них ученые лучшие в мире, найдут способ. Время вот остановили. Я ослеп и оглох. Лишь холод и жажда напоминали, что я еще жив. Так одиноко, что хоть бы охранник появился, шаги бы чьи-нибудь услышать, перегаром бы пахнуло.
Множеству великих моих соотечественников приходилось подолгу сидеть в тюрьмах. А я той ночью понял, что мне великим русским никогда не стать. Несколько часов в одиночке, где даже пыток нет, только тьма, тишина и холод, — и я уже почти сломался. Те пламенные души, что по многу зим проводили в Сибири и выживали, — у них было такое, чего нет у меня: великая вера в прекрасное будущее — царствие небесное, справедливый рай на земле или просто возможность отомстить. А может, их забивали до того, что они превращались в животных — ходили на задних лапах, служили хозяевам, жрали помои, спали по приказу, и снилась им только могила.
Наконец, что-то послышалось. Шаги, несколько пар тяжелых сапог. В замке повернулся ключ. Я вскочил на койке и треснулся головой о низкий потолок — так сильно, что до крови прокусил губу.
Два охранника — у одного в руках коптилка, и огонька красивее я в жизни не видал, гораздо лучше рассвета, — ввели в камеру нового зэка. Молодой военный в форме. Он оглядел камеру так, словно квартиру себе снимал. Высокий, держится очень прямо — высится над охранниками, и, хотя у тех пистолеты, а он стоит безоружный, казалось, командовать ими будет он. Каракулевую шапку он держал в одной руке, кожаные перчатки — в другой.
Пока охранники выходили, захлопывали за собой дверь и запирали, пока от нас уносили свет, военный смотрел на меня. Перед возвращением тьмы я разглядел его лицо, потому и запомнил: высокие казацкие скулы, губы слегка кривятся в усмешке, соломенные волосы, а глаза такие голубые, что любой арийской невесте понравятся.
Я сидел на верхней койке, а он стоял на каменном полу, и по тишине я понимал, что с места он не сдвинулся. В темноте мы по-прежнему разглядывали друг друга.
— Еврей? — спросил военный.
— Что?
— Ты еврей? Похож на еврея.
— А вы на фашиста.
— Я знаю. Ich spreche ein bisschen Deutsch[3], к тому же. Просился в разведку, да разве послушают? Так ты, значит, еврей?
— А вам какое дело?
— Нечего стыдиться. Мне нравятся евреи. Эмануил Ласкер у меня второй любимый шахматист. На одну ступеньку ниже Капабланки… А Капабланка — это Моцарт, чистый гений. Нельзя любить шахматы и не любить Капабланку. А вот в эндшпиле никто не сравнится с Ласкером. Еда есть?
— Нет.
— Руку протяни.
Наверняка ловушка. Мы так в детстве играли, ловили дураков. Он сейчас меня по ладони шлепнет или я так и буду сидеть с протянутой рукой, пока не пойму, что меня облапошили. Но раз предлагают еду, отказываться нельзя, хоть и поверить трудно. Я вытянул руку во тьму и стал ждать. Через секунду у меня на ладони лежал ломтик чего-то холодного и жирного. Не знаю, как он отыскал мою руку, но как-то нашел, причем сразу, не шарил.
— Колбаса, — сказал он. Помолчал. — Не переживай. Не свиная.
— Я ем свинину. — Понюхав колбасу, я отгрыз кусочек. От мяса она отличалась так же, как пайковый хлеб от настоящего, но в ней был жир, а жир — это жизнь. Я жевал этот ломтик как мог медленно, чтобы хватило на подольше.
— Чавкаешь, — раздалось замечание из тьмы. Скрипнуло — военный сел на нижнюю койку. — И полагается говорить «Спасибо».
— Спасибо.
— На здоровье. Как зовут?
— Лев.
— А фамилия?
— А вам какое дело?
— Да просто вежливость, — сказал он. — Например, если я с кем-нибудь знакомлюсь, я говорю: «Добрый вечер, меня зовут Николай Александрович Власов, друзья называют меня Коля».
— Да вам просто хочется узнать, еврейская у меня фамилия или нет.
— А еврейская?
— Да.
— Ага. — Он удовлетворенно вздохнул: инстинкт его не подвел. — Спасибо. Даже не знаю, чего ты так боишься ее называть.
На это я не ответил. Если он не знает чего, нет смысла и объяснять.
— И за что ты здесь? — спросил он.
— Поймали. Дохлого фрица обирал на Воинова.
Военный встревожился:
— Фрицы уже на Воинова? Началось?
— Ничего не началось. Он летчик с бомбовоза. Выбросился с парашютом.
— Наши сбили?
— Мороз его сбил. А вас за что?
— Да по глупости. Думают, я дезертир.
— Чего не расстреляли?
— А тебя чего не расстреляли?
— Не знаю, — признался я. — Сказали, что я «как раз капитану».
— А я не дезертир. Я студент. Я диплом защищал.
— Да ну? Диплом? — Никогда у дезертиров не бывало глупее предлога.
— «Трактовка "Дворовой псины" Ушакова сквозь призму современного социологического анализа». — Он подождал, что я на это отвечу, но мне сказать было нечего. — Знаешь такую книгу?
— Нет. Ушаков?
— Образование в школах стало ни к черту. Из нее куски надо заучивать наизусть. — Говорил он, как брюзгливый старый профессор, хотя даже с первого взгляда мне стало понятно, что ему от силы лет двадцать. — «На бойне, где мы поцеловались впервые, воздух еще смердел кровью агнцев». Первая строка. Есть мнение, что это величайший русский роман. А ты про него ни разу не слышал.
Он притворно вздохнул. Минуту спустя я услышал, как что-то странно царапается. Словно крыса точит когти о тюфяк.
— Это что? — спросил я.
— Хм?..
— Не слышите?
— Это я пишу в дневник.
С открытыми глазами в такой тьме я видел не больше, чем с закрытыми, а этот сидит и пишет в дневник. Ну да, карандаш по бумаге царапает. Через несколько минут дневник захлопнулся, и мой сокамерник, судя по шороху, сунул блокнот в карман.
— Я умею писать в темноте, — сказал он и легонько рыгнул. — Есть у меня такой талант.
— Заметки к «Дворовой псине»?
— Именно. Чудно, а? Глава шестая: Радченко на месяц попадает в «Кресты», потому что его бывший лучший друг… Нет, не стану ничего выдавать. Но должен признаться, сюда меня, похоже, привела судьба. Я побывал везде, где был Радченко, — во всех ресторанах, театрах, на кладбищах… по крайней мере, тех, что сохранились. А вот здесь еще не доводилось. Критики утверждают, что пока не проведешь ночь в «Крестах», не поймешь и Радченко.
— Вот вам повезло.
— Угу.
— Так, думаете, утром нас шлепнут?
— Сомневаюсь. Нас бы не держали всю ночь, чтобы утром расстрелять. — Говорил он довольно беспечно, словно мы обсуждали футбольный матч, чей исход большого значения не имел, как бы ни решилось дело. — Не срал восемь дней, — признался мой сокамерник. — Заметь, я не говорю: не просирался, — потому что не просирался я уже несколько месяцев. Я про то, что вообще последние восемь дней не срал. — Мы оба помолчали, раздумывая над этим сообщением. — Как считаешь, сколько человек может прожить, не сря?
Вопрос интересный, мне и самому было любопытно, но ответить я не мог. Потом услышал, как сосед лег, довольно зевнул — расслабленный, счастливый, надо полагать; как будто зассанный соломенный тюфяк ему — что пуховая перина. Еще с минуту висело молчание, и я решил, что сокамерник уснул.
— Стены здесь, наверное, толщиной больше метра, — вдруг сказал он. — Хоть выспимся — здесь нас уж точно никто не тронет. — С этим он и уснул; слова перешли в храп так быстро, что я было решил — притворяется.
Я всегда завидовал тем, кто быстро засыпает. Надо полагать, у них мозг чище, половицы в черепе лучше выметены, а все мелкие чудища надежно заперты в пароходном кофре в изножье кровати. А вот я родился с бессонницей, без сна и умру, истратив тысячи часов на томление по забытью, по резиновой кувалде, которая дерябнула бы меня по башке — не сильно, не насмерть, а только так, чтобы отрубиться на всю ночь. Только этой ночью мне спать не придется. Я пялился во тьму, пока та не стала сереть, пока у меня над головой не проступил потолок, а свет с востока не просочился в узкую зарешеченную бойницу, которая все-таки существовала. И лишь тогда я сообразил, что к ноге у меня до сих пор пристегнут немецкий нож.
3
Где-то через час после рассвета дверь в камеру открыли два новых охранника, подняли нас и надели наручники. На мои вопросы не отвечали, но Коля попросил у них чашку чая и омлет, и это их, похоже развеселило. Должно быть, шутили в «Крестах» нечасто, потому что шуточка была неудачная, но охранники все равно заухмылялись, выталкивая нас в коридор. Где-то кто-то стонал — тихо и нескончаемо, как судовая сирена вдалеке.
Я не знал, на виселицу нас ведут или на допрос. Ночь прошла без сна; кроме глотка из немецкой фляжки, я не пил ничего с самого дежурства на крыше Кирова. Там, где я лбом стукнулся о потолок, выросла шишка с младенческий кулачок. Утро не задалось. Хуже, наверное, и не бывало, но жить все равно хотелось. Я хотел жить и знал, что не смогу достойно встретить смерть. Упаду перед палачом или расстрельной командой на колени, взмолюсь, чтобы пощадили, ведь я так молод, кинусь описывать, сколько часов проторчал на крыше в ожидании вражеских бомб, расскажу, сколько баррикад помогал строить, сколько рвов выкопал. Мы все это делали, все сражались за правое дело, но я же истинный сын Питера, смерти я не заслужил. Что я такого сделал, а? Ну, выпили мы трофейного коньячку, что ж меня за это теперь — к стенке? Петлю на шею мне, грубую пеньку на цыплячью мою шейку, чтоб мозг навсегда отключился, — только за то, что ножик с дохлого фрица снял? Не надо, товарищи. Нет во мне ничего хорошего, но не настолько же.
Охранники провели нас вниз по каменной лестнице — ступени были стерты сотнями тысяч сапог. За железной решеткой, отсекавшей нижнюю площадку, сидел старик. На шее у него был толстый серый шарф в два слоя. Старик ухмыльнулся нам, показав беззубые десны, и отпер калитку. Через минуту перед нами открылась тяжелая деревянная дверь, и мы вышли на свет. Вышли из «Крестов», живые и невредимые.
Явная отсрочка исполнения смертного приговора не произвела на Колю впечатления. Он нагнулся, скованными руками зачерпнул горсть чистого снега, поднес к лицу и стал лизать. Я позавидовал его дерзости — и у себя во рту ощутил вкус холодной воды. Но злить охрану не хотелось. Выход из «Крестов» казался странной ошибкой, и я рассчитывал, что меня запихнут обратно, если сделаю что-то не то.
Охранники довели нас до «газика». Мотор урчал, из выхлопной трубы шел вонючий дым, а впереди сидели два бойца и без всякого любопытства смотрели на нас из-под ушанок, натянутых на самые лбы.
Коля заскочил на заднее сиденье, не дожидаясь команды.
— Господа, в оперу!
Охранники хохотнули опять. Видимо, за долгие годы работы в «Крестах» перестали различать, что смешно, а что нет. А вот солдаты не засмеялись. Один повернулся и оглядел Колю.
— Еще слово, курва, скажешь, и я тебе руку сломаю. Я б тебя вообще пристрелил, дезертира. Ты… — Он повернулся ко мне: — Залезай.
Коля уже открыл было рот, и я понял, что драки не избежать: не похоже, чтобы солдат блефовал, а Коля, судя по всему, не понимал простых угроз.
— Я не дезертир, — сказал он. Скованными руками он сумел подтянуть левый рукав шинели, рукав армейского свитера, рукава двух гимнастерок под ним и протянул голую руку бойцу на переднем сиденье. — Хочешь сломать мне руку — ломай, но я не дезертир.
Долго-долго никто ничего не говорил: Коля взирал на солдата, тот пялился на него, а мы стояли и смотрели на них обоих. Поединок воль впечатлял, и нам было интересно, кто победит. Наконец солдат признал поражение — отвернулся и рявкнул на меня:
— Полезай в машину, гаденыш.
Охранники ухмыльнулись. Утренний цирк с конями. Пытать никого не надо — зубы выдирать, ногти выдергивать, слушать вопли жертвы. Можно просто посмотреть, как я, этот самый, на букву «п», карабкаюсь на заднее сиденье «газика» к Коле.
Поехали мы очень быстро — водитель плевать хотел на обледенелую дорогу. Мы гнали по берегам замерзшей Невы. У меня был поднят воротник, в лицо хотя бы не дуло ветром, рвавшим брезентовую крышу. Колю же, казалось, холод не волновал. Он смотрел на шпиль Иоанна Предтечи на том берегу и ничего не говорил.
Свернули на Каменноостровский мост — его стальные пролеты заиндевели, на фонарях висели сосульки. С него — на Каменный остров и лишь чуточку притормозили, объезжая воронку прямо посреди дороги, потом заехали на длинную аллею, обсаженную липами, от которых остались только пни, и остановились перед роскошным деревянным особняком с белыми колоннами.
Коля осмотрел здание.
— Здесь жили Долгоруковы, — произнес он, выбираясь из машины. — Про Долгоруковых вы, наверное, и не слыхали.
— Всем «господам» еще в 17-м шеи посворачивали, — отозвался один солдат, тыча стволом винтовки, чтоб мы двигались к парадным дверям.
— Некоторым — да, — подтвердил Коля. — А некоторые спали с государями-императорами.
При свете дня Коля выглядел, как на агитплакате — их расклеили по всему городу: лицо героя, волевой подбородок, прямой нос, на лоб падают светлые волосы. Дезертир что надо.
Солдаты завели нас на крыльцо, где на метр с лишним были навалены мешки с песком — пулеметное гнездо. У пулемета сидели двое бойцов, курили одну самокрутку на двоих. Коля принюхался и с тоской посмотрел на хабарик.
— Табак настоящий, — сказал он, когда конвоиры вталкивали нас в двери. Раньше я во дворцах не бывал — только читал про них. В романах описывались балы с танцами на паркете, слуги разливали суп из серебряных супниц, строгий отец семейства среди книжных шкафов в кабинете предупреждал рыдающую дочь, чтоб не связывалась с безродным мальчишкой. Однако старый особняк Долгоруковых величественно смотрелся только снаружи; внутри же по нему прошлась революция. Мраморный пол испакостили тысячи грязных сапог — полы здесь не мыли уже много месяцев. У плинтусов отставали закопченные обои. Никакой старой мебели не сохранилось, никаких картин или фарфоровых ваз — стены и полки красного дерева были голы.
Из комнаты в комнату сновали десятки офицеров в мундирах, бегали вверх-вниз по двойной лестнице — уже без перил, которые, видимо, пустили на растопку вместе с балясинами. Форма у всех офицеров была не красноармейская. Коля заметил, куда я смотрю:
— НКВД. Наверное, думают, что мы шпионы.
И без Коли было понятно, что НКВД. С малых лет я знал, как выглядят их мундиры — синие фуражки с малиновыми околышами, пистолеты «ТТ» в кобурах. Я научился опасаться их «паккардов», что стояли у ворот Дома Кирова, урча моторами, «черных воронков», в которых из дому увозили какого-нибудь несчастного. Только на моей памяти НКВД арестовало у нас в доме человек пятнадцать. Иногда арестованные через несколько недель возвращались — обритые наголо, лица бледные и безжизненные; при встречах на лестнице отводили взгляды и ковыляли к своим дверям. Сломленные, возвращались домой и понимали, должно быть, как им повезло, хотя отнюдь не радовались, что выжили. И они знали, что случилось с моим отцом, — потому и не смотрели в глаза.
Конвойные подталкивали нас и дальше, до застекленной террасы в самой глубине. Из высоких двустворчатых окон до полу открывался прекрасный вид на Неву и мрачные бесстрастные жилые дома на Выборгской стороне. За простым деревянным столом посреди этой веранды сидел пожилой человек. Плечом он держал возле уха телефонную трубку и что-то записывал карандашом в блокноте.
Мы остановились в дверях, а он на нас посмотрел. Похож на бывшего боксера — шея толстая, нос свернут набок и сплющен. Веки набрякшие, под глазами черные круги, а на лбу глубокие морщины. Седые волосы подстрижены очень коротким ежком. На вид ему было лет пятьдесят, но он запросто мог бы встать со стула и избить нас до смерти, даже не помяв мундира. В петлицах у него виднелось три шпалы. Я точно не знал, что они означают, но трех шпал во дворце больше ни у кого не было.
Человек отбросил блокнот на стол, и я увидел, что ничего он не записывал — просто рисовал крестики, снова и снова, и так изрисовал всю страницу. Меня это почему-то перепугало больше, чем его мундир или боксерская физиономия. Рисовал бы девушек или собачек — я бы понял. А тут — одни кресты.
Он смотрел на нас с Колей, и я знал — оценивает. Выносит приговор за наши преступления, приговаривает к смерти, а сам слушает голос в трубке.
— Ладно, — сказал он наконец. — Исполните к полудню. Без разговоров.
Повесил трубку и улыбнулся нам. Улыбка на его роже смотрелась так же нелепо, как и сам этот человек и его некрашеный деревянный стол на шикарной веранде старого роскошного дворца. У капитана госбезопасности — а я уже сообразил, что это, должно быть, тот самый, о ком ночью говорили солдаты, — была чудесная улыбка, зубы удивительно белые, и грубое лицо его все осветилось. Оно уже не грозило — оно приглашало.
— Дезертир и мародер! Ближе, ближе подходите, и наручники нам ни к чему. По-моему, ребятки буянить не станут. — Он махнул конвойным, те с неохотой достали ключ и сняли с нас оковы.
— Я не дезертир, — сказал Коля.
— Да? Свободны, — сказал капитан солдатам, на них даже не глянув. Те отдали честь и вышли.
Мы с капитаном остались одни. Он встал и подошел к нам. Кобура на поясе хлопала его по ноге. Коля стоял очень прямо, словно по стойке смирно перед офицером на смотру, и я, не зная, что делать, тоже выпрямился. Капитан подходил, пока едва не столкнулся с Колей нос к носу:
— Не дезертир, однако твоя часть сообщила, что ты пропал, а взяли тебя в сорока километрах от того места, где ты должен был находиться.
— Ну, объяснить это просто…
— А ты… — капитан повернулся ко мне, — на твою улицу опустился немецкий парашютист, а ты не сообщил органам. Решил сам поживиться за счет государства. Тоже можешь просто объяснить?
Мне хотелось воды. Во рту так пересохло, что он будто весь в чешуе был, как ящеричная кожа, а перед глазами уже скакали искорки.
— Ну?
— Извините.
— Извините? — Он пристально посмотрел на меня и рассмеялся: — Ну что ж, просишь прощения — тогда ладно, тогда все хорошо. Раз попросил прощения, это самое главное. Знаешь, парень, сколько народу я расстрелял? Не по моему приказу кто-то кого-то шлепнул, а я сам, вот из этого «ТТ»?.. — Он хлопнул по кобуре. — Угадай. Не вышло? Это правильно, потому что я сам не знаю. Сбился со счета. А я из тех, кто предпочитает все знать. Я за всем слежу. Я точно знаю, сколько баб выеб — достаточно, уж поверь мне. Вот ты симпатичный парнишка, — сказал он Коле, — но попомни мои слова, у тебя столько не будет, хоть до ста лет доживи. Что вряд ли.
Я глянул на Колю — сейчас сморозит какую-нибудь глупость, и нас обоих шлепнут. Но Коле в кои-то веки сказать было нечего.
— «Извините» — так учителю в школе говорят, когда мелок сломают, — продолжал капитан. — Извинения от мародеров и дезертиров не принимаются.
— Мы думали, у него еда найдется.
Капитан долго на меня смотрел.
— Нашлась?
— Коньяку чуть-чуть. Или бренди… а может, шнапс.
— Каждый день за подделку продовольственных карточек мы расстреливаем десяток человек. И знаешь, что они нам говорят перед расстрелом? Что они хотели есть. Само собой, они хотели есть! Все хотят есть. Но воров мы все равно будем расстреливать.
— Я ж не у наших крал…
— Ты крал государственную собственность. Что взял?
Я мялся, сколько мог.
— Ножик.
— Ага. Честный вор.
Я присел и отстегнул ножны от лодыжки. Отдал нож капитану. Тот осмотрел немецкую кожу.
— И у тебя это было с собой всю ночь? Никто не обыскивал? — Он выматерился на выдохе — видимо, устал от всеобщей бестолковости. — Чего тут удивляться, что мы проигрываем войну. — Он вытащил нож и присмотрелся к гравировке: — «Кровь и честь». Ха… Ебать их в жопу, блядиных сынов. Умеешь?
— Что?
— Ножом пользоваться. Резать сплеча, — он показал, вспоров сталью воздух, — лучше, чем колоть. Труднее защититься. Цель в горло, а если не получится — в глаза или живот. В бедро тоже неплохо: там артерии. — Наставление сопровождалось живой демонстрацией. — И не останавливайся, — сказал капитан. Танцуя, он подошел почти вплотную; сталь сверкала. — Не прекращай — пусть нож все время движется, противник тогда перейдет к обороне. — Он сунул нож обратно в ножны и кинул мне: — Оставь себе. Пригодится.
Я воззрился на Колю, а тот пожал плечами. Все так странно, что не поймешь, как мозги ни напрягай, все равно ничего не поймешь. Я опустился на колено и снова пристегнул ножны к лодыжке.
Капитан подошел к окну; за окном ветер нес вчерашний снег по замерзшей Неве.
— У тебя отец поэт был.
— Да, — подтвердил я, не сводя глаз с капитанского затылка. Никто из родных отца не поминал уже четыре года. То есть прямо вот так. Ни словом.
— Хорошо писал. То, что с ним произошло… неудачно.
Что тут скажешь? Я смотрел в пол и чувствовал, как Коля щурится, глядя на меня, — соображает, что это за бессчастный поэт меня породил.
— Вы сегодня еще не ели, — сказал капитан. Он не спрашивал. — Крепкий чай с хлебом — как вам? А может, и ухи раздобудем. Боря!
На веранду заглянул адъютант с карандашом, заткнутым за ухо.
— Накорми ребят завтраком.
Боря кивнул и так же быстро скрылся.
Уха. Ухи я с лета не ел. Такая же дикая экзотика, как, например, голая девчонка на острове в Тихом океане.
— Идите сюда, — сказал капитан. Он открыл створку окна и шагнул на мороз. Мы с Колей двинулись за ним по гравийной дорожке через замерзший сад, к берегу.
По Неве на коньках каталась девушка в лисьей шубке. Обычной зимой на выходных по Неве катались сотни девушек, но теперь-то зима была необычная. Лед крепкий уже много недель как, но у кого хватало сил выписывать восьмерки? Стоя на замерзшем грязном берегу, мы с Колей глазели на девушку, будто на обезьянку, что катается по улице на одноколесном велосипеде. Девушка была чудовищно прекрасна: темные волосы разделены посередине пробором, а сзади собраны в свободный узел, упитанные щеки разрумянились от ветра. Я не сразу сообразил, что в ней странного, а через несколько секунд понял: даже издали было видно, что девушку хорошо кормят. Ее лицо не осунулось, в нем не было отчаяния. Двигалась она небрежно и легко, как физкультурница. Пируэты делала быстро и четко и не задыхалась. Ноги у нее, должно быть, превосходные — длинные, белые, сильные. И член у меня отвердел впервые за много дней.
— В следующую пятницу она выходит замуж, — сказал капитан. — За кусок мяса, я бы сказал, но это ничего. Он партийный, может себе позволить.
— Ваша дочь? — спросил Коля. Капитан усмехнулся, на битом лице сверкнули белые зубы.
— Что, не похожа? Да уж, тут ей повезло. Лицом она в мать, а в меня характером. Еще мир завоюет.
Только сейчас я понял, что зубы у капитана вставные — мост чуть ли не на всю верхнюю челюсть. Наверняка его пытали. Ну да. Загребли в одну из чисток, назвали троцкистом, белым прихвостнем или фашистом, повыдергивали зубы изо рта, а били так, что кровь из глаз, ссал и срал кровью, а потом из какого-нибудь кабинета в Москве пришел приказ: мы этого человека реабилитируем, выпускайте, он опять наш.
Я себе это представил, потому что часто думал о последние днях отца. Ему не повезло: еврей, поэт, к тому же относительно известный, когда-то дружил с Маяковским и Мандельштамом, смертельно враждовал с Обрановичем и прочими — считал их рупорами бюрократии, революционными рифмачами, а они его — агитатором и паразитом, поскольку он писал о ленинградском дне, хотя официально никакого дна у Ленинграда не было. Больше того, отцу хватило безрассудства назвать свою книгу «Питер» — так звали город все его жители, но из советских текстов это слово вымарывали, поскольку имя «Санкт-Петербург» было наследием царского ига.
Однажды осенью 1937 года отца забрали прямо из редакции литературного журнала, где он работал. И не вернули. Звонка из Москвы не поступило. Реабилитации отец не подлежал. Офицер контразведки обществу еще мог пригодиться, а поэт-декадент — нет. Может, отец умер в «Крестах» или где-нибудь в Сибири, а то и на этапе; этого мы так и не узнали. Если его похоронили, памятника никто не поставил. Если его сожгли, то без всякой урны.
Я долго злился на отца за то, что он писал так опасно. Ну глупо же! Что — книга важнее, чем жить рядом и отвешивать мне подзатыльники, если я ковыряюсь в носу? Но потом я решил, что он не нарочно оскорбил партию — не сознательно, как Мандельштам (тот, прямо как башибузук какой-то, взял и написал, что у Сталина пальцы жирные, как черви, а усища тараканьи). Отец просто не знал, что «Питер» — это опасно. Пока не напечатали официальные рецензии. Он-то думал, что напишет книжку, ее прочтут пятьсот человек — может, и прав был. Да только один из этих пятисот пошел и на него донес.
А вот капитан выжил, и я, глядя на него, думал: ему самому не странно, что он вырвался из акульей пасти, сумел-таки выплыть, что когда-то он ждал от кого-то пощады. А теперь сам решает, казнить или миловать? Хотя капитана такие соображения, похоже, не волновали: он смотрел, как дочь катается на коньках, а когда девушка сделала еще один пируэт, захлопал в ладоши. Костяшки у него были сбиты.
— Ну вот, свадьба в пятницу. Но даже сейчас, посреди всего этого… — капитан обвел рукой чуть ли не весь Ленинград, голод, войну, — ей хочется настоящую свадьбу, как у людей. Это хорошо, жизнь должна продолжаться, мы сражаемся с фашистскими варварами, но сами должны оставаться людьми, советскими людьми. Поэтому у нас будет музыка, танцы… Торт будет.
Он посмотрел на нас по очереди, как будто в слове «торт» была некая важность и он хотел, чтобы мы ее осознали.
— Традиция такая, говорит моя жена. Нужен торт. Если на свадьбе торта не будет — очень плохая примета. А я со всеми этими крестьянскими суевериями всю жизнь борюсь. Ими попы народу мозги запудривали, дурачили народ, но жена моя… ей подавай торт. Ладно, ладно, будет тебе торт. Она уже сколько месяцев сахар экономит, мед, муку — все копит.
Я представил себе: мешки сахара, бочки меда… Мука — должно быть, настоящая, а не плесень с разбомбленной баржи. На одном тесте к такому торту полдома Кирова могло бы жить две недели.
— У нее теперь все есть. Все, кроме яиц. — И вновь многозначительный взгляд. — Яйца, — продолжил капитан, — найти трудно.
Несколько секунд мы молчали и смотрели, как кружится на льду капитанская дочь.
— Может, на флоте? — произнес Коля.
— Нет. У них нету.
— Тушенка же есть. Я у одного моряка банку на колоду карт сменял…
— Нет у них яиц.
Я, наверное, не дурак, но сообразить, о чем говорит капитан, не мог долго. А еще дольше собирался с духом спросить напрямую:
— Так вам, что ли, яйца найти?
— Дюжину, — ответил капитан. — Ей надо десяток, но мало ли — одно разобьется, пара тухлых. — Он заметил наше смятение и просиял своей чудесной улыбкой. Обхватил нас за плечи, и я невольно выпрямился. — Мои люди говорят, что в Ленинграде нет яиц, да только я вот думаю, что в Ленинграде есть все — даже теперь. Мне просто нужны правильные ребята. Пара воров.
— Мы не воры, — сказал Коля с легким негодованием, глядя капитану в глаза.
Мне захотелось ему двинуть. Нам уже полагалось охнуть и замерзнуть, валяться на санях с остальными трупами. Но выпала отсрочка. Нам вернули жизнь в обмен на выполнение простого задания. Странного — это да, но несложного же. А он сейчас все испортит, на пулю напрашивается, и это плохо само по себе. Но он ведь и меня под пулю толкает, а это вдвойне хуже.
— Вы не воры? Ты из части ушел — нет-нет, закрой варежку и не перечь. Бросил часть и тем самым перестал считаться бойцом Красной армии, потерял право носить винтовку, носить вот эту шинель, эти сапоги. Вор. А ты, носатый, — ты труп обирал. Немецкий труп, поэтому лично я на тебя не в обиде, но мародерство — то же воровство. Хватит, наигрались. Вы оба воры. Плохие, правда, неумелые — но вам обоим повезло. Хорошие воры не попадаются.
Он повернулся и пошел ко дворцу. Мы с Колей чуть помедлили, глядя на капитанскую дочь: ее лисья шубка горела на солнце. Она, должно быть, нас тоже заметила, но виду не подала, даже не глянула. Мы просто папашины лакеи, тоска зеленая. На нее мы смотрели, сколько могли, стараясь запомнить получше, чтобы потом снилась. Но капитан рявкнул, и мы поспешили за ним.
— Карточки с собой? — спросил он, не сбавляя шаг. Отдых закончен, пора возвращаться к трудам. — Давайте.
Мои были приколоты булавкой изнутри к карману. Я отстегнул, а Коля свои вытащил из скатанного носка. Капитан забрал.
— К рассвету во вторник добудете мне яйца. Тогда отдам. Не принесете — весь январь будете снег жрать, да и в феврале вам карточек не достанется. Это в том случае, если мои ребята вас не найдут и не пристрелят раньше, а это у них очень хорошо получается.
— Вот только яиц ваши ребята найти не могут, — сказал Коля.
Капитан улыбнулся:
— Ты мне нравишься, парнишка. Жить будешь недолго, но ты мне нравишься.
Мы зашли на веранду. Капитан сел за стол, поглядел на черный телефон. Поднял брови, что-то вспомнив, вытянул ящик стола, извлек сложенный лист. Протянул Коле:
— Это пропуск на комендантский час для обоих. Докопаются — покажете, пропустят. И вот еще что…
Из бумажника он вынул четыре купюры по десять червонцев и тоже передал Коле. Тот глянул на пропуск и деньги и сунул в карман.
— В июне я бы купил на них тысячу яиц, — сказал капитан.
— И в следующем июне купите, — ответил Коля. — Фрицы зиму не продержатся.
— С такими солдатами, как ты, — хмыкнул капитан, — скоро мы будем за яйца платить рейхсмарками.
Коля открыл было рот возразить, но капитан покачал головой:
— Ты же понимаешь, что для вас это подарок? Доставите мне к рассвету во вторник дюжину яиц — я жизнь верну. Соображаешь, какой это редкий шанс?
— А сегодня что?
— Сегодня четверг. Из части ты сбежал в среду. Когда завтра взойдет солнце, будет пятница. Дальше сам посчитаешь? Да? Хорошо.
Вернулся Боря с четырьмя кусками зажаренного хлеба на синей тарелке. Хлеб намазали каким-то жиром — может, лярдом. Он поблескивал и сам просился в рот. На веранду зашел еще один адъютант с двумя чашками дымящегося чая. За ними вроде должен прийти и третий с ухой, прикинул я, но больше никто не пришел.
— Ешьте быстро, ребятки, — сказал капитан. — Вам много ходить.
4
— Носатый. Мне нравится. Кто у тебя отец, Носатый?
— Ты его не знаешь.
— Если поэт и печатался — знаю.
— Не лезь.
— Обидчивый какой, а?
Мы снова двигались по Каменноостровскому мосту — уже пешком. Коля остановился посередине, положил руки в перчатках на перила и посмотрел вдоль реки на дворец Долгоруковых. Дочь капитана больше не каталась, но Коля все равно искал ее взглядом, надеясь на бис.
— Она мне улыбнулась, — сказал он.
— Ничего она тебе не улыбалась. Что ты мелешь? Даже не взглянула на нас.
— Быть может, ты ревнуешь, друг мой, но она совершенно точно мне улыбнулась. По-моему я видел ее раньше — в университете. Меня там знают.
— Как дезертира?
Коля отвернулся от перил и зыркнул на меня:
— Еще раз назовешь меня дезертиром — зубы повышибаю.
— Ага, попробуй, я тебе ножом в глаз засажу.
Коля поразмыслил и снова повернулся к реке:
— Не успеешь. Я проворный, когда надо.
Я подумал, не выхватить ли мне нож прямо сейчас, чтоб не воображал, но он вроде больше не сердился, а мне уже не стоялось на месте.
Мы перешли реку по льду и двинулись на юг по Выборгской набережной: Большая Невка справа, ржавые рельсы Финляндской железной дороги где-то слева. С сентября поезда не ходили — немцы замкнули кольцо и перерезали сообщение со всеми — с Финляндией, Москвой, Витебском, Варшавой, с Балтикой. Все прервалось и стало бесполезным. Единственная связь города с Большой землей оставалась по воздуху — и то если самолетам удавалось прорваться через заслоны люфтваффе.
— Можно, конечно, сбежать. Но без карточек придется туго. — Коля задумался. — На энкавэдэшников-то накласть. Знаешь, в армии говорят: такие щелку в борделе не найдут. А вот без карточек… хитро.
— Нам яйца искать надо, — напомнил я.
Мы шли по солнышку и дышали воздухом только по команде капитана. Если плата за смягчение приговора — дюжина каких-то поганых яиц, мы найдем ему дюжину яиц. Тут не поюлишь, не поторгуешься.
— Найти яйца — это лучше всего, согласен. Но я ж должен и другие варианты рассмотреть. Может, в городе и впрямь нет яиц. Тогда что? У тебя родные в Питере остались?
— Не-а.
— У меня тоже. Только это и хорошо. Отвечаем только за свои шкуры, а больше ни за чью.
На стены выжженных складов налепили плакаты «ТЫ ЧЕМ ПОМОГ ФРОНТУ?». Жилых зданий здесь не было, и улица лежала пустая — под бесцветным небом никто не ходил. Мы запросто могли оказаться двумя последними выжившими в войне, последними защитниками города. От фашистов отбиваться можно лишь моим краденым ножом да Колиными якобы проворными кулаками.
— Лучше всего попробовать на Сенном рынке, — сказал Коля. — Я там был пару месяцев назад. Масло и сыр еще продавали, может, икра тоже была.
— Почему ж тогда капитанские ребята яиц не нашли?
— Черный рынок потому что. Половина товара краденая. Люди меняют карточки, закон нарушают по-разному. Если ты в форме, ничего тебе не продадут. Тем паче — в форме НКВД.
Резонно. Коля засвистал что-то немузыкальное собственного сочинения, и мы двинулись к Сенному рынку. Передо мной завиднелись горизонты. Меня пока не расстреляют. В животе появилась пища. Причем ее больше, чем за все последние недели, и я взбодрился от крепкого чая. В ногах ощущалась сила — они донесут меня, куда захочу. Где-то у кого-то есть дюжина яиц, и мы их рано или поздно найдем. А пока я наслаждался отчетливым видением: капитанская дочь голой катается на коньках по Неве, и на солнце сияет ее белая задница.
Коля хлопнул меня по спине и похабно осклабился — будто в самый череп мне заглянул:
— Замечательная девушка, а? Хотел бы с ней попробовать?
Я ничего не ответил, но Коля, похоже, привык к монологам.
— Секрет победы над женщиной — рассчитанное пренебрежение.
— Что?
— Это Ушаков. Из «Дворовой псины». Ой, погоди, ты же не читал. — Коля вздохнул — его раздражало мое невежество. — Твой отец был литератор, а тебя оставил неучем. Прискорбно.
— Не трогай моего отца, а?
— Главный герой — Радченко — великий любовник. Со всей Москвы к нему приходят люди просить совета в завоевании сердец. А он даже с постели не встает — просто лежит весь день и пьет чай…
— Как Обломов.
— Ничего не как Обломов! Почему все говорят всегда «как Обломов»?
— Потому что это вылитый Обломов.
Коля остановился и посмотрел на меня сверху вниз. Он был на голову выше и раза в два шире в плечах. Он просто нависал надо мной, и глаза его метали молнии.
— Да каждый остолоп университетский знает, что Гончарову до Ушакова — как до неба. Обломов — ничтожество. Обломов — нравственный урок для буржуазии, такой пустячок дают читать детишкам, чтоб не выросли лентяями. А Радченко… Радченко — один из величайших героев русской литературы. Он, Раскольников, Безухов да еще, может, я не знаю, Чичиков…
— Ты плюешься.
— Заслужил, значит.
Я не сбавлял шага, и Коля, хоть и в раздражении, со временем подстроился. Нас свела судьба, ничего не попишешь. До вторника мы с ним практически женаты.
За ледяной Невой, припорошенной снегом, на сером шпиле Петропавловского собора по-прежнему восседал ангел, хотя говорили, будто вермахт пообещал Железный крест тому артиллеристу, кто его собьет. Коля подбородком показал на Петроградскую сторону:
— Я в крепости служил, когда разбомбили зоосад.
— Я слыхал, по городу бабуины разбежались и уссурийский тигр…
— Сказки. Никто никуда не разбежался.
— Может, некоторые? Откуда ты знаешь?
— Никто не убежал. Если хочешь себя утешать на сон грядущий, валяй, только это враки. — Он сплюнул. — Фрицы спалили его до основания. Слониха Бетти… Я ее очень любил. В детстве, бывало, все время ходил на нее смотреть. Как она умывалась — воды в хобот наберет и душ себе устраивает… Изящная такая была. Здоровенная, ни за что не скажешь, сколько в ней было изящества.
— Умерла?
— А я о чем? Там все погибли. Но Бетти долго умирала. Стонала несколько часов… Я на посту как раз стоял, так хотелось сбегать туда и пристрелить, прямо в сердце. Чтобы все закончилось. Хуже нет, когда слон умирает.
До Сенного рынка идти было долго — километров шесть, по Литейному мосту, мимо Летнего сада, где топорами посрубали вязы и дубы, мимо Спаса на Крови с его изразцовым фасадом и устремленными ввысь луковицами. Его выстроили на том месте, где Гриневицкий пролил кровь императора и свою. Чем дальше на юг мы продвигались, тем больше людей было на улицах. Укутанные в три слоя одежды, они боролись с ветром, а лица у них были сморщенны, изможденны и мертвенно-бледны от нехватки железа. На Невском магазины не работали уже давно. Мы видели двух старух, обеим за шестьдесят. Они шли очень медленно, касаясь друг друга плечами и не сводя глаз с панели, чтобы не наступить на замерзшую лужу, которая их прикончит. Мужчина с роскошными моржовыми усами нес белое ведро черных гвоздей. Мальчишка лет двенадцати тащил за собой на веревке санки. На санках лежало завернутое в одеяло тело, и по утоптанному снегу скребла босая бескровная нога. Всю улицу перегораживали ряды бетонных надолбов против вражеских танков. Трафарет на стене гласил: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна».
До войны Невский был сердцем города. Выстроили его так, чтобы он затмевал великолепные проспекты Лондона и Парижа: киоски на панели торговали цветами вишни и шоколадными конфетами, старые приказчики в фартуках за прилавками Елисеевского магазина резали копченую осетрину и раскладывали собольи меха. Над всем высилась каланча Городской думы, и ее часы извещали, насколько все опаздывают к своему будущему. Мимо, сигналя, проносились черные «эмки» — везли партийцев с одного собрания на другое. Даже если у тебя ни на что не было денег и особо некуда идти, по Невскому хорошо было просто гулять. В июне солнце не заходило до полуночи, и никому не хотелось впустую тратить дневной свет. Самые хорошенькие девушки Питера глядели в витрины модных магазинов, оценивали новейшие фасоны платьев, чтобы дома сшить себе такое же, если удастся стащить материи на работе. А ты наблюдал за девушками, и даже если ни слова им не говорил, если смотрел издалека…
— Ты ведь целочка, правда? — спросил Коля, прервав ход моих мыслей в такой невообразимый миг, что мне стало страшно от его проницательности.
— Я? — глупо переспросил я. — Ты о чем это?
— Я о том факте, что с девушкой ты никогда не спал.
Иногда понимаешь, что врать нет смысла: игра окончена, не успев начаться.
— Тебе какое дело?
— Послушай, Лев, давай не будем ссориться, а? Что скажешь? Нам с тобой держаться вместе, пока яйца не найдем. Давай лучше останемся друзьями. Ты, похоже, человек интересный. Вспыльчивый немного, угрюмый, как все евреи, но ты мне нравишься. И если б ты все время так рогами не упирался, я мог бы тебя чему-нибудь научить.
— Насчет девчонок?
— Да, насчет девчонок. Насчет литературы. Насчет шахмат.
— А тебе сколько — девятнадцать? Чего ты выставляешься? Такой знаток всего на свете, а?
— Мне двадцать. И я не знаток всего на свете. Только девушек, литературы и шахмат.
— И все?
— М-м… Ну еще танцев. Я отлично танцую.
— На что в шахматы сыграем?
Коля глянул на меня и улыбнулся. Выдохнул, и пар облаком заклубился у него над головой.
— На твой немецкий нож.
— А мне что?
— А тебе ничего. Ты не выиграешь.
— А если, скажем, выиграю?
— У меня еще есть грамм сто колбасы…
— Сто грамм колбасы за нож немецкого летчика? Это вряд ли.
— У меня открытки есть…
— Какие открытки?
— С девчонками. Француженками. По ним научишься всему, что надо.
Открытки с французскими девушками — да, за такой приз сыграть можно. Потерять нож я не боялся. В Питере много таких, кто обыграет меня в шахматы, но их всех я знал по именам. Отец у меня был чемпионом города, еще когда учился в университете. А по четвергам и воскресеньям я с ним ходил в шахматный клуб «Спартак» во Дворец пионеров. Когда мне исполнилось шесть, инструктор клуба объявил, что у меня талант. Несколько лет я был лучшим игроком среди юниоров — завоевывал ленты и медали на турнирах по всей Ленинградской области. Отец гордился, хотя в его богемных кругах и не было принято переживать из-за соревнований; и выставлять мои призы в квартире он никогда не разрешал.
А в тринадцать я ушел из клуба. Понял, что играю хорошо, но великим шахматистом мне не стать. Друзья по «Спартаку», которых я постоянно громил в детстве, оставили меня далеко позади. Они перешли на такой уровень, что я бы их ни за что не догнал, сколько бы игр ни сыграл и сколько книг ни прочел, сколько эндшпилей не решил бы по ночам в постели. Я был как хорошо натренированный пианист — знал, какие ноты брать, но сам никакой музыки бы не сочинил. Блистательный игрок понимает игру так, что словами не выразить. Он бросает взгляд на доску, анализирует расстановку сил — и сразу понимает, как улучшить свою позицию, хотя мозг не успевает выработать связного объяснения для хода. У меня не было инстинктов. Отец расстроился, когда я бросил клуб, а мне было все равно. От шахмат больше удовольствия, когда не надо думать, какое место займешь на городском турнире.
Коля остановился у кафе «Квисисана» и заглянул внутрь через стекло, заклеенное бумажными крестами. Ресторан был пуст, убрали все столики — только линолеум на полу да доска на стене, где еще видно меню августа.
— Я сюда однажды девушку водил. Лучшие бараньи котлеты в городе.
— А потом отвел ее домой и стал заниматься с ней любовью? — Я спросил с глубочайшим сарказмом и сразу испугался, что так оно и окажется.
— Нет, — ответил Коля, глядя на свое отражение в стекле и подтыкая прядку светлых волос под черную шапку. — Любовью мы занимались до ужина. А после ужина мы пошли выпить в «Европейскую». Девушка по мне с ума сходила, а мне больше нравилась ее подружка.
— Так… а чего подружку тогда на ужин не пригласил?
Коля улыбнулся — так начальник по-доброму улыбается подчиненному.
— Рассчитанное пренебрежение. Учись.
Мы шли дальше по Невскому. Час дня, но зимнее солнце уже клонилось к западу, и перед нами тянулись тени.
— Начнем постепенно, — сказал Коля. — С самых основ. Тебе какая-нибудь девушка нравится?
— Да нет, вроде никакая.
— Здесь не требуется кто-то особенный. Ты целка, тебе теплые ляжки нужны, и чтоб сердце билось. А не Тамара Карсавина.
— Ну есть одна у нас в доме. Верой зовут. Только ей нравится другой парень.
— Отлично. Первый шаг: не будем переживать из-за другого парня. Давай думать только об этой Вере. Что в ней особенного? Почему она тебе нравится?
— Не знаю. В нашем доме живет.
— Уже что-то. Еще?
— На виолончели играет.
— Красивый инструмент. Какого цвета у нее глаза?
— Не помню.
— Она тебе не нравится. Если ты не помнишь, какого цвета у нее глаза, она тебе не нравится.
— Нравится, только ей один Гришка Антокольский небезразличен, поэтому какой смысл?
— Отлично. — Коля был очень терпелив с бестолковым учеником. — Ты думаешь, что она тебе нравится, потому что ей не нравишься ты. Очень понятно, только я тебе так скажу: она тебе не нравится. Давай забудем про эту Веру.
Забыть про Веру оказалось несложно. Последние три года я пытался представить, какая она голая, но это лишь потому, что жила она двумя этажами ниже. А однажды в молодежном бассейне на улице Правды я увидел Верины соски, когда у нее соскользнули лямки купальника. Если бы Вера не запаниковала и не свалилась у ворот Дома Кирова, я б сейчас не бродил по питерским улицам с полоумным дезертиром, не искал бы яйца. Она даже не оглянулась, когда меня схватили. И наверное, обжималась с Гришкой где-нибудь в темном кировском коридоре, пока я сидел в «Крестах».
— У капитана дочка хорошенькая. Мне понравилась.
Коля с веселым изумлением глянул на меня:
— Да, у капитана дочка хорошенькая. Мне нравится твой оптимизм. Только она не про тебя.
— Да и не про тебя.
— Вот тут ты можешь ошибиться. Видел бы, как она смотрела на меня.
Мы прошли мимо стайки мальчишек со стремянками и ведрами извести. Они деловито замазывали уличные таблички и номера домов. Коля остановился и вперился в них взглядом.
— Эй! — крикнул он ближайшему пацаненку, закутанному так, что походил на толстячка. Маленького блокадника в нем выдавали лишь тощее лицо и лихорадочно блестевшие черные глаза, под которыми залегали старческие круги. В городе осталось мало таких детей — большинство эвакуировали еще в сентябре. А те, что остались, были бедны — у многих в войну погибли родители, и никакой родни в тылу. — Ты чего это делаешь? — спросил Коля и повернулся ко мне, изумленный таким неуважением. — Щенки проспект портят. Эй! Мальчик!
— Хуй соси, губой тряси, — ответил черноглазый мальчишка, замазывая номер на двери часовой мастерской.
Даже Коля, похоже, от такого распоряжения опешил. Он подошел к мальчишке, взял его за плечи и развернул лицом к себе:
— Перед тобой боец Красной армии, мальчик…
— Коля… — предостерег я.
— По-твоему, сейчас время шутки шутить? Вам, цыганятам, лишь бы побегать…
— Лапы убери, — ответил мальчишка.
— Ты что мне, угрожаешь? Я последние четыре месяца фашистов бил, а ты мне угрожать вздумал?
— Коля, — повторил я уже громче. — У них приказ. Фрицы, если вступят в город, не будут знать, куда идти.
Коля перевел взгляд с черноглазого мальчишки на забеленную табличку, потом на меня:
— Ты откуда знаешь?
— Сам так делал два дня назад.
Коля отпустил мальчишку, и тот зло посмотрел на него, после чего вновь принялся за работу.
— Ну что, чертовски умно придумано, — сказал Коля, и мы двинулись к Сенному рынку.
5
Если хотелось что-то купить, продать или обменять, люди шли на Сенной рынок. До войны ряды ларьков на улице были Невским проспектом для бедных. Когда же началась блокада, когда один за другим позакрывались все модные магазины, когда на лопату заложили двери всех ресторанов и у мясников в морозилках больше не осталось мяса — тогда Сенной расцвел. Генеральши меняли янтарные бусы на мешки пшеничной муки. Партийцы торговались с крестьянами, которые украдкой просачивались в город из деревень: сколько картофелин можно купить на антикварный серебряный прибор. Если торги затягивались, крестьянин махал рукой и отворачивался от горожанина.
— Сам и жри свое серебро, — говорил он, пожав плечами. И почти всегда получал, сколько спрашивал.
Мы шли от лотка к лотку, разглядывая кучи кожаных сапог. С некоторых даже не смыли кровь бывших владельцев. Винтовки и пистолеты Токарева были дешевы — несколько рублей или двести граммов хлеба. «Люгеры» и ручные гранаты — дороже, но и они в наличии имелись, если знать, у кого спрашивать. За одним прилавком продавали грязь — сто рублей за стакан. Это называлось «бадаевская землица». Ее копали из-под разбомбленного склада продовольствия, в нее стек расплавленный сахар.
Коля остановился подле худого сутулого человека с повязкой на глазу и незажженной трубкой во рту — он торговал бутылками с прозрачной жидкостью и без этикеток.
— Что это? — спросил Коля.
— Водка.
— Водка? Что за водка?
— Древесная.
— Это не водка, друг мой. Это метиловый спирт.
— Надо или нет?
— Мы здесь не за этим, — напомнил я Коле, но он не обратил внимания.
— От него слепнут, — сообщил он торговцу.
Одноглазый покачал головой — ему надоело слушать глупости. Но чтобы хоть что-нибудь продать, следовало самую малость постараться.
— Сцеживаешь через полотно, — терпеливо пояснил он. — В семь слоев. Тогда можно.
— Прямо амброзия, — сказал Коля. — Назвал бы его «Грех семислойный». Хорошее название для коктейля.
— Так надо или нет?
— Возьму бутылку, если ты со мной выпьешь.
— Мне еще рано.
Коля пожал плечами:
— Отхлебнешь — куплю. А нет — так что уж тут? На войне я стал циником.
— Двести рублей бутылка.
— Сто. И выпьем.
— Ты чего делаешь? — спросил я Колю, но он на меня даже не глянул.
Одноглазый отложил холодную трубку, извлек граненый стакан и стал рыться в своих пожитках — искал тряпицу.
— На. — Коля протянул ему белый носовой платок. — Чистый. Относительно.
Мужик сложил платок в три раза и аккуратно укутал им стакан сверху. Спирт он лил медленно. Даже на воздухе, на зимнем ветру, жидкость воняла отравой — таким на заводах полы моют. Одноглазый убрал платок, на котором остались какие-то мыльные хлопья. Поднес стакан ко рту, отхлебнул снова поставил на стол. Даже не дернулся. Коля присмотрелся к уровню жидкости в стакане — отпил ли одноглазый на самом деле. Удовлетворившись, поднял тост:
— За нашу Советскую Родину!
Спирт он заглотил единым махом и грохнул стаканом по столику. Вытер рот тылом руки и рыгнул. Схватил меня за плечо, стараясь удержаться на ногах, — глаза его широко распахнулись, потекли слезы.
— Ты меня убил, — еле выдавил он, тыча обвиняющим перстом в одноглазого.
— А я тебе говорил так хлобыстать? — ответил тот равнодушно и опять сунул трубку в рот. — Сто рублей.
— Лев… Лев, ты тут? — Коля повернулся ко мне, глаза невидящие. Он смотрел прямо сквозь меня.
— Очень смешно.
Коля ухмыльнулся и выпрямился:
— Еврея на кривой козе не объедешь. Так и думал. Ладно, заплати.
— Чего?
— Давай-давай. — Он повел рукой в сторону торговца. — Человек ждет.
— У меня нет денег.
— Дурить меня будешь, пацан? — взревел Коля, схватив меня за воротник шинели и встряхнув так, что у меня кости застучали. — Я боец Красной армии, воровства не потерплю!
Он резко отпустил меня, сунул руки мне в карманы, порылся и вытащил клочки бумаги, бечевку и хлопья пыли. Ничего похожего на деньги. Коля вздохнул и повернулся к торговцу:
— Денег у нас, очевидно, нет. Боюсь, нам придется отменить сделку.
— Думаешь, раз ты боец, — произнес одноглазый, отведя полу пальто и показав рукоятку финки, — я тебя не порежу?
— Ты в меня уже стакан отравы залил. Валяй попробуй.
Коля улыбнулся одноглазому и стал ждать реакции. В голубых его глазах не читалось ничего — ни страха, ни злости, ни возбуждения перед дракой. Ничего. Таков, как я потом выяснил, был его дар: опасность его успокаивала. Вокруг люди боролись с ужасом, как обычно: стоицизмом, истерикой, напускной веселостью либо неким сочетанием всего этого. А Коля, мне кажется, никогда ни в какую опасность до конца не верил. Ему вся война была нелепа: и варварство фашистов, и партийная пропаганда, и перекрестный огонь зажигательными, от которого по ночам загоралось небо. Все это казалось ему чьей-то чужой историей, до изумления подробной, — он случайно в нее забрел, а выйти не мог.
— Двигай давай, а то пасть порву, — сказал одноглазый, стиснув зубами черенок трубки. Руку свою от финки он не убрал. Коля отдал ему честь и перешел к следующему лотку — расслабленно и беззаботно, словно с предыдущим торговцем обо всем полюбовно договорился. Я двинулся следом; сердце выскакивало из груди.
— Давай яйца найдем, и все, — сказал я. — Чего людей дразнить?
— Мне нужно было дернуть, и я дернул. Опять живем. — Коля глубоко вдохнул и выдохнул, сложив губы трубочкой. Поднялась струйка пара. — Ночью мы оба должны были стать покойниками, ты это понимаешь? Соображаешь, как нам повезло? Вот и наслаждайся.
Я остановился у лотка, за которым старуха в крестьянском платке продавала биточки из бледно-серого фарша. Мы с Колей на них посмотрели. Мясо вроде свежее, в нем жир поблескивает, но нам не хотелось вникать, что это было за животное.
— Яйца есть? — спросил я у старухи.
— Яйки? — Она подалась вперед, чтоб лучше слышать. — С сентября не было.
— Нам дюжина нужна, — сказал Коля. — Хорошо заплатим.
— Да хоть мульён, — ответила старуха. — Нету яек. В Питере не бывает.
— А где бывает?
Она пожала плечами. Такая морщинистая, что все лицо ей будто ножом изрезали.
— У меня мяско вот есть. Хотите мяска — триста за две котлетки. А яек нету.
Так мы и шли от лотка к лотку — спрашивали у всех, есть ли яйца, но яиц на Сенном не видали с сентября. Кое-кто высказывал соображения, где их можно найти: генералам яйца возили самолетами из Москвы. Крестьяне за городом отдавали немцам все — и яйца, и масло, и молоко, — лишь бы не убили. У Нарвской заставы живет один старик, у него есть курятник на крыше. Этот последний слух был заведомо нелеп, но парнишка клялся, что правда.
— Куру зарежешь, мож, на неделю хватит. А не станешь резать, мож, по яичку в день будет давать — так с пайком и до лета протянешь.
— Курицу надо кормить, — заметил Коля. — А чем ее тут накормишь?
Парнишка потряс черными кудрями, что выбивались из-под старой флотской фуражки, — дескать дурацкий вопрос:
— Куры все лопают. Им ложку опилок насыпь — уже хватит.
Торговал он тем, что в народе кое-кто называл «библиотечной карамелью»: у книг отрывали обложки, счищали с переплетов клей, вываривали и лепили бруски, а их потом заворачивали в бумагу. На вкус как воск, но в клее был белок, белок не давал умереть, поэтому книги из города исчезали, как голуби.
— И ты видел этих кур? — спросил Коля.
— Брательник мой видел. Старик по ночам прямо в курятнике спит, с двустволкой. У них в доме на этих кур все охотятся.
Коля глянул на меня, и я покачал головой. В день мы выслушивали по десятку блокадных легенд: про тайные холодильники, набитые говяжьими ляжками, кладовки, заставленные банками с икрой и заваленные телячьей колбасой. И неизменно сокровища эти видел чей-нибудь брат или кум. Люди верили — они вообще были убеждены, что кто-то где-то пирует, пока голодает весь город. И были, конечно, правы: капитанская дочка, может, и не жареным гусем ужинает, но ведь она ужинает.
— Старик не может в курятнике все время сидеть, — сказал я парнишке. — Ему за пайком ходить надо. За водой. В туалет. Кур бы давно уже кто-нибудь спер.
— Он с крыши ссыт. А если по-большому получается — не знаю, может, он их этим же и кормит.
Коля кивнул — под впечатлением, мол, во дает старик, — хотя, по-моему, парнишка все это сочинял прямо на ходу.
— Ты когда срал в последний раз? — вдруг спросил меня Коля.
— Не помню. Неделю назад?
— У меня уже девять дней. Я считал. Девять дней! Когда приспичит наконец, устрою вечеринку и самых красивых девушек университета позову.
— Капитанскую дочку позови.
— И позову. Моя сральная вечеринка выйдет гораздо лучше ее свадьбы.
— А от нового пайкового хлеба срать больно, — сказал курчавый парнишка. — Батя говорит, это от целлюлозы.
— Где искать этого деда с курями?
— Адреса не знаю. Пойдете от Нарвской заставы к проспекту Стачек — этот дом по дороге и будет. Плакат Сталина на стене.
— В Питере на половине домов плакаты Сталина. — Он меня уже раздражал. — Нам что, еще три километра переться за курями, которых, может, и нет вовсе?
— Пацан не врет, — сказал Коля, похлопав его по плечу. — А если врет, мы вернемся и пальцы ему переломаем. Он же знает, что мы из НКВД.
— Вы не из НКВД, — сказал парнишка.
Коля выхватил из кармана шинели капитанское письмо и хлестнул им мальчишку по щеке:
— Это мандат капитана госбезопасности, по которому мы уполномочены реквизировать яйца. Что скажешь?
— А от Сталина мандат есть, по которому ты уполномочен жопу себе этим подтирать?
— Пусть меня сначала посрать уполномочат.
Я не стал дожидаться, чем закончится разговор. Если Коле охота мотаться по всему городу искать этих воображаемых курей — его дело. А у меня скоро вечер, мне домой хочется. Я не спал уже тридцать с чем-то часов, а потому развернулся и зашагал к Дому Кирова, пытаясь вспомнить, сколько хлеба заначил под кафельной плиткой на кухне. Может, и от Веры что перепадет. Она ж у меня в долгу — так бежала, что даже не оглянулась, хоть я ее и спас. Наверняка они все думают, что меня убили. Интересно, как она отнеслась? Плакала, уткнувшись Гришке в грудь, а он ее утешал? Или оттолкнула его, разозлилась — он же сбежал, ее бросил, а вот я остался и спас от неминуемого расстрела. А Гришка такой: «Ладно, я знаю — я струсил, прости меня», — и она его простит, потому что Вера Гришке все прощала всегда. И он будет утирать ей слезы и говорить, что они не забудут меня никогда, и какую жертву я принес — тоже не забудут. Только брехня все это — через год они и не вспомнят, как я выглядел.
— Эй, ты. Это тебе яйца нужны?
Жалкая фантазия так меня захватила, что я не сразу сообразил — обращаются ко мне. Я повернулся и увидел бородатого верзилу. Он пялился на меня, сложив на груди руки, и покачивался с пятки на носок. Таких здоровых мужиков я раньше никогда не видел. Он был выше Коли и гораздо шире в груди. Голыми ручищами может, наверное, расколоть мне черепушку, как грецкий орех. Борода у великана была черная, густая, блестела, будто намасленная. Интересно, сколько такому еды каждый день надо, чтоб не спасть с тела.
— А есть? — спросил я, проморгавшись.
— А что дашь?
— Денег. У нас хватит. Погодите, я друга позову.
Я побежал назад через весь Сенной. Впервые с нашей встречи я по-настоящему обрадовался, увидев Колю в этой его шапке. Он по-прежнему перешучивался с курчавым парнишкой — вероятно, пересказывал в подробностях свою мечту великолепно просраться.
— Эй, а вот и он! — заорал он при виде меня. — Я уж подумал, ты без меня сбежал.
— Там мужик — говорит, яйца есть.
— Отлично! — Коля повернулся к парнишке: — Сынок, приятно было.
Мы шли обратно мимо лотков, которые уже закрывались на ночь. Коля протянул мне «библиотечную карамельку» в бумажке:
— Держи, друг мой. Сегодня пируем.
— Тебе пацан дал?
— Дал? Продал.
— За сколько?
— Две за сотню.
— За сотню! — Я зыркнул на Колю — он развернул свой батончик, откусил и передернулся от вкуса. — Так у нас триста осталось?
— Точно. Считать умеешь.
— Нам же дали на яйца.
— Ну нельзя же яйца искать на голодный желудок, правда?
Бородач ждал нас на краю рынка, руки по-прежнему сложены на груди. Пока мы подходили, он оценивал Колю взглядом — словно боксер противника на ринге.
— Всего двое?
— А сколько надо? — парировал Коля, улыбнувшись. — Я слышал, вы яйца продаете.
— Я все продаю. Что дадите?
— Деньги есть, — ответил я, отчетливо припомнив, что мы с ним это уже обсуждали.
— Сколько?
— Хватит, — сказал Коля. — Нам дюжина нужна.
Бородач присвистнул:
— Вам везет. У меня как раз столько.
— Вот видишь? — Коля стиснул мое плечо. — Не так уж трудно.
— Пошли, — сказал здоровяк и двинулся через дорогу.
— Мы куда это? — спросил я, приноравливаясь к его шагу.
— Я все внутри держу. Снаружи опасно. Что ни день, солдаты приходят, отбирают товар подчистую. А кто вякнет — пулю в лоб.
— Ну солдаты же город защищают, — сказал Коля. — Война войной, а обед по расписанию.
Великан оглядел Колину пехотную шинель, сапоги:
— А ты чего ж не защищаешь?
— Я на задании. Капитан дал. Не твое дело, в общем.
— Этот капитан тебя с пацаном за яйцами, что ли, послал? — Верзила ухмыльнулся. Зубы сверкнули в черной бороде чистыми игральными костями. Он, разумеется, не поверил Коле. Да и кто бы поверил?
Мы шли вдоль перемерзшей Фонтанки. На льду валялись брошенные трупы, некоторые — под дерюгой, придавленной камнями, с каких-то уже сняли все теплое. Их белые лица уставились в темневшие небеса. Просыпался вечерний ветер — одной мертвой женщине он намел на лицо длинные светлые волосы. А ведь она ими когда-то гордилась, мыла их дважды в неделю, перед сном по двадцать минут расчесывала. И вот теперь они пытались защитить ее, мертвую, от посторонних взглядов.
Великан привел нас к кирпичному пятиэтажному дому — все окна забиты фанерой. На гигантском — в два этажа — плакате молодая мать несла мертвого ребенка из горящего дома. «СМЕРТЬ ДЕТОУБИЙЦАМ!» — кричали буквы. Порывшись в кармане, бородатый извлек ключ и отпер парадное. Придержал перед нами дверь. Я схватил Колю за рукав.
— А чего сюда яйца не вынести? — спросил я великана.
— Я умею дела делать, потому и жив еще. И на улице дел не веду.
У меня сжалась мошонка — робкие мои яички стремились заползти поглубже в тело. Но я родился и вырос в Питере, я был отнюдь не дурак и постарался, чтобы голос меня не выдал:
— А я не веду дел в чужих квартирах.
— Господа, господа. — Коля широко улыбнулся. — К чему нам эти подозренья? Дюжина яиц. Говори свою цену.
— Тыща.
— Тысяча рублей? За дюжину яиц? — Я рассмеялся. — Не иначе Фаберже?
Чернобородый гигант, не отпуская дверь, глянул на меня так, что я сразу умолк.
— На рынке за стоху грязь стаканами продают, — сказал он. — Что лучше, яйцо или стакан грязи?
— Послушай, — произнес Коля. — Ты здесь весь день можешь стоять и торговаться с моим маленьким еврейским другом — или же мы уладим все, как честные люди. У нас есть триста. Больше нет. Договорились?
Верзила не спускал с меня глаз. Я ему с самого начала не понравился; а теперь он знал, что я еврей, и просто свежевал меня глазами. А Коле протянул лапищу: мол, деньги давай.
— О нет, сейчас я вынужден встать на сторону своего компаньона, — покачал головой Коля. — Сначала яйца, потом деньги.
— Я их сюда не потащу. Все жрать хотят, у всех оружие.
— Ты же здоровый такой, чего тебе бояться? — подначил его Коля.
Великан оглядел Колю с неким, я бы сказал, любопытством, будто ушам своим не поверил. И, видимо, плюнув на оскорбление, улыбнулся, опять сверкнув игральными зубами.
— Вон мужик лежит мордой вниз. — Он мотнул головой в сторону Фонтанки. — Не от голода подох и не от мороза. Ему череп кирпичом проломили. Спросишь, откуда я знаю?
— Я и так понял, — покорно ответил Коля и вгляделся во тьму парадного. — Как ни верти, а кирпичом быстрее.
Похлопал меня по спине и шагнул внутрь. Во мне все орало: беги. Здоровяк вел нас прямо в капкан. Он сам, считай, признался, что убийца. Коля глупо выложил, сколько у нас с собой денег. Их немного, но еще карточки — мужик ведь наверняка считает, что они у нас есть. За это в наши дни можно легко убить.
А выбор есть? Переться к Нарвской заставе искать старика с его курятником? Заходя в этот дом, мы рисковали жизнью, но если не найдем капитану яйца, мы все равно покойники.
Я двинулся следом за Колей. За нами закрылась дверь парадного. Внутри было темно и мрачно, света нет, только сквозь щели в фанере на окнах сочились остатки дня. Великан шел за мной, и я припал на одно колено — вытащить немецкий нож. Мужик обогнул меня и зашагал через две ступеньки по лестнице. Мы с Колей переглянулись. Черная Борода скрылся, а я вытащил нож и сунул в карман шинели. Коля поднял брови — может, восхитился моей предусмотрительностью, а может, в насмешку. Мы тоже двинулись по лестнице — ступенек не пропускали, но все равно ко второму этажу задыхались.
— Откуда яйца? — окликнул Коля великана, который уже опередил нас на один пролет. Казалось, восхождение верзиле нипочем. Людей в такой хорошей форме, как они с капитанской дочкой, я не видел в Питере уже много месяцев. Интересно, опять подумал я, где он силы берет?
— Крестьянин знакомый есть, у него хозяйство под Мгой.
— Я думал, Мга под немцами.
— Ну да. Немцы ж тоже яйки любят. Каждый день приходят и забирают, только он чуток прячет. Немного, иначе заподозрят.
Здоровяк остановился на четвертом этаже и постучал в дверь.
— Кто?
— Я, — ответил он. — И пара клиентов.
Проскрежетал засов, дверь открылась. На нас с Колей, моргая, воззрилась женщина в мужской ушанке и окровавленном мясницком фартуке. Вытерла варежкой нос.
— Я вот чего уточнить хотел, — сказал Коля. — Вы яйца-то не морозите? Потому что мерзлые, я боюсь, нам ни к чему.
Женщина уставилась на Колю так, будто он заговорил по-японски.
— У самовара держим, — ответил здоровяк. — Проходите, давайте уж дело закончим.
Он повел рукой в квартиру. Безмолвная женщина отступила, давая нам пройти, и Коля шагнул вперед, беззаботнее некуда, оглядываясь с такой улыбкой, словно это новая девушка его домой к себе пригласила. Я задержался у входа, но великан положил мне лапу на плечо. Не подтолкнул, нет, но лапа у него была такая, что я не устоял на месте.
Квартира освещалась коптилками, и четыре наши долгие тени ползли по стенам, по ветхим половикам, по латунному самовару в углу и по белой простыне, что отгораживала дальний угол. За ней, предположил я, спали. Когда верзила закрыл дверь, простыня всколыхнулась, как женские юбки на ветру. И не успела опуститься, как я заметил, что было за ней — не кровать, вообще не мебель. С трубы парового отопления свисали тяжелые цепи, на цепях были крюки, а на крюках — куски белого мяса. На полу была расстелена клеенка — собирать то, что капает. Может, с полсекунды я думал, что это свиные туши — видимо, рассудок отказывался признать то, что увидели мои глаза. Освежеванное бедро, которое могло быть только женским… грудная клетка ребенка… рука без одного пальца — безымянного…
Нож оказался у меня в кулаке, не успел я сообразить, что надо вооружиться. У меня за спиной кто-то дернулся, я развернулся и полоснул, вскрикнув — но не слово, а что-то. В горле сжалось. Великан выхватил из-под пальто обрезок железной трубы, где-то с полметра, и отпрыгнул, как танцор. Гораздо быстрее, чем полагается человеку таких габаритов. От германской стали он увернулся.
Жена его извлекла из кармана фартука мясницкий тесак — тоже быстро. Но проворнее всех оказался Коля — крутнулся на пятке и двинул ей в челюсть справа. Женщина рухнула.
— Беги! — крикнул Коля.
Я побежал. Думал, дверь успели запереть, но нет. Думал, на голову мне обрушится труба, но не обрушилась. Я уже был на площадке: летел по лестнице вниз — перепрыгнул чуть ли не целый пролет. Сверху донесся вопль бессловесной ярости, по половицам загрохотали гигантские подкованные сапоги. Я остановился, держась за перила. Не мог отдышаться, не хотел бежать дальше, не мог вернуться по темной лестнице в логово к людоедам. Раздался ужасный стук — сталь ударила в фанеру. Или в череп.
Я предал Колю — бросил его, безоружного, хотя у самого отличный нож. Я пытался пошевелить ногами, чтоб они вернули меня в бой, но меня трясло так, что нож в руке дрожал. Опять крики, опять грохот железной трубы. Обо что? С потолка посыпались хлопья штукатурки. Я весь сжался — Колю наверняка убили, а мне от великана не убежать, и его жена разделает меня парой взмахов своего тесака, она опытная. И мои куски вскоре повиснут на тяжелых цепях, и вся кровь стечет на клеенку.
Крики не смолкали, стены подрагивали — Коля еще не умер. Я стиснул нож обеими руками и поставил ногу на первую ступеньку. Можно тихонько пробраться в квартиру, пока людоед занят другим, и воткнуть нож ему в спину — только клинок теперь казался мне тоненьким и хрупким. Не такой мелочью великанов убивают. Ну уколю я его, ну кровь пойдет — а он развернется, цапнет меня за лицо и выдавит глаза.
Я сделал еще один шаг — и тут из квартиры вылетел Коля, сапоги пошли юзом по плитке, и он чуть не промахнулся мимо лестницы. Но вписался в поворот и просто кинулся вниз, успев схватить меня за шиворот и дернуть за собой:
— Беги, дурень! Чего ждешь?
Мы побежали — и всякий раз, когда я оскальзывался на ступеньке или спотыкался и чуть не падал, Колина рука удерживала меня. Где-то выше орали, чудовищная туша громыхала по лестнице следом, но я не оглядывался. Быстрее бегать мне еще не приходилось. И посреди всего этого ужаса, в криках, в грохоте сапог, я слышал что-то еще. Странное. Коля смеялся.
Мы выскочили из парадного на темную улицу. Ночное небо уже расчерчивали бродячие лучи прожекторов. На панели — ни души; нам никто не поможет. Мы выскочили на середину улицы, промчались три квартала, то и дело озираясь, не бежит ли за нами верзила, но так его и не увидели. И ни разу не сбавили ход. Наконец где-то на перекрестке показался военный грузовик, мы выбежали на дорогу перед ним и замахали руками. Водитель дал по тормозам, на льду завизжали колеса.
— Куда прешь, говно сиротское? — заорал он.
— Товарищи офицеры, — сказал Коля, миролюбиво подняв руки. Говорил он спокойно, с этим своим неизменным чудовищным самообладанием. — Вон в том доме — людоеды. Мы еле от них сбежали.
— Здеся во всех домах людоеды, — отозвался шофер. — Добро пожаловать в город Ленина. Вали с дороги.
— Минуточку, — раздался из кабины голос. Вышел офицер. Он больше походил на преподавателя математики, чем на военного: аккуратно подстриженные седые усы, хрупкая шейка. Оглядел Колину форму, посмотрел ему в глаза.
— Почему не в части? — спросил он.
Коля вынул из кармана записку капитана и протянул офицеру. У того изменилось лицо. Он кивнул Коле и жестом велел нам забираться в машину:
— Показывайте.
Через пять минут мы с Колей опять вошли в людоедскую квартиру — на сей раз в сопровождении четверых солдат с «Токаревыми». Они обводили стволами углы, но даже с вооруженным эскортом страх меня едва не утопил. Опять детские ребрышки на крюке, опять ляжка с содранной кожей, рука без пальца — мне хотелось зажмуриться и больше не открывать глаза никогда. Бойцы, хоть и привычные выносить с поля боя изувеченные трупы павших товарищей, и те отвернулись от цепей.
Великан и его жена исчезли. Всё оставили — коптилки еще горели, в самоваре не остыл чай, — а сами сбежали куда-то в ночь. Осмотрев квартиру, офицер покачал головой. В стенах голодными распахнутыми ртами зияли дыры — туда попадало железной трубой.
— Внесем в список, отменим паек, конечно, только вряд ли поймаем. Разве что по чистой случайности. Милиции, считайте, нету.
— Где ж ему прятаться? — спросил Коля. — Таких здоровенных лбов в Питере больше нет.
— Тогда лучше будьте начеку, — отозвался один солдат, возя пальцем по рваному краю дыры в стене.
6
— Ну ты ее и завалил, — сказал я Коле, пока мы плелись мимо часовой башни Витебского вокзала — самого роскошного в Ленинграде. Даже сейчас роскошного, хотя поезда не ходили почти четыре месяца, а витражи забили фанерой.
— Крепко вышло, а? Ни разу до этого женщину не бил. Но вышло вроде уместно.
Мы с ним будто условились так разговаривать — легко и беззаботно, два молодых человека просто обсуждают бокс. Только так ведь и можно. Нельзя впитать слишком много правды, нельзя признать ртом то, что видели глаза. Приоткроешь дверь хоть на сантиметр — учуешь гниль, услышишь крики. Поэтому дверь и не открывалась. Умом лепишься к задачам на день — как найти еду, воду и хоть какое-нибудь топливо, — а все остальное будет после войны.
Комендантский час еще не объявили, но он вот-вот начнется. Заночевать мы решили в Доме Кирова: я знал, что щепок на приличный огонь мне хватит, а в чайнике еще была вода из реки. Идти не очень долго, но паника моя рассосалась, и я себя ощущал дряхлым стариком. От бега ныли ноги. Завтрак у капитана был чудесен, но от него растянулся желудок, и муки голода уже давали о себе знать. Только сейчас к ним примешивалась тошнота — из головы никак не шли детские ребра. Я погрыз мерзлую «библиотечную карамельку», но на вкус она была как высохшая кожа, и проглотил я ее с усилием.
Коля хромал рядом — ноги не держали и его. Однако в лунном свете он выглядел беззаботно, как всегда, — тягостные мысли, похоже, его не мучили. Может, на душе ему было спокойнее от того, что он повел себя храбро и решительно, а я… я трясся на темной лестнице и ждал, когда же меня спасут.
— Слушай, мне… я хочу сказать — извини. Я убежал, прости меня, пожалуйста. Ты спас мне жизнь.
— Я же сам тебе сказал: беги.
— Да, но… Надо же было вернуться. Нож-то был у меня.
— Был, это правда, — рассмеялся Коля. — А толку-то? Посмотрел бы на себя со стороны, когда им размахивал. Давид и Голиаф, ха… Да он бы живьем тебя слопал.
— Я бросил тебя одного. Думал, тебя убили.
— Ну, они тоже так думали. Но я ж говорю, у меня быстрые кулаки.
И он пару раз ударил воздух перед собой, крякая, как настоящий боксер: х-ха! х-ха!
— Я не трус. Нет, я знаю, похоже, что там я струсил, но я не трус.
— Послушай меня, Лев, — произнес он, приобнимая меня за плечи так, чтобы я приноровился к его широкому шагу. — Ты не хотел заходить в эту квартиpy. Это я, как деревенский дурачок, настоял. Поэтому нечего извиняться. Больше того, я тебя трусом нe считаю. Оттуда сбежал бы любой, у кого хоть чайная ложка соображения есть.
— Ты же не сбежал.
— Quod erat demonstrandum[4], — ответил он, явно гордясь своей латынью.
Мне полегчало. Коля действительно велел мне бежать. Да верзила пробил бы мне в черепе дыру. Ему это — как ребенку пальцем вишневый пирожок проткнуть. Может, я и не сгеройствовал, но ведь и родину не предал.
— А заехал ты ей здорово.
— Не скоро она опять детишек жевать сможет.
И Коля сам ухмыльнулся своей шуточке, только ухмылка продержалась недолго. У нас обоих перед глазами светились куски бледного мяса, клеенка, вся мокрая от крови… Мы жили в городе, где по улицам бродят ведьмы, Баба-яга с Кощеем Бессмертным — они хватают маленьких детей и кромсают их на куски.
Завыла сирена — долгий одинокий вой. Вскоре его подхватили все сирены в городе.
— А вот и фрицы, — сказал Коля, и мы прибавили шаг, заставляя усталые тела шевелиться. На юге начали рваться снаряды — дальний грохот литавр: это немцы принялись за свой вечерний обстрел огромного Кировского завода, где строили половину советских танков, самолетных двигателей и тяжелых орудий. Большинство рабочих ушли на фронт, и к токарным и сверлильным станкам встали женщины. Завод не сбавлял оборотов, в печах не гас огонь, красные кирпичные трубы дымили. Производство ни на день не прекращалось, хотя на крыши цехов падали бомбы, а мертвых девушек уносили от конвейера, и окоченевшие руки их не выпускали инструментов.
Мы спешили мимо красивых старых зданий Литовского проспекта — белые каменные фасады, с фронтонов щерились головы сатиров с бараньими рогами, высеченные еще при императорах. В каждом доме здесь было свое бомбоубежище в подвале. Жильцы набивались туда десятками, поближе к единственной коптилке, ждали отбоя воздушной тревоги. Снаряды рвались близко — мы уже слышали их вой на подлете. И ветер дул сильнее — ныл в оконных проемах брошенных квартир. Словно господь бог сговорился с немцами сдуть наш город с лица земли.
— На фронте, — рассказывал на ходу Коля, — учишься точно определять, куда снаряд упадет. — Он сунул руки в карманы шинели: шли мы против ветра, который лишь миг назад дул нам в спину. — Слышишь эту дуру и знаешь — упадет в ста метрах слева. А этот — в реку.
— А я сразу «юнкерс» от «хайнкеля» отличу.
— Да уж надеюсь. «Юнкерс» ревет как лев, а «хайнкель» зудит комаром.
— Ну тогда «хайнкель» от «дорнье». Я пожарной бригадой командовал у нас в…
Коля поднял руку, чтоб я замолчал. Остановился. Я тоже.
— Слышишь?
Я прислушался. Кроме зимнего ветра — ничего: он, казалось, дул со всех сторон сразу, набирал силу над Финским заливом и стонал во всех переулках. Я решил, что Коля услышал вой подлетающего снаряда, и посмотрел в небо, словно можно было разглядеть несшуюся к нам смерть, словно я бы успел увернуться. Вдруг ветер стих — всхлипы его успокоились, как истерика у ребенка. Снаряды рвались к югу, судя по гулу — в нескольких километрах от нас, но все равно так близко, что мостовая сотрясалась под ногами. Однако слушал Коля не ветер и не грохот разрывов. В старом доме кто-то играл на пианино. Света в окнах не было, не горели ни лампы, ни свечи. Жильцы, должно быть, спустились в убежище — если не ослабли от голода, если им было уже не все равно, — и в доме остался только этот неведомый пианист. Играл во тьме, бесстыдно и точно, словно выставляя напоказ свои громоподобные форте фортиссимо, которые сменялись хрупкими пианиссимо. Он будто спорил сам с собой, свирепый муж и робкая жена в одном лице.
Все мое детство прошло под музыку — и по радио, и в концертных залах. Родители были страстными поклонниками; таланта играть у нас в семье не водилось, но слушать мы умели — и гордились этим. Я на слух различал все двадцать семь этюдов Шопена по нескольким первым тактам; знал всего Малера — от «Lieder eines fahrenden Gesellen»[5] до незаконченной Десятой. Но того, что мы с Колей услышали в тот вечер, я ни разу не слышал — ни раньше, ни потом. Мелодия глушилась стенами и расстоянием, мешал ветер — но в этой музыке чувствовалась мощь. То была музыка войны.
Мы стояли под давно обесточенным уличным фонарем, опутанным паутиной инея. На юге грохотали огромные пушки, луна таилась за муслиновыми облаками — а мы слушали. Слушали все до последней ноты. А когда музыка стихла, что-то вдруг стало не так: слишком хорошо играл, слишком умело — и никаких аплодисментов. Мы постояли еще немного в тишине, глядя в черные окна. И наконец, выждав почтительную паузу, двинулись дальше по проспекту.
— Повезло, что рояль ему на дрова не порубили, — сказал Коля.
— Да кто бы он ни был, такому музыканту нельзя без инструмента. Может, это сам Шостакович. Может, он здесь и живет где-нибудь.
Коля презрительно глянул на меня и сплюнул на панель:
— Шостаковича три месяца назад эвакуировали.
— Неправда. Он во всех газетах на снимках в пожарной каске.
— Ну еще бы — герой. Только он в Куйбышеве, насвистывает себе мелодии, которые у Малера спер.
— Ничего он не пер у Малера.
— Я думал, ты за Малера горой. — Коля искоса глянул на меня, иронично скривив губу. Я уже привык к этой его манере — сейчас скажет колкость. — Разве еврей тебе не ближе поляка?
— Они же не воюют. Малер писал великую музыку. И Шостакович пишет великую музыку…
— Великую? Ха… Он бездарь и вор.
— А ты болван. И ничего не смыслишь в музыке.
— Зато я слышал, как в сентябре Шостакович по радио выступал. И рассказывал, что наш великий патриотический долг — драться с фашизмом. А через три недели он уже в Куйбышеве, кашку кушает.
— Он же не виноват. Они ж не хотели, чтобы он погиб, вот и заставили. Сам подумай, как было бы скверно для боевого…
— Ой, ну еще бы, какая трагедия. — В голосе Коли зазвучали профессорские нотки, которые он приберегал для самого ядовитого сарказма. — Великие не должны умирать. Дайте мне власть — я все бы сделал наоборот. Самых известных — на передовую. Шостакович пулю в голову получил? Зато какая в народе ярость всколыхнется! По всему миру! «Фашисты убили прославленного композитора». И Ахматова по радио выступала, помнишь? Все ленинградки должны быть мужественны, надо учиться стрелять… Ну и где она сейчас? В немцев палит? Да нет, что-то не верится. На Кировском гильзы точит? Куда там, в Ташкенте она, стишки про себя, любимую, кропает, которыми и прославилась.
— У меня мать с сестрой тоже уехали. Что ж они теперь, предатели?
— Твои мать с сестрой по радио не выступали, не рассказывали, какими мужественными нам всем надо быть. Слушай, я не рассчитываю, что все поэты и композиторы будут смельчаками. Я лицемеров не люблю.
Он потер перчаткой нос и посмотрел на юг, где небо освещали всполохи взрывов.
— Ну где уже этот твой чертов дом?
Мы только что свернули на Воинова, и я показал. Но не Дом Кирова, а пустоту. Однако сразу опустить руку мне в голову не пришло. Там, где раньше стоял Киров, высилась только груда битого камня, крутая гора цементных разломанных блоков, осыпи щебня и кладки, торчали гнутые прутья арматуры да под луной посверкивало битое стекло.
Будь я один, глядел бы на эти руины часами — и не понимал. В Доме Кирова прошла вся моя жизнь. В нем были Вера, Олежа и Гришка. Любовь Николаевна, старая дева с четвертого этажа, — она гадала по руке и штопала всем платья. Однажды летним вечером увидела, что я на лестнице читаю Герберта Уэллса и на следующий день подарила мне целую коробку книг: Стивенсон, Киплинг, Диккенс. Дворник Антон Данилович — он жил в подвале и орал на нас, когда мы во дворе кидались камнями или плевали с крыши, лепили неприличных снеговиков и снеговиц — морковки вместо писек, стерки вместо сосков. Заводилов… говорили, что он бандит, на левой руке у него не хватало двух пальцев, и он вечно свистел проходившим девушкам, пускай и дурнушкам. Дурнушкам он свистел даже громче, чтоб не унывали, наверно… У Заводилова пьянки-гулянки длились до зари, всегда играли самые новые джазовые пластинки — Варламов с его «Семеркой», Эдди Рознер… В коридор с хохотом вываливались танцующие мужчины и женщины в расстегнутых блузках, старики на него злились, а все детишки хотели, когда вырастут, стать такими, как Заводилов…
Мерзкий старый дом — в нем всегда воняло хлоркой, но это был мой дом, и я даже помыслить не мог, что когда-нибудь его не станет. Я побрел среди обломков, нагибаясь и отбрасывая куски цемента. Коля схватил меня за руку:
— Лев… Пойдем. Я еще место знаю, где можно переночевать.
Я вывернулся из его хватки. Я разгребал мусор руками. Коля опять схватил меня — и уже не отпускал.
— Здесь никого в живых не осталось.
— Откуда ты знаешь?
— Вон смотри, — тихо ответил он и показал на колышки с красными лоскутами, тут и там торчавшие из щебня. — Здесь уже раскапывали. Наверное, бомба упала еще вчера ночью.
— Я тут был вчера ночью.
— Вчера ночью ты был в «Крестах». Пошли. Пойдем со мной.
— Но люди же выживают. Я читал. Иногда по многу дней в завалах.
Коля еще раз оглядел руины. Ветер нес смерчики цементной пыли.
— Если кто и жив, голыми руками их не выкопать. А если будешь рыть всю ночь, до утра не доживешь. Давай. У меня друзья тут рядом. Нам надо переночевать.
Я покачал головой. Ну как мог я бросить свой дом?
— Лев… Ты сейчас главное — не думай. Ты просто за мной иди. Понял меня? Иди со мной.
Он за рукав стащил меня с горы битого камня, а я вдруг так ослаб, что даже не сопротивлялся. Усталость одолела во мне и скорбь, и злость, и отчаяние. Мне хотелось согреться. Хотелось есть. Мы брели от развалин Дома Кирова, и я не слышал своих шагов. От меня остался только призрак. Во всем этом городе больше никто не знал моей фамилии. Но себя мне жалко не было — на меня навалилось тупое любопытство: почему это я еще не умер? Вот пар изо рта идет, а рядом со мной шагает этот казацкий сын, то и дело поглядывает на меня, чтоб я не отставал, да смотрит в небо, не летят ли бомбовозы.
7
— Заходите, — сказала она. — Заходите же, вы совсем замерзли.
Сразу было видно, до блокады Колина подруга была очень красивой. Ее светлые волосы, теперь немытые, спускались на спину, губы еще не утратили полноты, а на левой щеке была ямочка полумесяцем — проступала, когда девушка улыбалась. На правой щеке ямочки не было, что странно. И я поймал себя на том, что дожидаюсь этих ее улыбок, только чтобы еще раз посмотреть на ямочку.
Коля расцеловал девушку в обе щеки, когда она открыла дверь, и девушка залилась румянцем. На секунду показалось, что она здорова.
— Говорили, ты умер!
— Пока нет, — ответил Коля. — Это мой друг Лев. Ни отчества, ни фамилии не сказал, но, может, тебе скажет. У меня такое чувство, что ты как раз в его вкусе. Лев — Софья Ивановна. Одна из моих первых побед и по-прежнему дорогой друг.
— Ха! Ненадолго же ты меня покорил, а? Как Наполеон Москву.
Коля усмехнулся мне. Он по-прежнему обнимал Софью Ивановну за талию и от себя не отпускал. На ней были мужская шинель и три-четыре свитера, но и под одеждой заметно было, как она исхудала.
— Классическое соблазнение. Познакомились на истории искусства. Я ей все объяснил про извращения мастеров живописи — от мальчиков Микеланджело до ног Малевича… А ты не знал? По утрам он делал наброски с ног своей домработницы, а по вечерам на них дрочил.
— Какое вранье. Эту историю больше никто во всем мире не знает, — сообщила мне девушка.
— Так она узнала про похотливых художников, ее растормошило, потом пара стопок водки — и с концом. Пришел, увидел, победил.
Софья Ивановна подалась ко мне поближе, коснулась рукава моей шинели и доверительным театральным шепотом произнесла:
— Ну, пришел-то он точно с концом. Этого у него не отнимешь.
Я не привык к тому, что женщины говорят о плотской любви. Знакомые мальчишки насчет нее не затыкались, хотя среди них, похоже, настоящих знатоков не было. А вот девчонки говорили только где-то между собой. «Интересно, — подумал я, — Гришка Веру уже завалил?» И тут вспомнил, что и Гришка, и Вера погибли и похоронены под надгробиями из битого цемента. Соня заметила, должно быть, каким жалким стало у меня лицо, и решила, что меня смутил их откровенный треп. Тепло улыбнулась мне — опять этот полумесяц ямочки.
— Не волнуйся, милый. Мы не такая уж и богема, как нам самим кажется. — Она повернулась к Коле: — А он приятный. Где ты его нашел?
— Он жил в Кирове. На Воинова.
— В Кирове? Это который вчера разбомбили? Ох, миленький…
Она обняла меня. Как будто обхватило руками огородное пугало — тела под одеждой не чувствовалось вообще, одни слои дымчатой шерсти. Но все равно мне стало хорошо — женская забота. Пускай из вежливости, все равно хорошо.
— Пойдем, — сказала она, беря меня за руку — варежкой за варежку. — Теперь твой дом здесь. Надо переночевать или пожить — живи. Завтра поможешь мне воды с Невы принести.
— Завтра у нас работа, — сказал Коля, но Соня не обратила внимания и ввела нас в гостиную. Вокруг буржуйки, в которой горели дрова, полукругом сидели шестеро. По виду — студенты. У парней — причудливые бачки и усы, у девушек — короткие волосы и цыганские серьги. На всех было по нескольку толстых одеял, все прихлебывали жидкий чай из кружек и глядели на нас, новоприбывших, без единого слова привета. Я понимал, чем они недовольны. Чужаки теперь в лучшем случае раздражали, в худшем — были опасны. Если и не хотели ничего дурного, есть они хотели всегда.
Соня всех познакомила — назвала сидевших по именам, — но никто не заговорил, пока Коля в знак дружбы не развернул свою «библиотечную карамельку» и не передал ее по кругу. Удовольствия ноль, но хоть какая-то еда, хоть что-то разгоняет кровь. Вскоре завязался разговор.
Сонины друзья оказались хирургами и медсестрами, а никакими не студентами. Они только вернулись с суточной смены — ампутировали руки и ноги, выколупывали пули из раздробленных костей, пытались залатать изувеченных бойцов. Без наркоза, без крови для переливания, без электричества. Им не хватало даже кипятка стерилизовать скальпели как положено.
— Лев жил в Кирове, — объяснила Соня, сочувственно показав на меня. — Тот дом на Воинова, в который вчера попало.
Кто-то пробормотал соболезнования, кто-то просто покивал.
— А ты там был, когда бомба прилетела?
Я покачал головой. Посмотрел на Колю — он что-то царапал огрызком карандаша у себя в дневнике, на нас внимания не обращал. Я перевел взгляд на врачей с медсестрами — те ждали ответа. Чужие люди. Зачем вываливать на них правду?
— Я у друзей был.
— Нескольким удалось выбраться, — сказал хирург, которого звали Тимофей. Похож на художника, в очках без оправы. — В госпитале рассказывали.
— Правда? Много спаслось?
— Не знаю. Я не прислушивался. Извини, просто… жилые дома каждую ночь бомбят.
Известие о выживших меня приободрило. Убежище в подвале было вроде крепкое — если жильцы успели, могли и выжить. Домашние Веры и близнецов хватали детей в охапку и всегда стремглав неслись в подвал, едва звучала сирена. А вот бандит Заводилов — напротив. Его я вообще в убежище не помню. Тревогу он обычно просыпал — так же он спал по утрам: на лбу холодная тряпка, рядом голая девушка. По крайней мере, так мне рисовалось. Нет, он бы в убежище не успел, хотя, с другой стороны, дома он часто и не ночевал. Занимался где-то своими таинственными делишками или пьянствовал с другими бандитами.
Соня налила нам с Колей по стакану «блокадного чая». Я снял варежки — впервые после завтрака у капитана. Горячий стакан у меня в ладонях был как живой — будто зверушка, у которой бьется сердце, есть душа. Пар окутывал мне лицо, я наслаждался им и не сразу сообразил, что Соня что-то у меня спросила.
— Что, простите?
— Я спрашиваю — у тебя родные там остались?
— А… нет — они еще в сентябре уехали.
— Это хорошо. Мои тоже. Младшие братья у меня в Москве.
— А сейчас и туда немец подошел к самым воротам, — сказал Павел. У него было личико хорька; он не сводил глаз с буржуйки, а больше никуда не смотрел. — И нас возьмут через неделю-другую.
— Да пускай берут, — отозвался Тимофей. — Мы им покажем Ростопчина — все сожжем, а сами уйдем. Где им тут жить будет? Что есть? Зима о них позаботится.
— «Ростопчина покажем»… фу. — Соня скривилась, будто чем-то гадко запахло. — Нашел героя, тоже мне.
— А он и есть герой. Историю-то не по Толстому учить надо.
— Да-да, граф Ростопчин, друг народа…
— Политику сюда не путай, а? Мы о военном деле говорим, а не о классовой борьбе.
— Не путай политику? А чего ее путать? Война тебе что — не политика?
Спор прервал Коля — заговорил, глядя себе в стакан, который держал обеими руками:
— Немцы Москву не возьмут.
— Кто сказал? — осведомился Павел.
— Я. В начале декабря фрицы были в тридцати километрах от города. А теперь — в ста. Вермахт раньше не отступал. Они не умеют. Они учились только наступать — так у них в учебниках написано. Атаковать, атаковать, только атаковать. А сейчас катятся назад и не остановятся, пока не опрокинутся на спину в Берлине.
Все долго молчали. Девушки смотрели на Колю, глаза на их изможденных лицах блестели. Все они были в него немного влюблены.
— Можно вопрос, товарищ? — Павел сделал ироническое ударение на слове «товарищ». — Если вы в армии такой важный человек и в курсе всех стратегических планов — почему ж вы тогда тут с нами сидите?
— Свои приказы я обсуждать не могу, — ровно ответил Коля. Его не смутило оскорбление.
Он отхлебнул кипяток, подержал во рту. Соня не сводила с него глаз, и он ей улыбнулся. Больше никто не сказал ни слова. Даже не шевельнулся, но что-то вокруг изменилось. Коля и Соня словно бы вышли на сцену, в лучи прожекторов, а мы все превратились в безмолвных зрителей. Оголится ли кто-нибудь перед нами? Прелюдия уже началась, хотя они сидели поодаль друг от друга, а сверху на них было по многу слоев теплой одежды. Я пожелал себе, чтобы когда-нибудь девушка так посмотрела и на меня, хоть и понимал, что случится это вряд ли. Узкоплечий, вообще весь тщедушный, взгляд осторожный и боязливый, как у грызуна, — никаких плотских чувств такие не вызывают. Хуже всего у меня был нос — этот ненавистный клюв, этот шнобель, мишень тысяч оскорблений. Быть евреем в России и без того скверно. Но если у тебя нос, как на антисемитской карикатуре, поневоле станешь себя презирать. Нет, я по большей части гордился тем, что я еврей, — я просто не хотел выглядеть евреем. Выглядеть мне хотелось арийцем — светловолосым, голубоглазым, широкоплечим и с волевым подбородком. Короче, мне хотелось походить на Колю.
А тот подмигнул Соне и допил чай. Вздохнул, глядя в пустой стакан:
— А знаете, я ведь девять дней не срал.
Ночевали мы все в гостиной — все, кроме Коли и Сони. Они встали, будто по незримому сигналу, и скрылись в спальне. Остальные расположились на полу, в одеялах. Сбились поплотнее друг к дружке для тепла, поэтому когда где-то среди ночи погас огонь в буржуйке, я не очень замерз. Мешал спать мне не холод, а приглушенные Сонины вскрики из другой комнаты. В них слышалось невозможное счастье, словно Коля уничтожал в ней все горе последнего полугода, отметал весь голод, холод, все бомбы и всех немцев. Соня — милая и добрая, но слушать, как ей хорошо, было выше моих сил. Мне самому хотелось бы унести симпатичную девушку подальше от блокады. А я вместо этого лежал на полу в чужой квартире рядом с незнакомым парнем, который подергивался во сне, и от него воняло вареной капустой.
Не думаю, что длилось у них долго — у кого найдется столько сил? Только мне казалось, что Сонины вскрики не стихали полночи. Коля разговаривал с ней — тихо, через тонкую стену не слышно, голос звучал размеренно, словно Коля читал ей передовицу. Что же он ей рассказывает, интересно? О чем вообще разговаривать с девушкой, когда с ней спишь? Мне это было очень важно. Может, он ей цитирует того автора, про которого мне столько пел. Может, рассказывает, как мы дрались с людоедом и его женой… Хотя это вряд ли. Я лежал в темноте и слушал их, а ветер тряс окна в рамах, да в буржуйке потрескивали последние угольки. Слушать, как люди любят друг друга, — нет ничего хуже на свете.
8
Наутро мы стояли возле дома в двух кварталах от Нарвской заставы и глядели на плакат, в гигантское лицо Иосифа Виссарионовича Сталина.
— Наверное, здесь, — сказал Коля, притопывая ногами, чтобы не замерзнуть окончательно. Сегодня было холоднее, чем вчера, хотя, казалось бы, куда уж холоднее. На бескрайнем бледно-голубом небе торчала лишь одна рыбья кость облачка. Мы подошли к парадному. Дверь, само собой, оказалась заперта. Коля постучал кулаком, но никто не открыл. Мы стояли как идиоты, хлопая руками, чтобы не замерзнуть, до носов закутавшись в шарфы.
— И что теперь?
— Кто-нибудь рано или поздно зайдет или выйдет. Да что с тобой такое сегодня? Ты чем-то недоволен.
— Со мной все хорошо, — ответил я, но даже сам услышал недовольство в собственном голосе. — Час мы сюда перлись, еще час простоим под дверью, а никакого старика с курятником не будет.
— Нет-нет, тебя что-то еще мучает. Про Киров думаешь?
— Ну конечно, я думаю про Киров, — рявкнул я, разозлившись, что он спросил, потому что я вовсе не думал ни про какой Киров.
— У нас в конце лета был старшина по фамилии Беляк. Вояка до мозга костей, мундир всю жизнь носил, с белыми воевал и все такое. И вот как-то вечером видит — парнишка один, Левин его звали, сидит, письмо из дому читает, а сам плачет. Дело было в окопах под Териоками — еще до того, как их финны опять заняли. Левин даже сказать ничего не мог, только сидел и ревел. Кого-то у него там немцы убили. Не помню кого — мать, отца, может, всю семью… не знаю. В общем, Беляк взял у Левина это письмо, очень аккуратно сложил и сунул ему в карман гимнастерки. А сам говорит: «Ладно, поревел — и хватит. Но чтоб я от тебя больше ни мява не слышал, пока Гитлер на суку не повиснет».
Коля уставился вдаль, задумавшись над словами старшины. Ему, видимо, казалось, что в них есть мудрость, а по мне — так одна искусственность. Таких доводов мой отец терпеть не мог — журналисты-партийцы сочиняли их для статеек «Герои Гражданской» в «Пионерской правде».
— И он перестал?
— Тогда — перестал. Только пару раз носом хлюпнул. А ночью опять за свое. Только дело не в этом.
— А в чем?
— Не время слезы лить. Нас хотят уничтожить фашисты. Тут слезами не поможешь — драться надо.
— А кто льет? Никто не льет.
Но Коля меня не слушал. У него что-то застряло в зубах, и он пытался выковырять ногтем.
— А через несколько дней Беляк наступил на мину. Противопехотные — они мерзкие. От человека такое остается…
Он умолк, не договорив, словно бы увидел перед собой останки своего командира, а мне стало стыдно от того, что я плохо подумал про старшину. Может, изъяснялся он казенно, однако хотел ведь помочь бойцу, отвлечь от трагедии дома, а это важнее того, какие слова подбираешь.
Коля опять постучал в дверь. Немного подождал, вздохнул, поглядел на одинокое облачко в небе:
— Хорошо бы годик-другой пожить в Аргентине. Я океана не видел. А ты?
— Не-а…
— Ты что-то хмур, о мой семит. В чем дело-то?
— Пошел ты к свиньям сношаться.
— Ага! Вот оно что! — Он чуть подтолкнул меня и отскочил, подняв руки к груди, как боксер перед спаррингом.
Я сел на ступеньку парадного. От малейшего движения у меня перед глазами танцевали искры. Проснувшись у Сони, мы только выпили чаю — еды не было, а остаток «библиотечной карамельки» я берег на потом. Я посмотрел на Колю — в глазах его читалось участие.
— О чем ты говорил вчера? — спросил я. — Когда… ну, в общем, когда ты с нею был?
Коля прищурился — вопрос его озадачил.
— С кем? С Соней? А что я говорил?
— Ты с ней все время разговаривал.
— Когда мы… любовь крутили?
Вышло неловко. Я кивнул. Коля нахмурился:
— А я разве что-то говорил?
— У тебя рот не закрывался!
— Да все как обычно, по-моему. — И вдруг его лицо осветилось улыбкой. Он подсел ко мне. — Ах, ну конечно же — ты никогда не бывал в этой стране и, вероятно, не знаешь обычаев. Хочешь понять, о чем нужно говорить.
— Я просто спросил.
— Да, но тебе же любопытно. А почему тебе любопытно? А потому, что ты волнуешься. Тебе хочется все сделать правильно, когда выпадет случай. Очень разумно. Нет, я серьезно! Ну хватит хмуриться. Разве так принимают комплименты? Ладно, слушай. Женщинам молчаливые любовники не нравятся. Они тебе отдают самое драгоценное, им приятно знать, что ты это ценишь. Кивни, если слушаешь.
— Слушаю.
— У каждой женщины есть любовник-мечта — и есть любовник-кошмар. Кошмар просто лежит на ней, навалившись всем пузом, сует в нее своим аппаратом — туда-сюда, пока не закончит. Зажмурился, ни слова не говорит; по сути, просто дрочит ей в вагину. А вот любовник-мечта…
Но тут мы услышали шорох полозьев по смерзшемуся снегу, повернулись и увидели двух девушек — они волокли за собой санки с ведрами речного льда. Направлялись они прямо к нам, и я встал, отряхнув шинель. Хорошо, что они прервали эту лекцию. Коля тоже поднялся:
— Дамы! Вам помочь?
Девушки переглянулись. Обе моих лет — сестры или родственницы, одинаковые широкие лица, пушок на верхней губе. Питерские, сразу видно, — чужим не доверяют, однако тащить вверх по лестнице четыре ведра льда…
— А вы к кому? — спросила одна с чопорной прямотой библиотекаря.
— Нам бы хотелось поговорить с одним господином о его курах, — ответил Коля, отчего-то предпочтя сказать правду. Я рассчитывал, что девушки в ответ засмеются, но они не засмеялись.
— Он вас пристрелит, если поднимитесь, — сказала вторая. — Он к этим курам никого и близко не подпускает.
Мы с Колей посмотрели друг на друга. Он облизнул губы и опять повернулся к девушкам. Улыбался он при этом весьма и весьма соблазнительно.
— Так давайте мы вам ведра донесем. А со стариком и сами разберемся.
К пятому этажу, весь вспотев под слоями одежды, едва держась на дрожащих от напряжения ногах, я начал жалеть, что мы на это пошли. В дом наверняка можно было проникнуть и как-нибудь попроще. На каждой площадке мы подолгу отдыхали. Я переводил дух, сжимал и разжимал кулаки и, сняв варежки, рассматривал глубокие рубцы на ладонях, оставшиеся от ведерных дужек. Коля выпытывал у девушек, что они читают и помнят ли наизусть начало «Евгения Онегина». Мне они показались вялыми, чуть ли не жвачными. В глазах — никакого озорства, в речи — никакой живинки. А Коле все было трын-трава. Он с ними болтал так, словно существ восхитительней не носила земля, — то одной заглядывал в глаза, то другой. И ни на миг не умолкал. К пятому этажу стало ясно, что обе девушки им увлеклись, и у меня возникло ощущение, что между ними даже зародилось некоторое соперничество.
Во мне опять всколыхнулась зависть — со мной обошлись несправедливо, — смешанная со злостью и презрением к себе: ну почему он им всем нравится? Трепач залетный! И почему я так на него злюсь? Мне ж эти девчонки до лампочки. Ни та, ни другая ни капельки не нравится. Ведь этот человек вчера спас мне жизнь, а сегодня я костерю его за то, что девчонки при нем начинают суетиться, к лицам у них приливает кровь, они пялятся в пол и крутят пуговицы у себя на пальто?
Только вот Соня мне понравилась. Соня — ямочка полумесяцем — пригласила меня к себе, жить пригласила, если понадобится. Хотя еще неделя без еды — и она умрет… Кожа на лице прозрачная, череп просвечивает. Может, мне она так понравилась потому, что мы с нею встретились всего через полчаса после того, как я увидел могильные руины Кирова. Может, потому, что, когда я смотрел на нее, я вообще перестал думать про соседей, заваленных бетонными блоками.
Все это промелькнуло у меня в голове, но не задержалось, не зацепилось никакими колючками, и я опять вспомнил капитанскую дочь, и самого капитана, и верзилу, что гнался за нами по лестнице с железной трубой, и тетку на Сенном, что продавала стаканами «бадаевскую землю». О Доме Кирова если и думал, то лишь о самом доме, о площадке, на которой играл в детстве, о длинных коридорах, по которым так здорово было бегать взапуски, о лестничных колодцах, где окна в толстых переплетах заросли такими слоями пыли, что хоть автопортрет пальцем рисуй, о дворе, куда с первым снегом обычно высыпала вся соседская ребятня биться на снежках — этажи с первого по третий против этажей с четвертого по шестой.
Мои друзья и соседи — Вера, Олежа, Гришка, Любовь Николаевна, Заводилов — уже казались нереальными, будто смерть стерла сами их жизни. Может, я всегда догадывался, что настанет день — и они исчезнут, а потому не подпускал их близко, смеялся, когда шутили, слушал, когда они делились планами, однако по-настоящему не верил, что они есть. Защищаться я выучился хорошо. Когда арестовали отца, я был совсем бестолочью. Я не понимал, как это человек — такой волевой, такой яркий — может вдруг перестать быть. По щелчку пальцев неведомого чинодрала, словно отец мой — клуб махорочного дыма, который выдувает заскучавший часовой на вышке где-нибудь в Сибири. Стоит себе и думает, не изменяет ли ему девчонка дома, оглядывает продутые ветрами леса и не сознает, что эта огромная синяя пасть небес над головой только и ждет, чтобы проглотить этот вьющийся дымок, а с ним вместе — и самого часового, и все, что на земле растет.
Коля уже прощался с девушками — опустил ведра на пол, зайдя в прихожую, и жестом велел мне сделать то же самое.
— Вы там осторожнее, — сказала та девушка, что, похоже, была посмелее. — Ему восемьдесят лет, но глаз меткий — не промахнется.
— Я на фронте фрицев бил, — подмигнув и улыбнувшись, заверил ее Коля. — Со вздорным стариком-то уж справлюсь.
— Если проголодаетесь на обратном пути — мы суп варим, — сказала вторая девушка. Бойкая быстро глянула на нее, и я вяло подумал: чего она злится? Что ее товарка парня приманивает или что разбазаривает еду?
Мы с Колей поднялись на последний пролет к двери на крышу.
— План такой, — сказал он. — Говорю я. Со стариками я хорошо лажу.
Я толкнул дверь, и на нас обрушился ветер — он хлестал нам по лицам льдом и пылью, городской сажей. Мы вжали головы и двинулись наперекор ему, как два бедуина в самум. Перед нами был мираж — только мираж это и мог быть: сараюшка, сбитая из досок и толя, щели заткнуты паклей и старыми газетами. Я до кончиков ногтей городской мальчишка — в деревне никогда не был, коров живых не видал, — но я сразу понял, что это курятник. Коля посмотрел на меня. У нас от ветра слезились глаза, но мы щерились друг другу, как полоумные.
С одной стороны у сарайчика была кривая дверь с откинутым крючком снаружи. Коля тихонько постучал. Никто не ответил.
— Эй? Не стреляйте! Ха-ха… Э-э… мы просто хотели в гости зайти. Эй? Ладно, я открою дверь, если думаете стрелять, предупредите сразу.
Коля шагнул вбок и показал мне, чтобы я тоже отошел в сторону. Носком сапога он пнул дверь. Мы ждали крика, выстрела — но ничего не прозвучало. Выждав, мы заглянули в курятник. Внутри было темно, с крюка на стене свисала тусклая коптилка. На полу — гнилая солома, вонявшая пометом. Вдоль стены выстроились пустые сетчатые ящики, как раз на курицу. В дальний угол курятника забился мальчишка — сидел под самой стенкой, подобрав колени к груди. На нем была дамская кроличья шубка. Нелепо, зато тепло.
А на соломе, привалившись спиной к ящикам, застыл покойник — руки-ноги вразлет, точно выброшенная кукла. Длинная седая борода — как у анархистов XIX века, — кожа цвета топленого воска. На коленях остался лежать древний дробовик. Судя по виду, старик умер много дней назад.
Мы с Колей долго рассматривали мрачную картину. Наткнулись на чужое горе. Нам было неловко. Ну по крайней мере — мне. Коле же такой стыд был, очевидно, неведом. Он вошел в курятник, присел перед мальчишкой, потрогал его за колено:
— Ну что, боец? Пить хочешь?
Мальчишка на него даже не глянул. Синие глаза на худющем лице казались огромными. Я отломил уголок «библиотечной карамельки», тоже вошел в курятник и протянул мальчику. Глаза медленно обратились на меня. Казалось, он заметил и меня, и еду у меня на ладони, но потом все равно отвернулся. Он уже был не в себе от голода.
— Это твой дедушка? — спросил Коля. — Его на улицу надо вынести. Нехорошо тут тебе с ним одному сидеть.
Губы мальчишки шевельнулись, но даже это далось ему с трудом. Они запеклись, будто их склеили.
— Он от птиц уходить не хочет.
Коля глянул на пустые клетки:
— Мне кажется, уже можно. Пойдем, внизу есть приятные девушки, они тебя супом накормят, воды дадут.
— Я не хочу есть, — ответил мальчишка, и я понял, что дни его сочтены.
— Все равно пошли, — сказал я. — А то холодно. Мы тебе теплого дадим, воды.
— Мне за птицами надо смотреть.
— Нету здесь уже никаких птиц, — сказал Коля.
— Еще есть.
Я сомневался, что мальчишка протянет до завтра, но не хотелось, чтобы он умер здесь, в одиночестве, по соседству с бородатым трупом и пустыми клетками. Мертвые в Питере были повсюду: их складывали огромными кучами за городским моргом, сжигали на кирпичном заводе, сваливали в траншеи у Пискаревского кладбища, разбрасывали по льду Невы — будет чем поживиться чайкам, если они еще остались, эти чайки. Но здесь умирать — как-то совсем уж одиноко.
— Смотри, — сказал Коля и потряс одну клетку. — Никого нет дома. Ты хорошо сторожил, ты птичек защищал, а теперь они улетели. Пойдем с нами.
Он протянул руку в перчатке, но мальчишка не двинулся с места:
— Дед Руслан бы тебя застрелил.
— Дед Руслан? — Коля глянул на труп старика. — Злой он был дед, а? Сразу видно. Хорошо, что ты мирный.
— Он говорил, у нас в доме все на птичек наших зарятся.
— И правильно говорил.
— Говорил, придут сюда и глотки нам перережут. Им только волю дай, говорил. Курей украдут, суп из них сварят. Поэтому кто-то все время должен быть на часах, ружье из рук не выпускать.
Мальчишка говорил безжизненно, на нас не глядел, невидящие глаза его подернулись пеленой. Видно было, как он дрожал. А когда говорил, у него клацали зубы. По щекам и шее у него расплылись пятна светло-бурого пуха — словно само тело отчаянно пыталось спастись от холода.
— Говорил, на них мы всю блокаду продержимся. Пара яиц в день да карточки — нам хватит. А мы их согреть не могли.
— Да хватит уже про этих клятых кур. Пошли, давай мне руку.
Мальчишка по-прежнему не обращал внимания на Колю, и тот в конце концов поманил меня, чтобы я помог. Но я кое-что заметил — движение там, где никакого движения не полагалось: под шубкой у мальчишки что-то шевельнулось, словно его гигантское сердце забилось так громко, что стало видно.
— Что у тебя? — спросил я.
Мальчишка погладил себя по шубке спереди, словно успокаивая то, что было под ней. Впервые он посмотрел мне в глаза. Хоть он и был слаб, хоть до финиша ему оставались считаные миллиметры, я видел в нем крепость — упрямство, доставшееся по наследству от старика.
— Дед Руслан бы тебя застрелил.
— Да, да, ты уже сказал. Ты одну курицу спас, что ли? Это последняя. — Коля посмотрел на меня. — Сколько яиц курица в день откладывает?
— А я знаю?
— Слушай, малец, я тебе за эту курицу триста рулей дам.
— Нам тыщу предлагали. Дед всегда отказывался. Куры нам всю зиму продержаться помогут — так говорил. А с рублями что делать?
— Еды себе купишь. Курица помрет, как все остальные, если ее тут держать.
Мальчишка покачал головой. Разговоры его утомили, глаза уже закрывались.
— Ладно, а если так? Дай-ка мне. — Коля выхватил у меня из руки «библиотечную карамельку», добавил к ней последний ломтик своей колбасы и триста рублей. Все это положил мальчишке на колени. — У нас больше ничего нет. Теперь послушай меня. Если не будешь шевелиться, ты сегодня здесь умрешь. Тебе нужно поесть и слезть с этой крыши. Мы отведем тебя к девушкам на пятом этаже…
— Они мне не нравятся.
— Тебе ж не жениться на них. Мы им отдадим эти деньги, а они тебя накормят супом. Поживешь у них несколько дней — силы вернутся.
А сил у мальчишки хватило лишь слабо качнуть головой, но смысл был ясен. Он никуда не пойдет.
— Ты здесь птичку защищать останешься? А чем ты ее кормить будешь?
— Я с дедом Русланом буду.
— Пусть уж мертвые тут сами разбираются, а ты пойдешь с нами.
Мальчишка принялся расстегивать шубку. Бурую птицу он прижимал к груди, как новорожденного. Такого убогого зрелища я не видел давно — курица была грязная, оцепенелая. Здоровый воробей в уличной драке заклевал бы ее как пить дать.
Он протянул птицу Коле, а тот воззрился на нас обоих, не очень понимая, что сказать, что сделать.
— Бери, — произнес мальчишка.
Коля еще раз глянул на меня, потом — на него. Не помню, чтобы раньше он так терялся.
— Не живут они у меня, — сказал мальчишка. — В октябре у нас было шестнадцать. А сейчас только эта осталась.
Нам эта курица нужна была как воздух — но мальчишка отдавал ее за так, здесь что-то не то.
— Забирай, — повторил он. — Я от них устал.
Коля принял птицу из его рук, но не разглядывал, вообще к лицу подносить не стал — опасался, что глаза ему выцарапает. Однако никакого буйства в курице уже не было. Она сидела у Коли на руках вяло, дрожа от холода и тупо глядя в никуда.
— Держи в тепле, — сказал мальчишка.
Коля расстегнул шинель и сунул птицу за пазуху — в слоях теплой одежды еще оставалось место дышать.
— Теперь уходите, — сказал мальчишка.
— Пойдем с нами. — Я сделал последнюю попытку, хоть и знал, что все бесполезно. — Тебе сейчас не надо одному.
— Я не один. Идите.
Я посмотрел на Колю, и он кивнул. Мы двинулись к покосившейся двери. Выходя, я обернулся и бросил последний взгляд на мальчишку. Он сидел безмолвно, закутавшись в свою дамскую шубку.
— Тебя как зовут?
— Вадик.
— Спасибо, Вадик.
Мальчишка кивнул — глаза слишком синие, слишком огромные на этом бледном отощалом лице. Мы оставили его в курятнике с мертвым стариком и пустыми клетками. В коптилке догорал фитилек. На коленях, укрытых кроличьим мехом, лежали триста рублей и еда, которой уже не наешься.
9
На Васильевском острове разбомбили детский сад, и Соня собрала корзину щепок от расколотых балок. Буржуйка жарко горела, а мы сидели вокруг, пили «блокадный чаек» и смотрели на немощную курицу. В старую жестянку мы нарвали газет и устроили ей гнездо. Курица нахохлилась, прижав голову к груди, и не обращала внимания на толченое просо, которое ей чайной ложечкой рассыпали по передовице. В газете москвичи умоляли нас стоять до победного конца. Драная Москва. В Питере вообще думают, что раз уж случилась блокада, то хорошо, что с нами, мы что угодно переживем, а эти свиньи-чинуши в столице сдадут город первому же обер-лейтенанту, если им еженедельный паек стерляди не принесут. «Хуже французов», — говаривал Олежа, хоть и знал, что длинный язык до добра не доведет.
Коля прозвал курицу Дорогушей, но когда она пялилась на нас, тупо и подозрительно, никакой нежности в глазах у нее не было.
— А ей не надо это… любовью позаниматься перед тем, как класть яйца? — спросил я.
— По-моему, нет, — ответила Соня, отрывая высохшую кожицу с губы. — Мне кажется, петухи яйца оплодотворяют, а несет она их сама. У меня дядя был директором птицеводческого совхоза подо Мгой.
— Так ты в курах понимаешь?
Соня покачала головой:
— Я и во Мге-то ни разу не была.
Все мы — городские дети. Я никогда не доил корову, не сгребал навоз, не ворошил сено. В Доме Кирова мы вечно посмеивались над колхозниками — как скверно они подстрижены, как у них солнцем обожжены шеи. А сейчас над нами смеются и — едят свежатинку, кроликов там или кабанчиков, а мы жрем пайковый хлеб с плесенью.
— Ко вторнику она не снесет двенадцать яиц, — сказал я. — Она и не доживет до вторника.
Коля устроился на железной табуретке, вытянув перед собой длинные ноги, и что-то карябал в дневке. Огрызок карандаша у него стачивался.
— Не стоит заранее махать на нее рукой, — сказал он, оторвавшись от блокнота. — Она ленинградка. Крепче, чем кажется. Немцы тоже думали, что летом банкет в «Астории» устроят.
Фашисты вроде бы напечатали тысячи пригласительных билетов на свой триумфальный банкет, который Гитлер хотел устроить, завоевав, как он выразился в речи перед своими штурмовиками-факелоносцами, «колыбель большевизма, этот город воров и червей». Наши солдаты находили их на трупах офицеров вермахта. Их перепечатывали в газетах, даже, говорят, листовки делали и расклеивали по стенам. В Политбюро не придумали бы лучшей пропаганды. Мы ненавидели фашистов — за глупость, как и за все остальное: если город падет, не оставим же мы немцам гостиниц, где они станут пить свой шнапс у рояля и спать в роскошных номерах. Если пойдем ко дну, город мы заберем с собой.
— Может, стесняется? — высказалась Соня. — Может, не хочет класть яйца, когда на нее смотрят?
— Может, ей попить нужно?
— Это мысль. Дадим ей воды.
Никто не пошевелился. Мы все хотели есть, мы все устали. Мы надеялись, что кто-нибудь другой встанет и принесет чашку. На улице свет в небе гас. Уже слышалось, как гудят, нагреваясь, близкие прожектора, медленно светлели их толстые нити накаливания. Над городом барражировал одинокий «ишак», его пропеллер жужжал неумолчно — успокаивал.
— Вот же говняшка, а?
— А по-моему, симпатичная, — сказала Соня. — На мою бабушку похожа.
— Может, потрясти — вдруг выпадет?
— Ей воды надо.
— Да, принесите ей воды.
Прошел еще час. Наконец Соня зажгла коптилку, включила репродуктор и плеснула немного речной воды из кувшина в блюдце, а его поставила Дорогуше в гнездо. Птица злобно глянула на нее, но пить не стала.
Соня опять села и вздохнула. Минуту спустя силы возвратились к ней, она повернулась к столику с шитьем, взяла прохудившийся носок, вдела нитку иглу и натянула носок пяткой на колодку — разгладить ткань. Я смотрел, как мелькают ее худенькие пальчики. Симпатичная девушка, а руки — как у Костлявой, бледные и бесплотные. Но штопала она умело. Игла посверкивала, ныряя в ткань и выныривая, снова и снова… У меня начали слипаться глаза.
— Вот знаешь, кто настоящая мерзкая сучка? — ни с того ни с сего раздался вдруг Колин голос. — Наташа Ростова.
Имя я смутно откуда-то знал, но припомнить не удалось.
Соня нахмурилась, но от штопки не оторвалась:
— Из «Войны и мира», что ли?
— Терпеть эту тварь не могу. Все в нее влюбляются, ну просто все подряд, а она ни рыба ни мясо.
— Может, в этом и смысл, — сказала Соня.
Я уже полуспал, но улыбнулся. Коля меня, конечно, раздражал, но нельзя не проникнуться симпатией к человеку, который так страстно ненавидит литературную героиню.
Проворными костлявыми пальцами Соня быстро заштопала носок. Коля постукивал себя по ноге и хмурился, размышляя о Наташе Ростовой и всеобщей несправедливости. А Дорогуша по-прежнему дрожала, хотя в комнате было тепло. Теперь курица пыталась засунуть клюв себе в тело, словно ей снилось, что она черепаха.
По радио выступал драматург Герасимов:
— Смерть трусам! Смерть паникерам! Смерть распространителям слухов! Под трибунал. Дисциплина. Мужество. Твердость. И помните, товарищи: Ленинград не боится смерти. Это смерть боится Ленинграда.
Я фыркнул, и Коля посмотрел на меня:
— Что такое? Не любишь старика Герасимова?
— За что его любить?
— Ну он же патриот. С нами, в Питере, а не где-то с Ахматовой и ей подобными.
— А я за Льва, — сказала Соня, подбросив щепок в буржуйку. Светлые волосы у нее порозовели от света углей, а ушки на секунду стали малиновыми и прозрачными. — Герасимов — рупор партии, вот и все.
— Хуже, — сказал я и сам удивился: голос у меня зазвенел от злости. — Он называет себя писателем, но писателей ненавидит. Он же читает их лишь для того, чтобы посмотреть, чего опасного они написали, как оскорбили партию. И если он решит, что это крамола, всё — выступает на бюро Союза писателей, громит их в печати, на радио. В одном комитете кто-то как-то даже сказал: «Ну, Герасимов говорит, что это человек опасный, а Герасимов — наш, значит, он и впрямь опас…»
Я умолк на полуслове. Мне показалось, мой наряженный голос зазвенел на всю квартиру: я быстро смутился от того, что выболтал слишком много и слишком не вовремя. Соня и Коля смотрели на меня: она — встревоженно, а он — вроде бы даже с почтением, как будто прежде считал меня глухонемым, а сейчас вдруг понял, что я умею произносить слова.
— Твой отец — Абрам Бенёв.
Я ничего не ответил, но Коля и не спрашивал. Он сам себе кивнул, словно ему вдруг все стало ясно.
— Мог бы и раньше сообразить. Не понимаю, зачем тебе это скрывать. Он был поэт — настоящий поэт, таких немного. Ты должен гордиться.
— Ага, расскажи еще мне про гордость, — рявкнул я. — Сперва задаешь дурацкие вопросы, а я не желаю на них отвечать. Это мое дело. Я с чужими о родственниках вообще не разговариваю. Но ты меня будешь учить, чтоб я отцом гордился…
— Ладно, ладно. — Коля поднял руки. — Хорошо, извини. Я не в этом смысле. Я просто к тому, что мы ведь уже не чужие.
— Я одна сижу тут как дура, — сказала Соня. — Лев, прости меня… я даже не слыхала о твоем отце. Он писал стихи?
— Великие стихи, — сказал Коля.
— Второй сорт не брак, как он сам обычно говорил. И не раз. Дескать для его поколения есть Маяковский — и есть все остальные. Так вот, он — как раз посередке этих всех остальных.
— Нет-нет, не слушай его. Он был замечательный писатель. Честно, Лев, я не льщу. «Зашел в кафе поэт, когда-то знаменитый…» Изумительное стихотворение.
Ну да, его печатали во всех сборниках — по крайней мере, тех, что выходили до 37-го. Я перечитывал его сотни раз после того, как отца забрали, но вот так, вживую, голосом… Вслух этих строк давно никто не произносил.
— И он… его… — Соня дернула подбородком — мол, «туда». Значить могло что угодно — сослали в Сибирь, застрелили в затылок, ЦК заткнуло рот. В точности никто не знал — что. «Его убрали?» — вот что спросила она, и я кивнул.
— Я наизусть помню, — сказал Коля, но, спасибо ему большое, читать целиком не стал.
Дверь открылась, вошел Тимофей — тот хирург, которым мы познакомились накануне. Сразу подошел к буржуйке, стал греть над ней руки. Заметил Дорогушу в жестянке, присел над ней, осмотрел, уперев руки в колени:
— Это откуда?
— Ребята с Нарвской заставы принесли. У какого-то мальчишки взяли.
Тимофей выпрямился и усмехнулся. Из кармана пальто достал две луковицы:
— А я в госпитале вот разжился. Делиться не хотел, но у нас, похоже, сегодня чудесный супчик получится.
— Дорогуша не в суп, — сказал Коля. — Нам яйца нужны.
— Яйца? — Тимофей обвел нас всех взглядом, посмотрел на Дорогушу, опять на нас. С таким видом, словно мы пошутили.
— На Дорогушу все рукой махнули, — продолжал Коля, — а по-моему, она справится. Ты про кур что-нибудь знаешь? Сможет она снести дюжину яиц ко вторнику?
— Что ты мелешь?
Казалось, хирург все больше злится. Коля раздраженно посмотрел на него: с чего вдруг такой тон?
— Ты по-русски не понимаешь? Мы ждем яйца.
Мне вдруг почудилось, что сейчас они подерутся. Тогда Красной армии придется худо — хирурги нам нужны, а Коля уложил бы этого задохлика одним ударом. Но Тимофей вдруг расхохотался, качая головой и явно рассчитывая, что мы подхватим.
— Да смейтесь сколько влезет, — сказал я. — А курицу не троньте.
— Это не курица, дубина. Это петух.
Коля замялся: вдруг хирург водит нас за нос, чтобы только сварить из Дорогуши суп? Я придвинулся к гнезду и присмотрелся к птице. Не знаю, с чего я решил, будто что-нибудь в ней разгляжу. Что я, пипиську у нее хотел найти?
— Значит, говоришь, яйца она класть не будет? — переспросил Коля, не сводя глаз с Тимофея.
Хирург ответил медленно, словно разговаривал с умственно отсталыми:
— Во-первых, это он. А во-вторых, да — шансов у него маловато.
10
Той ночью суп был — как в июне, совсем как наши доблокадные обеды. Сонин поклонник, военный летчик, подарил ей не гнилую картофелину. Коля возмутился: не станет он есть подарок от другого ухажера. Но протесты его, как он и рассчитывал, проигнорировали, и суп из Дорогуши получился наваристый: картошка, лук и побольше соли. К счастью для нас, остальные хирурги ночевали где-то в другом месте. На крылышко и чашку бульона Соня выменяла у соседки бутылку хорошей водки. Немцы лениво шмальнули по городу всего несколько снарядов, словно бы напомнить о своем существовании, но, видимо, в тот вечер им было чем заняться. К полуночи мы все напились, набили себе животы, Коля с Соней ушли в спальню, а мы с Тимофеем при свете буржуйки резались в шахматы.
В середине второй игры я сделал ход конем, Тимофей долго смотрел на доску, потом слегка отрыгнул и сказал:
— Ого. Недурно.
— До тебя только дошло? В прошлый раз я поставил тебе мат за шестнадцать ходов.
— А я думал, это от выпивки. Ну мне тогда кранты, наверно?
— Ты пока жив. Но это ненадолго.
Он опрокинул короля и опять рыгнул — довольный тем, что может это сделать, раз у него в животе хоть что-то есть.
— Бессмысленно. Ладно. Курицу от петуха ты не отличаешь, а в шахматах сечешь.
— Я раньше лучше играл. — Я снова поставил короля и сделал ход за Тимофея. Интересно, насколько удастся отсрочить эндшпиль?
— Раньше — лучше? Когда у мамки в животе, что ли, был? Тебе сколько вообще, четырнадцать?
— Семнадцать!
— Бреешься?
— Ну да.
Тимофея, похоже, не убедило.
— Я просто усы сбрил… А зимой растет медленней.
В соседней комнате тихо ахнула Соня, потом засмеялась, и я представил себе, как у нее запрокинута голова, горло открыто, торчат соски на маленьких грудях…
— И где только люди силы берут, — сказал Тимофей, потянувшись и откидываясь на одеяла, постеленные в несколько слоев. — Кормите меня супом каждый вечер — и никакая баба не нужна.
Он закрыл глаза и вскоре заснул. Хорошо им, быстрым таким. А я остался один — слушать любовников за стенкой.
Коля разбудил меня перед зарей, сунул мне в руку чашку кипятка. Сам он разглядывал нашу вчерашнюю шахматную доску. Тимофей спал на спине, раскрыв рот и закинув руки за голову — словно врагу сдавался.
— Кто черными играл?
— Я.
— Ты бы его за шесть ходов разгромил.
— За пять. А если б он ошибся — за три.
Коля нахмурился и сгорбился над доской, пока не вычислил.
— Да. Могёшь.
— Спорить еще не передумал? Что там у тебя? Голые француженки?
Он улыбнулся, протирая заспанные глаза:
— Могу просто подарить. Как услугу. Покажу, где у них что. Ладно, давай обувайся.
— Мы куда?
— Во Мгу.
Может, Коля и дезертир, только голос у него властный по самой природе своей, и ботинки мои зашнуровались сами чуть ли не до конца, не успел я усомниться в директиве. Он уже надел шинель и кожаные перчатки, дважды обернул шею шарфом и проверил зубы в зеркальце над тумбочкой с чайником.
— Так, до Мги пятьдесят километров.
— Прогулка на день. Вчера мы плотно поужинали — доберемся.
До меня медленно доходило все безумие такой пропозиции.
— Это же за линией фронта. Зачем нам вообще туда идти?
— Сегодня суббота, Лев. Яйца нам нужны ко вторнику, а в Питере мы их не найдем. У Сониного дяди был этот совхоз, так? Скорее всего, немцам он не помешает. Они ведь тоже яйца любят.
— У нас такой план? Пройдем полсотни километров, переползем линию фронта, найдем птицеферму, которую, может быть, не сожгли, стырим дюжину яиц и вернемся?
— Таким тоном все нелепо звучит.
— Каким еще тоном? Да я просто спрашиваю! У нас план такой, что ли? Там даже Соня не бывала ни разу! Как мы найдем этот совхоз?
— Так Мга же! В ней разве заблудишься?
— Я вообще не знаю, где она!
— О! — сказал Коля, нахлобучивая шапку. — Это как раз просто. На Московской линии. Пойдем по шпалам.
Тимофей хрюкнул во сне и перевернулся на бок. Я уже знал, что врачи и солдаты способны проспать любой шум, если он не угрожает их жизни. Наша с Колей перебранка, должно быть, только убаюкивала Тимофея. По крайней мере, такое у него было мирное и счастливое лицо. Я смотрел на хирурга и ненавидел его — за то, что быстро заснул на этих одеялах, за то, что ему тепло, удобно, он сыт, никакой донской пустозвон не гонит его ни в какую Мгу, никакой капитан госбезопасности не шлет незнамо куда за яйцами для свадебного торта.
Я повернулся к Коле — глядя в зеркальце, тот ухарски заламывал шапку на голове. Колю я ненавидел еще больше. Бодрый и наглый пижон, свеженький и всем довольный в шесть утра, будто вернулся из отпуска на Черном море. Наверняка от него еще пахнет… ею, хотя, если честно, никаких запахов я в эту рань вообще не чуял: квартира за ночь выстыла. Шнобель мой служил главным образом для показухи и как мишень для насмешек, а запахи различал скверно.
— Ты думаешь, я сбрендил, — сказал Коля. — Но все крестьяне, которые на Сенном торгуют картошкой по двести рублей, добыли ее за городом. Люди каждый день переходят линию фронта. А мы почему не можем?
— Ты пьяный?
— С четверти бутылки? Вряд ли.
— А поближе Мги ничего не найдем?
— Например?
Он уже совсем утеплился перед выходом. На подбородке у него топорщилась светлая четырехдневная щетина. Он стоял и ждал моих предложений, любой альтернативы своему дурацкому плану, но секунды тикали, и я понял, что мне сказать нечего.
Он улыбнулся, словно какой-нибудь краснофлотец с плаката:
— Все это несерьезно, согласен. Но шуточка уж больно хороша.
— Изумительная просто шуточка. А самое смешное — что мы там погибнем, у капитанской дочки не будет торта, а никто даже не догадается, на кой мы поперлись в эту Мгу.
— Успокойся, мой хмурый семит. Я не дам гадким дядям…
— Пошел ты в жопу.
— Но нам пора шевелиться. Если хотим засветло успеть.
Можно было плюнуть на него и завалиться спать дальше. Щепки догорели, буржуйка за ночь остыла, но под горой одеял было бы тепло. Спать разумнее, чем тащиться во Мгу, где нас ждут тысячи немцев. Кур воровать, ага. Да что ни сделай — выйдет разумнее. Но все равно, как ни противна была мне эта мысль, я знал, что сейчас встану и пойду за Колей. Потому что он прав: в Ленинграде никаких яиц мы не найдем. Но не только поэтому. Коля — хвастливое казацкое отродье, любит дразнить евреев, но уверенности ему не занимать, и она так чиста и цельна, что уже не кажется самонадеянностью. Как будто этому человеку на роду написано быть героем, и он не идет поперек судьбы. Свои приключения я себе представлял совсем не так, но жизнь на мои пожелания плевать хотела с самого начала. Тело мне досталось такое, что ему под стать только книжки на полки в библиотеке ставить, а страху в венах у меня столько, что случись драка — могу только на лестнице отсиживаться. Может, со временем руки-ноги у меня окрепнут, мускулы нарастут, а страх куда-нибудь сольется, как грязная вода из ванны. Поверить бы в это… Я не верил. На мне поставило свою печать проклятие всех русских и евреев — пессимизм. Это самые унылые племена на свете. Но если во мне и нет ни грамма величия, талантом различать его в других я располагал. Даже в тех, кто меня очень раздражает.
Я встал, подхватил с полу шинель, надел и вышел за Колей к двери. Он с подчеркнутой любезностью ее передо мною распахнул.
— Только погоди, — сказал он, не успел я переступить порог. — Перед дорожкой надо присесть.
— Надо же, какой суеверный.
— Люблю традиции.
Сесть было некуда, и мы опустились на пол прямо у открытой двери. В квартире стояла тишина. У буржуйки похрапывал Тимофей. Позвякивали оконные стекла; из репродуктора доносился неумолчный стук метронома — знак того, что Ленинград не покорен. На улице кто-то быстро и умело приколачивал плакаты к забитым досками окнам. Но мне помстился не человек с плакатами, а гробовых дел мастер, ладивший гроб из сосновых досок. Да так наглядно представился, в подробностях: я видел даже мозоли у него на ладонях, меж густых бровей на лбу торчали отдельные черные волоски, потные руки были припорошены опилками.
Я вздохнул поглубже и посмотрел на Колю. А он как раз смотрел на меня.
— Не беспокойся, друг мой. Я не дам тебе умереть.
Мне было семнадцать. Дурень, я ему поверил.
11
Железную дорогу на Москву перерезали всего четыре месяца назад, но рельсы уже ржавели. Шпалы по большей части выкорчевали и покололи на дрова, хоть они и пропитаны креозотом, а жечь его опасно. Коля шел по рельсу, как гимнаст по бревну, — балансируя руками. Я трюхал за ним между рельсами — в такую игру мне играть не хотелось. Я на него злился, а кроме того, знал, что все равно не удержусь.
Рельсы бежали на восток мимо кирпичных жилых кварталов, трехэтажных магазинов, мимо трампарка, брошенных фабрик, которые выпускали то, что в военное время без надобности или просто не по карману. Бригада девушек в ватниках под командой сапера превращала районную почту в огневую точку. Угол старого крепкого здания снесли, чтобы устроить пулеметное гнездо.
— Отлично сложена, — заметил Коля, показывая на девушку в синем платке. Она таскала мешки с песком с грузовика, урчавшего мотором.
— Ты почем знаешь?
Издевается, наверное. До нее метров пятьдесят; ватник толстый, а под ним еще одежда в несколько слоев.
— Видно. У нее выправка балерины.
— А-а…
— Ты мне тут не акай. Я знаком с балеринами. Ты уж мне поверь. После войны как-нибудь проведу тебя в Кировский, за сцену. Меня, скажем так, знают.
— Тебя послушать, так тебя везде знают.
— На этом свете самая большая моя радость — бедра балерины. Вот Галина Уланова…
— Ой, хватит.
— Чего? Она достояние республики. Ее ноги надо в бронзе отлить.
— Ты не спал с Улановой.
Он мне слегка, с лукавинкой улыбнулся. И улыбка эта говорила: мне известно многое, друг мой, но всему свой черед.
— Я жесток, — признал он. — Говорить с тобой о вещах такой природы — садизм. Все равно что о Веласкесе со слепым. Давай сменим тему.
— Как? Следующие тридцать девять километров ты не хочешь говорить о балеринах, с которыми не спал?
— Трое мальчишек пошли кур воровать, — начал Коля таким тоном, каким рассказывают анекдоты. Когда их рассказывал он, у него появлялся странный акцент, хоть я и не мог понять чей и почему Коля считает, что с акцентом смешнее. — Крестьянин их услышал и побежал в птичник. Поэтому мальчишки прыгнули в три мешка для картошки и спрятались.
— Длинный будет анекдот?
— Крестьянин пинает первый мешок, а мальчишка: «Мяу!» Котом, значит, прикинулся.
— О… котом, значит, прикинулся?
— Я же сказал. — Коля обернулся ко мне: не собираюсь ли я с ним спорить?
— А я и так понял, что он прикинулся котом. Раз говорит «мяу» — значит, котом прикидывается.
— Ты на меня опять дуешься из-за того, что я с Соней переспал? Да ты никак в нее влюблен? А с этим… как его… тебе разве плохо было? С хирургом? Вы с ним так трогательно смотрелись возле печки, свернулись калачиками…
— А что у тебя за акцент? Хохляцкий, что ли?
— Какой еще акцент?
— Ну, ты когда анекдоты рассказываешь, у тебя каждый раз дурацкий акцент.
— Послушай, Лев, львенок мой маленький, прости меня. Я знаю, тебе нелегко лежать всю ночь, зажав свой уд в кулаке, и слушать, как она счастлива…
— Что дальше-то было в анекдоте?
— …но я тебе слово даю. Тебе еще не исполнится восемнадцати, как… Когда у тебя день рождения, кстати?
— Да пошел ты.
— Я познакомлю тебя с девушкой. Рассчитанное пренебрежение! Не забывай.
Все это время он шел по рельсу, одну ногу ставя точно перед другой, ни разу не оступился, вниз не посмотрел. И шел он при этом быстрее, чем я по земле.
— На чем я остановился? Ах да, крестьянин. Пинает первый мешок — «Мяу!» и так далее. Пинает второй, а оттуда — «Гав!». Мальчишка сделал вид, что он…
Коля ткнул в меня пальцем, чтобы я закончил:
— Корова.
— Собака. И вот пинает он третий, а мальчишка изнутри: «Картошка!»
Повисло молчание.
— А другим, — произнес наконец Коля, — смешно.
На городских окраинах жилые дома больше не лепились друг на дружку. Между грудами цемента и кирпича тянулись мерзлые болота и заснеженные пустыри, где до войны собирались строить дома. Но не успели. Чем дальше уходили мы от центра, тем меньше людей нам попадалось. Мимо громыхали военные грузовики с цепями на колесах, усталые солдаты смотрели на нас из кузовов без интереса. Их везли на фронт.
— Знаешь, почему Мга — Мга? — спросил Коля.
— Сокращение какое-нибудь?
— Инициалы Марии Григорьевны Апраксиной. Один персонаж в «Дворовой псине» списан с нее. Наследница древнего семейства фельдмаршалов, казнокрадов и царских лизоблюдов. Убеждена, что муж хочет ее убить, чтобы жениться на ее сестре.
— А он?
— Сначала — нет. У нее просто мания преследования. Но она все время об этом твердит, и он по-маленьку начинает влюбляться в ее сестру. И до него доходит, что жизнь без такой жены была бы лучше. Поэтому он и приходит к Радченко за советом — только не знает, что эту младшую сестренку тот приходует уже много лет.
— А что он еще написал?
— Кто?
— Ушаков. Какие книги у него еще есть?
— «Дворовая псина», всё. Это же известная история. Книга вышла — и провалилась. На нее была только одна рецензия, и критик разнес роман в пух и прах. Отвратительно, вульгарно и прочая, и прочая. Книгу никто не читал. А Ушаков писал ее одиннадцать лет. Одиннадцать, ты можешь себе представить? И канула бесследно, точно ее в океан бросили. Но Ушаков начинает все сызнова — пишет новый роман. И те его друзья, которые читали куски, утверждали, что это шедевр. Вот только сам Ушаков все дальше уходил в богоискательство, все больше времени проводил со старцем, и тот помаленьку убедил его, что литература — козни дьявола. И вот однажды ночью Ушаков окончательно поверил, что гореть ему в аду, поддался панике. И швырнул рукопись в огонь. Ф-фух — и все.
Отчего-то мне все это показалось подозрительно знакомым.
— Но то же самое было и с Гоголем.
— Ну нет, не вполне. Детали очень разные. Но параллель интересная, согласен.
Рельсы свернули прочь от шоссе, рядом потянулся березовый молодняк — слишком тоненький, чтоб на дрова. В белом снегу ничком лежали пять бледных тел. Семейство зимних покойников: мертвый отец по-прежнему сжимает руку мертвой жены, а мертвые дети распластались чуть в отдалении. Возле трупов валялись два выпотрошенных кожаных чемодана; в них виднелись только треснувшие рамочки для фотоснимков.
Семью раздели и разули целиком. И срезали ягодицы, где самое мягкое мясо — из него легче делать котлеты и колбасу. Я так и не понял, отчего они погибли — застрелили их, зарезали, немецкий ли снаряд их прикончил или русские людоеды. Да и не хотелось мне знать. Мертвыми они пролежали долго, с неделю, и тела их уже сливались с пейзажем.
Мы шли дальше на восток, в сторону Вологды. Анекдотов Коля в то утро больше не рассказывал.
Незадолго до полудня мы добрались до рубежей обороны Ленинграда: чащобы колючей проволоки, трехметровые рвы, противотанковые надолбы, пулеметные гнезда, зенитные батареи и танки «КВ» под маскировочными сетями. Раньше солдаты не обращали на нас внимания, но так далеко на восток гражданские не заходят, и тут мы уже смотрелись странной парочкой. Бойцы, стаскивавшие брезент с шестиколески, обернулись и воззрились на нас.
Их сержант направился к нам. Винтовкой он нам не грозил, но и не убирал ее. Судя по виду — военная косточка, татарин: скуластый, глаза узкие.
— Документы есть?
— Есть, — ответил Коля и полез во внутренний карман. — У нас прекрасные документы.
Он вручил сержанту капитанское письмо и подбородком мотнул на грузовик:
— Новая «катюша»?
Брезент уже скинули на землю, и нам открылась рама с рядами направляющих — они торчали в небеса. Ждали реактивных снарядов. Если верить нашему радио, немцы боялись «катюш» больше другого советского оружия. Звали их «сталинскими органами» за то, что они так скорбно и ужасно выли.
Сержант глянул на реактивный миномет, потом перевел взгляд на Колю:
— Не ваше дело. В какой армии?
— В Пятьдесят четвертой.
— Пятьдесят четвертая? Вы должны быть в Киришах.
— Так точно, — ответил Коля, загадочно улыбнувшись сержанту и кивнув на письмо. — Но приказ есть приказ.
Сержант развернул письмо и стал читать. Мы с Колей смотрели, как расчет накатывает пернатые снаряды на направляющие.
— Вжарьте им как следует! — крикнул Коля.
Солдаты посмотрели на него, но ничего не сказали. Похоже, не спали они уже много суток. Не уронить снаряд — вот что было главное. А тут еще психи какие-то шастают…
Коле не понравилось, что на него не обращают внимания, и он запел. У него оказался сильный, уверенный баритон.
…Выходила, песню заводила Про степного сизого орла, Про того, которого любила, Про того, чьи письма берегла…Сержант дочитал и аккуратно сложил письмо. Мандат НКВД явно произвел на него впечатление — он смотрел на Колю с искренним уважением и кивал в такт песне:
— То, что надо. Я в Зимнюю войну слышал, как ее сама Русланова пела. Руку ей подал, когда сходила с помоста, — думал, она лишку хлебнула. И знаешь, что она мне сказала? «Спасибо, — говорит, — боец, знаешь, как руки к делу пристроить». Ты подумай, а? Вот бесовка же, Русланова эта. Но песня все равно хорошая… — Он хлопнул Колю письмом по груди шинели и улыбнулся нам обоим: — Простите, что задержал, ребята, но сами знаете… Говорят, в Ленинграде триста диверсантов орудуют, и с каждым днем забрасывают новых. Но раз вы по линии НКВД… — Он подмигнул. — Я ж понимаю — партизан подымать. То, что надо. Мы гадам спереду врежем, а вы с тылу. Летом насрем у них в Рейхстаге.
Когда мы только получили капитанское письмо, Коля прочел его вслух. Про партизан в нем ничего не было — говорилось только, чтобы нас не задерживали, поскольку мы выполняем распоряжения капитана госбезопасности. Но в газетах печатали очерки о том, как народ в тылу врага берется за оружие, а специалисты из НКВД готовят кадры.
— Пускай они тут попляшут под шарманку, — ответил сержанту Коля. Уж не знаю, специально он подстроился под сержантский говорок или нет. — А мы к ним там штрудель из фатерлянда не пропустим.
— Вот это разговор, я понимаю. Перекрыть им подвоз продовольствия, пускай в наших лесах поголодают. Как в тысяча восемьсот двенадцатом.
— Но Эльба Гитлеру не светит.
— Не-не, Эльба точно не светит!
Сержант, по-моему, вряд ли знал, что такое Эльба, но был тверд: никакой Эльбы Гитлер не получит.
— Мы ему штыком по яйцам, а не Эльбу!
— Нам пора, — сказал Коля. — До темна во Мге надо быть.
Сержант присвистнул:
— Далековато. Лучше лесов держитесь. Фриц дорогами овладел, а русскому разве дорога нужна? Ха! Хлеб есть с собой? Нет? Можем выделить. Иван!
Подбежал молоденький заморыш из тех, что возились у пусковой установки.
— Найди ребятам хлеба. На ту сторону идут.
12
За Ленинградом деревья на дрова еще не порубили, в кронах берез бормотали вороны, между елками скакали белки. Такие жирные и невинные — легкая добыча для человека с пистолетом. Повезло им тут в оккупации.
Мы шагали по лесам, по просекам холодного света, стараясь не терять из виду рельсы слева. Снег слежался, его усеивала опавшая хвоя — идти приятно. Мы уже вышли на территорию, контролируемую немцами, но немцев здесь было не видать — вообще никаких признаков войны. Меня охватила странная радость. Питер — мой дом, но в Питере сейчас кладбище, это город призраков и людоедов. А на природе я будто менялся физически — будто мне дали чистого кислорода после многих месяцев в угольной шахте. У меня прекратились спазмы в животе, перестало закладывать уши, а в ногах появилась сила, которой я уже давно не чувствовал.
На Колю, похоже, действовало так же. Он щурился на яркий снег, сложив губы трубочкой, выдувал струи пара — это забавляло его, как пятилетнего ребенка.
У старой огромной березы он увидел зеленоватый клочок бумаги и нагнулся. Билет в один червонец — деньги как деньги, Ленин надменно глядит из-под высокого лба. Вот только у нас червонцы были скорее сероватыми, а не зелеными.
— Подделка? — спросил я.
Коля кивнул, ткнув одним пальцем в небо:
— Их фрицы ящиками сбрасывают. Чем больше ходит фальшивок, тем меньше ценятся настоящие.
— Но у них ведь даже цвет не такой.
Коля перевернул купюру и прочел текст, отпечатанный на обороте:
— «Покупательная способность рубля падает с каждым днем, и скоро он станет только бесценным клочком бумаги». Стиль хромает. «Цены на продукты и предметы первой необходимости возросли до невозможности. Спекуляция в Советском Союзе процветает как никогда. Запрашиваются фантастические цены. Партийные работники и жиды творят у тебя на родине темные делишки в то время, когда ты, на фронте, отдаешь свою жизнь за этих преступников». Это мило. Заняли полстраны, а не могут найти человека, который им запятые расставит. «Но ты также скоро придешь к нужному выводу. Поэтому береги этот 10-рублевый билет — он гарантирует тебе возможность целым и невредимым возвратиться после войны домой, в новую, свободную Россию». — Коля глянул на меня и ухмыльнулся: — Творите, значит, темные делишки, Лев Абрамович?
— Если бы.
— И они думают, что это нас убедит? Они что — не понимают? Это же мы изобрели пропаганду! Плохая тактика, плохая — они только раздражают народ, который хотят переманить на свою сторону. Молодой человек считает, будто нашел десять рублей, он доволен — может, кружок колбасы себе купит. Ан нет, не деньги это — это херово написанный пропуск на сдачу.
Он наколол листовку на сучок и поджег спичкой.
— Ты только что сжег свою возможность целым и невредимым возвратиться в новую свободную Россию, — сказал я.
Коля улыбнулся, глядя, как чернеет и скручивается листок:
— Пойдем. Нам еще далеко.
Еще час по снегу. Потом Коля вдруг ткнул меня в плечо перчаткой:
— Слушай, а евреи верят в жизнь после смерти?
Днем раньше я бы от такого вопроса рассвирепел, но теперь прозвучало смешно — так по-Колиному, искренне и любознательно. И без связи с чем бы то ни было.
— Это смотря какой еврей. Отец у меня, к примеру, был атеист.
— А мать?
— А мать у меня не еврейка.
— А… так ты, значит, полукровка. Нечего стыдиться. Я, например, всегда считал, что где-то во мне течет цыганская кровь. От кого-то из предков.
Я посмотрел на него: глаза голубые, как у ездовой лайки, из-под черной шапки — светлый чуб.
— Нету в тебе никакой цыганской крови.
— Это почему — из-за глаз? На свете полно голубоглазых цыган, друг мой. Но ты мне скажи — вот в Новом Завете все просто и ясно говорится: будешь слушаться Христа — отправишься на небо, не будешь — провалишься в ад. А в Ветхом? Я вообще не помню, в Ветхом-то Завете ад существует?
— Шеол.
— Чего?
— Царство мертвых называется Шеол. У отца даже стихотворение есть — «Кабаки Шеола».
Чудно мне было вот так, в открытую, разговаривать об отце и его творчестве. Сами слова были опасны, будто я признавался в преступлении, а меня могут услышать. Даже здесь, куда не дотягивался никакой Союз писателей, я опасался, что меня привлекут: вдруг в осинах засели сексоты? Будь здесь мама, она бы меня одним взглядом приструнила. Но все равно — говорить об отце было хорошо. И о его стихах — в настоящем времени, хотя сам поэт уже отошел в прошедшее.
— И что в Шеоле бывает? Наказывают за грехи?
— Вряд ли. Туда попадают все, без разницы, хорошо ты себя вел или нет. Там просто темно, холодно, а от нас ничего не остается — только тени.
— Похоже на правду. — Коля зачерпнул горсть чистого снега и откусил, подержал во рту. — Я пару недель назад видел одного бойца… без век. Он танкистом был, и его машина подорвалась в самой гуще боя, так что пока их нашли и вытащили, весь экипаж погиб от холода, кого не убило. А у командира полтела отморозило. Пальцы на руках и ногах, часть носа, веки. Я видел, как он спит в лазарете, подумал — мертвый, глаза-то открыты… Не знаю, можно вообще сказать — «открыты»? Закрывать-то нечем. Ну вот как с ума не сойти без век? Как жить дальше — и глаз не закрывать? Уж лучше ослепнуть.
Раньше Коля не бывал таким мрачным. Мне стало не по себе. И тут мы оба услышали вой. Обернулись, вгляделись в березняк.
— Собака?
Он кивнул:
— Вроде бы.
Через несколько секунд вой донесся снова. В самом одиночестве его звучало что-то до ужаса человеческое. Нам нужно было двигаться дальше на восток, чтобы дотемна прийти во Мгу, но Коля свернул на вой, и я безропотно пошел за ним к этой собаке.
В деревьях снег был глубже, мы проваливались в сугробы выше колена. Вся моя энергия куда-то вдруг улетучилась. Опять навалилась усталость, приходилось бороться за каждый шаг вперед. Коля тоже шел медленней, чтобы я не отставал. Если и досадовал на меня, то не подавал виду.
Я не отрывал взгляда от снега, чтобы видеть, куда ступаю: подвернуть сейчас лодыжку — и мне конец. Поэтому следы гусениц я заметил первым и схватил Колю за рукав. Мы вышли на огромную росчисть. Отражаясь от гектаров снега, солнце слепило глаза, пришлось их прикрыть рукавицей. Снег перепахали десятки гусениц, словно здесь прошла целая танковая бригада. В танках я разбирался хуже, чем в самолетах, немецкий «штурмтигр» от советской «тридцатьчетверки» не отличу. Но я знал — здесь ездили не наши. Если бы в эти леса мы двинули столько брони, блокаду бы давно прорвали.
По снегу были разбросаны серые и бурые кучи. Сначала я решил, что это брошенные шинели, но потом у одной разглядел хвост, у другой — вытянутую лапу, и понял, что это мертвые собаки. С десяток. Вот опять кто-то завыл, и мы ее увидели: через поле тащилась черно-белая овчарка. Передние лапы у нее работали за все четыре, задние безжизненно волочились, и за собакой метров сто тянулся кровавый след. Словно по белому холсту мазнули красной кистью.
— Пошли. — И Коля шагнул на росчисть, не успел я его задержать. Самих танков видно не было, но они прошли недавно, следы были еще очень четкими, их не задуло ветром. Немцы рядом, их много, но Коле было плевать. Он уже вышел на самую середину и приближался к овчарке, а я, по обыкновению, догонял. — Близко не подходи. — Я не понял, зачем он мне это сказал. Чтоб я от собак ничем не заразился? Или он думает, что мертвые собаки кусаются?
Вблизи я разглядел у овчарки на спине коробку, пристегнутую к холщовой сбруе. Из коробки торчала палка. Я огляделся: такие прилады на спинах были у всех собак.
Овчарка не смотрела на нас. Ей хотелось одного — добраться до ближайших деревьев, где, наверное, безопасно, тихо и можно спокойно умереть. Из двух пулевых отверстий в ляжке сочилась кровь, а одна пуля, должно быть, попала в живот, потому что за собакой по снегу тянулось что-то влажное и скрученное — кишки, которым не полагается быть на свету. Собака задыхалась, длинный розовый язык свисал на сторону, а под черными губами обнажились желтые клыки.
— Это мины, — сказал Коля. — Собак натаскивают искать еду под танками, а потом морят голодом. И выпускают перед «панцерами». Ба-бах.
Только не бабахнула ни одна. Немцы явно про них знали: предупредили своих башенных стрелков, а те стреляли метко. И теперь собачьи трупы усеивали все поле, а подбитых танков что-то не наблюдалось. Как и перевернутых самоходок. И взрывов не было слышно. Еще одна хитроумная уловка наших — как и все советские уловки, неудачная; я представил себе, как изголодавшиеся собаки несутся навстречу «панцерам», снег летит из-под лап, глаза сияют, счастливые, сейчас их наконец впервые за долгие недели накормят…
— Дай нож, — сказал Коля.
— Осторожней.
— Нож давай.
Я вытащил трофейный нож и передал Коле. Овчарка ползла к лесу, но силы уже изменяли ей. Коля подошел, и она замерла на месте — будто решила, что уже доползла. Она лежала на кровавом снегу и смотрела на Колю усталыми карими глазами. Деревянный стержень торчал из коробки у нее на спине, как мачта. Хрупкий, не толще барабанной палочки.
— Хорошая псина, — сказал Коля, опускаясь рядом на колени. Левую руку он положил собаке на холку — придержать. — Ты моя хорошая псина.
И перерезал ей глотку одним быстрым движением. Собака содрогнулась, из горла, паря в морозном воздухе, хлынула кровь. Коля мягко опустил собачью голову на снег, псина еще немного подергалась, перебирая лапами, точно щенок во сне, и умерла.
Мы немного помолчали — последние почести мертвой собаке. Коля вытер лезвие ножа о снег, потом о рукав шинели и отдал мне.
— Потеряли сорок минут, — сказал он. — Пошли быстрей.
13
Мы двинулись по березняку, что называется, ускоренным маршем — рельсы слева, солнце быстро клонится к закату. После росчисти с мертвыми собаками Коля не разговаривал. Оно и понятно — он переживал, что осталось мало времени, не подрассчитал нашу скорость по снегу, а тут еще и собаки. Во Мгу до темноты не успеем. Сейчас мороз был страшнее немцев, а холодало уже изрядно. Мы замерзнем, если не найдем ночлега.
После сержанта и его расчета людей мы не видели, а к заброшенным станциям, попадавшимся на пути, близко не подходили. У одного полустанка мы за двести метров увидели опрокинутую статую Ленина, а на бетонной станционной стене черным было намалевано: «STALIN IST ТОТ! RUSSIAND IST ТОТ! SIE SIND ТОТ!»[6].
К трем часам дня солнце скрылось за холмами на западе, и мрачные серые тучи над нами вспыхнули оранжевым. Я услышал вой авиамоторов и поднял голову: четыре «мессера» шли на Ленинград — так высоко, что казались безобиднее плодовых мушек. Какие дома они уничтожат? Собьют ли их наши зенитчики или истребители? Отсюда все это казалось мне чудесной абстракцией, чьей-то чужой войной. Сбросят бомбы — так не на меня же. Поймав себя на такой мысли, я осекся. Становлюсь эгоистичным мерзавцем.
Мы шли мимо какой-то Березовки. Такое название я слышал еще в сентябре, когда у этой деревни красная армия вступила в бой с силами вермахта. По сообщениям газет, наши дрались очень доблестно, применяли верную тактику и даже перехитрили немцев. Гитлер, следивший за ходом боя из своей ставки в Берлине, якобы пришел в сильнейшее раздражение. Но газеты в Ленинграде читать умели все. Советские войска всегда «продолжали вести упорные бои с противником», которого неизменно «сокрушала ярость нашего сопротивления». Эти фразы были обязательны. Главная информация приводилась, как правило, в конце, затиснутая в последний абзац. Если наши «отходили для пополнения сил на заранее подготовленные позиции», это значило, что мы проиграли бой; если мы «жертвовали собой, отражая натиск иноземных захватчиков в ходе тяжелых оборонительных боев», это значило, что всех перебили.
Под Березовкой и произошла такая бойня. В газетах писали, что деревня была знаменита своей церковью, выстроенной по приказу самого Петра, а также мостом, на котором Пушкин вызвал на дуэль соперника. А сейчас этих достопримечательностей нет. И самой Березовки не осталось. Стоят в снегу остатки закопченных стен — а так и не видно, что когда-то здесь была деревня.
— Вот дурачье, — сказал Коля, когда мы огибали сожженные руины. О ком это он? Я посмотрел на Колю. — Да немцы, — пояснил тот. — Думают, раз они построили лучшую военную машину, у них так здорово все получается. Но загляни в учебник истории, почитай книжки: все лучшие завоеватели всегда оставляли врагам выход. Можно было драться с Чингисханом и подставлять головы под его топоры — или покориться и платить ему дань. Простой же выбор. А с немцами не так: можно драться с ними и погибать — или сдаться им и все равно погибнуть. Они могли бы натравить одну половину страны на другую, но тонкости недостает. Русского сознания они не понимают, им бы только жечь.
В Колиных словах звучала некая правда, но мне казалось, что фашистам неинтересно вторгаться к нам тонко. Они не хотели понимать ничье сознание — по крайней мере, низших рас. Ведь русские — дворняги, полукровки, их породили орды викингов и гуннов, их насиловали бессчетные поколения обров и хазар, кипчаков и печенегов, монголов и шведов, их разлагали и заражали цыгане, евреи и забредавшие в эти края турки. Мы — дети тысяч проигранных битв, тяжесть поражений давит нас гнетом. Мы не достойны жить дальше. Немцы усвоили урок Дарвина и пересмешников: жизнь должна приспособиться — либо вымереть. Вот они к суровой реальности приспособились; а мы, вечно пьяные ублюдки русских степей, — нет. Мы обречены, а немцы исполняют свое предназначение в эволюции человечества.
Но всего этого я говорить не стал. Я только ответил:
— Но французам же они лазейку дали.
— Все французы, у которых кишка была не тонка, перемерли по пути из Москвы домой в тысяча восемьсот двенадцатом. Думаешь, шучу? Слушай, сто тридцать лет назад у них была лучшая армия на свете. А сейчас они — бордель Европы, сидят и клиентов ждут. Я неправ? Что с ними стало-то? Бородино, Лейпциг, Ватерлоо. Подумай только. Из их клеток вымыло все мужество. Их маленький гений Наполеон кастрировал весь народ.
— Уже темнеет.
Коля взглянул на небо и кивнул:
— Если не успеем, выкопаем землянку и до утра продержимся.
Он шел быстрее, ускоряя наш и без того не прогулочный шаг. А я понимал, что скоро сломаюсь. Вчерашний суп остался лишь изумительным воспоминанием. Пайковый хлеб, подаренный сержантом, мы съели еще утром. Каждый шаг давался мне с трудом, словно ботинки стали свинцовыми.
Уже так похолодало, что сводило зубы: дешевые металлические пломбы от мороза сжимались. И пальцы в толстых вязаных варежках немели, поэтому я сунул руки в глубокие шинельные карманы. Кончика носа я тоже не чувствовал. Ничего так себе шуточка — всю жизнь хотел себе нос поменьше, а еще несколько часов в этом лесу, и носа у меня не останется вообще.
— А мы будем копать землянку? Чем, интересно? Ты лопату взял?
— Ну руки же у тебя не отсохли. И нож есть.
— Нам надо куда-нибудь под крышу.
Коля театрально оглядел темнеющие леса, будто в каком-нибудь пне сейчас откроется дверь.
— Нету здесь никакой крыши, — сказал он. — Но ты же теперь боец, я тебя призвал в строй, а бойцы спят там, где глаза сомкнут.
— Это очень красиво. Но нам надо под крышу.
Он уперся рукой мне в грудь, и я было решил, что он на меня разозлился, раз я упорно не желаю ночевать на морозе. Однако он меня не упрекал — он меня придерживал. Подбородком он мотнул в сторону подъездной грунтовки, бежавшей параллельно рельсам. В паре сотен метров, в сгущавшихся тенях, но все равно на виду, спиной к нам, стоял советский солдат с винтовкой на плече.
— Партизан? — шепнул я.
— Нет, регулярные части.
— Может, мы Березовку отбили? Контрнаступление?
— Может, — прошептал Коля. Мы осторожно подкрались к часовому. Никаких паролей мы не знали, а вооруженный человек не станет разбираться, действительно ли мы русские или только прикидываемся.
Когда до часового осталось метров пятьдесят, Коля поднял руки над головой и заорал:
— Товарищ! — Я тоже поднял руки. — Не стреляй! У нас особое задание!
Часовой не обернулся. В последние месяцы от взрывов многие теряли слух — контузии, пробитые барабанные перепонки. Мы с Колей переглянулись и подошли еще ближе. Солдат стоял по колено в снегу. Слишком уж неподвижно стоял. Живой человек не может стоять статуей на таком морозе. Я хорошенько огляделся вокруг — не ловушка ли? Но в лесу все было тихо, только ветви берез постукивали на ветру.
Мы подошли к солдату. В свое время он наверняка был громилой: низкий лоб, ручищи-топорища. Но умер он много дней назад, и бумажно-белая кожа на лице натянулась туго, еще немного — и порвется на черепе. Прямо под левым глазом у него виднелась аккуратная дырочка от пули, вокруг замерзла кровь. На шее висела на проволоке фанерка, и по ней черным было выведено: «PROLETARIER ALLER LANDER, VEREINIGT EUCH!» Я по-немецки не говорил, но фразу эту знал, как знали ее все девчонки и мальчишки в Советской России, которым приходилось высиживать бесконечные уроки политической грамоты. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Я стащил фанерку с шеи мертвого солдата, стараясь, чтобы ледяная проволока не задела лицо, и кинул в сугроб. Коля отстегнул ремень винтовки и осмотрел — «трехлинейка» Мосина. Подергал затвор, покачал головой и выронил на снег. У солдата еще была кобура с «TT». К рукояти крепился шнурок, который удерживал пистолет в кобуре. Значит, мертвый был офицером, пистолетиком махал — из «Токарева» фашистов бить неудобно, это для своих, кто не желает идти в атаку.
Коля вытащил пистолет, открепил шнурок, проверил обойму. Обоймы не было. Патронташ на поясе мертвеца тоже был пуст. Коля расстегнул на трупе шинель и нашел то, что искал: брезентовый подсумок на ремешке со стальной пряжкой.
— По ночам мы их иногда под шинель прячем, — объяснил он, вытаскивая из подсумка три пистолетные обоймы. — Пряжка слишком блестит при луне.
Он вогнал обойму, проверил. Все работало. Коля сунул пистолет и запасные обоймы в карман. Мы попробовали вытащить мертвеца из снега, но он вмерз, держался прочно, как дерево. Сумерки уже высосали из леса все краски — ночь почти навалилась на нас. Времени на трупы не было.
Мы двинулись дальше на восток, держась поближе к рельсам. Может, немцы по этим мерзлым лесам на чем-нибудь ездят, а не ходят пешком — тогда рев моторов мы услышим издали. Смолкли даже вороны, стих ветер. Только мы скрипели, проваливаясь в снег, да вдалеке невсклад барабанили, обстреливая Питер, минометы. Я попробовал зарыться поглубже в шарф и воротник шинели, чтобы хоть щекам стало теплее от дыхания. Коля хлопал руками, а шапку надвинул так, что и глаз не видно.
Отойдя от Березовки на несколько километров, мы обогнули крупное крестьянское хозяйство. Среди покатых заснеженных полей торчали остатки заборов. И стояли чудом уцелевшие стога — огромные, как иглу у эскимосов: сенокос оборвала война, крестьяне удрали на восток или погибли. На дальнем краю участка виднелся старый каменный дом; от северного ветра его защищала еловая рощица. В темных окнах играли отблески огня — теплые, масляные, их отсветы выливались на снег снаружи. Из трубы шел черный дымок — едва заметный мазок на темно-синем небе.
Мы побрели к нему по снегу, и я посмотрел снизу вверх на Колю. Он покачал головой, но взгляда от дома не оторвал, и в глазах его я прочел тоску.
— Плохая мысль, — сказал он.
— Лучше, чем замерзнуть и не дойти до Мги.
— А кто, по-твоему, там сидит? Помещик у камина песика гладит? Думаешь, тургеневская повесть? Тут же все дома пожгли, а этот стоит. Что, им просто повезло? Скорее всего, это немцы, вероятно — офицеры. И мы пойдем дом приступом брать с ножом и пистолетом?
— А если не остановимся — умрем. И если зайдем, а внутри немцы — умрем. Но если немцев нет?
— Хорошо, скажем, это русские. Значит, немцы их не тронули, а значит, русские эти — гитлеровские наймиты. Стало быть, враги.
— А у врагов экспроприировать еду нельзя, что-ли? И постель?
— Послушай, Лев, я знаю, ты устал. Я понимаю, ты замерз. Но поверь мне, солдату. Ничего не получится.
— Дальше я не пойду. Лучше рискнуть.
— Может, в деревне дальше…
— А откуда ты знаешь что дальше есть деревня? Последнюю сожгли всю. До Мги нам сколько? Еще пятнадцать километров? Может, ты и дойдешь. Я — нет.
Коля вздохнул, потер лицо перчаткой, стараясь разогнать кровь.
— Признаю — до Мги мы не дойдем. Так вопрос больше не стоит. Я несколько часов назад понял.
— И не хотел говорить? Нам далеко еще?
— Далеко. Плохая новость в том, что, мне кажется, мы идем не туда.
— В смысле?
Коля не сводил взгляда с дома, и мне пришлось его толкнуть.
— В каком смысле — не туда?
— Мы давно должны были перейти Неву. А Березовка, по-моему, вообще не на Мгинской линии.
— По-твоему… Так почему ж ты сразу не сказал?
— Не хотел сеять панику.
Стемнело уже так, что его глупой донской рожи было не разглядеть.
— Ты же сказал, что Мга — на Московской линии.
— На Московской.
— Ты мне сказал, что нам надо просто идти по рельсам на Москву, и они нас приведут во Мгу.
— Верно.
— Так где же мы сейчас?
— Под Березовкой.
Я глубоко вздохнул. Жаль, что у меня нет крепких кулаков — дать ему по башке хорошенько.
— Ладно, а хорошая новость?
— То есть?
— Ты сказал, плохая новость — что мы идем не туда.
— А хорошей нет. Если новость плохая, не обязательно бывает и хорошая.
Больше сказать было нечего, поэтому я двинулся к дому. Над верхушками деревьев взошла луна, под ботинками у меня ломался наст. И если мне в голову целил немецкий снайпер, я пожелал ему удачи. Я проголодался, но с голодом справиться можно, это мы все умели. Свирепый мороз донимал, но и к холоду я уже привык. Гораздо хуже — у меня подгибались ноги. И до войны слабые — я плохо бегал и прыгал, мне вообще не удавалось то, для чего ноги нужны. А в блокаду они стали совсем как палки. Если б я даже был на верном пути во Мгу, все равно б не дошел. И пяти минут бы не продержался.
На полпути к дому меня нагнал Коля. «ТТ» он вытащил, держал в руке.
— Если идем, — сказал он, — то лучше без глупостей.
Он завел меня за дом и оставил ждать под навесом у поленницы. Даже трехкилограммовая банка черной икры в тот миг меня бы так не обрадовала, как эти сухие дрова, сложенные в поленницу выше моего роста.
Коля подкрался к замерзшему окну и заглянул внутрь. На каракуле его шапки заиграли отблески пламени. В доме играл граммофон — джазовое пианино, что-то американское.
— Кто там? — прошептал я. Коля ладонью показал мне: тише. Казалось, его заворожило увиденное. Не людоеды ли опять в этой заснеженной глуши? Или того хуже — изуродованные останки тех, кто жил здесь раньше?
Но людоеды Коле уже были знакомы, и трупов он перевидал достаточно. Здесь же что-то новенькое, неожиданное. Я подождал еще с полминуты и тоже шагнул к окну. Ослушался приказа. Осторожно, стараясь не задеть сосульки, наросшие на подоконнике, присел рядом с Колей и заглянул в окно.
Под джазовую пластинку в комнате танцевали две девушки в ночнушках. Славные, молоденькие, моих лет. Блондинка вела брюнетку. Сама очень бледная, вся шея и щеки в веснушках, а брови и ресницы такие светлые, что в профиль и вовсе не видно. Темноволосая была меньше, неуклюжее, никак не попадала в синкопы ритма. Лошадиные зубы, пухлые руки, на запястьях — складочки, как у младенца. На Невском в мирное время на такую и не поглядишь, но сейчас толстушка выглядела диковинно. Кто-то ее любил и кормил. Не иначе — шишка.
Танцующие девушки так меня ошеломили, что я сначала и не заметил, что они не одни. На черной медвежьей шкуре у печки, на животах, уперев локти и уткнув подбородки в ладони, валялись еще две девушки. Они серьезно смотрели на танцующих. Одна была похожа на грузинку; черные брови сходились на переносице, губы ярко накрашены красным, а волосы закручены мокрым полотенцем, будто она только что из ванны. У другой была длинная изящная шея балерины, носик в профиль — идеальный, а каштановые волосы убраны сзади в два хвостика.
Внутри крестьянский дом больше походил на охотничью избушку. Стены украшены трофеями: головы бурого медведя, дикого кабана, горного козла с массивными рогами и реденькой бородкой. По бокам очага стояли чучела волка и рыси — звери изготовились к прыжку, пасти открыты, бело блестят клыки. В канделябрах на стенах горели свечи.
Мы с Колей заглядывали внутрь, пока не доиграла одна сторона. Грузинка встала сменить пластинку.
— Поставь еще разок, — произнесла блондинка. Голос глушился стеклом, но все равно слышно.
— Да ну! — возмутилась партнерша.
— Пожалуйста, а? Что-нибудь знакомое. Поставь Эдди Рознера.
Я повернулся к Коле. Думал, он скалится, думал, в восторге от такого невероятного видения в снежной глухомани. Но Коля был мрачен — губы плотно сжаты, в глазах злость.
— Пошли, — сказал он, выпрямляясь, и повел меня к двери. Заиграла следующая пластинка — опять джаз. Трубач весело гнал свой оркестрик вперед.
— Заходим? Мне кажется, у них и еда есть. По-моему, я заметил…
— Уж чего-чего, а еды у них навалом.
И он постучал в дверь. Музыка смолкла. Через секунду в окне у двери показалась блондинка. Долго смотрела на нас, но ничего не говорила и не двигалась.
— Русские, — сказал Коля. — Открывай.
Девушка покачала головой:
— Вам здесь нельзя.
— Я знаю, — сказал Коля и показал ей пистолет. — Но мы уже здесь. Открывай, твою мать.
Блондинка обернулась к своим товаркам в комнате. Что-то кому-то прошептала, послушала, что ей ответят. Потом кивнула и снова повернулась к нам, вздохнула поглубже — и открыла дверь.
Из дома дохнуло жаром, как из чрева кита. Я уже не помнил, когда в последний раз мне было так тепло. Вслед за блондинкой мы из сеней прошли в большую комнату. Три ее товарки выстроились неловкой шеренгой, нервно перебирали пальцами края ночнушек. Маленькая брюнетка с пухлыми руками, казалось, вот-вот заплачет: она не сводила глаз с Колиного пистолета, и у нее дрожала нижняя губа.
— Кто-нибудь еще есть? — спросил Коля.
Блондинка покачала головой.
— Когда придут? — спросил Коля.
Девушки переглянулись.
— Кто? — спросила та, что смахивала на грузинку.
— Вот только не надо мне, дамы. Я офицер Красной армии, у меня особое задание…
— А он тоже офицер? — спросила блондинка, показав на меня. Она не улыбалась, но в глазах скакали веселые искорки.
— Нет, не офицер, он рядовой…
— Рядовой? Вот как? Тебе сколько лет, голубчик?
На меня посмотрели все девушки. В натопленной комнате, под тяжестью этих взглядов я почувствовал, что краснею.
— Девятнадцать, — ответил я, выпрямляясь. — В апреле будет двадцать.
— Ц-ц… чего-то мелкий для девятнадцати, — сказала грузинка.
— Максимум пятнадцать, — подтвердила блондинка.
Коля передернул затвор пистолета, дослав патрон. В тихой комнате прозвучало внушительно. Мне показалось, что слишком уж театрально, но Коле такие жесты отчего-то всегда сходили с рук. Пистолет он держал стволом в пол и внимательно смотрел в лица всех девушек по очереди. При этом не спешил.
— Мы пришли издалека, — наконец сказал он. — Мой друг устал. Я устал. Поэтому спрашиваю еще раз: когда они явятся?
— Обычно приходят около полуночи, — ответила пухлая брюнетка. Остальные пристально посмотрели на нее, но ничего не сказали. — Когда артобстрел закончат.
— Так, значит? Надоедает немцам палить по нам в Питере, они приходят сюда ночевать, и вы их обхаживаете?
В каком-то смысле я дурак дураком. Я это не из скромности говорю. Вообще, конечно, я гораздо умнее среднего, хотя, наверное, интеллект не стоит рассматривать как такой отдельный датчик, вроде спидометра. Это же целая батарея тахометров, одометров, альтиметров и прочего. Отец научил меня читать в четыре года, чем всегда и похвалялся перед друзьями, но вот моя неспособность выучить французский или запомнить даты походов Суворова, надо полагать, сильно его беспокоила. Сам он был настоящий эрудит: читал по заказу любую строфу из «Онегина», бегло говорил по-французски и по-английски, неплохо разбирался в теоретической физике. Его уход в поэзию стал для университетских преподавателей маленькой трагедией. Преподавателям этим надо было наставить его на путь истинный. Обучили бы его утешению физикой, объяснили бы лучшему своему студенту, почему форма Вселенной и вес света важнее рифм и верлибров о жуликах и абортмахерах Ленинграда.
Мой отец сразу бы сообразил, что происходит в этом сельском домике, — едва взглянул бы в окно. Даже в семнадцать лет. Вот поэтому я почувствовал себя полным идиотом, когда наконец до меня дошло, зачем здесь эти девушки, кто их кормит и колет им дрова, так аккуратно сложенные под навесом.
Блондинка злобно зыркнула на Колю, ноздри ее раздулись, а веснушчатое лицо побагровело.
— Ты… — начала она и некоторое время не могла закончить — слишком разозлилась. — Приперся мораль нам читать? Герой-красноармеец? Да где ты был со своей армией? Немцы пришли и спалили все дотла — где была твоя армия? Моих братишек расстреляли, отца убили, деда, всех в деревне у нас перебили, а ты со своими друзьями где-то отсиживался. А сейчас пистолетом своим в меня тыкать пришел?
— Я пистолетом ни в кого не тыкаю, — ответил Коля. До странности робко ответил. И я понял, что спор он уже проиграл.
— Я на все пойду, лишь бы сестренку от них оградить, — продолжала девушка, показав подбородком на пухлую брюнетку. — На все, понимаешь? Это вы должны были нас защищать. Доблестная Красная армия, защитница народная! Где вы были?
— Мы с ними сражались…
— Вы никого не можете защитить. Вы нас бросили. Раз мы в городе не живем, какая от нас польза, правда? Пусть крестьян всех перебьют! Так ведь, да?
— У меня в части половина народу полегла…
— Половина? Да будь я генералом, у меня бы все солдаты полегли, но фашистов бы сюда не пустили!
— Ладно, — сказал Коля и на несколько секунд замолчал. Затем поставил пистолет на предохранитель и сунул в карман. — Хорошо, что ты не генерал.
14
Несмотря на грубую встречу, мы быстро помирились с девушками. Мы были нужны друг другу. Они уже два месяца не видели русских, радио у них не было, они истосковались по новостям. Когда мы рассказали им о победах под Москвой, Галина, молодая брюнетка, улыбнулась сестре и кивнула — мол, Нинка, я же говорила. Девушки расспрашивали о Ленинграде, но им было неинтересно, сколько народу умерло в декабре или сколько хлеба сейчас давали по карточкам. Окрестные деревушки пострадали больше Питера, и слушать рассказы о бедствиях непокоренного города им было скучно. Им хотелось знать, стоит ли еще Зимний дворец (стоит), не убрали ли Медного всадника (не убрали) не пострадал ли некий магазин на Невском, где, по их заверениям, продавали лучшие в СССР туфельки (мы с Колей не знали и плевать хотели).
Лишних вопросов мы не стали задавать. Мы и так все более-менее поняли. Оставшихся мужчин из их деревень поубивали. Многих женщин, кто помоложе, угнали в Германию — работать на фабриках. Из тех, кто не ушел на восток, то есть. А это — сотни километров пешком, с младенцами, с образками, надеясь обогнать моторизованные части вермахта. Но самых хорошеньких не отпустили ни на восток, ни на запад. Их оставили на потребу захватчикам.
Мы сидели на полу перед очагом. Носки, перчатки и варежки наши сушились у огня. В обмен на новости девушки напоили нас обжигающим крепким чаем, нарезали черного хлеба и дали две печеные картошины. И даже разрезали каждую пополам. Коля откусил и посмотрел на меня. Я откусил и посмотрел на Галину — славненькую, пухлорукую. Она опиралась спиной о печку, а руки подсунула себе под коленки.
— Это масло? — спросил я.
Она кивнула. Картошка была на вкус как настоящая, а не та жухлая, проросшая, которой мы питались в Питере. На хорошую картофелину с маслом и солью на Сенном можно было выменять три ручные гранаты или кожаные теплые сапоги.
— А яйца они приносят? — спросил Коля.
— Один раз было, — ответила Галина. — Мы сделали омлет.
Коля хотел перехватить мой взгляд, но я смотрел только на картошку с маслом.
— Близко у них часть стоит?
— Офицеры живут в доме у озера, — ответила Лара. Это она походила на грузинку, хотя на самом деле была наполовину испанкой. — В Кошкине.
— Это деревня?
— Да. Моя.
— И у этих офицеров точно есть яйца?
Только теперь я взглянул на Колю. Я решил жевать картофелину как можно медленней, чтобы растянуть удовольствие. С ужином нам везло два дня подряд: сначала суп из Дорогуши, нынче вот картошка. Я не рассчитывал, что и на третий вечер повезет. Жевал расчетливо — и наблюдал за Колиным лицом: не учудил бы чего.
— Не знаю, как сейчас, — с усмешкой ответила Лара. — А вам так яичек хочется?
— Да. — Коля улыбнулся ей в ответ, и на щеках у него появились ямочки. Он знал, когда лучше всего их демонстрировать. — Я с июня по ним скучаю. А ты думаешь, мы здесь зачем? Мы яйца ищем!
Девчонки рассмеялись такой странной шутке.
— Партизан поднимаете? — спросила Лара.
— Приказы мы обсуждать не можем, — ответил Коля. — Скажем так, зима у фрицев будет долгой.
Девушки переглянулись — бахвальство их не впечатлило. Они видели вермахт вблизи и разглядели его получше Коли. У них уже сложилось свое мнение о том, кто победит в войне.
— Далеко до этого Кошкина? — спросил Коля.
Лара пожала плечами:
— Не очень. Километров шесть-семь.
— Может выйти недурная операция, — как бы между прочим бросил мне Коля, жуя краюшку черного хлеба. — Возьмем офицеров, обезглавим вермахт…
— Это не вермахт, — сказала Нина. Причем так сказала, что я не выдержал и посмотрел на нее. Раньше мне она показалась девушкой бесстрашной, но вот сейчас чего-то испугалась. Ее сестра смотрела в огонь и кусала нижнюю губу. — Это айнзацгруппа.
С июня русским пришлось усиленно учить немецкий. В одночасье в повседневный язык вошли десятки новых слов: «панцеры» и «юнкерсы», «вермахт» и «люфтваффе», «блицкриг» и «гестапо» — много разного. Когда я впервые услышал слово «айнзацгруппа», оно не звучало зловеще, как другие. Контора педантичных счетоводов из водевиля прошлого века. Но оно больше не казалось смешным — после статей в газетах, сводок по радио, после разговоров. Айнзацгруппами назывались фашистские карательные отряды, состоящие из отборных убийц. Набирали их из регулярной армии, из частей «Ваффен-СС», гестапо. Оценивали действенность, жестокость, чистоту арийской крови и брали. Когда немцы вторгались в страну, айнзацгруппы шли за боевыми частями и на захваченных территориях открывали охоту за своими жертвами — коммунистами, цыганами, интеллигенцией и, разумеется, евреями. Каждую неделю в «Правде» и «Красной звезде» печатали новые и новые снимки: рвы, заваленные убитыми. Людей убивали в затылок после того, как они сами выкапывали себе братскую могилу. В газетах наверняка спорили на высшем уровне, не слишком ли деморализуют советский народ такие фотографии. Но ужас сгущался: вот что нас ждет, если мы не победим в этой войне. Вот каковы наши ставки.
— Ночью к вам ходят офицеры айнзацгруппы? — переспросил Коля.
— Да, — ответила Нина.
— Не думал, что они еще и артиллеристы, — сказал я.
— Обычно — нет. Но у них там игра. Вроде как на спор. Целится в разные дома в городе, а летчики с бомбардировщиков им потом рассказывают, попали или нет. Мы поэтому про Зимний спрашивали. Они все очень хотят в него попасть.
Я подумал о разбитом Доме Кирова — о Вере, о близнецах Антокольских. Раздавило их обрушившимися стенами сразу или они уцелели, когда обвалился потолок, оказались погребены под армированным бетоном? И умирали долго, мучительно, зовя на помощь, задыхаясь от дыма и газа под руинами? Может, они погибли из-за того, что какой-нибудь немец в лесу, попивая шнапс из фляжки и перешучиваясь с сослуживцами, дал молодому наводчику не те координаты, и семнадцатисантиметровый снаряд, предназначенный для Зимнего дворца, попал в мой невзрачный серый дом?
— Сколько обычно приходит?
Нина глянула на других девушек, но на нее никто не смотрел. Галина отдирала корочку с невидимой царапины на запястье. В печке обрушилось горящее полено, и Лара поворошила угли кочергой. Четвертая девушка — Олеся, та, что с хвостиками, — после нашего прихода вообще ни слова не сказала. Я так и не понял, она просто тихоня, немая от рождения или фашисты отрезали ей язык. Она лишь собрала опустевшие чашки и тарелки и вынесла их из комнаты.
— Смотря когда, — наконец ответила Нина. Как бы между прочим сказала, будто мы с ней карточную партию обсуждали. — Иногда никто не приходит. Иногда двое или четверо. Иногда больше.
— Приезжают?
— Да-да, конечно.
— И остаются ночевать?
— Иногда. Обычно — нет.
— Днем не приезжают никогда?
— Раз или два бывало.
— Так ты меня, конечно, извини, но что вам мешает отсюда уйти?
— Думаешь, легко? — Нина разозлилась на такой вопрос — на то, что в нем таилось.
— Нелегко, — согласился Коля. — Но мы со Львом вышли из Питера сегодня на рассвете — и вот мы здесь.
— Эти немцы, с которыми вы сражаетесь, которые полстраны уже захватили, — думаешь, они дураки? Думаешь, они бы нас тут одних оставили, если бы мы просто могли открыть дверь и уйти в Питер?
— А что мешает?
Вопрос на девушек подействовал — это было видно по Нининым глазам, по тому, как Галина потупилась и стала разглядывать свои мягкие белые руки. Уже немного узнав Колю, я понимал: ему просто любопытно, он не собирался устраивать допрос. Но все равно, хоть бы он уже наконец заткнулся.
— Расскажи им про Зойку, — сказала Лара.
От этих слов Нина, похоже, разозлилась. Пожала плечами и ничего не ответила.
— Они думают, мы трусихи, — добавила Лара.
— А мне плевать, что они думают, — бросила Нина.
— Ладно, тогда я расскажу. С нами была еще одна девушка, Зоя.
Галина встала, оправила ночнушку и вышла из комнаты. Лара на нее даже не взглянула.
— Немцы ее любили. Если ко мне один приходил, к ней выстраивались шестеро.
От Лариной прямоты нам всем стало неловко. Нине тоже явно хотелось уйти, но она осталась. Глаза у нее бегали, и на нас с Колей она старалась не смотреть.
— Ей четырнадцать было. И отец, и мать — члены партии. Не знаю, чем занимались, но, видимо, секретарствовали. Айнзацгруппа их нашла. Расстреляли прямо посреди улицы. И тела повесили на фонаре, чтобы все в деревне видели, что бывает с коммунистами. Зою сюда привезли одновременно с нами, в конце ноября. Раньше здесь жили другие девушки. Через несколько месяцев мы им надоедаем, понимаете? Но Зоя у них была любимица. Такая маленькая и так их боялась. Наверно, им это нравилось больше всего. Они ей говорили: «Не бойся, больно не будет, мы не дадим сделать тебе больно»… что-то такое. Но она же видела, как папу и маму повесили на столбе. И любой, кто ее теперь трогал, мог оказаться их убийцей. Или тем, кто отдал приказ.
— Нам всем есть что рассказать, — произнесла Нина. — Она ударилась в панику.
— Да, запаниковала. Ей же четырнадцать, вот и паника. Тебе-то не так — у тебя сестра есть. Ты не одна.
— У нее были мы.
— Нет, — сказала Лара, — здесь по-другому. Каждую ночь, когда они уходили, Зоя плакала. Часами, пока не засыпала. А иногда и не засыпала. Первую неделю мы пытались ей помочь. Сидели с ней, держали за руку, рассказывали всякое, только бы не плакала. Без толку. Ты когда-нибудь успокаивал ребенка, у которого жар? И так его, и эдак — и на ручках носишь, и укачиваешь, и колыбельные поешь, и прохладного даешь попить, и теплого. Ничего не помогает. Зойка не унималась. А потом мы перестали ее жалеть. Мы злились. Нина правду говорит — нам всем есть что рассказать. У нас у всех родных убили. А когда Зоя плакала, не заснешь. На вторую неделю мы уже не обращали на нее внимания. Выходили из комнаты, когда она заходила. Она знала, что мы сердимся, — ничего нам не говорила, но понимала. И перестала плакать. Как-то вдруг решила, что хватит. Три дня ходила очень тихая, не плакала, держалась сама по себе. А на четвертое утро пропала. Мы и не заметили — только потом, когда офицеры пришли… Ввалились пьяные, ее по имени зовут. По-моему, они когда спорили о чем-нибудь, победителю первому доставалась Зойка. Они друзей из других частей приводили на нее поглядеть, фотографировали ее. А тут ее нет, и они нам, конечно, не поверили. Мы сказали, что понятия не имеем, куда она делась, но даже я бы решила, что мы врем. Мы б и соврали что-нибудь, наверное, если б знали. Хотя бы соврали ради нее. Но не знаю…
— Конечно, соврали бы, — вставила Нина.
— Может быть. Уже неважно. Они пошли ее искать — Абендрот и остальные. Он у них… я не знаю, какие у них звания… майор? — Она посмотрела на Нину, и та пожала плечами. — Майор, наверно. Он не старше всех, но всеми командует. Наверно, хорошо работает. Ему Зойка всегда первой доставалась, каждый раз. Они даже полковника с собой приводили откуда-то, только Абендрот все равно к Зойке. И когда с ней заканчивал, садился к огню и шнапс свой сливовый хлестал. Только сливянку, больше ничего. По-русски он здорово болбочет. И по-французски — два года жил в Париже.
— Он там за Сопротивлением охотился, — сказала Нина. — Мне кто-то говорил. Так хорошо, что его сделали самым молодым майором в айнзацгруппе.
— А со мной он любит в шахматы играть, — сказала Лара. — Я хорошо умею. Он мне фору дает — играет без ферзя, иногда без ферзя и пешки, но я все равно больше двадцати ходов не выдерживаю. Даже когда он пьяный, а пьяный он почти всегда. А если… если я занята, он раскладывает доску и играет сам с собой.
— Он у них хуже всех, — сказала Нина.
— Да. Только сначала я не понимала. А вот после Зои — да, хуже него никого нет. И вот они собак взяли и пошли за ней по следам в лес, искать пошли. Несколько часов их не было. Она недалеко ушла. Слабенькая же… Она вообще малышка, да и не ела почти ничего. И они ее с собой привели. Всю одежду с нее сорвали, а она как звереныш, грязная, сухие листья в волосах, и в синяках вся. Они ее били. Ей связали руки и ноги, в лодыжках. Абендрот мне велел пилу принести от поленницы. Когда Зойка убежала, она мое пальто взяла и сапоги, и они поэтому решили, что я помогала. Велели пилу принести. Уж и не знаю, что я подумала, но я ж не думала, что… Может, думала, они веревку ею пилить будут. Зойка же им так нравилась, они же не станут ее мучить.
Я услышал сдавленный всхлип. Поднял голову. Нина чесала лоб, ладонью прикрывая глаза, а губы стиснула, будто приказав себе молчать.
— Четверо держали ее за руки и за ноги. А она уже и не сопротивлялась. Да и что тут… Сорок килограмм всего в ней было. Думала, они ее сейчас убьют, ей было уже все равно. Ей уже хотелось умереть, она только этого и ждала. Но они ее не убили. Абендрот говорит мне: давай пилу. Но не взял, а встал так, чтобы я ему сама эту пилу в руки вложила. Мы все были в комнате — и я, и Нина, и Галя, и Олеся. Они нас согнали сюда. Хотели, чтобы мы все видели, — такое у нас было наказание. Мы же ей сбежать помогли, поэтому должны теперь смотреть. И все немцы курили… бегали по морозу, искали девчонку, можно и покурить, — и вся комната в дыму. А Зойка такая спокойная лежит — кажется, вот-вот улыбнется. От них уже так далеко, что им ее не достать. Только она ошибалась. Абендрот рядом с ней на колени встал и что-то на ухо ей шепчет. Не знаю, что он ей сказал. А потом взял пилу, приставил ей к лодыжке и начал пилить. И Зойка… Может, я долго еще проживу, хотя это вряд ли, но вдруг, и этого крика я никогда не забуду. Ее четверо крепких мужиков держат, в ней кожа да кости, но она все равно вырывалась, теперь только начала, и видно было, что даже им трудно ее удержать.
Майор ей сначала одну ногу отпилил, потом за другую взялся. Один немец даже из комнаты выбежал… помнишь, Нина? Забыла, как его зовут. Он сюда больше не приходил. Абендрот ей вторую ступню отпилил, а Зойка все кричала. Я подумала: ну все, сойду с ума, после такого-то, это нельзя, это лишком. А когда встал, у него весь мундир в ее крови был — и на руках ее кровь, и на лице. Встал и поклонился нам. Помнишь? Как будто выступил перед нами. И сказал: «Вот как бывает с маленькими девочками, которые убегают в лес». И они все ушли, все кончилось, и остался от них только дым. Зойка на полу стонала. Мы пытались ноги ей забинтовать, чтобы кровь не шла, но ее было слишком много.
Лара умолкла, и в доме повисла тишина. Нина тихонько плакала, вытирала нос рукой. В очаге стрельнул сучок, взвилась стайка искр. По крыше скреблись еловые ветки. С запада долетали раскаты бомбежки — скорее дрожью, чем звуком, стекла тренькали, стакан с водой…
— В полночь приходят, значит? — спросил Коля.
— Почти всегда.
На старых часах с фаянсовым циферблатом было шесть. Значит, еще шесть часов. У меня после марш-броска по снегу ныло все тело, но я знал, что не усну. После истории про Зою, зная, что скоро сюда придут офицеры из айнзацгруппы…
— Завтра утром, — сказал Ларе и Нине Коля, — все пойдете в город. Это приказ. Дам вам адрес, где можно остановиться.
— Нам здесь безопаснее, чем в городе, — ответила Нина.
— Это сегодня.
15
Лара привела нас в спаленку в глубине дома. Она внесла медный подсвечник с двумя зажженными свечами, поставила на столик. На стенах, обшитых сосной, не было никаких украшений, а на матрасах двухъярусной кровати — белья. Я споткнулся на вздувшемся полу. Однако в комнате было тепло. В узкое окно виднелись сарай и опрокинутая тачка на снегу.
Я сел на нижний матрас и провел пальцем по имени, вырезанному на деревянной панели. «АРКАДИЙ». Интересно, давно ли он тут жил, этот Аркадий? Где он сейчас? Старик, наверное, дрожит в неведомой морозной ночи. Или кучка костей на погосте. С ножом он обращаться умел — буквы в потемневшем дереве были изящны, с наклоном и завитушками, а все имя подчеркивала резкая черта.
Лара и Коля договорились о сигнале: стучать в кастрюльку половником. Количество ударов — столько немцев явится среди ночи развлекаться. Она ушла, и Коля вытащил пистолет. Стал его разбирать, аккуратно выкладывая детали на столик, проверяя каждую, протирая ее рукавом гимнастерки. Потом снова собрал все.
— А ты кого-нибудь когда-нибудь убивал? — поинтересовался я.
— Не знаю.
— В смысле?
— В смысле — стрелял я сотни раз, но попал в кого-нибудь или нет, не знаю. — Он вогнал обойму на место. — Когда застрелю Абендрота — пойму.
— Может, нам лучше уйти?
— Ты же сам сюда хотел.
— Нам надо было отдохнуть. И поесть. Мне уже лучше.
Коля повернулся ко мне. Я сидел на койке, сунув руки под коленки. На плечи набросил шинель.
— Их может быть человек восемь, — сказал я. — А у нас один пистолет.
— И один нож.
— У меня Зоя из головы не идет.
— Это хорошо, — сказал он. — Думай про нее, когда будешь всаживать нож ему в брюхо.
Коля кинул шинель на верхний матрас и забрался сам. Уселся по-турецки, пистолет положил рядом. Из кармана шинели достал дневник. Огрызок карандаша у него уже сточился до размера ногтя на большом пальце, но писал Коля все равно быстро.
— По-моему, я не смогу, — сказал я, помолчав. — Не смогу ни в кого всадить нож.
— Ну, значит, я сам всех перестреляю. Сколько я уже… одиннадцать дней не срал? А рекорд, интересно, какой?
— Наверное, дольше.
— Интересно, что получится на выходе…
— Коля… давай уйдем, а? Заберем девушек и вернемся в город? У нас получится. У девушек еды много, мы ее с собой захватим. Мы же поели, кровь разогнали. И одеяла заберем. А?
— Послушай меня. Я знаю, ты боишься. И боишься ты с полным правом. Только дебил станет спокойно сидеть в доме, куда скоро явится айнзацгруппа. Но ты этого ждал. Сегодня ночью настал момент. Они хотят сжечь наш город, они хотят уморить нас голодом. Но мы с тобой — как два питерских кирпича. А кирпич сжечь нельзя. И уморить голодом нельзя.
В подсвечнике оплывали свечи. Я смотрел, как тени колышутся на потолке.
— Ты это где услышал? — наконец спросил я.
— Что, про кирпичи? От старшины. А что? Не вдохновляет?
— Без кирпичей было лучше.
— А мне нравится про кирпичи. «Кирпич сжечь нельзя. И уморить голодом нельзя». Хорошо звучит. Ритмично.
— Это тот старшина, который на мину наступил?
— Да. Бедняга. Ладно, ну их, эти кирпичи. Честное слово, львенок, мы не умрем. Сами убьем несколько фашистов — и найдем эти клятые яйца. Во мне течет цыганская кровь. Я умею предсказывать будущее.
— Нет у тебя никакой цыганской крови.
— И я напрошусь на свадьбу к капитанской дочке.
— Ха… Да ты влюбился.
— Точно. Я по-настоящему влюблен в эту девушку. Вполне возможно, что она глупая стерва, но я ее люблю. Хочу на ней жениться. Пусть она ни слова мне не скажет. Пусть не готовит. Пусть даже мне детей не рожает. Пусть только катается голая на коньках по Неве — мне больше ничего не надо. А я рот открою и буду снизу смотреть, как она кружится.
На пару секунд я забыл о страхе. Но это быстро кончилось. Уже не помню, когда я в последний раз не боялся, но той ночью страх был невыносим, любая возможность вселяла ужас. Я мог опозориться, забиться в угол, пока Коля будет драться с фашистами… Только на сей раз он точно погибнет. А вдруг будет больно? Вон как Зою пытали: когда зубья пилы вгрызаются в тело, рвут кожу, мышцы, кости. И наконец, я просто возьму и умру. Я никогда не понимал тех, кто утверждал, будто больше всего страшится выступать на людях, боится пауков или еще каких-нибудь мелких кошмаров. Как вообще можно бояться чего-то больше смерти? От всего остального можно сбежать. Парализованный может читать Диккенса; окончательно сбрендившему является нелепейшая красота.
Я услышал шорох и поднял голову. Коля свесился с верхнего яруса кровати и смотрел на меня вверх тормашками. Светлые волосы свисали засаленными прядями. Смотрел он так, словно беспокоился за меня, — и мне сразу захотелось плакать. Единственный, кто знает, как мне сейчас страшно, единственный, кто знает, что я вообще до сих пор жив, но могу сегодня умереть, — хвастливый дезертир, с которым я познакомился три дня назад, чужак, казацкое отродье, мой последний друг.
— Это тебя взбодрит, — сказал он, сбросив вниз колоду карт.
На вид вроде обычных — пока я их не перевернул. На каждой был снимок — разные женщины, некоторые голые, кое-кто в кружевных корсетах и поясах с подвязками. Тяжелые груди вываливались из подставленных чашечками ладоней, а губы перед фотокамерой были слегка приоткрыты.
— Я думал, мне для этого у тебя в шахматы выиграть надо.
— Ты с ними полегче давай, полегче. Уголки не помни. Они аж из Марселя.
Коля смотрел, как я перебираю снимки, и улыбался, если на каком-нибудь я застревал.
— А эти девушки тебе как, а? Четыре красотки. Ты же понимаешь, я надеюсь, что завтра мы будем героями? Они гроздьями на нас вешаться будут. Ты какую себе хочешь?
— Мы завтра покойниками будем.
— Истинно реку я тебе, друг мой, истинно — прекрати эти разговоры.
— Ну мне, наверно, маленькая нравится. С пухлыми руками.
— Галочка? Нормально. На телятю смахивает, а так ничего. Я понимаю.
Он затих, пока я разглядывал женщину без блузки, в бриджах для верховой езды и с хлыстом.
— Слушай, дай мне честное слово — завтра поговоришь со своей телятей. Не сбегай сразу, не робей, как ты обычно делаешь. Я серьезно, Лев. Ты ей нравишься. Я видел, как она на тебя смотрела.
Я точно знал — на меня Галина не смотрела. Она смотрела на Колю — все они с него глаз не сводили, ему это было прекрасно известно.
— А как же рассчитанное пренебрежение? Сам же говорил, так написано в «Дворовой псине»: покорить женщину можно только…
— Есть разница: не обращать на женщину внимания — или охмурять. Охмурять ее надо тайной. Ей хочется, чтоб ты за нею шел, а ты петли вьешь вокруг. В половой любви — то же самое. Любители скидывают портки и суют, как рыбу острогой бьют. А человек талантливый знает, главное — раздразнить, походить кругами, то поближе, то подальше.
— Вот эта ничего, — сказал я, показав ему карточку с женщиной в костюме тореадора. На ней были только красный плащ и берет.
— Это у меня любимая, да. В твоем возрасте я, на нее глядя, носков на двадцать надрочил.
— А в «Пионерской правде» писали, что онанизм подрывает революционный дух.
— Не сомневаюсь. Но как сказал Прудон…
Я так и не узнал, что говорил Прудон. Прервав Колю на полуслове, о кастрюлю дважды лязгнул латунный половник. Мы подскочили на матрасах.
— Раненько они, — прошептал Коля.
— Всего двое.
— Скверную ночь они выбрали для путешествий налегке. — Едва Коля это вымолвил, половник ударил в кастрюлю еще раз — и два, и три, и четыре.
— Шестеро, — прошептал я.
Коля скинул ноги с верхней койки и бесшумно опустился на пол. Пистолет уже был у него в руке. Коля задул свечу и прищурился, глядя в окно. Однако оно выходило на зады, и видно ничего не было. Хлопнула дверца машины.
— Делаем так, — сказал он тихо и спокойно. — Пока ждем. Пускай расслабятся, согреются, выпьют. А когда разденутся, если повезет, оружия у них под рукой не будет. Запомни, они не драться сюда пришли. Они пришли веселиться, отдыхать, девочками наслаждаться. Слышишь меня? У нас преимущество.
Я кивнул. Что бы он мне сейчас ни говорил, арифметика не складывалась. Немцев шестеро, а нас двое. Девушки разве станут нам помогать? Ради Зои они и пальцем не шевельнули — но что они могли сделать ради Зои? Фрицев шестеро, патронов в «Токареве» — восемь. Я надеялся, Коля стреляет метко. Через все мое тело бежал электрический страх, от него подергивались мышцы и пересохло во рту. Сна — ни в одном глазу, словно в тот миг в сельском домике под Березовкой по-настоящему и началась моя жизнь, а все, что случилось раньше, было тяжким, неспокойным сном. Все чувства необычайно обострились; в этот миг напряжения я знал все, что мне нужно было знать. Я слышал хруст сапог по насту. Ноздри мне щекотал дым хвои из очага — ее жгли по старинке, чтобы в доме приятно пахло.
От винтовочного выстрела мы оба вздрогнули. Замерли в темноте: что происходит? Через несколько секунд раздалось еще несколько одиночных выстрелов. Немцы закричали в панике, перебивая друг друга. Коля рванулся к двери. Я хотел было его остановить: у нас же был план, и план был — ждать, — но не хотелось оставаться одному, пока снаружи стреляют, а немцы орут свои уродские команды.
Мы выбежали в большую комнату и сразу растянулись на полу — пробив окно, над нами прожужжала пуля. Все девушки тоже лежали, прикрывая руками лица, чтоб не задело осколками стекла.
Я уже полгода жил на войне, но в настоящем бою еще не бывал. А сейчас даже не знал, кто с кем воюет. Снаружи грубо кашляли автоматы. Винтовочные выстрелы вроде бы доносились издали, возможно — из лесу. В каменные стены дома лупили пули.
Коля подполз к Ларе и встряхнул ее:
— Кто в них стреляет?
— Не знаю.
Снаружи завелась машина. Захлопали дверцы, взвыл мотор — автомобиль резко рванул с места по снегу. Винтовки захлопали чаще, выстрелы сливались, пули лязгали по металлу — по камню они били совсем не так.
Коля приподнялся и на корточках переполз поближе к двери, держа голову ниже линии подоконников. Я пополз за ним. У двери мы оба встали на колени, и Коля в последний раз проверил пистолет. Я вытащил нож из ножен на лодыжке. Я понимал, что выгляжу глупо — так мальчишка держит отцовскую опасную бритву. Коля ухмыльнулся; мне показалось, он вот-вот расхохочется мне в лицо. Странно, успел подумать я. Вот я в настоящем бою, а слежу за собственными мыслями, не хочу глупо выглядеть с этим ножом, раз все воюют винтовками и автоматами. Сознаю, что сознаю. И даже сейчас, когда кругом свирепыми шершнями жужжат пули, мозг у меня болтает и не затыкается.
Коля взялся за ручку и плавно потянул дверь на себя.
— Погоди, — сказал я. Еще на несколько секунд мы замерли. — Стихло вроде?
Перестрелка вдруг прекратилась. Мотор машины еще ревел, но не было слышно, чтоб она ехала. Немецкие голоса тоже смолкли — так же внезапно, как и выстрелы. Коля коротко взглянул на меня и медленно приоткрыл дверь. Высокая луна светила ярко, и под ней расстилалась кровавая сцена. Офицеры айнзацгруппы в белесых маскировочных куртках валялись ничком на снегу, а по нерасчищенной дорожке медленно катился «кюбельваген»: окна выбиты, из двигательного отсека валит черный дым. С пассажирского места в окно вываливался труп, руки еще сжимали автомат. Второй «кюбель», лихо подъехавший к дому, с места так и не тронулся. Между ним и домом валялись два немецких трупа, из пробитых голов на снег сочилась темная жижа. Я только успел оценить меткость снайпера — и тут между нашими с Колей головами вжикнула пуля. Словно задели туго натянутую струну.
Мы откатились от двери, Коля пинком ее захлопнул. Потом сложил ладони рупором и заорал в разбитое окно:
— Мы русские! Эй! Эй! Мы наши!
Несколько секунд висела пауза. Потом — голос издали:
— А по мне — так фрицы вылитые!
Рассмеявшись, Коля от радости двинул меня кулаком в плечо.
— Я Власов! Николай Александрович! — крикнул окно. — С проспекта Энгельса!
— Придумай чё получше! Такое даже фриц сочинит, если говорит по-русски!
— Проспект Энгельса, ха! — прозвучал еще один голос. — Да у нас, сука, в любом городе проспект Энгельса!
Не перестав хохотать, Коля схватил меня за воротник шинели и потряс. Единственно от прилива энергии, от того, что он жив и счастлив, — и больше ни от чего. Ему просто нужно было что-нибудь встряхнуть. Он подполз ближе к разбитому окну, стараясь не оцарапаться об осколки.
— Трижды пиздоблядский мудопроебный распропердон! — заорал он. — У мамаши твоей на манде хоть пионерскую зорьку играй!
Последовало продолжительное молчание. Колю оно, похоже, ничуть не взволновало. Он похмыкивал собственной шуточке и подмигивал мне, как ветеран войны с турками где-нибудь в бане, на отдыхе с однополчанами.
— Понравилось? — опять крикнул он во все горло. — Думаешь, фриц по-русски такое сочинит?
— Ты про чью это мамашу выразился? — Голос звучал ближе.
— Не того мамашу, который стрелять умеет. У вас там кто-то гениально с винтовкой обращается.
— Оружие есть? — спросил снаружи голос.
— «Токарев».
— А у дружка твоего?
— Только ножик.
— Выходите оба. И руки за голову, или яйца отстрелим.
Пока шел этот разговор, Лара с Ниной тоже подползли ближе к дверям. На их ночнушках блестели мелкие осколки оконных стекол.
— Их убили? — прошептала Нина.
— Всех шестерых, — тоже шепотом ответил я. Я думал, девушки обрадуются, но они тревожно переглянулись. Кошмар последних месяцев для них кончился. Но теперь им надо куда-то бежать, они не знают, что будут есть, где ночевать. С миллионами русских — то же самое, но девушкам придется хуже. Если их опять поймают немцы, мучить в наказание будут сильнее, чем Зою.
Коля потянулся к дверной ручке, но Лара его остановила. Тронула за ногу.
— Не надо, — сказала она. — Тебе не поверят.
— Это почему? Я боец Красной армии.
— А они — нет. Здесь на тридцать километров никакой Красной армии. Они решат, что ты дезертир.
Коля улыбнулся и накрыл ее руку своей:
— Я похож на дезертира? Не волнуйся. У меня мандат.
Лару это не успокоило. Коля опять потянулся к ручке, а она подползла под самое окно.
— Спасибо, что спасли нас, товарищи! — крикнула она. — Эти двое — наши друзья. Не стреляйте!
— Думаешь, я бы промахнулся мимо такой жирной башки? Она давно нам сигналит. Пущай шутник наружу вылазит!
Коля открыл дверь и шагнул на улицу, задрав руки повыше. Прищурился от яркого снега, но никого не увидел.
— И мелкий тож!
Обе девушки испуганно поглядели на меня, но Лара ободряюще кивнула: иди, мол, не трусь. Я вдруг разозлился: а чего сама не идет? Они вообще зачем здесь? Если бы в домишке никого не было, мы с Колей спокойно бы переночевали, а утром ушли, отдохнувшие и сухие. Мысль промелькнула быстро, но была такой нелепой, что я немедленно устыдился.
Нина сжала мою руку и улыбнулась. Никогда в жизни не улыбалась мне девушка симпатичнее. Я на миг представил, как буду рассказывать Олеже Антокольскому: Нинина белая рука держит мою, светлые девичьи ресницы трепещут, она смотрит на меня, беспокоится… Улыбка уже погасла, а я все рассказывал о ней Олеже — и совершенно забыл, что он, наверное, никогда этой истории не услышит. Велика вероятность, что он погребен под развалинами дома на улице Воинова.
Я попробовал улыбнуться Нине в ответ. Не удалось. Я вышел, подняв руки. С начала войны я прочел в газетах сотни очерков о советских героях в бою. И все эти люди отказывались признавать, что они герои. Они просто защищали отчизну от фашистских варваров. Когда у них спрашивали, зачем они бросались грудью на амбразуру дота, зачем карабкались на танк и бросали в люк гранату, они отвечали, что на их месте любой русский патриот поступил бы точно так же.
Стало быть, героям и тем, кто засыпает быстро, при необходимости удается отключать мысли. А «мозговая болтовня» остается на долю трусов и страдающих бессонницей — как раз публике вроде меня. Выйдя за дверь, я подумал: «Стою вот у сельского домика под Березовкой, а мне в голову целятся партизаны».
Судя по Колиной широченной улыбке, он вообще ни о чем не думал. Мы стояли с ним рядом, а наши невидимые допросчики нас разглядывали. Шинели наши остались в доме, и мы дрожали на морозе — холод пробирал до кости.
— Докажь, что наш. — Голос вроде бы доносился от заснеженного стога. Глаза мои привыкли к тьме, и я разглядел, что в тени на коленях стоит человек и целится в нас из винтовки. — Добей фрицев в голову.
— Тоже мне испытание, — ответил Коля. — Они уже мертвые.
Способность этого человека усугубить то, что и так уже хуже некуда, меня больше не удивляла. Может, герой — это просто человек, не осознающий собственной уязвимости. Стало быть, мужество — это когда по безрассудству ты не соображаешь, что смертен?
— А вот мы еще живы, — сказал партизан из тени, — потому что добиваем их, даже если думаем, что они сдохли.
Коля кивнул и пошел к «кюбелю» — тому, что с невыключенным двигателем. Машина остановилась наконец, поглубже завязнув в снегу.
— Мы за вами смотрим, — сообщил партизан. — По пуле в голову, если что.
Коля выстрелил в головы мертвому водителю и мертвому пассажиру; дульные всполохи мигнули в темноте, как вспышки фотоаппарата. Потом развернулся и пошел по снегу, останавливаясь у каждого распластанного трупа. Каждому исправно стрелял в голову.
У шестого он помедлил, нагнувшись и приставив дуло к голове. Потом опустился на колени — что-то услышал. Встал и крикнул:
— Этот еще живой.
— Потому и надо добить.
— Может, что полезное скажет.
— А он может?
Коля перевернул немца на спину. Тот тихо застонал. На его губах пузырилась розовая пена.
— Нет, — сказал Коля.
— Это потому, что мы ему легкое прострелили. Окажи человеку милость, добей.
Коля выпрямился, направил пистолет и выстрелил умирающему в лоб.
— Теперь пистолет в кобуру.
Коля сделал, как велели, и партизаны вышли из укрытий — из-за стогов, заборов, из рощицы. Десяток человек, в длинных пальто и шинелях, с винтовками в руках, двигались по снегу к домику, и над головами их поднимался пар от дыхания.
Почти все походили на крестьян. Меховые шапки надвинуты на лбы, лица широкие, неприветливые. Никакой общей формы у них не было. На одних красноармейская кирза или кожаные сапоги, на других — валенки. Шинели защитные или серые. Один человек нарядился, похоже, в маскхалат финского лыжника. Впереди шел, как я понял, командир — заросший черной бородой мужик со старой охотничьей двустволкой на плече. Потом мы узнали, что его фамилия Корсаков. По имени-отчеству его никто не называл. Да и Корсаков, скорее всего, был псевдоним. Партизаны недаром скрывали свои настоящие имена. Айнзацкоманды публично казнили всю родню тех участников местного сопротивления, что им становились известны.
Корсаков с двумя сотоварищами подошли к нам. Остальные тем временем обшаривали немецкие трупы — собирали автоматы, патроны, письма, фляжки и часы. Человек в маскхалате стоял над одним трупом на коленях и пытался стянуть у того с пальца золотое обручальное кольцо. Оно не снималось. Тогда партизан сунул палец трупа себе в рот — потом увидел, что я смотрю, подмигнул и вытащил мокрый палец. Кольцо снялось легко.
— Ты за них не волнуйся, — сказал Корсаков, заметив, куда я смотрю. — Ты волнуйся из-за меня. Вы тут зачем?
— Они партизан организуют, — сказала Нина. Они с Ларой вышли босиком, ежились, а ветер трепал их непокрытые волосы.
— Вот как? Мы что, по-твоему, неорганизованные?
— Они свои. Они на немцев засаду устроили, всех бы поубивали, если б вы не появились.
— Неужели? Это мило. — Он отвернулся от девушки и окликнул того партизана, который обыскивал трупы в машине: — Что у нас?
— Мелочовка, — отозвался бородач, поднимая повыше оторванный погон. — Летнаны да обера.
Корсаков пожал плечами и перевел взгляд на Нину — оценивающе оглядел ее бледные икры, силуэт бедер под ночнушкой.
— Иди в дом, — велел он. — Оденься. Немцев больше нет, можно не блядовать.
— Не обзывайся.
— Как хочу, так и говорю. Иди в дом.
Лара взяла Нину за руку и увела внутрь. Коля проводил их взглядом и повернулся к партизанскому вожаку:
— Что так зло, товарищ?
— Тамбовский волк тебе товарищ. Если б не мы, ебали б щас их фрицы до самых гланд.
— И все равно…
— Варежку закрой. Одет вроде по форме, а не в армии. Дезертир?
— У нас задание. У меня в шинели мандат.
— У всех предателей в шинели мандат.
— Письмо подписал капитан госбезопасности Гречко. Нас сюда направили.
Корсаков ухмыльнулся и повернулся к своим: твой капитан Гречко здесь что, власть? Люблю я этих городских — распоряжаются, как у себя дома.
Партизан, стоявший рядом, жилистый, с близко посаженными глазами, громко расхохотался, обнажив дурные зубы. Второй промолчал. На нем был маскировочный комбинезон, весь в бурых и белых загогулинах: ходячий натюрморт — опавшая листва на снегу. Глаза колюче смотрели из-под кроличьей шапки. Он был маленький, ростом поменьше меня, и совсем молодой, на розовых щеках — никакой щетины. Очень тонкие черты, лепные скулы, полные губы. Искривленные в усмешке, потому что партизан перехватил мой взгляд.
— Что-то не то увидел? — спросил он, и я понял, что голос у него совсем не мужской.
— Да ты девчонка! — выпалил Коля, воззрившись на партизана. Мне стало неловко за нас обоих.
— А что тебя удивляет? — спросил Корсаков. — Наш лучший снайпер. Фрицев видишь? Это она им по полбашки снесла.
Коля присвистнул, переведя взгляд с девушки на мертвых фашистов, а потом на темную опушку за полем.
— Вон оттуда? Тут сколько — метров четыреста? По движущимся мишеням?
Девушка пожала плечами:
— Когда по снегу бегут, их даже особо вести не надо.
— Вика у нас хочет рекорд Людмилы Павличенко побить, — сказал человек с выступавшей вперед нижней челюстью. — Хочет стать первой снайпершей.
— А сколько сейчас у Люды? — спросил Коля.
— «Красная звезда» писала — двести, — ответила Вика, чуть закатив глаза. — Ей немца на счет записывают, даже когда сморкается.
— А винтовка у тебя немецкая?
— «К98». — Она похлопала по прикладу. — Лучше и на свете не бывает.
Коля ткнул меня локтем в бок и прошептал:
— У меня уже стоит.
— Что такое? — спросил Корсаков.
— Я говорю, у меня сейчас петушок отвалится, если мы чуть дольше на морозе простоим. Прошу пардону… — Он по-старомодному поклонился Вике, после чего повернулся к Корсакову: — Если хотите на наши документы взглянуть, давайте внутрь зайдем — и взглянете. А если хотите соотечественников расстрелять — стреляйте. Только хватит нас уже на холоде держать.
Партизанский вожак явно предпочитал расстрелять Колю, а не смотреть его документы. Но убить бойца Красной армии за здорово живешь — это не баран чихнул, особенно если столько свидетелей вокруг. Однако и уступать слишком быстро он не хотел — это ж ударить в грязь лицом перед своими. Поэтому они с Колей еще секунд десять злобно смотрели друг на друга. Я же кусал губы, чтобы зубы от холода не стучали.
Их поединок прекратила Вика.
— Влюбились никак, — громко сказала она. — Хватит в гляделки играть! Или уж глаза друг другу бы повыцарапали, или разделись да голыми в снегу покатались.
Партизаны захохотали, а Вика повернулась и пошла к дому, презрев яростный взгляд Корсакова.
— Есть хочу, — сказала она. — Девушки у вас такие упитанные — всю зиму свиными отбивными питались, что ли?
Обвешанные добытым оружием мужчины двинулись за ней — им тоже не терпелось из холода под крышу. Вика потопала сапогами перед дверью, сбивая снег, а я, глядя на нее, подумал: интересно, какая она без многослойной теплой одежды, без камуфляжа этого?
— Твоя? — спросил у Корсакова Коля, когда Вика зашла в дом.
— Смеешься? Да она скорее пацан, чем девчонка.
— Это хорошо, — сказал Коля, двинув меня кулаком в плечо. — А то, по-моему, друг мой в нее серьезно втюрился.
Корсаков глянул на меня и заржал. Я всегда терпеть не мог, если надо мной смеялись, но гогот разрядил обстановку. Я понял, что нас уже не убьют.
— Валяй, парнишка, желаю удачи. Только не забывай — она тебе с полкилометра пулей в глаз попадет.
16
Корсаков дал своему отряду час — согреться и поесть. Все растянулись в большой комнате на разостланных шинелях, перед огнем сушились носки и портянки. Вика лежала на спине на диване, набитом конским волосом, прямо под козлиной головой на стене. Лежала, скрестив лодыжки, пальцами перебирала мех кроличьей шапки у себя на груди. Ее темно-рыжие волосы были подстрижены по-мальчишечьи коротко, и не мыли их так давно, что они свалялись завитками и торчали шипами. Вика смотрела прямо в стеклянные глаза козла — трофей явно ее заворожил. Я воображал, что она представляет себе, какова была охота, как стрелял охотник, как этого козла убили — наповал или он еще бежал, раненный, много километров, не понимая, что смерть уже пробила его мышцы и кости, что от охотничьей пули не убежать, она уже внутри…
Я сидел на подоконнике и смотрел на Вику. Стараясь при этом, чтоб она не догадалась, что я на нее смотрю. Комбинезон свой она сняла, пусть просохнет, — он был мужской, вдвое больше нее. Еще на ней были две пары теплого белья. Хоть и рыжая, но без веснушек. Она лежала и теребила верхнюю губу нижними кривыми зубками. Я не мог оторвать от нее глаз. На девушек с открыток она не походила — вообще не идеал, тощая, недокормленная, неделю в лесу спала. Но я все равно хотел увидеть ее голой. Хотел расстегнуть на ней эту мужскую клетчатую рубашку, отшвырнуть ее прочь, облизать этой девушке бледный плоский живот, стащить с нее длинные кальсоны и покрыть худые ноги поцелуями.
Такая подробная греза — это что-то новенькое, неужто Колины карты так подействовали — воспалили мне воображение? Обычно все мои фантазии были целомудренны, старомодны: я представлял Веру, полностью одетую. Вот она играет мне на виолончели у себя в спальне, мы с нею наедине, а когда концерт заканчивается, я хвалю исполнение и произвожу на Веру впечатление своим красноречием и знанием музыкальных терминов. Фантазия обычно завершалась крепкими поцелуями, Вера отводила ногу и переворачивала пюпитр, вся красная, встрепанная, а я загадочно улыбался и оставлял ее одну со сбившимся на сторону воротничком и расстегнутой пуговицей на блузке.
Фантазии мои обычно не доходили до плотских утех, потому что плотских утех я боялся. Не умел. Моих знаний не хватало даже на то, чтобы сделать вид, будто что-то знаю. Основы анатомии я понимал, но вот в геометрии путался. А поскольку ни отца, ни старших братьев, ни опытных друзей у меня не было, и не спросишь ни у кого.
Однако теперь в моем вожделении к Вике не было ничего целомудренного. Мне хотелось прыгнуть на нее, спустив штаны до щиколоток. И она бы мне показала, куда что и как. А едва мы с этим разберемся, ее обкусанные грязные ногти будут царапать мои плечи, голова запрокинется, шея тонко и бело натянется, и на ней забьется жилка. Тяжелые веки широко распахнутся, а зрачки, наоборот, сузятся, и синева этих глаз меня затопит…
Все девушки в доме — Нина и Галя, Лара и Олеся — были на первый взгляд симпатичнее Вики. Они расчесывали длинные волосы. Засохшей грязи на руках у них нет. Они даже губы помадой подкрашивали. Они вносили и выносили миски с лущеными орехами и моченой редькой. Следовало ублажать новых мужчин — да, они соотечественники, но все равно опасны и непредсказуемы, потому что вооружены. Один, сидевший по-турецки у огня, схватил Галину за пухлое запястье, когда она нагнулась подлить ему водки:
— Наружу глядела? Дружок-то твой там мертвый валяется, а?
Его приятель хохотнул, ободренный партизан подтянул девушку к себе, и она плюхнулась ему на колени. К такому обращению она привыкла — не вскрикнула, не заплакала, даже водки не пролила ни капли.
— Они вам вкусненького таскали, да? Да уж точно — гля, какие щеки наела! — Он провел мозолистой ладонью по ее мягкой розовой щеке. — И что ты им делала? Все, что захотят, а? Голая танцевала, пока они своего «Хорста Весселя» тянули? Сосала у них, пока они шнапс хлестали?
— Отвянь от нее, — сказала Вика. Она не изменила позы, не отвела взгляда от козлиной головы, лишь покачивала ногами в толстых носках, словно в такт неслышимой мелодии. Ровно сказала — если и разозлилась, ни за что не угадаешь. Едва это прозвучало, я тотчас пожалел, что одернул партизана не я. Это было бы смело, а то и безрассудно, на грани самоубийства, но Галина отнеслась ко мне по-доброму, и я должен был ее защитить. Не из благородства собственной натуры, а чтобы произвести впечатление на Вику. Но в тот миг, когда следовало действовать, я окаменел — опять трусость взяла свое, опять я буду жалеть об этом много лет. Коля вмешался бы сразу и без колебаний, но Коля с Корсаковым ушли в заднюю комнату читать капитанское письмо.
Партизан, хватавший Галину, чуть помедлил. Я видел — он боится. Я сам боялся уже так давно, что страх в других засекал сразу же, не успевали они сами его осознать. Но я предвидел, что он ответит Вике какой-нибудь колкостью: доказать товарищам, что не боится, пусть даже они понимают, что это не так.
— А чего? — протянул он. — Себе ее хочешь?
Вяло, вяло — никто не засмеялся. Вика даже не отреагировала. Она и не смотрела в его сторону. Но услышала, потому что по лицу ее расплылась медленная улыбка — впрочем, девушка могла и с головой козла переглядываться. Еще пара секунд — и партизан хрюкнул и легонько столкнул Галину с коленей:
— Вали давай, обслуживай. Шалава и шалава, ни на что другое больше не годишься.
Если слова партизана Галину и оскорбили, виду она не подала. Разлила водку остальным в комнате — и все вежливо ей кивнули.
С минуту поразмышляв о возможном позоре, я подошел к дивану и присел на краешек, у Викиных ног в серых шерстяных носках. У меня над головой свисала козлиная бородка. Я посмотрел на нее, потом на Вику. Снайперша глядела на меня в упор — ждала, какую глупость я собираюсь сморозить.
— У тебя отец был охотник? — спросил я. Вопрос продумал еще в другом углу комнаты. Но едва он вырвался из моих уст, стало непонятно, почему я вообще решил, что это удачный способ завязать беседу. Может, читал что-нибудь о снайперах — о Пчелинцеве, который в детстве, кажется, стрелял белок.
— Чего?
— Отец… у тебя… Я подумал, может, ты от него так стрелять научилась.
Непонятно, чего было больше в ее синих глазах — скуки или отвращения. Вблизи, при свете коптилок и очага, я видел, что на лбу у нее россыпь красных прыщиков.
— Нет, мой отец не был охотником.
— Я думал, многие снайперы начинают с охоты… Или читал где-то.
Вика больше на меня не смотрела — вернулась к созерцанию горного козла. Чучело интереснее меня. Остальные партизаны наблюдали за мной, подталкивая друг друга локтями и ухмыляясь, перешептывались, посмеивались.
— А немецкая винтовка у тебя откуда? — спросил я в отчаянии, как игрок, который все ставит и ставит, а карты ему сдают все хуже и хуже.
— От немца.
— А у меня нож немецкий. — Я задрал штанину, расстегнул ножны и повертел нож в руке, чтобы на блестящей стали поиграл свет. Нож ее заинтересовал. Она протянула руку, и я передал. Она проверила остроту у себя на предплечье.
— Бриться можно, — сказал я. — Нет, тебе, конечно, не надо… то есть…
— Где нашел?
— У немца.
Она улыбнулась, а я возгордился своей репликой, точно сказал что-то невероятно умное, ответив на ее скупую реплику своею.
— А немца ты где нашел?
— Мертвый парашютист в Ленинграде. — Я надеялся, что прозвучало достаточно туманно, будто оставалась возможность того, что парашютиста убил я сам.
— Они уже в Ленинград высаживаются? Началось?
— По-моему, просто десант. Прорвались немногие. Не заладилось у фрицев. — Мне казалось, что звучит веско и ненарочито, как будто я из тех убийц, что о поверженных врагах упоминают мимоходом.
— Ты сам его убил?
Я открыл рот, уже готовясь соврать, но она так посмотрела на меня, губы у нее так искривились в усмешке, которая привела меня в ярость своею снисходительностью, что мне сразу же захотелось поцеловать…
— Его мороз убил. Я просто увидел, как он спускается.
Она кивнула и вернула мне нож, потом закинула руки за голову и потянулась, широченно зевнув. Рот прикрыть даже не постаралась. Зубки у нее были совсем детские — мелкие, росли вразнобой. Выглядела она довольной, будто наелась до отвала ужином из девяти блюд с лучшими винами, хотя я видел, что грызла она только черную редьку.
— Мороз — самое старое оружие у родины-матери, — добавил я. Фразу эту я услышал от какого-то деятеля по радио. И незамедлительно пожалел, но слово — не воробей. Может, то есть и правда, только уже несколько месяцев это был расхожий штамп нашей пропаганды. Даже от словосочетания «родина-мать» я себя почувствовал глупым пионером на маршировке в парке — беленькие рубашечки, красные галстуки, «Взвейтесь кострами» дружным хором.
— У меня тоже есть нож, — сказала Вика, вытаскивая из ножен на поясе кинжал с березовой рукояткой и протягивая мне.
Я покачал нож в руке. На тонкой стали лезвия виднелись разводы — словно круги по воде шли.
— Чего-то хлипкий.
— Он не хлипкий. — Вика подвинулась ближе и кончиком пальца провела по клинку. — Это дамасская сталь.
Она сидела так близко, что я мог в деталях рассмотреть завитки ее уха и едва заметные морщинки, пересекавшие лоб, когда она поднимала брови. В волосах у нее запуталось несколько еловых иголок, и я подавил в себе порыв их оттуда бережно убрать.
— Называется «пуукко», — сказала Вика. — Такие дают всем финским мальчишкам, когда они взрослеют.
Она приняла у меня нож и наклонила против света — полюбоваться игрой огня по металлу.
— Лучший снайпер на свете — финн. Симо Хяйхя. «Белая смерть». В Зимнюю войну — пятьсот пять уничтоженных солдат и офицеров.
— Так ты его взяла у финна, которого сама застрелила?
— Купила за восемьдесят рублей в Териоках. — Она сунула нож обратно в ножны на поясе и оглядела комнату: чем бы поинтереснее заняться?
— Может, ты «Красной смертью» станешь, — сказал я. Не хотелось, чтобы разговор обрывался, я знал: оборвется — и мне ни за что недостанет мужества снова заговорить. — Ты хорошо стреляла. Айнзацгруппы, наверное, не привыкли, что от них отстреливаются.
Вика ровно посмотрела на меня своими холодными синими глазами. Во взгляде этом было что-то нечеловеческое — что-то в нем было от хищника, прямо-таки волчье. Она сложила губы трубочкой. А потом покачала головой:
— С чего ты взял, что это айнзацы?
— Нам девушки сказали, что это они сюда приходят.
— Тебе сколько, пятнадцать? Ты же не солдат никакой…
— Семнадцать.
— …а ходишь с солдатом, который не в части.
— Ну он же сказал — у нас особый приказ капитана Гречко.
— Особый приказ что? Партизан подымать? Ты меня за дуру держишь?
— Нет.
— Вы тоже сюда к девочкам пришли? За этим самым, да? Кто-то из этих — твоя подружка?
Мне отчего-то стало лестно, что она так подумала. Будто какая-нибудь красотка в доме и впрямь может быть моей подружкой. Хотя в обороте «кто-то из этих» звучало оскорбление. Я ее чем-то заинтересовал — хорошее начало полдела откачало. Да и объяснимо это любопытство. Что делает в такой глуши питерский мальчик — в двадцати километрах за немецкими позициями отдыхает в уютном домике для захватчиков?
Я вспомнил, что Коля мне рассказывал: надо охмурять женщину загадочностью.
— У нас приказ — как, я уверен, и у тебя. Не стоит об этом.
Несколько секунд Вика молча глядела на меня. Может, охмуреж и удался, трудно сказать.
— Эти фашисты в снегу с пробитыми банками? Это регулярная армия. Я бы сказала, что человек… прости, мальчик, работающий в НКВД, может отличить одно от другого.
— У меня не было времени проверить их знаки различия. Вы нас на мушке держали.
— Айнзацев мы сами ищем. По-крупному. Последние полтора месяца за этим трупоебом Абендротом гоняемся. Думали, он сегодня здесь будет.
«Трупоеб» — такого ругательства я раньше не слышал. Прозвучало грубо и вульгарно, но я почему-то улыбнулся. Должно быть, улыбка выглядела странно, беспричинно. В уме я представил Вику со спущенными штанами; образ был отчетливый и подробный, гораздо убедительнее моих обычных воображаемых ню. Может, действовали Колины порнографические карты.
— Абендрот в Кошкине, — сказал я. — У озера.
Эта информация, видимо, охмурила ее больше всего, что я сказал ей за вечер. Моя неуместная ухмылочка вкупе со знанием местоположения фашиста моментально прибавила мне загадочности.
— Кто тебе сказал?
Человек позагадочнее меня, конечно, знал бы, как увернуться от вопроса — по-боксерски, подтанцовывая, пригибаясь, чтобы сбить противнику прицел. Я знал то, что хотелось знать ей. Впервые у меня над нею было легкое преимущество. Название «Кошкино» придавало весомости моей связи с госбезопасностью, давало в руки рычаг…
— Лара, — ответил я, одним словом все и выдав.
— Которая из них Лара?
Я показал. Викин немигающий взгляд сместился на девушку, и мне показалось, что Лару я предал. Она была добра — пустила нас в дом, спрятала от холода, накормила горячим, выскакивала на мороз босиком, чтобы защитить нас перед подозрительными партизанами… А я выдал ее имя этой ухмыляющейся синеглазой убийце. Вика сбросила ноги с дивана, и ее пальцы в шерстяном носке задели мою штанину. Встала и подошла к Ларе, которая сидела на корточках перед огнем — подбрасывала дрова. Без сапог Вика выглядела совсем малышкой, но двигалась с ленивым изяществом — такое видишь у физкультурников, когда они расслабляются, уйдя со стадиона. «Это современная война, — подумал я, — здесь мышцы ничего не значат, и щупленькая девушка может расколоть фашисту голову с четырехсот метров».
Заметив, что снайперша улыбается ей сверху, Лара занервничала. Смахнула золу с рук, выслушала Вику. Их беседы я не разобрал, но увидел, что Лара кивнула и, судя по жестам, показала направление.
В комнату вместе с Корсаковым вошел Коля. Оба со стаканами в руках, они чему-то смеялись — ни дать ни взять лучшие друзья, вся вражда позабыта. Ничего другого я и не ожидал: Коля мог уболтать кого угодно, особенно когда рисовался. Он добрел до дивана и со вздохом плюхнулся на него, хлопнул меня по коленке. Залпом допил водку.
— Поел? — спросил он. — Пора двигаться.
— Мы уходим? Я думал, здесь переночуем.
В перестрелке все тело у меня напряглось и взбодрилось, но пули уже некоторое время не летали, и я чувствовал, как усталость гложет самые кости. Мы весь день шли по снегу, а спал я в последний раз у Сони.
— Ладно тебе, сам же должен соображать. Что, по-твоему, случится, когда фрицы обер-лейтенантов хватятся? Да сюда целый взвод отправят.
Вика добилась от Лары, чего хотела. Я видел, она тихо беседует с Корсаковым в углу: широкоплечий, заросший щетиной партизанский командир и его наемная убийца — в отблесках огня.
Остальные партизаны тоже засобирались — натягивали сухие носки, наматывали портянки, надевали валенки и сапоги, делали последние глотки водки на посошок перед долгим маршем. Девушки исчезли где-то в глубине дома — видимо, впопыхах хватали то, что могли унести с собой, и решали, куда же им теперь двигаться.
— Можем немецкие машины взять, — предложил я. Этот замысел меня вдохновил. — Девушек до Питера довезем… — Но, как и все мои вдохновенные замыслы, этот померк, не успел я договорить.
— Доехать на «кюбеле» до Ленинграда, — сказал Коля. — Гм… да, это, пожалуй, мысль. А когда наши скатают нас прямо по дороге, какой-нибудь дурачок с Поволжья вытащит дымящиеся трупы из обломков и скажет: «Ты гля! Фашисты — а совсем как мы!» Нет, львенок, в Питер мы пока не поедем. У нас дела в Кошкине.
17
Через двадцать минут мы опять брели по снегу, и домашнее тепло постепенно забывалось. Мы двигались меж елок гуськом с интервалом в девять шагов — так приказал Корсаков. Я не понял тактической важности такого строя, но поверил командиру. Эти люди — мастера засад, они знают, что делают. Коля шел передо мной, и я, опустив голову, видел только полы его шинели и черные сапоги. Остальные в нашем маленьком караване были призраками — незримыми, неслышимыми; лишь изредка хрустела попавшая под ногу ветка, и скрежетал колпачок фляжки, из которой кто-нибудь глотал еще горячий чай.
Я никогда не верил в расхожую истину, что солдат учится спать на ходу. Но чем дальше мы шли, тем сильнее баюкал меня наш размеренный шаг, и я начал задремывать и просыпаться. Даже холод не бодрил. Если по дороге Кошкино располагалось всего в нескольких километрах от домика под елками, но от любых дорог мы держались подальше — обходили расположения немецких частей, на которые мы с Колей одни непременно бы наткнулись. Корсаков сказал, что идти будем часа четыре. Не прошел и первый час, а уже казалось, что в череп мне через дырку налили густого тягучего сиропа. Я все делал медленно. Если хотелось почесать нос, я осознавал команду мозга, неохотное повиновение руки, долгий ее путь до лица, поиск носа (обычно легкой мишени), а в конце — благодарное возвращение руки в пещерку уютного кармана отцовской шинели.
Чем больше я уставал, тем сомнительнее мне представлялся наш план. Как такое вообще возможно? Мы — отряд заколдованных мышей, шагаем под луною, нарисованной мелом на школьной доске небес. В Кошкине живет колдун — он знает древние заклятия, которые снова превратят нас в людей. Как только мы дотуда дойдем. Но по пути нас поджидают опасности — по льду царапают когтями огромные черные коты, бросаются на нас, а мы разбегаемся по буеракам, и наши хвостики подергиваются от страха.
Мои ботинки утонули в глубоком сугробе, и я чуть не подвернул лодыжку. Услышав, как я оступился, Коля обернулся, но я обрел почву под ногами, отрывисто ему кивнул — все в порядке, мол, — и двинулся дальше.
Девушки из домика ушли одновременно с нами. У них не было ни зимней одежды, ни теплой обуви: немцы все это забрали после Зоиного побега. Поэтому девушки натянули на себя всего как можно больше — все рубашки, все свитера, все чулки и трико, что у них были. Вес одежды тянул их к земле, и по комнате они бродили, пошатываясь, как пьяные толстые селянки. Галина придумала раздеть мертвых немцев — снять с них шинели. Но на нее зашикали: если их опять поймают, все и без того будет плохо, а попасться в шинелях убитых немцев — вообще верная смерть.
На пороге перед уходом мы с Колей расцеловали их в щеки. Девушки решили не идти в Ленинград. У кого-то в городе жили родственники, дядья, двоюродные братья, но они, скорее всего, либо умерли от голода, либо эвакуировались на восток. А главное — еды в Ленинграде и местным-то жителям не хватает. У сельских девушек даже продовольственных карточек нет. Идти в Ленинград бессмысленно, поэтому они решили двигаться на юг. С собой они забрали все остатки провизии — но лишь после того, как свои вещмешки набили партизаны. Корсаков выделил девушкам два трофейных «люгера» для самозащиты. Шансов у Лары с подругами было немного, но, выходя из домика, они были в приподнятом настроении. Домик несколько месяцев был им тюрьмой, они мучились в нем каждую ночь, а сейчас… сейчас они были свободны. Я поцеловал их во все восемь щек, помахал на прощание — и никогда больше их не видел и ничего не слышал о них.
Что-то встряхнуло мое плечо, глаза мои распахнулись, и я понял, что уже некоторое время иду в полусне. Рядом шагал Коля и придерживал меня за плечо.
— Ты еще с нами? — тихо спросил он, глядя на меня с искренним участием.
— С нами.
— Пойду с тобой. Может, не заснешь.
— Корсаков же сказал…
— Не этой свинье безродной мною командовать. Видел, как он с девушками обошелся?
— Но ты же с ним так подружился.
— Нам он сейчас нужен. А его маленькая подружка… Я видел, как ты на нее смотрел. Хочешь снайпершу на мушку взять? А? Хе-хе…
Я покачал головой. От усталости я даже простонать ничего не мог в ответ на его незамысловатую шуточку.
— А ты с рыжей когда-нибудь бывал? Ой, погоди, что это я говорю — ты же вообще ни с кем не бывал. Хорошая новость в том, что в постели они сущие дьяволицы. Две из трех лучших девушек у меня в постели были рыжие. Или из четырех… не помню. А оборотная сторона медали — они терпеть не могут мужиков. Очень в этом смысле злые, друг мой. Так что будь осторожнее.
— Все рыжие ненавидят мужчин?
— Да и неспроста, если вдуматься. Какую рыжую ни встретишь — у нее в предках обязательно викинг найдется. Бегал тут, руки людям топором рубил, а потом ее пра-пра-какую-нибудь-бабку изнасиловал. И на твоей подруге до сих пор кровь этих разоров.
— Хорошая теория. Ты ей об этом расскажи.
Я старался ступать в следы того партизана, что шел впереди, шагах в двадцати от нас. По следам идти было легче, нежели по свежему снегу, но у человека впереди ноги были длинные, поэтому все равно марш давался мне с трудом.
— Уточню для ясности, — сказал я, подныривая под разлапистую еловую ветку, нависавшую над тропинкой. — Сейчас мы идем в Кошкино, чтобы найти дом, где штаб айнзацгруппы, потому что там могут быть яйца, так?
— Это мы делаем ради капитана, да. А сами по себе — и ради победы — мы идем в Кошкино, чтобы уничтожить айнзацгруппу, потому что ее надо уничтожить.
Я опустил голову, прячась от ветра в воротник отцовской шинели. Ну что еще обсуждать? Коля считал себя эдакой богемой, вольнодумцем, а сам — по-своему — так же верил в правое дело, как любой юный пионер. А хуже всего другое: я тоже не считал, что он неправ. Айнзацкоманду действительно следовало уничтожить, пока она не уничтожила нас. Мне просто не хотелось заниматься этим самому. Я что, должен проникнуть к ним в берлогу с одним лишь трофейным ножом? Пять дней назад рассказ о такой экспедиции показался бы мне приключением, о котором можно только мечтать. Я и мечтал с самого начала войны. А вот сейчас, в самый разгар приключения, жалел, что не уехал с матерью и сестренкой в сентябре.
— Помнишь сцену в конце «Дворовой псины»? Когда Радченко видит своего старого преподавателя — тот ковыляет по улице и что-то бормочет голубям?
— Худшая сцена в мировой литературе.
— Ой, прости, ты же не читал.
Колино постоянство успокаивало; он снова и снова радостно отмачивал те же шутки, рассказывал те же анекдоты — если, конечно, их можно так назвать. Будто бодренький, но выживший из ума дедушка: сидит за семейным столом, весь борщом облился — и знай себе в стотысячный раз повествует о том, как видел государя-императора, хотя все родственники уже выучили историю наизусть.
— На самом деле это, знаешь ли, один из самых прекрасных эпизодов в художественной литературе. Его преподаватель некогда был знаменитым писателем, а нынче совершенно позабыт. И Радченко за него очень неловко. Он наблюдает за преподавателем из окна спальни — Радченко никогда не выходит из квартиры, семь лет уже, как ты помнишь, — и вот он смотрит, как старый профессор бредет по улице, прочь с глаз, замахивается на голубей, бранит их. — Коля откашлялся и с выражением начал: — «Искра божья — наверняка истовая любовница. Она прекрасна. Когда она с тобой, на вас оборачиваются люди, вас замечают. Но она имеет обыкновение ломиться к тебе в неурочные часы, а потом надолго исчезает — ей не нужна вся остальная твоя жизнь, ей без надобности твоя жена, твои дети, друзья. Вечер, проведенный с нею, волнует тебя, как ничто другое, ты ждешь его всю неделю, однако настанет день, когда она оставит тебя навсегда. А однажды вечером, спустя много-много лет, ты увидишь ее под ручку с мужчиной помоложе, и она сделает вид, будто тебя не узнала».
Колю явно не брала усталость — это изумляло и раздражало меня. Сам я мог двигаться, лишь наметив дерево где-нибудь впереди и дав себе слово, что не упаду в снег, покуда не дойду до этого дерева. А когда мы доходили, я отыскивал глазами еще одно и клялся, что это уж точно станет последним. Коля же, судя по всему, мог часами скакать по лесам без устали — и при этом ораторствовать театральным шепотом.
Я чуть подождал, а когда убедился, что он закончил монолог, кивнул:
— Мило.
— Ведь правда, а? — быстро переспросил он, довольный. Как-то странно переспросил; я на ходу всмотрелся в его лицо, бледное в лунном свете.
— Ты что, всю книгу наизусть выучил?
— Ой, ну не знаю. Так, куски там-сям.
Мы перевалили пологую гряду, и снег стал глубже. Каждый шаг давался труднее, я по-стариковски задыхался и кашлял, будто у меня осталось всего одно легкое. До следующего дерева было еще долго.
— Можно спросить?
— Уже спросил, — ответил он. Все-таки его самодовольство меня иногда очень бесило.
— А что ты пишешь у себя в дневнике все время?
— Смотря какой день. Иногда просто заметки о том, что видел. Иногда что-нибудь услышу от кого-то, и мне понравится реплика-другая.
Я кивнул и провел эксперимент: закрыл секунд на десять один глаз, потом другой, чтобы каждый немного отдохнул — от ветра в том числе.
— А почему ты спросил?
— Мне кажется, ты сам пишешь «Дворовую псину».
— Тебе кажется… в смысле — критическую статью? Ну да, я разбираю эту книгу. Я же тебе говорил. Когда-нибудь лекции о ней читать буду. В России, может, человек семь знают о ней больше меня.
— А я думаю, что никакого Ушакова нет. — Я сдвинул шапку повыше, чтобы лучше видеть Колю. — Ты все время твердишь, что это классика, а я про нее ни разу не слыхал. И ты очень обрадовался, когда я сказал, что этот кусок мне понравился, ты вроде бы… загордился. Если б я тебе процитировал Пушкина и ты сказал, что хорошо написано, я ведь гордиться не стал бы, правда? Не я же написал.
Коля и глазом не моргнул. Ничего не выдал лицом, ни от чего не открестился.
— Но тебе же понравилось?
— Неплохо. Только что сочинил?
— За последние несколько часов. И знаешь, что меня вдохновило? То стихотворение твоего отца. «Зашел в кафе поэт, когда-то знаменитый…»
— И это тоже меня на мысль навело. Ты нагло его обокрал.
Коля рассмеялся, выдув в морозный воздух огромный клуб пара:
— Это литература. У нас это не называется кражей — мы это зовем «оммаж». А как тебе первая строка? Понравилась?
— Я не помню первой строки.
— «На бойне, где мы поцеловались впервые, воздух еще смердел кровью агнцев».
— Мелодраматично, нет?
— А почему нельзя драматично? Все эти современные писатели — такие премудрые пескарики…
— Я сказал — мелодраматично.
— …но если тема требует напора, будет ей напор.
— Так все это время… Чего ж ты мне сразу не сказал, что сочиняешь роман?
Коля поглядел на луну, которая уже клонилась к зубренной бахроме еловых верхушек. Скоро совсем закатится, и нам придется брести в полной темноте, спотыкаясь о корни и скользя на черном льду.
— В ту первую ночь, что ли? В «Крестах»? Я думал, наутро нас обоих расстреляют. Так какая тогда разница, что я тебе скажу. Я и сказал первое, что в голову пришло.
— Так ты же мне говорил, что нас не расстреляют!
— Ну, ты вроде боялся. Ладно, сам подумай — дезертир и мародер. Что нам светило?
Следующее дерево, что я себе наметил, росло очень, невероятно далеко — эта елка безмолвным часовым высилась над собратьями. Пока я отдувался, Коля прихлебывал из фляжки чай, как натуралист в ночном походе. Армейские пайки гораздо больше пайков для гражданских — вот так я объяснял его замечательную энергичность. Забыв, что последние дни мы с ним питались практически одним и тем же.
— Ты сказал, что ушел из части, чтобы защищать диплом по «Дворовой псине» Ушакова, — сказал я, переводя дух между словами. — А теперь сам же признаешь, что никакого Ушакова нет, да и никакой «Дворовой псины» нет.
— Но будет же. Если доживу.
— Чего ж ты из части тогда ушел?
— Тут все сложно.
— Вы что, дрючиться в кустах собрались?
Мы с Колей развернулись на голос. Вика подкралась к нам беззвучно — и так близко, что, протяни я руку, коснулся бы ее щеки. На нас она смотрела с презрением — ей, видимо, противно было находиться в обществе таких жалких солдат.
— Вам сказали идти гуськом, интервал — девять шагов.
Голос у нее был слишком низкий для такой миниатюрной девушки, хрипловатый, как будто неделю назад она болела и гортань еще была воспалена. Однако шептать она умела — произносила все слова тихо, но четко, и мы всё уловили, а за пять метров ее совсем не было слышно.
— А вы тут гуляете под ручку, как пара педерастов. О книжечках беседуете. Соображаете, что два километра до немецкого лагеря? Если хотите в канаве очутиться вместе с коммунистами и евреями — ваше дело, а я на следующий год хочу дойти до Берлина.
— Вот он — еврей, — сказал Коля, ткнув в мою сторону большим пальцем. И сделал вид, что не заметил моего злобного взгляда.
— Правда, что ли? Тогда я в жизни еще не встречала еврея глупее. Давайте тогда валите обратно в Питер. Или закройте хлеборезку и подчиняйтесь правилам. Думаете, почему мы за два месяца ни одного бойца не потеряли? Давайте, шире шаг.
Она подтолкнула нас обоих в спину, и мы опять рассредоточились гуськом, с интервалом в девять шагов. Зашагали дальше, тихие, пристыженные.
Я шел и думал о писателе, которого никогда не было, — об этом Ушакове, о его несуществующем шедевре «Дворовая псина». На Колю я при этом почему-то не сердился. Странная ложь, но безвредная — всё, что он мне сказал. И чем дальше я шел, тем яснее понимал, зачем он это сделал. С виду Коля казался бесстрашным, однако в каждом человеке где-то таится страх. Страх мы наследуем. Не от пугливых ли маленьких землероек мы произошли? Они дрожали в страхе по своим норкам, когда мимо с топотом неслись огромные звери. Людоеды и фашисты Колю не пугали. Его пугал позор: вдруг чужой человек станет смеяться над тем, что Коля написал?
У моего отца было множество друзей, преимущественно писателей. И в нашей квартире они собирались, как в клубе: мать готовила отменно, а отец, как правило, никому не отказывал от дома. Мать жаловалась, что управляет прямо-таки «Литературным трактиром». В квартире постоянно витали клубы табачного дыма, повсюду окурки — валялись в горшках с цветами, плавали в стаканах с недопитым чаем. Однажды вечером некий драматург-экспериментатор насовал хабариков в капли свечного воска и расставил их на кухонном столе. Это были римские и карфагенские войска, а он хотел показать, как именно Ганнибал использовал тактику двойного охвата при Каннах. Мать ворчала: шум, битое стекло, все ковры в пятнах от дешевых крымских вин. Но я-то знал, ей нравилось принимать в доме толпы романистов и поэтов, нравилось, что они пожирают целые кастрюли ее рагу и восторгаются ее пирогами. В юности она была красавицей, и, хоть сама ни с кем не флиртовала, любила, если симпатичные мужчины приударяли за ней. Она сидела на диване подле отца и слушала их дебаты, речи и обличения, ничего не говорила, но слышала все. Собственное мнение она приберегала до разбора полетов с отцом, когда последний пьяный гость вываливался на площадку. Сама не писала, но читателем была превосходным — читала запоем, все подряд, и отец истово верил ее суждениям. Когда к нам заходил кто-нибудь из великих — Мандельштам или Чуковский, — она не осыпала их особенными знаками внимания. Но я не раз замечал: за ними она следила очень пристально, оценивала, как они ведут себя с моим отцом. В ее глазах весь литературный мир выстраивался по ранжиру, как в армии: может, знаков отличия и нет, но чины и звания имеются. И ей хотелось знать, до кого дослужился мой отец.
Иногда вина выпивалось достаточно, и тогда какой-нибудь поэт вставал — слегка покачиваясь, будто от сильного ветра, — и принимался декламировать свое новое творение. Восьмилетним мальчиком я вечно подглядывал из прихожей в столовую и надеялся только, что за этим занятием меня застанет отец. Его почти невозможно было вывести из себя, а вот мать, как правило, довольно споро давала мне по попе. Для меня стихи были китайской грамотой. В большинстве своем поэты хотели быть Маяковскими, но с его талантом им тягаться было не под силу. А вот внешне они ему подражали запросто — во весь голос орали строки, в которых не было никакого смысла для меня, да и, видимо, для всех присутствующих в комнате. Стихи не завораживали, увлекало представление: здоровенные дядьки с кустистыми бровями, в пальцах неизменно зажата папироса, с нее при всяком энергичном взмахе хлопьями слетает на пол пепел. Редко-редко под напряженными взорами поднималась женщина. Мать рассказывала, что однажды у нас читала Ахматова, но я этого не помню.
Иногда поэты читали по бумажке, иногда — по памяти. Закончив и слишком робея перед обращенными к ним лицами, они тянулись к ближайшему бокалу с вином или стопке водки — не только подзаправиться, как все пьющие, а чем-нибудь занять руки и глаза, дожидаясь отзывов публики. А публика собиралась знающая — коллеги, профессионалы, соперники — и отзывалась обычно со сдержанным одобрением: все кивали, улыбались, хлопали по спине. Раз или два я наблюдал, как эти матерые литераторы разражались восторгами. Их так трогало произведение, что они забывали зависть и ревность, орали «Браво! Браво!» и бросались к ошеломленному счастливому поэту, мокрыми губами слюнявили ему щеки, ерошили волосы, повторяли полюбившиеся строчки и в изумлении трясли головами.
Но гораздо обычнее было пренебрежительное молчание. Все прятали глаза, лицемерно выражали интерес к теме стихотворения или равнодушно поздравляли с бойкой метафорой. Если чтение не удавалось, поэт быстро это понимал. Залпом выпивал стакан, заливался багровым румянцем стыда, вытирал рот рукавом и убредал куда-нибудь в угол, где начинал пристально разглядывать корешки книг на отцовских полках: Бальзака и Стендаля, Уитмена и Бодлера. Поверженный, он затем старался уйти побыстрее. Однако уходить слишком рано было неспортивно, признак какой-то трусливой обиды, что ли, — и человек мучительно выжидал минут двадцать, пока окружающие старались не обсуждать его произведение, словно поэт грубо испустил ветер, а все присутствующие, люди воспитанные, виду не подают. Наконец, поэт благодарил мать за кров и стол, улыбался, но в глаза старался не смотреть — и выметался из дому, отлично зная, что едва он за порог — и все начнут перешучиваться насчет явленного им уродства: какой кошмар, сплошь громоздкая претенциозность и искусственность.
Коля оберегал себя, придумав Ушакова. Сочиненный им писатель служил щитом — Коля мог пробовать на окружающих первую фразу романа, философию главного героя, даже название книги. Мог проверить мою реакцию, не опасаясь насмешек. Розыгрыш, конечно, не самый тонкий, но удался ему славно, и я решил, что когда-нибудь из этого, наверное, действительно получится неплохой роман. Если его автор переживет войну и вычеркнет напыщенную первую фразу.
Беседа с Колей и стычка с Викой меня встряхнули, и я вглядывался в лес, надеясь, что у партизан впереди и позади меня глаза привычнее к темноте. Луна опустилась за деревья. До рассвета еще несколько часов — тьма хоть глаз выколи. Два раза я едва не столкнулся с деревом. Звезд на небе — мириады, но это так, для красоты. Интересно, почему все эти далекие солнца с земли видятся булавочными уколами света? Если астрономы правы и Вселенная просто набита этими звездами, а многие — побольше нашего Солнца, меж тем как свет путешествует по космосу вечно, не замедляясь и не угасая, — почему тогда небо не сияет светом круглосуточно? Ответ, должно быть, очень прост, но я никак не мог сообразить. С полчаса я не беспокоился из-за айнзацгруппы и ее командира Абендрота. Забыл о ноющих ногах. Не замечал холода. Неужели звезды — как фонарики, их луч добивает докуда-то, но не дальше? С крыши Дома Кирова я за несколько километров различал фонарик солдата, хоть он и не светил мне в лицо. Но опять-таки, почему луч фонарика слабеет с расстоянием? Что, частицы света распределяются, как дробь в ружейном выстреле? Свет вообще из частиц состоит? Или из чего? Полусонные мои размышления прервались, когда я воткнулся носом Коле в спину. От неожиданности я вскрикнул. На меня шикнул десяток голосов. Прищурившись, вглядевшись в смутные силуэты перед собой, я сообразил, что все остановились перед огромным заснеженным валуном. Вика уже на него вскарабкалась — не знаю, как ей удавалось в темноте цепляться за его обледенелые бока.
— Жгут деревню, — сообщила она вниз Корсакову. Едва она это произнесла, я ощутил в воздухе гарь.
— Тела нашли, — сказал Корсаков.
Немцы очень доходчиво объясняли населению оккупированных территорий свою философию возмездия. К стенам прибивали плакаты, делали объявления по радио на русском языке. Наконец, пускали слухи через тех, кто с ними сотрудничал: за каждого убитого немецкого солдата будет уничтожено тридцать русских. Выслеживать партизан — занятие трудное и неблагодарное, а вот согнать побольше стариков, баб и детишек — это просто, хоть сейчас на месте осталась всего половина народу.
Если Корсакова и его отряд встревожило, что их успешный ночной рейд уже вызвал массовое избиение невинных, тревоги никто не выдал. Последовали переговоры шепотом. Вторгшись в нашу страну, враг объявил тотальную войну всем. Он клялся — снова и снова, на словах и на бумаге — испепелить наши города и поработить наш народ. В борьбе с ним полумеры не помогут. Нельзя ответить на тотальную агрессию какой-то недовойной. Партизаны и дальше будут отстреливать фашистов по одному; фашисты и дальше будут массово уничтожать мирных жителей — и в итоге поймут, что в этой войне им не победить, даже если и будут за каждого своего солдата убивать по тридцать человек. Арифметика жестока, но жестокая арифметика всегда была на стороне русских.
Вика слезла с валуна. Корсаков подошел к ней посовещаться. Проходя мимо, он пробормотал Коле:
— Ну вот вам и Кошкино.
— Не идем?
— А зачем? Смысл-то был дойти туда до рассвета и выследить айнзацев. Дым чуешь? Это айнзацы нас выслеживают.
18
У партизан была тайная база в нескольких километрах от Ладожского озера: давно заброшенная охотничья сторожка в густом ельнике на склоне. За час до зари мы наконец до нее добрались. Небо терпеливо перетекало из черноты в серость, воздух светлел, пролетали редкие снежинки. Все, видимо, считали этот снег добрым знаком — заметет наши следы, а днем будет теплее.
К базе мы шли по низкой гряде — мимо еще одной горящей деревни. Жгли ее безмолвно — только домики безропотно рушились в пламя да в небо летели стаи искр. Издали было красиво, и я подумал: до чего странно, что война часто так приятна глазу. Взять трассирующие пули в темноте… Когда мы проходили мимо, до нас только раз донеслись выстрелы — где-то в километре разом заговорили семь-восемь автоматов. Мы знали, что это означает, и хода не сбавили.
Сторожку, похоже, строил человек нетерпеливый, к тому же руки у него росли из одного места: он просто сколотил толстенные доски ржавыми гвоздями. Дверь висела на петлях криво. Окон не было — только труба на крыше для вентиляции, а пол не настелен — утоптанная земля. Внутри так воняло испражнениями, что слезились глаза. Все стены словно когтями исцарапаны: надо полагать, здесь до сих пор жили призраки всех освежеванных куниц и лис — и, едва лучина гасла, бросались драть постояльцев.
Снаружи было холодно, однако и внутри не теплее — только что ветер не дул. Корсаков назначил часовым первого несчастного. Партизан в финском маскхалате скинул сидор и дровами, оставленными в домике загодя, растопил буржуйку. Пламя затрещало, и мы все сбились вокруг печки как можно ближе — тринадцать мужчин и девушка… ну, или двенадцать мужчин, девушка и мальчишка, если уж совсем честно. И в сотый раз за ту ночь я подумал: раздеть бы ее, скинуть всю эту грязь, чтобы под нечистой бледной кожей натянулись голубоватые прожилки вен… А груди у нее есть? Или плоская, как пацан? Бедра у Вики были узкие, как у меня, — в этом я был уверен, но и со стрижеными волосами, с разводами грязи на шее она все равно выглядела неоспоримо женственно. Особенно когда гордо выпячивала нижнюю губу. Интересно, другие мужики в отряде тоже ее хотят или для них всех, как и для Корсакова, она — только бесполый снайпер со сверхъестественным глазомером? Это они идиоты или я? От вони было не проморгаться, но вскоре ее прибило дымом из печурки. В сторожке даже стало уютно — тепло и от печки, и от нас. Я, впрочем, так устал, что заснул бы где угодно. Поэтому расстелил отцовскую флотскую шинель, под голову свернул шарф — и в кои-то веки тут же провалился забытье.
Через минуту меня толкнул Коля.
— Эй? — прошептал он. — Не спишь?
Я не разжал веки в надежде, что он оставит меня в покое.
— Ты на меня злишься? — гнул свое он. Губы его шевелились у самого моего уха — он шептал мне прямо в мозг, неслышимо для остальных. Хотелось ему двинуть, чтоб наконец заткнулся, неинтересно только сдачи получать.
— Нет, — ответил я. — Спи.
— Прости, что я тебе наврал. Ладно, я знал, что нам конец, — неважно. Неправильно это было.
— Спасибо, — пробормотал я и перевернулся на бок, рассчитывая, что он поймет намек.
— Но название же тебе понравилось, правда? «Дворовая псина»? Знаешь, что оно значит?
— Коля… дай мне, пожалуйста, поспать, а?
— Извини. Конечно-конечно, спи.
Полминуты прошло в молчании, но расслабиться и опять заснуть я не мог. Я знал, что он не спит рядом — лежит, в потолок пялится. И сейчас снова что-нибудь у меня спросит.
— Правду хочешь? Знаешь, почему я из части ушел?
— Завтра расскажешь.
— У меня девушки не было четыре месяца. Яйца звенели, как колокола на Светлую седмицу. Шучу, думаешь? Я ж не ты. Мне не хватает твоей дисциплины. Я свою первую девчонку завалил через три дня, как у меня стал вставать. В двенадцать лет, даже волосни еще не было. А запердолил Клавдии Степанне в котельной — трах, трах, трах…
Трах?
— Во мне голод просыпается. Точно тебе говорю. Неделю похожу без бабы — и уже сосредоточиться не могу, мозги не работают. Хожу по траншеям, а стояк — как перископ торчит.
Колино дыхание обжигало мне ухо, и я попробовал отодвинуться, но нас притиснуло друг к другу на земляном полу, как папиросы в пачке.
— Мы всем батальоном хотели Новый год отмечать. Водки достали. Думали, песняка подавим. Я слыхал, кто-то раздобыл поросят — их прятали где-то в сарае, мы бы их поджарили. И всю ночь бы праздновали. Ну вот я и решил, пускай они там себе отмечают, им водки и свинины больше достанется, а у меня другие дела. До Питера — меньше часа на машине. У меня есть друг-вестовой, он постоянно в штаб гоняет. Это часа три-четыре в городе. Мне хватит. Поеду с ним, он меня высадит у дома подруги…
— Сони?
— Нет, Юли. Не самая роскошная красавица на свете, вообще, даже не симпатичная на самом деле. Но честное слово, Лев, у меня на нее вставал, даже когда она себе ногти пилочкой точила. Не вульва, волшебство. Честно. На шестом этаже жила, и я пока по лестнице шел — готовился. Даже позицию придумал — просто перегну ее через спинку дивана, чтоб жопой вверх, и засажу поглубже. Не знаю, к у тебя с агрегатом дела обстоят… кстати, но если особо не обстоят, это лучшая позиция. До упора заходишь. В общем, дохожу до ее квартиры, ремень уже расстегиваю, стучу — открывает старуха. Росточком с карлицу, и лет ей, наверно, двести. Я ей говорю: я Юлин знакомый, а она мне: «Да окстись, милок, Юля уж месяц как померла». Окстись! Едрить твою налево! Ну я говорю ведьме: мои соболезнования, то и се, сую ей кусок хлеба, потому что она едва на ногах держится, и — ходу вниз. Время-то идет. А неподалеку живет еще одна девушка — из балета, я тебе рассказывал. Вся немножко такая — фу-ты ну-ты, но лучшие ножки в Питере. В дом к ней просто так не попадешь, нужно через ворота перелазить, чуть задницу штырем себе не пропорол, но перелез. Дохожу до квартиры, колочу в дверь: «Это я, Николай Александрович, открывайте!» Дверь открывается — и стоит ее муж, жирный, глазками своими крысиными на меня пялится. Говнюка этого никогда дома не бывает, а тут вот те раз. Он секретарь райкома нумерной, обычно в райкоме днюет и ночует, диктует декреты свои, а сегодня решил дома посидеть, жену свою на Новый год помучить. «Вы кто? Что это?» — и с таким негодованием притом, как будто я его своим стуком в дверь лично оскорбил. Как будто требую, чтобы он манду своей супруги мне на блюдечке вынес, с голубой каемочкой. Я ему в зубы хотел, чтоб он на сраку свою прыщавую так и хлопнулся, но здесь бы мне и капец настал. Поэтому я ему честь отдал, как положено, говнюку этому цивильному, говорю: извините, дверью ошибся — и пропадаю с глаз долой. Ну вот теперь-то мне и кранты, думаю. У меня только одна знакомая в этой части города осталась — Роза, но она профессионалка, а у меня с деньгами голяк. Но я же клиент надежный, может, в долг даст, может, за еду, правильно? До нее пара километров. Ну, я ноги в руки — и вперед, аж вспотел весь. С октября не потел. А времени совсем мало осталось, когда мой друг обратно уже поедет. Добегаю, запыхался, четыре пролета наверх — а у Розы дверь нараспашку. Я захожу, на кухне три бойца сидят, у них бутылка водки. Слышу — она в комнате где-то стонет, а эти пьяные ублюдки народные песни орут да по спинам друг друга знай колотят что есть дури. «Ты тока не бзди, — говорит мне последний в очереди. — Я мигом…» Я им денег даже предложил, чтоб меня без очереди пропустили, хоть и не было у меня никаких денег, да только ублюдки-то они ублюдки, но не тупицы, расписку с меня брать не стали. Я говорю: мне в часть надо, а они мне: «Так Новый год же! У вас перепились все. К утру вернешься — и нормалек». Ну, я думаю, ладно, может, и впрямь. Тут бутылка до меня дошла, я хлебнул с ними, и скоро уже мы вместе орали эти русские, мать их, народные песни, а я громче всех. Через час до меня наконец очередь дошла. Она девушка славная, мне плевать, что про шлюх рассказывают, — дала мне за остатки хлеба в кармане, а там немного было. Но, говорит, мне уже натерло, давай я у тебя в рот возьму. Через пятнадцать минут я уже опять как штык, а она мне улыбается и говорит: «Ой, как я вас, молоденьких, люблю», — и ноги раздвигает. И медленно так, нежно… А потом, через полчаса — опять. Я, наверно, с литр ей внутрь спустил, произвел орошение, так сказать, засушливых земель.
Мне стало неловко — будто, рассказывая, Коля сам себя распаляет.
— И в часть ты опоздал.
— Еще как. Только я не волновался — подумаешь, поймаю еще какую-нибудь попутку. Мальчишек-вестовых-то я всех знаю, это нетрудно будет. Но ты бы видел, как я от Розы выходил. Совсем другим человеком. Спокойный, иду — улыбаюсь во всю харю, шаг упругий. Только из дверей выпархиваю на панель — а тут патруль. Человек пять-шесть, суки. Останавливают. Где увольнительная? Нет увольнительной. Пакет в город привез от генерала Стельмаха. Операцию готовит, винтовки нужны, минометы, некогда ему было увольнительную мне подписывать. Подтираться мне ею, что ли? А Стельмах, по-моему, твоего племени, ты не знал?
— Ты до конца когда-нибудь дойдешь? Или мне тебя всю жизнь слушать?
— В общем, этот опарыш начинает меня допрашивать. А у самого усики такие, как у Гитлера. То есть в СССР, наверно, все, у кого такие усики были, их уже сбрили давно, а этот — нет. Скотина явно думает, что они ему к лицу. И спрашивает, почему это я пакет от генерала Стельмаха доставляю в жилой дом на Выборгской стороне. Ну, я думаю, чутка правды подпустить не помешает, и отвечаю по форме: так, мол, и так, пока ожидал транспорта в генеральскую ставку, встретился с девушкой. Подмигиваю ему — к человеческим, значит, чувствам взываю. И что ты думаешь? Хлопнул он меня по плечу, сказал, чтоб в следующий раз увольнительная была? Ничего подобного. Я четыре месяца на передовой вшей кормил, пока он тут по Питеру расхаживал, опарыш этот усатенький, задерживал честных солдат, которые мяска матери привозили, риса мешочек… В общем, дал я маху. Ничего человеческого в нем уже не было. Своим мигнул, меня в наручники быстренько — и оформили. А он улыбается мне эдак гаденько свысока и говорит: генерал Стельмах сейчас в Тихвине, и операция у него уже успешно завершилась.
— Не надо было вообще его называть. Это ты сглупил.
— Ну конечно, сглупил! У меня член еще не обсох, как не сглупить?
Партизаны заворочались и заворчали, чтоб Коля заткнулся, поэтому он опять перешел на шепот.
— У меня мозги не работали. Я просто ушам своим не поверил, когда он обвинения предъявил. У кого хочешь голова закружится. Днем ты еще образцовый боец Красной армии, а через пять часов — уже дезертир. Думал, меня тут же на улице и расстреляют. А меня вместо этого — в «Кресты». Так я тебя и встретил, мой маленький угрюмый семит.
— А почему Юля умерла?
— Кто? А… не знаю. От голода, наверно.
Мы полежали тихо, слушая, как храпят вокруг мужики. Некоторые просто сопели, некоторые надсадно кашляли, кто-то сипел, как ветер в печной трубе. Я попробовал различить Викино дыхание. Интересно — как она спит ночью? Но ничего не услышал.
Сначала я злился, что Коля не давал мне спать своей нескончаемой болтовней, но в наступившем молчании мне стало как-то одиноко.
— Спишь? — спросил я.
— Умгм… — сонно ответил он. Конечно, дорассказал, что хотел, можно и на боковую. Десятый сон небось уже видит.
— А почему ночью темно?
— Чего?
— Ну, на небе же миллиарды звезд, почти все — яркие, как солнце, а свет путешествует вечно. Почему же тогда не светло все время?
Ответа я не ждал. Думал, фыркнет и скажет, чтоб я не болтал глупостей и тоже спал. Или отбоярится как-нибудь, вроде: «Ночью темно, потому что солнца нет». А он вдруг подскочил и сел. И воззрился на меня. В угасавших отблесках пламени в буржуйке я видел, что он хмурится.
— Это отличный вопрос, — сказал он. Еще немного подумал, вглядываясь в темноту за кругом света от печки. Затем покачал головой, зевнул и опять рухнул на свою шинель. Через десять секунд он уже крепко спал, и всхрапывал при этом.
Когда снаружи сменился часовой, я еще не уснул. Он вошел, разбудил смену, подбросил хворосту в умирающий огонь и улегся в круг спящих тел. Еще где-то с час я лежал и слушал треск сучьев, думал про свет звезд и Вику. Пока наконец не забылся во сне и мне не приснилось, как с неба сыплется дождь из пухлых девушек.
19
Часовой разбудил нас перед полуднем — с треском ввалился в дверь. Он старался не кричать, но в голосе звенела паника.
— Идут, — сказал он. Мы вскочили, не успел он продолжить. Сон как рукой сняло. Спали мы, не разуваясь, поэтому готовность была что надо. — Похоже, рота. С пленными.
Корсаков накинул на плечо ремень винтовки:
— Пехота?
— Танков не заметил.
Через полминуты мы вывалились из сторожки на враждебный солнечный свет. Внутри было темно, как в склепе, и я невольно зажмурился. Мы двигались за Корсаковым. Приказ был понятен и без слов: драпаем.
Шансов у нас не было. Не успел последний партизан выскочить из сторожки, а я уже слышал немецкую речь. Они что-то орали. Я весь превратился в зверька — ни единой мысли в голове, только страх вперед гонит. Потеплело, снег стал влажен и рыхл, так и норовил засосать ботинки поглубже.
Помню, лет девять мне было, и в Питер приехала делегация знаменитых французских коммунистов. Улицы к их приезду привели в порядок. Помню дорожных рабочих: к губе папироса прилипла, кидают лопатами свежий асфальт на улицу Воинова, а потом ровняют его такими дощечками на длинных ручках. И улица после них становилась прямо-таки бульваром расплавленного шоколада. Мы с близнецами Антокольскими все утро смотрели от ворот Дома Кирова. Не помню, от чего именно в нас вспыхнул этот порыв. Но не сговариваясь, даже не глянув друг на друга, мы скинули башмаки, швырнули их во двор и помчались через дорогу. На подошвах могли остаться волдыри от горячего асфальта, но нам было все равно. Позади оставались цепочки следов, а мы, оказавшись на другой стороне улицы, не остановились, бежали дальше. Рабочие матерились, грозили лопатами, но не гнались — все равно бы не догнали.
Вечером мать целый час сердито оттирала мне пятки — мылом, пемзой. Отец же стоял у окна, заложив руки за спину, и старался не улыбаться. Он смотрел сверху на Воинова — мостовая под фонарями была идеально гладка, если не считать трех пар мелких следов, пересекавших дорогу, как следы чаек на мокром песке.
По горячему асфальту бегать — это тебе не по тающему снегу. Сам не знаю, отчего эти воспоминания у меня до сих пор связаны.
В ельнике захлопали выстрелы. Одна пуля прожужжала совсем рядом, так громко и близко, что я дернул рукой — проверить, не задело ли голову. Партизан, бежавший передо мной, запнулся и упал. Упал он так, что я понял: больше уже не встанет. Сам я бежать быстрее не мог — и не мог бояться сильнее; прямо у меня перед носом убили человека, но ничто не всколыхнулось во мне. В тот миг я уже не был Львом Абрамовичем Бенёвым. Не было у меня никакой матери в Вязьме, не было и отца, похороненного на неведомом клочке земли. Не было дедов по отцовской линии — талмудистов в черных кипах, не было предков по материнской — московских мещан. Если бы в тот миг меня за шиворот схватил немец, встряхнул и на чистом русском языке потребовал назвать имя, я бы не смог ему ответить. Даже двух слов связать бы не смог, чтобы взмолиться о пощаде.
Я заметил, как Корсаков развернулся, чтобы открыть огонь по нашим преследователям. Но выстрелить он не успел — пулей ему сразу оторвало нижнюю челюсть. Он моргнул — в глазах его еще теплилась жизнь, хотя половины головы уже не было. Я пробежал мимо него в узкий распадок, все дальше вверх, на другую сторону, где журчал ручеек — вода от тающего снега уже текла по камешкам и веткам.
Следуя смутному инстинкту, я резко свернул вдоль ручейка и побежал вниз по склону, скользя на камнях. Получалось быстрее, чем по снегу. Все тело мое ждало неизбежной пули — железнодорожного костыля, вогнанного кувалдой между лопаток. Он швырнет меня лицом вниз в студеную воду. Несмотря на голод и не проходящую усталость, я оказался до странности проворен — ноги сами выбирали, куда ступить, даже не советуясь с мозгом, ботинки шлепали по ледяной воде, и я ни разу не споткнулся.
Не знаю, сколько я бежал и далеко ли, но в конце концов пришлось остановиться. Я нырнул за ствол древней ели, росшей в низинке. На поникших ветвях тяжким слоем лежал мокрый снег, и я сел в тени, стараясь отдышаться. Ноги дрожали, даже когда я прижал бедра варежками, чтобы успокоиться. Когда прошла резь в легких, я выглянул из-за ствола и посмотрел на склон, с которого сбежал.
Ко мне направлялись трое с винтовками в руках — довольно целеустремленно. Форма вроде не гитлеровская. На ближайшем был маскхалат финского лыжника, и я сообразил, что это тот самый партизан, который сосал палец у мертвого немца, чтобы снять кольцо. Его тоже называли только по фамилии — Марков. В этот миг узнавания я любил его — и грубоватое обветренное лицо, и запавшие глаза, которые прошлой ночью показались мне глазами убийцы.
За ним быстро шагал Коля, и при виде его я расхохотался в голос. Мы познакомились в среду вечером, а до субботы он мне даже не нравился, сегодня же — в воскресенье — я чуть не плакал от счастья. Он жив! Каракулевую шапку он потерял где-то на бегу, светлые волосы падали ему на лоб, и он отбрасывал их рукой на ходу. Вот он повернулся к третьему и что-то сказал ему, ухмыльнувшись. Должно быть, сострил.
А этим третьим оказалась Вика. У нее шапка уцелела — Вика надвинула ее на самые брови, но даже издали я видел, как ее волчьи глаза из-под меха цепко осматривают местность. То, что сказал Коля, ее явно не развеселило. Похоже, она его даже не слушала. Каждые несколько шагов она оглядывалась: нет ли погони?
Сколько я бежал — двадцать минут? Десять? Казалось, очень долго, потому что охотничья сторожка представлялась мне чужим краденым воспоминанием. Подлинный ужас — убежденность, что сейчас твоя жизнь резко и больно прервется, — стирает из мозга все. Поэтому даже узнав Колю, Вику и Маркова, даже несмотря на то, что лиц прекраснее во всем Советском Союзе в тот миг не было, я не мог ни позвать этих людей, ни помахать им. Тень под низкими разлапистыми ветвями была моим схроном. Покуда я под деревом, ничего плохого со мною не будет. Меня и немцы не нашли. И я здесь не видел, как кому-то оторвало челюсть, не видел, что от лица человеческого остались одни глаза, а ниже — кровавая клякса, как на полу у живодера. Я не мог поманить Колю, хоть за эти четыре дня он и стал мне лучшим другом.
Но, может быть, я шевельнулся, поежился — что-то, видимо, зашуршало или щелкнуло, и Вика мигом развернулась в мою сторону. Ее винтовка уже упиралась прикладом в плечо, а на меня смотрело дуло. И даже тогда я не сумел сказать ничего внятного, чтобы спасти себе жизнь. Мог бы ее имя крикнуть. Любую фразу по-русски.
Сидел я в тени, под заснеженными ветками, но Вика чудом меня узнала. И не нажала на спуск.
— Дружок твой, — сказала она Коле. — Может, ранен?
Коля подбежал ко мне, раздвинул ветки, схватил меня за отвороты шинели и принялся телепать мое тело туда и сюда. Видимо, искал входные пулевые отверстия.
— Задело?
Я потряс головой.
— Тогда пошли. — Он поднял меня на ноги. — Они совсем близко.
— Поздно, — сказала Вика. Они с Марковым зашли к нам в укромную низинку, и девушка повела стволом винтовки выше по склону.
На гребне нарисовались немцы в белых куртках. До них было меньше двухсот метров — с автоматами на изготовку они осторожно продвигались цепью, опасаясь засады. Сначала на снегу появилось лишь несколько солдат, но из-за гребня возникали все новые и новые, и вскоре уже весь склон кишел людьми, охотившимися на нас.
Из кармана маскхалата Марков вытащил полевой бинокль. Осмотрел наступавших немцев.
— Вторая пехотная бригада СС, — прошептал он, передавая бинокли Вике. — Видишь?
Девушка кивнула, а от бинокля отмахнулась. Между шеренгами солдат плелись поникшие фигуры. Перемазанные грязью красноармейцы шли рядом с ошеломленными гражданскими — кто в чем, кто что успел набросить на себя, когда в деревню ворвались немцы. Некоторые бедняги шли в одних рубашках — ни пальто, ни варежек, ни шапок. Они шлепали по мокрому снегу, не поднимая голов, не говоря ни слова. Шли прямо на нас.
— Похоже, целая рота, — произнес Марков, засовывая бинокль обратно и беря винтовку на изготовку. — Вот стоило золотишко прикарманить…
Вика жестом остановила его:
— Не терпится мучеником стать?
Партизан глянул на нее, уже целясь в ближайшего фашиста.
— Пехоту бить, — сказала Вика, — это игрушки. Нам нужны айнзацы.
Марков насупился и сбросил с плеча ее руку — словно к нему на улице пристала ненормальная, денег просит.
— Не нам выбирать. Я вижу только автоматчиков.
— Айнзацгруппа А придана Второй пехотной. Сам знаешь. Абендрот где-то рядом.
Мы с Колей переглянулись. Вчера ночью мы услышали эту фамилию впервые, а сейчас каждый слог ее вселял ужас. У меня из головы не шла эта незнакомая Зоя — как она корчится на полу рядом со своей отпиленной ногой. Самого Абендрота я представить себе не мог — девушки его не описали, — но мысленно видел его руки: все в крови, а ногти ухоженные, безупречные. Эти руки откладывали пилу на половицы сельского домика.
— Да все уже, — сказал Марков. — Некуда бежать.
— А я и не говорю «бежать». У них тут больше сотни пленных. Смешаемся с ними…
— Совсем опизденела, дурища? Думаешь, если выйдешь к ним, подняв руки, они дадут тебе сдаться?
— А мы и не будем сдаваться. — Вика пригнула ветку, привстала на цыпочки и вбила винтовку покрепче между веткой и стволом. Потом опустилась на землю, стряхнула снег с перчаток и кивнула Маркову, чтоб и тот спрятал свою. — Смешаемся с пленными и дождемся нужного момента. Этих баранов они уже обыскали. У тебя же тоже пистолет есть? Давай быстрее, прячь винтовку.
— Могут еще раз обыскать.
— Не могут.
До ближайших немцев оставалось меньше сотни метров. Маскировочные капюшоны туго натянуты на головы. Марков не сводил с них глаз: розовые лица — отличные мишени для искусного снайпера.
— К ночи они половину пленных поубивают.
— Значит, мы будем в другой половине.
Коля улыбнулся и кивнул — ему замысел понравился. Такой смехотворный план он и сам мог бы разработать. Я совсем не удивился, что он доволен.
— Стоит попробовать, — прошептал он. — Если примкнем к остальным, шанс есть. А если нас заметят — ну что, вот тогда и устроим перестрелку. Хороший план.
— Говно, а не план, — проворчал Марков. — А как мы туда попадем, чтоб не заметили?
— Гранаты остались? — спросила Вика.
Марков уставился на нее. Похоже, по лицу его били неоднократно: нос — как у боксера, половины нижних зубов недостает. Наконец он покачал головой, примотал винтовку за ремень к ветке у ствола и вгляделся в наступающую колонну.
— Ну и хитрая же ты мандавошка.
— Снимай маскировку, — скомандовала Вика. — Похож на лыжника. Выделяешься.
Марков быстро расстегнул маскхалат, сел на снег и стащил его через ноги. Под низом на нем были подбитый охотничий жилет, свитера в несколько слоев и рабочие брезентовые штаны, заляпанные краской. Из подсумка он извлек «колотушку» развернул и ввинтил капсюль-детонатор.
— Надо момент рассчитать, — сказал он.
Мы сбились плотнее вокруг елового ствола, ежились и затаились. Мы почти не дышали. До первых немецких солдат оставалось метров двадцать.
Посоветоваться со мной никто не удосужился — да и с чего бы? Я рта не отрывал, ничего не предложил. После сторожки я вообще ни слова никому не сказал, и уже было поздно.
Варианты мне не нравились. Последняя перестрелка перед смертью — может, это и хорошо для такого закаленного партизана, как Марков, но я к самоубийству не готов. Выдать себя за пленного — здесь явная ошибка в расчете. Сколько нынче пленные вообще живут? Если бы спросили меня, я бы предложил либо бежать дальше — хоть и сам не знал, сколько еще пробегу, — либо залезть на дерево и переждать, пока немцы не пройдут внизу. Спрятаться в ветвях — эта мысль все больше привлекала меня: первые автоматчики уже миновали нас, не заметив.
Когда мимо ели поплелись первые шеренги пленных, Вика кивнула Маркову. Тот поглубже вдохнул, подошел к самому краю тени от дерева и швырнул гранату как можно дальше.
Я не разглядел, заметили немцы, что у них над головами летит граната, или нет. Во всяком случае, никто не закричал, не предупредил остальных. Граната глухо стукнулась о землю метрах в тридцати от нас. На секунду я решил, что не взорвется, — но она рванула. Да так, что на нас посыпался снег с ветвей.
Все, кто шел с ротой — и автоматчики, и пленные, — присели или в панике бросились в снег, глядя влево, где в воздух выстрелил огромный гейзер грязи и снега. Мы выскользнули из-под дерева и, незамеченные, двинулись к группке замурзанных русских, пока немецкие офицеры орали свои приказы и распоряжения. Все они вглядывались в окружавшие леса через бинокли — искали снайперов. До пленных земляков оставалось немного — пятнадцать метров, четырнадцать, тринадцать… мы ступали мягко; подавляя в себе позыв кинуться вперед очертя голову. Немцам показалось, что в дальних кустах что-то движется; они закричали, показывая пальцами, солдаты попадали наземь, готовясь открыть огонь.
Пока они осознавали, что слева неприятеля нет, мы проникли в группу пленных справа. Несколько человек нас заметили. Но не выдали — ни приветствием, ничем. Похоже, вообще не очень удивились, что к их рядам прибилось четверо новеньких; все пленники — что солдаты, что гражданские — были так подавлены, что, вероятно, считали, будто это нормально — выйти из леса и втайне сдаться врагу. Женщин в этой группе не было — только мужчины: от мальчишек с выбитыми зубами и замерзшими соплями под носом до согбенных стариков с седой многодневной щетиной. Вика надвинула кроличью шапку еще ниже; в бесформенной своей экипировке она вполне могла сойти за подростка, на нее лишний раз даже никто не глянул.
По крайней мере у двоих бойцов Красной армии не было сапог — ноги им грели драные, но туго намотанные портянки. Немцы считали, что советская кирза, тем паче с зимним войлочным утеплением, — отличный трофей: такие сапоги были гораздо теплее и долговечнее их эрзац-обуви. Все ноги у пленных давно промокли. Чуть подморозит — и людям придется таскать на ногах глыбы льда. Сколько же они смогут так пройти, пока не начнут отниматься сначала пальцы, потом икры, пока не дойдет до коленей. Глаза у них были тусклые и жалкие — как у битюгов, возивших сани по питерским улицам, покуда хватало еды; потом всех лошадей, конечно, пустили на мясо.
Немцы возбужденно переговаривались. Взрывом никого серьезно не задело — только одного молоденького щегла полоснуло осколком по щеке, и он, стянув перчатку, большим пальцем стирал кровь и гордо показывал товарищам: как-никак первое боевое ранение.
— Думают, это противопехотная мина, — прошептал Коля. Он щурился, прислушиваясь. — Должно быть, тирольцы. Акцент сильный. Да, говорят, что наземная мина.
Распоряжения начальства дошли до рядовых, и те повернулись к покорно ожидавшим пленникам и стволами автоматов показали, что надо идти дальше.
— Погоди, граждане! — крикнул один русский — толстогубый шпак лет за сорок, в теплой стеганой шапке. Уши ее были опущены, завязки под подбородком завязаны бантиком. — Вон партизан! — Показал он на Маркова. Все притихли. — Месяц назад вломился ко мне домой, всю картошку унес, говорит — на нужды фронта! Слышите меня, граждане? Партизан он! Много немцев убил!
Марков пристально посмотрел на штатского, склонив голову набок, как пес перед дракой.
— Заткнись, — тихо буркнул он, весь побагровев от ярости.
— А ты не приказывай мне, не приказывай! Тоже мне приказатель выискался!
Подошли лейтенант и три солдата — растолкали толпу, собравшуюся вокруг Маркова и его обвинителя.
— Що такэ? — рявкнул немец. В роте он явно был переводчиком, но почему-то говорил по-русски с украинским акцентом. Походил на толстяка, который совсем недавно спал с тела: щеки дряблые и вислые, вообще вся кожа на лице мешками висит.
Шпак стоял, тыча в Маркова пальцем, — эдакий пацан-переросток в своей стеганой ушанке и бантиком. Губы его тряслись, когда он обращался к лейтенанту, и с Маркова он глаз не сводил.
— Убийца он, господин хороший! Ваших же людей и убивал!
Коля открыл было рот сказать что-то в защиту Маркова, но Вика двинула его локтем в бок, и он промолчал. Я заметил, как рука его нырнула в карман, — на всякий случай он, видимо, снял «Токарев» с предохранителя.
Марков покачал головой, и губы его расползлись в нехорошей усмешке.
— Вот же еб твою мать.
— Сейчас-то не храбрый, а? Не Аника-воин! Ну да, это ж не картошку красть у людей — тогда ты геро-ой! А сейчас ты кто? А? Сейчас кто?
Марков зарычал и выхватил из жилета маленький пистолет. Обычно медлительный и неповоротливый, сейчас партизан двигался как молния — направил пистолет на шпака, тот попятился, а собравшиеся вокруг пленные порскнули в стороны.
Только фашисты оказались проворнее. Не успел Марков нажать на спуск, очередь из «шмайссера» пробила россыпь дырочек у него на охотничьем жилете. Марков покачнулся, нахмурившись так, словно забыл чье-то имя, а оно очень важное, и опрокинулся на спину в мягкий сугроб. Над ним закружились клочья пуха из пробитого жилета.
Предатель смотрел на тело Маркова. Мужик, должно быть, понимал, к чему приведет его обвинение, но когда казнь свершилась, итог его, похоже, ошеломил. Лейтенант коротко на него взглянул — очевидно, решая, наградить или наказать. В конце концов нагнулся, вырвал из руки Маркова пистолет — трофейный сувенир — и ушел. Солдаты послушно потопали за ним, коротко глянув на тело Маркова. Может, гадали, чья очередь срезала этого человека.
Вскоре рота двинулась дальше, только в другом порядке. Теперь впереди шли шестеро русских — живые миноискатели. В десяти метрах следом — первая шеренга немцев. Каждый шаг давался пленным с трудом — они ждали звона задетой тетивы мины-ловушки, лязга пружины. Должно быть, подмывало бежать, но они и трех шагов бы сделать не успели: их бы расстреляли в спину.
От предателя все старались держаться подальше, словно он заразный, чумной. Он тихо бормотал себе под нос, длинно и неслышимо о чем-то сам с собой спорил, только глаза сверкали, когда он проглядывал по сторонам — пусть только посмеет ему кто-нибудь что-нибудь сказать.
Я отстал от него человек на десять — шлепал по слякоти между Колей и Викой. Если кто из пленных заговаривал с соседом и это слышал охранник, раздавался окрик: «Halt's Maul»[7]. Переводчик не требовался — понятно было и так, и русские быстро притихали, съеживались и несколько ускоряли шаг. Но если очень тихо, беседовать удавалось — поглядывая на охрану, само собой.
— Жалко твоего друга, — пробормотал я Вике.
Довольно долго она шла, не отвечая, даже не показывая, что услышала меня. Я решил, что чем-то ее обидел.
— Хороший человек, наверно, был, — добавил я. Банальщина — что одно, что другое, такими ленивыми фразами перебрасываются на похоронах дальнего родственника, которого к тому же никто никогда особо не любил. Вот она меня и проигнорировала.
— Не был, — наконец ответила Вика. — Но мне все равно нравился.
— Предателя на первом суку надо повесить, — прошептал Коля, чуть сильнее пригнувшись, чтобы голос не разносился далеко. Он злобно вперился взглядом в затылок шпаку. — Я б ему своими руками шею свернул. Я умею.
— Не трогай его, — сказала Вика. — Это неважно.
— Маркову было важно, — сказал я.
Вика искоса глянула на меня и улыбнулась. Не холодно и хищно оскалилась, как раньше. Ее, судя по всему, удивило мое замечание. Как будто клинический дебил вдруг засвистал «К Элизе», идеально попадая в ноты.
— Это правда. А ты странный.
— Почему?
— Он скользкий бесенок, — произнес Коля, нежно ткнув меня кулаком под печень. — Но в шахматы режется — ого-го!
— Почему я странный?
— Марков значения не имеет, — ответила она. — И я тоже. И ты. Имеет значение — победить в этой войне. Вот что главное.
— Нет, — сказал я. — Не согласен. Марков тоже был важен. И я, и ты. Вот поэтому мы и должны победить.
Коля удивленно поднял брови: подумать только, я осмелился противоречить этой маленькой фанатичке.
— А важнее всех я, — шепотом провозгласил он. — Я пишу величайший роман двадцатого века.
— Вы вдвоем как голубки влюбленные, — хмыкнула Вика. — Сами-то понимаете?
Унылая процессия усталых людей вдруг остановилась где-то впереди. Пленные переминались с ноги на ногу и не понимали, почему стоим. Оказалось, один босой красноармеец просто отказался идти дальше. Товарищи, с которыми он попал в плен, упрашивали его и грозили, матерились, а он стоял на снегу, не шевелился и не говорил ни слова. Кто-то попробовал толкнуть его в спину, но все было бесполезно: он уже пришел. Он останется здесь. К нему, размахивая «шмайссерами», бросились охранники, что-то вереща по-своему, и красноармейцы неохотно отступили от обреченного товарища. А он только улыбнулся набегавшим фашистам — и взметнул правую руку вверх, стукнув по ней левой в изгибе локтя в издевательском «зиг-хайле». К счастью, я вовремя отвернулся.
20
Где-то за час до заката рота остановилась у отвратительного кирпичного сооружения — колхозной школы. Такие строили на субботниках во вторую пятилетку — окна узкие, как средневековые бойницы. Над входом были аккуратно выписаны сталинские слова: «Большевик! Чтобы знать, надо учиться». Кто-то из захватчиков, знавших русский, белой краской намалевал возражение: «Большевика не надо знать, чтобы убить».
Вермахт захватил школу себе под штаб. У входа стояли шесть «кюбельвагенов». Один как раз заправлял из зеленой канистры блондинчик без шапки. На голове у него рос желтый пушок, как у новорожденного цыпленка. На роту эсэсовцев, конвоировавшую пленных, он глянул без интереса.
Офицеры что-то скомандовали, ряды рассыпались — почти все немцы, радостно лопоча и сбрасывая тяжелые ранцы, направились в здание. Там душ — если есть вода — и горячая пища. Остальные автоматчики — примерно взвод, человек сорок, — явно злые от выпавшей на их долю караульной службы, голодные и усталые после целого дня марша по пересеченной местности, по нескончаемым русским лесам, стали загонять нас за дом.
У школы нас ждал немецкий офицер. Он удобно расположился на складном стуле и, попыхивая сигаретой, читал газету. С ленивой улыбочкой поднял голову, будто рад нас видеть, будто пригласил друзей на ужин. Но вот он встал, отложив газету, кивнул и осмотрел наши лица, одежду, состояние обуви. На нем был серый мундир «Ваффен-СС» с зеленой выпушкой. Серая шинель осталась висеть на спинке стула. Вика, шедшая рядом, шепнула мне:
— Айнзацы.
Когда нас выстроили неровными шеренгами, командир айнзацгруппы бросил сигарету в снег и кивнул вялощекому переводчику эсэсовцев. Заговорили они оба по-русски, уверенно, словно похваляясь перед пленными.
— Сколько?
— Девяносто четыре. Нет, девяносто два.
— Да? А что же те, кто не смог быть с нами? Очень хорошо.
Эсэсовец повернулся к нам и пошел вдоль первой шеренги, переводя взгляд с одного пленного на другого. Каждому смотрел прямо в глаза. Просто красавец: фуражка сдвинута на затылок, загорелый лоб открыт, а тонкие усики — как у джазового певца.
— Не бойтесь, — говорил он, прохаживаясь вдоль строя. — Я знаю, вы начитались пропаганды. Коммунисты хотят, чтобы вы думали, будто мы зверье, варвары, хотим вас изничтожить. Но вот я смотрю в ваши лица — и вижу хороших честных рабочих и крестьян. Среди вас есть хоть один большевик?
Руки никто не поднял. Немец улыбнулся:
— Я так и думал. Вы же умные, правда? Вы понимаете, что большевизм — это просто-напросто самое радикальное выражение извечного жидовского стремления к мировому господству…
Он окинул взглядом бесстрастные лица и добродушно пожал плечами:
— Но к чему нам праздные разговоры? Вы же костьми правду чуете — это самое главное. Нашим народам вовсе не нужно воевать. У нас есть общий враг.
Он махнул солдату, и тот взял с деревянного поддона возле стула кипу газет и раздал пятерым сослуживцам. Те пошли по рядам, вручая газеты пленным. Мне досталась «Комсомольская правда», Вике и Коле — «Красная звезда».
— Я знаю, понять это трудно — после стольких-то лет пропаганды. Но поверьте, это правда: германская победа станет победой русского народа. Если вы не понимаете этого сейчас, то скоро поймете, и ваши дети вырастут с этим знанием.
От закатного солнца на земле лежали наши огромные тени. Эсэсовцу самому нравилось себя слушать — ему нравилось и что он говорит, и какое впечатление производят на нас его слова. По-русски он излагал грамматически правильно, хотя акцента не скрывал. Интересно, где он выучился языку? Может, родился в колонии фольксдойчей где-нибудь под Мелитополем или в Бессарабии. Он взглянул на три мелких облачка в вышине — многоточие в серебристом небе.
— Обожаю эту страну. Очень красивая. — Он опустил голову и еще раз пожал плечами, как-то смущенно. — Вот вы думаете: это все разговоры, а у нас-то война идет, верно? Правда, друзья мои, в том, что вы нам нужны. Каждый из вас послужит доброму делу. Сейчас вы держите в руках экземпляры печатной лжи вашего прославленного режима. Сами знаете, насколько честны с вами были эти газеты. В них писали, что войны никогда не случится, — и вот пожалуйста. Вам говорили, что немцев вышвырнут с советской земли к августу, а скажите мне… — он театрально поежился, — сейчас, по-вашему, август? Но это ничего, ничего. Пусть каждый вас прочтет вслух один абзац. Те, кого мы сочтем грамотными, поедут с нами в Выборг. Я вам обещаю трехразовое питание, а вы нам будете переводить документы оккупационного правительства. Работать в отапливаемом здании! Ну а те, кто не сможет, что ж… У них работа будет немножко труднее. Я не бывал на железоделательных заводах Эстонии, но слыхал, что работать на них опасно. Но и там еда будет получше, чем те помои, которыми вас кормит Красная армия. А чем питается последние месяцы гражданское население, мне даже представить страшно.
Кое-кто из крестьян постарше застонал и закачал головами, переглядываясь, пожимая плечами. Айнзац кивнул переводчику — и экзамен начался. Чтобы судить о нашей грамотности, им достаточно было услышать лишь несколько фраз. Я развернул газету. Заголовок жирным шрифтом был цитатой из Сталина: «Соотечественники! Товарищи! Вечная слава героям, отдавшим жизнь за свободу и счастье нашего народа!» Пожилые крестьяне пожимали плечами и сразу давали газеты немцам, даже не глянув. Многие колхозники помоложе пытались сложить буквы в слова. Они к экзамену отнеслись всерьез — хмурили лбы, пытались разобрать, что написано. Немцы ласково похохатывали над их ошибками, хлопали неграмотных по плечу, шутили:
— Зачем вам книжки, а? Вам бы только за юбками гоняться.
Вскоре пленные расслабились и стали перекрикиваться с друзьями и знакомыми, стоявшими в других шеренгах. Запинаясь на сложных словах, они хохотали вместе со своими поимщиками. Некоторые сочиняли на ходу — отчеты о ходе битв под Москвой, о бомбардировке Пёрл-Харбора. Они вполне достоверно имитировали стиль сводок советского Информбюро, которые слышали по радио. Немцам такой кунштюк, похоже, нравился. И те, и другие знали, что никого этим не обманешь.
Всякого неудачника немцы просили отойти в сторонку, влево. Первых двоечников принародное позорище несколько смущало, но чем больше неграмотных вливалось в их ряды, тем сильнее они ликовали.
— Сашка, ты тоже, что ли? А я-то думал, ты светлая голова!
— Ты глянь, глянь, как перед офицером выплясывает. Давай, давай к нам сразу, на завод работать пойдем. Чего, думал в конторе отсидеться? Не выйдет. Тока гля, как тужится!
— Васька, а до Эстонии-то дойдешь? А? Давай сюда, подтолкнем!
Грамотным хотелось произвести на немцев впечатление. Газету они читали, точно актеры со сцены. Многие не останавливались, когда им говорили, что хватит. Длинные слова произносили с нажимом и подвывая — показать, что у них большой словарный запас. Отходили вправо с гордостью, сияя, кивали образованным товарищам. Они были довольны, как все обернулось. Выборг недалеко, а работать в теплой конторе и есть три раза в день гораздо лучше, чем всю ночь сидеть в окопах и ждать минометного обстрела.
Глядя, как грамотные поздравляют друг друга, Коля закатил глаза.
— Ты посмотри на них, — пробормотал он. — Приз они хотят. Газету прочли. И смотри, какие фрицы снисходительные. Может, им первую главу «Евгения Онегина» продекламировать? Думаешь, понравится? Все пятьдесят четыре строфы оттарабанить — и отточия в придачу. Они-то думают, что у них одних в Европе — культура. Они своих Гёте и Гейне что, хотят поставить рядом с Пушкиным и Толстым? Музыка — это я допускаю. Хоть и не сильно они нас обогнали, но в музыке — это да. И в философии. А вот в литературе — вряд ли.
До Коли, стоявшего слева от меня, айнзацу оставалось два человека. Меня кто-то схватил за руку. Я повернулся — Вика подалась ко мне, лицо бледное, глаза горят и не мигают, хотя в них било заходившее солнце. За руку она меня схватила, чтобы я обратил внимание, но не отпустила, когда я повернулся, а могла бы. Ну, в общем, так я подумал. Может, она меня еще и полюбит? Почему бы и нет? Ну и что с того, что я ее немного раздражаю?
— Не читай, — натренированным шепотом сказала она. Больше никто ее не услышал. Она смотрела на меня пристально: дошло ли? И мне впервые в жизни не требовались пояснения.
Айнзац, терпеливый и благодушный, как академик, слушал красноармейца, стоявшего рядом с Колей.
— «И скоро над всей Европой взовьется великое знамя свободы народов…»
— Хорошо.
— «…и мира между народами».
— Хорошо-хорошо. Направо.
Я подтолкнул Колю под локоть. Он нетерпеливо глянул на меня — ему не терпелось показать надменному фашисту подлинную русскую словесность. Я легонько качнул головой. Айнзац шагнул к Коле. Сказать я ничего не успел. Мог только со значением посмотреть Коле в глаза — может, поймет.
— А… какой прекрасный образчик степняка. Донские казаки в роду были?
Коля вытянулся по стойке смирно. Он был выше немца и несколько секунд глядел на него сверху вниз, не открывая рта. Потом:
— Не могу знать, вашество. Родился и вырос в Питере.
— Прекрасный город, прекрасный. Даже как-то жаль называть его Ленинградом. Некрасиво, а? Даже если без политики. Мне кажется, неправильно. Санкт-Петербург — звучное имя. Сколько в нем истории! Я ведь там был. И в Москве. Надеюсь очень скоро увидеть их вновь. Так, ну покажи нам, что ты умеешь.
Коля поднес к лицу газету и вперился в страницу. Сделал глубокий вдох, открыл уже рот — и рассмеялся, качая головой. Протянул газету немцу:
— Прошу прощения, вашбродь, никак не могу.
— О, не стоит извиняться. С такими плечами тебе в конторе делать нечего. Ты хороший человек, у тебя все будет в порядке.
Коля кивнул, улыбаясь офицеру, как ласковый дебил. Следовало отойти к неграмотным, но Коля, сунув руки в карманы, задержался:
— А вот у дружка моего, может, лучше выйдет.
— Ну уж точно не хуже, — тоже улыбнулся фашист. Шагнул поближе и оглядел меня с ног до головы: — А тебе сколько лет? Пятнадцать?
Я кивнул. Я не знал, что безопаснее — пятнадцать или семнадцать. Соврал инстинктивно.
— Дед с бабкой откуда?
— Из Москвы.
— Все четверо?
— Ага. — Теперь я уже врал машинально, даже не задумываясь. — И родители тама познакомились.
— А ведь на русского ты не похож. Я бы решил, что ты еврей.
— Мы так его и дразним все время, — сказал Коля, ероша мне волосы, потому что шапку я перед офицером снял. — Наш маленький еврейчик. А он бесится. Но вы на нос поглядите, вашество. Если б я его родных не знал, верно б думал, что жидяра.
— Евреи с маленькими носами тоже бывают, — сказал немец. — Как и неевреи — с большими. Мы не можем допускать небрежности в допущениях. Несколько месяцев назад в Варшаве я видел еврейку, у которой волосы были светлее твоих. — Он показал на Колину голову, улыбнулся и подмигнул. — Причем, некрашеная была, понимаешь?
— Так точно, — скабрезно ухмыльнулся в ответ Коля.
— А ты не переживай, — сказал немец мне. — Ты еще молод. Всем нам в молодости бывает трудно. Так скажи мне, прочесть лучше своего друга сможешь?
Я перевел взгляд на газету.
— Вот это слово знаю, — сказал я. — «Сталин». И вот это, по-моему, «товарищ», да?
— Ну что ж, для начала неплохо. Он покровительственно мне улыбнулся, потрепал по щеке и взял у меня газету. Мне показалось, ему было неловко от того, что решил, будто я еврей.
— Очень хорошо, — продолжал он. — Составишь компанию своему другу в Эстонии. Несколько месяцев прилежной работы еще никому не вредили. И скоро все закончится. А ты, — обратился он к Вике, последней в шеренге. — Тоже еще ребенок? Что скажешь?
Вика пожала плечами и помотала головой, не подымая глаз. Неразвернутую газету она протянула айнзацу.
— Что ж, еще одна победа большевистской системы образования. Ладно, все втроем — налево.
Мы подошли к группе довольных неграмотных. Один рассказывал, что раньше работал на Магните, и несколько человек собрались вокруг послушать. Он описывал ужасную жару у доменных печей и как опасно разливать жидкий металл. За их спинами стоял предатель Маркова. На него никто не обращал внимания, а он потирал голые озябшие руки.
— Это был Абендрот? — шепотом спросил я у Вики.
Она покачала головой:
— Абендрот — штурмбаннфюрер. Четыре квадратика в петлице. А у этого только три.
Переводчик принялся считать пленных по головам, шевеля губами. Закончив, повернулся к айнзацу и объявил:
— Пятьдесят семь грамотных. Тридцать восемь неграмотных.
— Очень хорошо.
Солнце закатилось, холодало. Офицер пошел забрать свою шинель со стула, а охрана построила грамотных пленников в колонну по два и приказала двигаться. Те бодро махали своим неграмотным соотечественникам. Шагали они получше — уже не плелись, как днем. Ноги поднимались и опускались слаженно: ать-два, ать-два. Им хотелось хорошо выглядеть перед своими немецкими хозяевами — доказать, что они заслужили отправку в Выборг, где им предстоит читать газеты.
Эсэсовец больше на них не смотрел. Он застегнул шинель, надел кожаные перчатки и направился к «кюбелям». Грамотных пленных довели до глухой кирпичной стены школы и развернули лицом. Даже сейчас они не понимали, что с ними происходит. Да и как тут поймешь? Они же хорошо учились и выдержали экзамен. Теперь их должны похвалить.
Я глянул на Вику, но она смотрела вдаль. Такое зрелище было ей не по душе.
Немецкие охранники по команде скинули с плеч «шмайссеры» и открыли огонь по людям у стены. Поливали их огнем, пока не опустели магазины. Пленные падали, пули рвали из них куски, дымилась опаленная одежда. Немцы сменили магазины, подошли к стене и принялись добивать еще дышавших людей одиночными в голову.
У дверей школы эсэсовец остановился перед светловолосым солдатом, заливавшим бензин. Должно быть, пошутил, потому что молодой солдат рассмеялся и кивнул. Айнзац сел в «кюбель» и солдат подобрал канистры и поволок их в школу. Потом остановился и посмотрел на небо. Я тоже услышал вой моторов над головой. Серебристые «юнкерсы» шли на запад, звеньями по три. Начинался первый вечерний авианалет. Звено за звеном, они заполняли все небо, как стаи перелетных птиц. И все мы — и выжившие пленники, и автоматчики — молча стояли и смотрели на пролетавшие самолеты.
21
Ночевать нас определили в сарай за школой — тридцать восемь человек затолкали в помещение, где разместиться могло человек восемь от силы. Лечь никому не удалось. Я забился в угол между Колей и Викой. Спина болела, но хоть можно было дышать — в щели проникал свежий воздух. То была единственная вентиляция, и если становилось невмоготу, удавалось повернуть голову и немного вздохнуть.
Света не было. Немцы забили дверь гвоздями. Снаружи переговаривались часовые, щелкали и вспыхивали их зажигалки, когда солдаты закуривали, и все равно пленники обсуждали побег. Лиц в темноте не разглядеть — будто радиоспектакль слушаешь, матери такие нравились.
— Говорю тебе, мы его, как орех, расколем. Тут одному привалиться, поднатужиться — и стенка рухнет.
— Думаешь? Ты что, столяр? А я столяр. Когда нас сюда запихивали, я эту стенку хорошо разглядел. Доски дубовые, крепкие.
— Ну выломимся, и что дальше? Там же охрана с автоматами.
— Ну сколько их? Двое-трое? Навалимся — может, они пару успеют подстрелить, но прорвемся.
— А видно, сколько их?
Я пригнулся, вывернул шею и глянул в щель:
— Видно только двух. Может, с другой стороны больше.
— Чур, не я первый.
— Да все вместе кинемся.
— Но все равно кто-то первый. А кто-то — последний.
— А я бы дождался, что скажут. Война ж не вечно идти будет.
— Васька, ты, что ли? Видал, чего сегодня было? И ты этим свиноебам еще веришь?
— Хотели б расстрелять нас — расстреляли бы сразу. А им только, вишь, комиссаров подавай, грамотных.
— Вот же мудак старый. Чтоб тебе дети в борщ срали.
Коля перегнулся через меня, чтобы его в темноте услышала только Вика, а не сварливые колхозники:
— Тот айнзац… Он совсем рядом был. Ты же сама говорила Маркову, что автоматчиков бить не будем, только айнзацев. И чего?
Вика долго не отвечала. Я даже подумал — наверное, сердится за такой намек. Но когда открыла рот, заговорила раздумчиво:
— Может, испугалась.
— А ты?
Коля вздохнул:
— Мне показалось, момент не назрел. Застрелишь одного — и тебя сразу на куски разорвут.
— Ну да. Хотя, может, мы слишком затянули. Надо было тогда действовать.
Мы с нею знакомы были всего день, но говорила она удивительное. Мне казалось, она вообще не умеет сомневаться, и вот те раз — «может», да еще дважды подряд.
— Я чуть не выстрелил, — сказал Коля, подталкивая меня в плечо. — Когда он тебя про деда с бабкой спрашивал. Думал, сейчас заставит снять штаны, чтоб на краник твой поглядеть. Я уж и пистолет в руку взял. Но мы выкрутились, а? Тебе понравилось, как я придумал?
— Хорошо придумал, — ответил я. — Быстро.
— Мне, честно говоря, показалось, что он со мной в сено завалиться хочет. Такой у него был взгляд.
— Я тогда про тебя выразилась… — прошептала Вика, касаясь в темноте моего колена. — Чтоб ты знал… Если фашисты евреев так ненавидят — значит, евреи мои друзья.
— Он еврей только наполовину, — произнес Коля. Тоже мне, комплимент.
— На лучшую половину, — ответил я. Вика прыснула. Я и не думал, что она умеет смеяться. Странный звук, но не потому, что она фыркнула. Прыснула, как любая нормальная девчонка.
— А ты чего до войны делала? — спросил я.
— Училась.
— У-у… — сказал Коля. Я надеялся, что он заснет, но голос у него был бодрый. Готов к труду и обороне. — Я тоже. А что изучала? Агрономию?
— С чего ты взял?
— Ты разве не из колхоза?
— А я, твою мать, похожа на колхозницу? Я из Архангельска.
— Ого, девушка северная. Тогда понятно. — Коля ткнул меня локтем в бок. — Она потомок викингов.
— Так ты там в институте училась? Мичуринское садоводство и бобров изучала?
— Астрономию.
— Вот и я не чужд литературы. ЛГУ.
И он принялся балабонить про недостатки в творчестве Тургенева и Салтыкова-Щедрина — а через несколько минут вдруг уснул, вытянув перед собой длинные ноги, отчего мне пришлось вообще подтянуть колени к подбородку. Пленные тоже начали засыпать один за другим, хотя из углов до меня по-прежнему доносились обрывки споров.
В сарай набили столько людей, что стало относительно тепло. Снаружи, перед тем как меня сюда впихнули, я успел зачерпнуть горсть снега и первое время сосал его в темноте. После встречи с партизанами у меня во рту не было ни крошки, только у партизан Коля поделился со мной горстью орехов, которые прихватил в сельском доме. Но день без еды — это не новость. В блокадном городе мы все стали спецами по голоду и хорошо научились отвлекать тело от его первой потребности. В Доме Кирова я не один голодный вечер проводил за книгой — изучал «300 шахматных партий» Тарраша. «Всегда ставь ладью позади проходной пешки, все равно, своей или неприятельской, — учил он своих студентов. — Кроме тех случаев, когда это неправильно».
Здесь же у меня не было ни учебника шахмат, ни радио. Но все равно надо было как-то отвлечься, пока не усну. В сарае все стихало, и чем дальше, тем больше я осознавал, что ко мне притиснуто Викино тело. Когда она поворачивала голову глотнуть воздуха из щели, ее волосы щекотали мне нос. Пахло от нее мокрой псиной. Меня воспитали чистоплотным и брезгливым. Мать терпеть не могла, если в раковине копилась немытая посуда, если полотенце в ванной не было сложено как полагается или незаправленной оставалась постель. Когда мы с сестренкой были маленькими, она подолгу оттирала нас в ванне жесткой мочалкой, от которой саднило кожу. Если мать бывала занята — готовила, к примеру, ужин на большую компанию, — меня мыл отец. И это было как передышка, потому что отец просто поливал меня теплой водой, а сам на память читал что-нибудь из русской классики. Мне очень нравился «Сказ о тульском косом левше и о стальной блохе», и я просил его рассказывать снова и снова.
В общем, рос я чистюлей и очень переживал из-за грязнуль: у близнецов Антокольских под ногтями часто оставалась грязь, а у нашего учителя в школе на воротнике иногда появлялись пятна от щей. А вот Викин запах псины меня не отвращал. Мы все уже, конечно, закоптились и замарались до безобразия, да и от меня, должно быть, воняло рыбой протухшей неделю назад, но сейчас не время было морщить нос. От Вики пахло так, что мне хотелось начисто ее вылизать.
— Думаешь, нас правда в Эстонию погонят? — спросил я. Мысли о Вике — вот что отвлекало меня от голода. Теперь же требовалось отвлечься от этого отвлечения. Но сидел я для этого очень неудобно.
— Не знаю.
— А я в Архангельске не был. Холодно, наверно.
Она промолчала, и я укрепился в подозрении, что я — очень скучная личность. Ну кому еще придет в голову изрекать такие банальности? Вот живет, скажем, поросенок, в своем свинарнике он гений — и учит всю жизнь русский язык. И, научившись разбирать речь, первым делом слышит меня. Поневоле задумаешься: зачем лучшие годы своей свинской жизни ты потратил на русскую речь, а не валялся в грязи и не лопал помои, как твои непросвещенные собратья?
— Ты астрономию изучала?
— Да.
— Ладно, тогда у меня вопрос. Во Вселенной миллиарды звезд, так? Звезды нас окружают со всех сторон. И все они светят, и свет этот идет вечно. Почему тогда…
— Почему небо ночью не светится?
— Да! Ты тоже об этом задумывалась?
— Люди об этом уже давно задумываются.
— А… Я думал, что я первый.
— Нет, — ответила она, и я понял, что она улыбается.
— Так и почему тогда ночью темно?
— Вселенная расширяется.
— Да ну?
— Угу.
— Нет, это я знаю, что расширяется, — соврал я. Ну как Вселенная может расширяться? Разве кроме Вселенной еще что-то есть? Куда еще ей растягиваться? И во что? — Я просто не понимаю, как это объясняет свет звезд.
— Это сложно, — ответила Вика. — Открой рот.
— Чего?
— Ш-ш… Рот открой.
Я подчинился, и она сунула мне в губы ржаную корку. Совсем не похожую на пайковый хлеб с опилками — на вкус настоящая: в ней чувствовались мука, дрожжи, молоко…
— Вкусно?
— М-м… Да.
И так, кусок за куском, она скормила мне целую краюху. Я всякий раз облизывал губы и ждал продолжения, пока не понял, что больше ничего не будет.
— Хватит. На завтра надо оставить. Твой друг тоже захочет.
— Спасибо.
В ответ она хмыкнула и поерзала на месте, устраиваясь поудобнее.
— Его Коля зовут. Это чтоб ты знала. А меня Лев.
Она вообще, по-моему, отвечала только на половину моих реплик, и эта к их числу не относилась. Я-то надеялся, что она ответит: «А я Вика», — и я бы тогда сказал: «А я знаю. А полностью — Виктория, да?» Мне почему-то казалось, что это будет очень умно, хотя всякая Вика — неизбежно Виктория.
Я немного послушал, как она дышит, пытаясь понять, заснула или нет. Потом проверил шепотом, задав последний вопрос:
— Так раз ты астроном, я не понял… Как же ты снайпером стала?
— Начала стрелять в людей.
На этом, понял я, наша беседа и завершилась. Я закрыл рот и больше не мешал ей спать.
Среди ночи я проснулся от того, что кого-то из колхозников одолел кашель. Слушая, как он перхает и отхаркивается, сплевывая мокроту, что поселилась у него в легких, должно быть, еще при Александре III, я понял, что во сне Вика привалилась ко мне и ее щека покоится у меня на плече. Я ощущал, как поднимается и опускается у нее грудь: тик — вдох, так — выдох. И весь остаток ночи старался не шевелиться, чтобы ее не спугнуть. Мне очень хотелось, чтобы она была рядом.
22
Наутро немцы разбудили нас, выдирая гвозди, которыми накануне забили дверь. В щели пробивался солнечный свет, крохотными прожекторами высвечивая чей-то сальный лоб, кожаный сапог, просивший каши, роговые пуговицы чьего-то пальто. Вика уже сидела рядом и грызла ногти. Методично грызла — но не истерично, а так, словно мясник точит нож. Где-то под утро она от меня отодвинулась, а я и не почувствовал. Поймав мой взгляд, она тоже посмотрела на меня, и никакой нежности в ее глазах не было. Никакого теплого воспоминания о том общем, что, как я думал, у нас с ней зародилось в темноте.
Открылась дверь, немцы заорали, чтобы мы выходили, и клубок человеческих тел начал постепенно распутываться. Я увидел старого Ваську: он зажал ноздрю узловатым пальцем и сморкнулся. Сопля едва не попала в лицо другому колхознику.
— Ах, — буркнул Коля, наматывая на шею шарф. — Иногда жалеешь, что не живешь одной большой крестьянской семьей с товарищами колхозниками, верно?
Пленные потянулись из сарая, но тут кто-то вскрикнул в дальнем углу. Стоявшие ближе повернулись глянуть, что его так напугало, и тревожно зашептались. Из нашего угла мы видели только их спины. Мы с Колей тоже встали и вытянули шеи. А Вика равнодушно направилась к дверям.
Мы пробились в тот угол сарая сквозь недовольно бормочущих крестьян и увидели, что один человек еще не встал. Шпак, выдавший немцам Маркова, — у него было перерезано горло, кровь давно вытекла, и лицо побелело как мел. Зарезали его, надо полагать, во сне, иначе мы бы услышали возню и крики. Но когда нож вошел в шею, глаза у дядьки открылись и дико вытаращились, едва не выскочив из глазниц. Сейчас он как будто с ужасом рассматривал лица тех, кто смотрит на него сверху.
Один крестьянин уже стаскивал с мертвеца сапоги, другой — овчинные рукавицы, третий вытягивал ремень тисненой кожи из штанов. Коля быстро присел и сдернул стеганую ушанку, опередив всех. Я обернулся: в дверях сарая Вика натягивала свою шапку поглубже. На секунду задержала на мне взгляд, затем шагнула за порог. В следующее же мгновение в сарай, стаскивая с плеча автомат, вошел немецкий солдат. Злой — пленные мешкали. Увидел труп, раззявленное горло, кровавое пятно, расплывшееся на полу парой чудовищных черных крыльев. Солдат рассвирепел — об убийстве нужно было докладывать офицерам. Он что-то спросил по-немецки — больше самого себя, чем пленных вокруг, от них он никакого ответа и не ждал. Коля откашлялся и что-то ему сказал. Насколько грамотно, я судить не мог, но солдат, похоже, изумился.
Немец покачал головой, коротко ответил Коле и большим пальцем ткнул в сторону двери — выходите, мол, все. Снаружи я спросил у Коли, что он сказал.
— Что крестьяне жидов ненавидят больше, чем немцы.
— А он что?
— «Есть заведенный порядок». Очень по-немецки. — Коля старался натянуть на голову добытую шапку: она была маловата, но ему удалось опустить уши и затянуть завязки.
— Думаешь, стоило им показывать, что ты говоришь по-немецки? После того, что вчера было?
— Не стоило — это опасно, да. Но теперь, по крайней мере, лишних вопросов не будут задавать.
Пленных выстроили гуськом, и все побрели вперед, щурясь от утреннего солнца, — к огромному похмельному солдафону. Он, даже толком не умывшись, выдавал каждому пленному по единственной круглой галете, жесткой, как уголь.
— Добрый знак, — пробормотал Коля, пощелкав по галете ногтем.
Вскоре мы плелись дальше под охраной эсэсовских автоматчиков, вжимая головы в плечи на ветру. Шли по дороге, хоть и заснеженной, — идти было легче, потому что ее укатали десятки колес. В нескольких километрах от школы нам попался дорожный указатель: Мга. Я показал на него Коле.
— О… А какой сегодня день?
Вопрос застал меня врасплох. Я мысленно сосчитал.
— Понедельник. Завтра мы яйца должны принести.
— Понедельник… Значит, я не срал уже тринадцать дней. Тринадцать… И куда только все девается? Я же что-то ел. Колбаса, суп из Дорогуши, картошка с маслом у девушек, хлеб пайковый… И что оно все — просто комом в животе копится?
— Просраться не можешь? — осведомился бородатый Васька — он услышал Колины жалобы и повернулся с непрошеным советом. — А ты кору крушины завари, отвару выпей — всегда помогает.
— Чудесно. Ты здесь крушину где-нибудь видишь?
Васька оглядел придорожные ельники и покачал головой:
— Проходить будем — свистну.
— Премного благодарен. А может, и кипяточку заодно спроворишь?
Но Васька уже встал на место и шагал дальше, стараясь не отставать, — охранники на него поглядывали.
— Приезжает Сталин в подмосковный колхоз, — начал Коля голосом записного анекдотчика. — Хочет, значит, проверить, как пятилетка выполняется. «Вот скажите мне, товарищ, — спрашивает у одного колхозника, — как у вас в этом году картошка уродилась?» «Очень хорошо уродилась, товарищ Сталин, — отвечает колхозник. — Такую гору навалили, что до самого господа бога подняться можно». «Так а бога ж нету, товарищ колхозник», — Сталин ему говорит. «Так и картошки нету, товарищ Сталин».
— Бородато.
— Только у хороших анекдотов растет борода, — назидательно сказал Коля. — Ибо только их все время рассказывают.
— Такие зануды, как ты?
— Ну что я сделаю, если тебе никогда не смешно? А вот девчонки смеются, и это главное.
— Думаешь, это она? — спросил я. Коля искоса глянул на меня, на миг смешавшись, а потом увидел, что я смотрю в спину Вике. Сегодня она шла отдельно от нас, ближе к голове колонны.
— Конечно.
— Я просто… Она прижималась ко мне ночью. Когда я засыпал, она мне голову на плечо положила.
— Видишь, у тебя уже началась половая жизнь. На полу же. А все потому, что меня послушал. И научился.
— А потом она улизнула, хоть я сплю очень чутко, и пошла в другой угол по тридцати телам в непроглядной темноте, перерезала ему горло и вернулась. И никого при этом не разбудила.
Коля кивнул, не спуская с Вики глаз. Та шла, ни с кем не разговаривая, словно бы считала технику, следила за перемещениями солдат.
— Она убийца талантливая.
— Особенно для астронома.
— Ха! Не верь всему, что тебе говорят.
— Думаешь, врет?
— Нет, в институт-то она ходила. Там их и набирают. Но сам подумай, львенок, — так стрелять она в обсерватории у телескопа научилась? Она из НКВД. У них свои люди в каждом партизанском отряде.
— Почем ты знаешь?
Коля остановился и постукал один сапог о другой, стряхивая налипший снег, а для равновесия уцепился за мою руку:
— Я ничего не знаю. Может, и тебя не Львом зовут. Может, ты величайший любовник в Советском Союзе. Но я смотрю на факты и вывожу умозаключения. Все партизаны — местные. Поэтому им так хорошо все удается — они знают свою территорию лучше любого немца. У них здесь друзья, семьи, им дают еду, пускают ночевать в безопасные места. А теперь скажи мне — сколько отсюда до Архангельска?
— Не знаю.
— И я не знаю. Семьсот километров, восемьсот? Да немецкая граница, наверное, ближе. По-твоему, местные партизаны стали бы доверять какой-то девчонке, которая незнамо откуда взялась? Нет, ее к ним заслали.
Вика брела по снегу впереди, поглубже засунув руки в карманы комбинезона. Сзади она походила на двенадцатилетнего пацана, укравшего робу механика.
— Интересно, у нее титьки есть? — задумчиво спросил Коля.
Грубость его меня раздражала, хотя сам я думал про то же самое. Оценить ее тело под этими слоями мешковатой одежды вообще невозможно, но угадывалось, что она худенькая и стройная, как травинка.
Коля заметил, какое у меня стало лицо, и улыбнулся:
— Я тебя обидел? Извини. Она же по правде тебе нравится, да?
— Не знаю.
— Больше не буду о ней так говорить. Ты меня прощаешь?
— Говори, как хочешь.
— Нет-нет. Я все понял. Но послушай меня — поймать эту рыбку не так-то просто.
— Опять будешь советы давать из этой твоей придуманной книжки?
— Нет, ты послушай. Острить можешь сколько влезет, но про такие дела я знаю больше тебя. Вот моя догадка: она была немножко влюблена в Корсакова. А он мужик покрепче тебя, поэтому силой ее не поразишь.
— Ничего она не была в него влюблена.
— Самую малость.
— И ничем я ее не собирался поражать. Что я, дурак?
— Значит, весь вопрос в том, чем же тогда ее поразить.
Коля надолго умолк — весь нахмурился, обдумывая мои достоинства, даже глаза, кажется, прижмурил. Но придумать ничего не успел — позади раздались крики, охрана стала сгонять нас в кювет. По дороге шла колонна полугусеничных «маультиров»: кузова затянуты брезентом, моторы рычат. Они везли провиант и боеприпасы на передний край. Мы стояли на обочине и смотрели на них минут пять — колонна все не кончалась, медленно ползла мимо. Фашистам было, конечно, плевать, какое впечатление это произведет на пленных, но на меня вот произвело, и немалое. В Питере топливо выдавали по карточкам, в день на улицах увидишь не больше четырех-пяти машин. А сейчас я уже насчитал сорок таких грузовиков: впереди колеса, обутые в резину, позади гусеницы, хищные решетки радиаторов, а сзади белым обведены черные кресты.
За полугусеничными грузовиками шли восьмиколесные бронемашины, тяжелые минометы на гусеничном ходу и легкие грузовики с личным составом. Солдаты сидели на параллельных скамьях, усталые, небритые, все нахохленные в своих белесых куртках, за спиной — автоматы.
Спереди донеслась ругань. Из окон стали высовываться водители — посмотреть, что стряслось. Оказалось, у самоходки слетела гусеница и, пока ее чинили, орудие перегородило всю дорогу. Пехота воспользовалась заминкой — все повыскакивали из кузовов облегчаться. Вскоре уже вдоль дороги выстроилась шеренга из нескольких сот артиллеристов, солдат и водителей: все топали сапогами, орали, подпрыгивали на месте, стараясь разглядеть, кто пустит струю дальше всех. От вмиг пожелтевшего снега на обочине валил пар.
— Вот мудачье, на нашу землю ссыт, — пробормотал Коля. — Ладно, поглядим, как они посмеются, когда я сяду срать у них посреди Берлина. — Эта мысль его приободрила. — А может, и неспроста я ничего из себя выдавить не могу. Кишки победы дожидаются.
— Какие патриотичные у тебя кишки.
— Я весь патриот. У меня залупа свистит «Широка страна моя родная», когда я кончаю.
— Я вас как ни послушаю, у вас одно на уме, — раздался вдруг рядом знакомый голос. Вика подкралась к нам по обыкновению бесшумно. Я даже вздрогнул от неожиданности. — Вы б разделись уже да и оприходовали друг друга.
— Так он не меня раздеть хочет, — гадко осклабился Коля.
Я почувствовал, что весь заливаюсь жарким румянцем злости и стыда, но Вика не обратила на колкость внимания. Она следила только за охраной, которая следила за нами, и посматривала на прочих пленных, сама же тихонько совала нам по пол-ломтя своего настоящего черного хлеба.
— Вы офицерские машины в хвосте колонны видите? — спросила она, глядя в ту сторону, но рукой не показывая.
— В последний раз я такой хлеб летом ел, — с набитым ртом произнес Коля. Он уже все сжевал.
— Видите «коммандерваген» со свастиками? Это машина Абендрота.
— Откуда ты знаешь? — спросил я.
— Потому что мы его выслеживаем уже три месяца. Под Будогощью чуть его не подстрелила. Это он.
— Что делаем? — спросил Коля, выковыривая крошку из зубов.
— Колонна тронется, я дождусь, когда он поравняется с нами, и рискну. Должно получиться.
Я оглядел дорогу — и впереди, и за спиной. Вокруг нас — чуть ли не целый батальон. Сотни вооруженных немцев, и пеших, и на бронемашинах. Викино решение означало, что через несколько минут мы будем покойниками вне зависимости от того, попадет она или нет.
— Стрелять буду я, — сказал Коля. — Вы со Львом отойдите к этим кретинам колхозным. Нет смысла всем подставляться.
Вика скривила губу в подобии улыбки и покачала головой:
— Я лучше стреляю.
— Ты меня в деле не видела.
— Это правда. И я стреляю лучше.
— Неважно, — сказал я. — Кто бы из вас ни стрелял, какая разница? Думаете, нас оставят после этого в живых?
— Парнишка дело говорит, — заметил Коля. Он кинул взглядом неграмотных колхозников вокруг — они переминались с ноги на ногу, похлопывали руками для сугреву… Обычные крестьяне, ничего, кроме родного колхоза, не видели в жизни. К ним затесалось несколько рядовых красноармейцев. Из них парочка, я был уверен, умела читать не хуже меня. — Сколько, они сказали, пленных? Тридцать восемь?
— Уже тридцать семь, — сказала Вика. Она перехватила мой взгляд, ни на миг от нее не отлипавший. Уставилась на меня безжалостными синими глазами. — Как ты думаешь, крестьяне скоро заметят, что тебе кой-чего там не хватает? — Она показала подбородком куда-то мне в низ живота. — И выдадут тебя за миску похлебки?
— Тридцать семь… — задумчиво произнес Коля. — Многовато за одного немца.
— Тридцать семь человек для мартенов? Эти люди уже не русские, — сказала Вика спокойно и довольно равнодушно. — Они германская рабсила. Ими стоит пожертвовать ради одного Абендрота.
Коля кивнул, разглядывая штабной автомобиль в отдалении.
— Значит, мы пешки, а он — ладья? Так, по-твоему?
— Мы меньше пешек. У пешек есть ценность.
— Если мы можем захватить ладью, у нас тоже есть ценность. — Сказав это, Коля моргнул и посмотрел на меня. И неожиданно расплылся в ослепительнейшей самоуверенной улыбке. Некий новый замысел — и явно грандиозный, как и прочие. — Может, есть и другой вариант. Погодите-ка.
— Ты куда? — спросила Вика, но было поздно — Коля зашагал к ближайшей кучке военных. Немцы сощурились, их руки потянулись к предохранителям автоматов. Но Коля поднял руки и затрещал о чем-то по-немецки — оживленно и расслабленно, словно все они собрались парад войск посмотреть. Через полминуты все уже смеялись его шуткам. Один автоматчик даже дал ему затянуться сигаретой.
— Умеет голову вскружить, — произнесла Вика. Так энтомолог отмечает свойства жучиного панциря.
— Может, они решили, что он отбившийся от стаи брат ариец.
— Вы с ним странная парочка.
— Мы не парочка.
— Я не в этом смысле. Не переживай, Лёва. Я знаю, что тебе девушки нравятся.
Лёвой меня называл отец, и услышать это имя из ее уст было неожиданно — но естественно, как будто она меня так звала много лет. Я чуть не расплакался.
— Ты же на него разозлился, правда? Когда он сказал, что тебе хочется посмотреть на меня голую?
— Он вообще много глупостей говорит.
— Так ты не хочешь посмотреть на меня голую?
И Вика издевательски усмехнулась. Она стояла, широко расставив ноги и сунув руки в карманы.
— Не знаю. — Да, это был глупый и трусливый ответ, но перипетий этого утра мне уже хватило. То я убежден, что жить мне осталось всего несколько минут, то со мной кокетничает снайперша из Архангельска. Это она со мной кокетничает? У меня не жизнь, а сплошь череда катастроф. Кажется, днем предстоит невозможное, а вечером это уже преданья старины глубокой. С неба валятся немецкие трупы, на Сенном рынке людоеды торгуют колбасой из человечины, рушатся целые дома, собаки становятся минами, а замороженные солдаты — дорожными указателями; на снегу, покачиваясь, стоит партизан без половины лица и с грустным упреком смотрит на своих убийц. В желудке у меня уже давно не было никакой пищи, на костях — мяса, а в душе — сил, чтобы задумываться об этой кунсткамере зверств. Я просто двигался, рассчитывая где-нибудь найти еще полкраюшки хлеба для себя и дюжину яиц для капитанской дочери.
— Он мне сказал, что отец у тебя был знаменитый поэт.
— Не такой уж и знаменитый.
— Так ты тоже поэтом хочешь стать?
— Нет. У меня для этого нет таланта.
— А для чего есть?
— Не знаю. Не у всех же талант.
— Верно. Что бы нам в детстве ни говорили…
Издали дело выглядело так, будто Коля читает автоматчикам лекцию — они собрались полукругом, а он размахивал руками, чтобы звучало доходчивей. Показал на меня, и у меня сжалось горло, когда все немцы повернулись и посмотрели в нашу сторону. Чем-то он их увлек и позабавил.
— Что он им рассказывает?
Вика пожала плечами:
— Его пристрелят, если он и дальше в том же духе будет.
Солдаты будто в чем-то сомневались, но Коля улещивал их и упрашивал, пока один автоматчик, качая головой, будто ушам своим не верил, слушая того ненормального русского пленного, не закинул «шмайссер» за плечо и не направился к хвосту колонны. Коля кивнул оставшимся, отмочил напоследок еще какую-то шуточку, от которой все опять разулыбались, и пошел обратно.
— Фашисты тебя обожают, — заметила Вика. — Ты им «Майн Кампф» наизусть шпарил?
— Раз пытался ее читать. Очень скучно.
— Так что ты им сказал?
— Что я хочу предложить герру Абендроту спор. Один мой друг — пятнадцатилетний мальчишка из не очень благополучного ленинградского района — сможет сыграть со штурмбаннфюрером партию в шахматы без ферзя и выиграть.
— Мне семнадцать.
— А… Ну будет пятнадцать — так оскорбительнее.
— Ты пошутил, да? — спросила Вика, склонив голову набок и явно рассчитывая, что он сейчас улыбнется и признается, что, разумеется, подобных глупостей никому не говорил.
— Нет, не пошутил.
— А он, ты думаешь, не спросит, откуда ты знаешь, что он здесь? И звание, и что в шахматы играет?
— Думаю, спросит. Ему же любопытно станет, и он к нам подойдет.
— А на что спорим? — спросил я.
— Если он выиграет — пристрелит нас на месте.
— Он в любой момент может нас пристрелить, тупица.
— Солдаты так и сказали. Конечно, может. А я им сказал, что штурмбаннфюрер — человек чести, человек принципа. Я его слову верю. И верю в его спортивный дух. Они же за честь с кровью удавятся.
— А если я выиграю, что нам будет?
— Во-первых, он всех троих отпускает. — Коля заметил, какие у нас лица, и не дал ничего сказать. — Да-да, вы меня идиотом считаете, но сами тугодумы. Сейчас, когда колонна на ходу, играть мы не можем. Если повезет, партия состоится вечером, где-то в помещении, когда вокруг никого не будет. — И Коля обвел рукой немецких солдат, привольно расположившихся группами: они курили и болтали друг с другом. Грузовики с провиантом. Тяжелая артиллерия.
— Он никогда нас не отпустит.
— Само собой не отпустит. Но стрелять в него будет гораздо удобнее. А бог даст, и сбежать получится.
— «Бог даст», — хмыкнула Вика. — Ты вообще за ходом этой войны следил?
Наконец механики натянули гусеницу на самоходную гаубицу. Экипаж попрыгал в люки, через минуту взревел и закашлял мотор, и зверь с огромным стволом вздрогнул и двинулся, хрустя льдом, что нарос на стальных звеньях. Пехота по своим грузовикам разойтись, однако, не спешила — солдаты хрипло прощались, командиры орали. Но вот колонна двинулась, все побросали окурки и побежали вскакивать в кузова уже на ходу.
Солдат, бегавший к Абендроту, вернулся к своим. Заметив, что мы смотрим, он с улыбкой кивнул. Лицо у него было совсем розовое и безволосое, щеки круглые. Эдакий лысый младенец-переросток, вот-вот заревет. Догоняя свой грузовик, он крикнул нам одно-единственное немецкое слово, затем вытянул руки, и товарищи заволокли его в кузов.
— Сегодня, — сказал Коля.
Охрана уже гавкала на нас, хоть и знала, что мы все равно ничего не поймем. Им было все равно — смысл и так ясен. Пленные опять выстроились в колонну, Вика от нас отошла, и мы стали ждать, когда пройдет техника. Мимо проехал штабной автомобиль, и я попробовал рассмотреть внутри Абендрота, но стекло заиндевело.
Тут я вспомнил еще кое-что — оно меня уже некоторое время грызло. Я повернулся к Коле:
— А второе ты что попросил?
— А?
— Ну ты сам сказал: если я выиграю, во-первых, он нас отпустит. А что было во-вторых?
Коля посмотрел на меня сверху вниз. Брови его выгнулись дугами, словно он не поверил, что я сам не догадался.
— Так очевидно же, нет? Дюжина яиц.
23
Вечером мы с остальными пленными уже сидели в хлеву где-то под Пушкином. Здесь пахло мокрой шерстью и навозом. Немцы дали нам щепок, и почти все пленные сбились у робкого костерка, который развели на земляном полу в центре хлева. Все так устали, что о побеге даже не заводили речи. Мужики лишь вяло жаловались, что немцы не кормили нас с утра — а после той галеты нам не давали ничего, — да бормотали насчет завтрашней погоды. Вскоре стали затихать, засыпая прямо на земле и для тепла сбиваясь поближе друг к другу. Мы с Викой и Колей сидели у занозистой стены, дрожали от холода и гадали, состоится наш шахматный поединок или нет.
— Если он за нами пришлет, — сказала Вика, — и нас к нему поведут, будь уверен, всех еще раз обыщут.
— Пленных уже обыскивали. Они что думают — мы пистолеты в хлеву найдем?
— Он знает, что за ним охотятся. Очень осторожный. Пистолеты найдут.
Коля ответил ей долгим и скорбным звуком — испустил газы. Словно взял протяжную ноту на баритон-саксофоне. Вика зажмурилась и несколько секунд дышала ртом. Я тем временем при свете костерка рассматривал ее бледно-рыжие ресницы.
— И все равно, — наконец сказала она, — пистолеты найдут.
— Так и что нам тогда делать — душить его голыми руками?
Вика залезла куда-то себе под одежду, вытащила финский нож из ножен на поясе и выдолбила в мерзлой земле могилку. Когда ямка оказалась достаточно глубока, она положила туда свой пистолет и протянула руку за Колиным.
— Я лучше оставлю.
Но она руки не убирала, и Коля сдался. Забросав оба пистолета землей, Вика расстегнула комбинезон и ремень на брюках. Коля игриво ткнул меня под ребра. Комбинезон спустился с Викиных плеч. Под комбинезоном на ней были толстая клетчатая рубашка и теплое белье в два слоя. Но на миг я углядел грязноватую ключицу. О человеческих ключицах я раньше никогда не задумывался, а у Вики они походили на крылья летящей чайки. Вика вытянула ремень, задрала рубашку и теплое белье под самую грудь, придержав их подбородком, и снова застегнула ремень — прямо на голом теле. Ножны легли над самым солнечным сплетением, и когда она привела одежду в порядок и снова застегнула комбинезон, невозможно было догадаться, что они там.
Потом она взяла меня за руку и положила мою ладонь себе на грудь:
— Чувствуешь что-нибудь?
Я покачал головой, а Коля засмеялся:
— Не то говоришь.
Вика мне улыбнулась. Моя рука по-прежнему лежала у нее на груди, подбитой слоями одежды. Я боялся убрать ладонь — и боялся не убирать.
— Лёва, не слушай его. Его мать через жопу родила.
— Вас наедине оставить? Я могу вон к Ваське уйти спать. Ему там как-то одиноко.
— А с моим ножом как быть? — спросил я.
— Ох, про твой я забыла.
— Давай мне, — сказал Коля. — Я умею им пользоваться.
— Нет, — сказала Вика. — Тебя будут обыскивать тщательнее. Ты один на солдата похож. — Она нагнулась, и я убрал руку, хоть и был уверен, что возможность упустил. Но вот какую возможность? Что мне следовало сделать? Этого я так и не понял. Вика отстегнула ножны у меня с лодыжки и взвесила на ладони. Потом сунула их мне спереди в ботинок и под носок, поглубже. Осмотрела ботинок. Ничего нигде не торчало. Она похлопала по коже и удовлетворенно кивнула.
— Нормально ходить можешь?
Я встал и сделал несколько шагов. Ножны упирались в ногу, но держались.
— Поглядите на него, — сказал Коля. — Бесшумный убийца.
Я опять сел к Вике поближе. Она вдруг коснулась кожи у меня под ухом и провела ногтем вниз по шее и вокруг — до другого уха.
— Здесь разрежешь, — сказала она, — и никто больше не зашьет.
Старшие офицеры айнзацгруппы «А» устроились в занятом райкоме партии над полностью выгоревшим отделением милиции — на этаже с неопрятными кабинетиками, где на полу облезлый линолеум. Во всем здании воняло дымом и дизельными парами, но немцы уже восстановили энергоснабжение и растопили печи. На втором этаже было тепло и удобно. Ну, если не считать отдельных мазков высохшей крови на стенах. Не прошло и пары часов после того, как мы спрятали пистолеты, — за нами пришли два автоматчика и отвели в бывший зал заседаний, где до войны собирался на свои пленумы райком. Окна выходили на темную улицу. На стенах по-прежнему висели портреты Сталина и Жданова — их не оскверняли, будто строгостью своих лиц вожди так мало нервировали немцев, что те даже не сочли за труд их сорвать или изрисовать.
Абендрот сидел в дальнем конце длинного стола для заседаний и пил что-то прозрачное из хрустального бокала. Когда нас ввели в комнату, он кивнул, но не встал. Серая фуражка с высокой тульей — черный околыш, под немецким орлом серебряный череп — лежала на столе. А между фуражкой и почти пустой бутылкой неведомой жидкости лежала дорожная шахматная доска. Фигуры уже расставлены.
Я ожидал увидеть подтянутого физкультурника или профессора, но Абендрот не выглядел ни тем и ни другим. Он был довольно массивный, сложен, как метатель молота, и узкий воротничок впивался ему в шею. Тяжелый хрустальный бокал в его лапе выглядел миниатюрным и хрупким, как кукольная чашечка. На вид не больше тридцати, однако стриженные под машинку волосы на висках и щетина на подбородке серебрились. На правой петлице тускло блестели руны СС, на левой — четыре квадратика. А посередине висел черно-серебряный Рыцарский крест.
Выпил он уже изрядно, но его движения были точны. Я с младых ногтей научился распознавать пьяных — даже умеющих пить. Отец пил не сильно, а вот его друзья, все эти поэты и драматурги, заливали за воротник хорошо. Можно сказать, не просыхали. Некоторых при этом развозило, и они при встрече бросались слюнявить меня своими поцелуями, ерошили мне волосы и говорили, как мне повезло, что у меня такой замечательный папа. Другие, выпив, становились холодными и далекими, как луна в небе, — дождаться не могли, когда же я наконец уйду в нашу с сестренкой комнату, оставлю взрослых в покое, чтобы они без помех могли обсуждать Литфонд или выходки Мандельштама. Некоторые после единственной рюмки водки начинали бессвязно бормотать, а других красноречие посещало, лишь когда они выпивали всю бутылку.
У Абендрота подозрительно сверкали глаза. Он то и дело без видимой причины улыбался — видно, сам себе анекдоты рассказывал. На нас он смотрел и ничего не говорил, пока не допил бокал. После чего потер руки и пожал плечами.
— Сливовый шнапс, — сказал он по-русски, довольно чисто, но, как и его коллега у школы, акцента не скрывал. — Один мой знакомый старик сам делает. Это лучшее пойло на свете. Я всегда с собой ящик вожу. Кто-то из вас говорит по-немецки?
— Я, — ответил Коля.
— Где выучил?
— Бабка была из Вены. — Правда это или нет, я понятия не имел, но Коля отвечал так твердо, что Абендрот, похоже, поверил.
— Waren Sie schon einmal in Wien?
— Nein[8].
— Жаль. Прекрасный город. И никто его до сих пор не бомбил. Но это ненадолго. Наверняка англичане до него доберутся уже в этом году. Вам кто-то сказал, что я играю в шахматы?
— Ваш… коллега возле школы. Оберштурмфюрер, по-моему? По-русски говорит почти так же хорошо, как вы.
— Кюфер? С усиками?
— Да-да, точно. Он был очень… — Коля замялся, словно бы не решаясь сказать обидное, — дружелюбный.
Абендрот несколько секунд пристально смотрел на Колю, а потом с веселым отвращением фыркнул. Прикрыв рот запястьем, рыгнул и налил себе еще шнапса.
— Он такой. Да, очень дружелюбный наш Кюфер. А как это вы обо мне заговорили?
— Я ему сказал, что мой друг — один из лучших шахматистов Ленинграда, а он сказал…
— Вот этот твой еврейский друг?
— Ха… он тоже так пошутил, но нет, Лев никакой не еврей. Нос — его проклятие, а вот денег еврейских нет и в помине.
— Удивительно, что Кюфер не осмотрел член этого мальчика, чтобы удостовериться в его расовой чистоте.
И не спуская с меня глаз, Абендрот что-то сказал охранникам по-немецки. Те с любопытством взглянули на меня.
— Ты понял, что я сказал? — спросил он Колю.
— Да.
— Переведи своим друзьям.
— «Моя профессия — распознавать еврея по лицу».
— Очень хорошо. И, в отличие от моего друга Кюфера, девушку по лицу я тоже умею распознать. Сними шапку, дорогая моя.
На долгий-долгий миг Вика замерла. Я не осмеливался на нее посмотреть, но знал — она взвешивает все «за» и «против». Браться за нож или нет? Браться бессмысленно — автоматчики срежут ее, не успеет она и шагу ступить, но, видимо, только бессмысленные жесты нам и оставались. И еще я почувствовал, как рядом со мной весь подобрался Коля: если Вика выхватит нож, он кинется на ближайшего охранника, и после этого все закончится очень быстро.
Неотвратимость близкой смерти меня, как ни странно, не испугала. Я и без того слишком долго боялся; я устал, проголодался — еще и переживать? Но хотя страх мой пошел на убыль, мужества отнюдь не прибавилось. Я так ослаб, что ноги дрожали уже от того, что я стою. Ничто меня больше не заботило, в том числе и судьба Льва Бенёва.
Наконец Вика стащила с головы кроличью шапку и стала мять ее в руках. Абендрот одним махом выпил полбокала, причмокнул губами и кивнул:
— Будешь хорошенькой, когда волосы отрастут. Итак, карты на столе, да? Скажи-ка мне, — обратился он к Коле. — Вот ты неплохо говоришь по-немецки, а по-русски читать не умеешь?
— У меня голова болит читать.
— Разумеется. А ты, — он перевел взгляд на меня, — один из лучших шахматистов Ленинграда, но читать тоже не умеешь? Странно, не так ли? Большинство моих знакомых шахматистов — люди очень грамотные.
Я открыл было рот в надежде, что ложь польется из моих уст так же споро, как из Колиных, но Абендрот поднял руку и покачал головой:
— Не стоит. Вы сдали экзамен Кюферу, это хорошо и достойно уважения. Вы хотите жить. Но я-то не дурак. Один из вас — еврей, выдающий себя за нееврея. Один — девочка, выдающая себя за мальчика. Все, полагаю, грамотные, выдающие себя за безграмотных. И несмотря на старания наших бдительных солдат и усилия нашего уважаемого оберштурмфюрера Кюфера, ваши уловки увенчались успехом. Тем не менее вы приходите ко мне и напрашиваетесь на шахматную партию. Вы специально привлекли мое внимание. Это очень странно. Ясно, что и вы не дураки, иначе вас бы уже давно убили. Вы же не рассчитываете в самом деле, что я вас отпущу, если вы у меня выиграете, правда? А вот дюжина яиц… дюжина яиц в этом уравнении — самый странный икс.
— Я понимаю, что власти нас освободить у вас нет, — сказал Коля, — но я вот что подумал. Если мой друг выиграет, может, вы замолвите за нас словечко перед своим начальством…
— Ну разумеется, у меня есть власть вас освободить. Это не вопрос… А! — Абендрот ткнул в Колину сторону пальцем и кивнул, сдерживая улыбку. — Очень хорошо. Ты умный. Играешь на германском тщеславии. Да, неудивительно, что ты понравился Кюферу. Расскажи про яйца.
— С августа их в рот не брал. Нам же все время еды не хватает, и вот у меня из головы никак нейдет яичница. Весь день по снегу ходишь — в башке одна глазунья.
Абендрот побарабанил по столу пальцами.
— Хорошо, рассмотрим ситуацию. Вы втроем — закоренелые лжецы. Сочиняете какую-то сомнительную байку, чтобы добиться у меня аудиенции… — Абендрот посмотрел на охрану и пожал плечами. — Почти что наедине. Со старшим офицером айнзацгруппы «А», которую все ненавидят. Очевидно, у вас есть информация, которую вы желаете продать.
Повисла пауза. Затем Коля произнес:
— Не понимаю.
— А мне кажется, понимаешь. Возможно, вы знаете, кто из заключенных — большевики, или вы слыхали о планах Красной армии по переброске войск. Перед прочими русскими вы эту информацию выдать не можете, поэтому и устраиваете отдельную встречу. Такое, знаете, бывает — и бывает часто. Многие ваши соотечественники с готовностью предают товарища Сталина.
— Мы не предатели, — сказал Коля. — Мальчик вот в шахматы хорошо играет. Я слыхал, вы тоже шахматист. Вот и подумал: почему бы вам с ним не сыграть?
— На такой ответ я и надеялся, — улыбнулся Абендрот. Он допил шнапс в бокале и вылил из бутылки остатки. Поднял и полюбовался жидкостью на просвет. — Мой бог, вот это напиток. Семь лет в дубовой бочке…
Он сделал маленький глоток — терпеливо, не торопясь допить последнее. Посмаковав, тихо произнес что-то по-немецки. Один охранник направил на нас «шмайссер», а другой подошел и принялся меня обхлопывать.
Мне казалось, что в хлеву мы надежно запрятали нож, но, пока солдат меня обыскивал, я постоянно ощущал, как жесткие ножны впиваются мне в подъем стопы. Охранник обшарил карманы отцовской шинели, проверил у меня под мышками, под ремнем, между ног. Сунул пальцы в ботинки сзади — и тут страх вновь налетел на меня. Приступ чистого ужаса, как насмешка за бесчувственность всего пять минут назад. Я попытался дышать ровно, не хлопотать лицом. Солдат потыкал меня в лодыжки и перешел к Коле.
Интересно, на сколько миллиметров он промахнулся? Мальчишка, на год-два старше меня, на лице — созвездия мелких родинок. Наверняка в школе его дразнили. А он разглядывал эти родинки дома в зеркале, хмурый, пристыженный. Надеялся, что их можно срезать отцовской опасной бритвой. Поспи он ночью на четверть часа больше, перепади ему лишний половник супа — может, и достало бы энергии провести обыск тщательнее, и он бы нашел у меня нож. Но солдат ножа не нашел, и эта небрежность все изменила и для него, и для меня.
Покончив с Колей, он перешел к Вике. Его сослуживец отмочил шуточку и сам захихикал. Может, подначивал солдатика хлопнуть Вику по попе или ущипнуть за сосок, но девушка смотрела на солдата холодно, не мигая, и он, похоже, растерялся. Во всяком случае, ее он обыскивал далеко не так тщательно, как меня и Колю. Я понял, что паренек, должно быть, тоже девственник: ему обращаться с женским телом так же неловко, как и мне.
Робко похлопав ее по ногам, он выпрямился, кивнул Абендроту и отошел. Штурмбаннфюрер пристально посмотрел на него и едва заметно улыбнулся.
— По-моему, он тебя опасается, — сказал он Вике. Несколько секунд подождал ее ответа, но она промолчала, и Абендрот повернулся к Коле: — Ты солдат, тебя я отпустить не могу, иначе ты вернешься в Красную армию. И если убьешь немецкого солдата, его родители обвинят в этом меня. А ты, — повернулся он ко мне, — ты еврей. Отпустить тебя — это пойти против моей совести. Но если ты у меня выиграешь, я отпущу домой девчонку. Это лучшее, что я могу вам предложить.
— Слово даете, что отпустите? — спросил я.
Абендрот потер костяшками пальцев серебристую щетину на подбородке. На правой руке под лампочкой блеснуло золотое обручальное кольцо.
— Тебе она нравится. Интересно. А тебе, рыжая, — тебе нравится этот еврейчик? Ничего, не стоит волноваться — я не имел в виду ничего вульгарного. Итак… ничего требовать ты не можешь, ты не в том положении. Но да, я даю тебе слово. Я с самого Лейпцига жду хорошей партии. В этой стране лучшие в мире шахматисты, а я пока не встретил ни одного знающего.
— Может, вы их расстреливали раньше, чем успевали выяснить, — ляпнул Коля. Я затаил дыхание: на этот раз мой друг зашел слишком далеко. Но Абендрот кивнул:
— Возможно. Сначала работа — удовольствия потом. Подойди, — сказал он мне. — Садись. Если твои друзья меня не обманули и ты действительно так хорошо играешь, возможно, я оставлю тебя в живых. Будет с кем состязаться.
— Погодите, — сказал Коля. — Если он выиграет, ее вы отпустите, а нам дадите яиц.
У Абендрота явно иссякало терпение. Он устал торговаться. Ноздри его дернулись, когда он подался вперед, но голос оставался ровным:
— То, что я вам предложил, и так щедро. Желаешь продолжать глупости?
— Я верю в своего друга. Если он проиграет, пристрелите нас. Но если выиграет, мне бы хотелось яичницу на ужин.
Абендрот снова сказал что-то по-немецки, и охранник постарше шагнул вперед и ткнул Коле в затылок дулом «шмайссера».
— Торговаться нравится? — спросил Абендрот. — Что ж, поторгуемся. Похоже, ты думаешь, что способен мною помыкать. Ничего ты не можешь. Я скажу два слова — и ты труп. Да? Два слова. Понимаешь, как это быстро? Ты труп, и тебя выволокут отсюда за ноги, а я поиграю в шахматы с твоим другом. А после, быть может, отведу рыженькую к себе, отмою ее хорошенько и посмотрю, какая она под этим слоем грязи. А может, и без купания обойдемся — может, сегодня мне хочется звереныша. С волками жить — так говорят? Ну, думай, мальчик, но думай очень тщательно, прежде чем откроешь рот. Ради себя думай и ради своей мамаши, если старая паскуда еще жива.
Любой человек на Колином месте заткнулся бы и больше не пикнул. Но Коля раздумывал не долее секунды.
— Вы, конечно, можете меня убить, когда вам вздумается, — сказал он. — Чего тут спорить? Но как вы считаете — мой друг сможет прилично сыграть, если по всему столу разлетятся мои мозги? Вам с кем интересно играть — с чемпионом Ленинграда или с перепуганным описавшимся мальцом? Если он не может выиграть нашего освобождения — ладно, это я понимаю, война есть война. Но по крайней мере, дайте ему шанс заработать ужин, о котором мы так давно мечтали.
Абендрот воззрился на Колю, пальцами медленно барабаня по столу. В комнате раздавался только этот стук. В конце концов штурмбаннфюрер повернулся с солдату с родинками и что-то коротко скомандовал. Солдат отдал честь и вышел, а офицер показал мне на стул рядом с собой через угол стола. Коле и Вике он кивнул, чтобы устроились подальше.
— Сядьте, — распорядился он. — Весь день на ногах, правда? Садитесь-садитесь. Монету подбрасывать будем? — спросил он у меня. Не дожидаясь ответа, выудил монету из кармана и показал мне: с одной стороны орел, держащий в когтях свастику, с другой — номинал, 50 рейхспфеннигов. Он подбросил монету щелчком, поймал и прихлопнул другой ладонью. Посмотрел на меня: — Орел или решка?
— Решка.
— Не нравится наша птичка? — слегка улыбнулся он. Убрал руку и показал мне орла. — Играю белыми. Да, и не беспокойся, ферзь пусть останется у тебя.
И с этими словами двинул ферзевую пешку вперед на два поля. Я отзеркалил его ход.
— Настанет день, и я использую какой-нибудь другой дебют. — Он двинул пешку с2-с4, предложив жертву. Ферзевый гамбит. По крайней мере половина всех партий, что я играл, с него начиналась. И воскресные шахматисты, и гроссмейстеры — все начинали с этой комбинации. И пока не скажешь, понимает ли немец, что делает. Я отказал и двинул королевскую пешку на клетку вперед.
За много лет я сыграл тысячи партий с сотнями противников. Играл и на расстеленном одеяле в Летнем саду, и на турнирах в Доме пионеров, и с отцом во дворе нашего дома. Когда я играл за клуб «Спартак», записывал все свои партии, а бросив участвовать в соревнованиях, записи эти выбросил. Я все равно не собирался изучать свои старые ходы — особенно когда понял, что никаким гроссмейстером мне не стать. Но дай мне карандаш и листок бумаги даже сегодня — и все равно запишу в алгебраической нотации нашу игру с Абендротом в тот вечер.
На шестом ходу я двинул вперед ферзя, и немец, похоже, удивился. Нахмурился, поскреб ногтем щетину на верхней губе. Я выбрал такой ход, поскольку он был неплох, но не только. Ход мог показаться и плохим, мы ведь пока не могли судить о квалификации противника. И если Абендрот будет полагать меня скверным игроком, я смогу заманить его в ловушку, и он совершит какую-нибудь роковую ошибку.
Абендрот пробормотал что-то по-немецки и пошел конем со стороны короля — ответ разумный, но не его я боялся. Если бы он взял мою пешку, инициатива осталась бы у него, а я бы оказался вынужден противостоять его натиску. Но он предпочел играть в защите — я воспользовался преимуществом и двинул на его территорию слона.
Немец откинулся на спинку, созерцая доску. Через минуту улыбнулся и поднял на меня взгляд:
— Давно я хорошо не играл.
Я ничего не ответил, следя за доской, просчитывая возможные последствия ходов.
— Не стоит тревожиться, — продолжал немец. — Выиграешь ты или проиграешь — ты в безопасности. Если у меня каждый вечер будет хорошая партия, я не сойду с ума.
Он снова подался вперед и сделал ход ферзем. Пока я раздумывал, вернулся молоденький солдат. Он нес небольшой дощатый ящик, из которого торчала солома. Абендрот что-то спросил у паренька, тот кивнул и поставил ящик на стол.
— У меня от тебя аппетит разыгрался, — сказал Абендрот Коле. — Если выиграю, угощу-ка я себя омлетом из дюжины яиц.
При виде ящика с яйцами Коля на другом конце стола ухмыльнулся. Оба охранника теперь стояли у них с Викой за спинами, не отнимая пальцев от спусковых крючков. Коля пытался издали следить за игрой, но Вика смотрела в стол. На ее лице никогда ничего нельзя было прочесть, но я чувствовал, что она раздражена, — и тут, слишком поздно, я понял, что мы упустили возможность. Пока солдат ходил за яйцами, мы перевешивали немцев числом. У них автоматы, у нас только ножи, но лучше возможности нам могло и не выпасть.
На восьмом ходу мы со штурмбаннфюрером начали размен фигур. Я взял пешку, он взял коня. Я взял слона, он взял пешку. В конце размена силы наши по-прежнему оставались равны, но доска очистилась, и я увидел, что у меня позиция сильнее.
— Скрипачи и шахматисты, значит?
Я раньше боялся на него взглянуть, а сейчас украдкой глянул. Он задумчиво рассматривал комбинацию. Сидел я близко и отчетливо видел набрякшие мешки под глазами — светло-карими, кстати. Линия челюсти была четкой и сильной, в профиль — как перевернутая Г. Он заметил, что я наблюдаю, и поднял массивную голову. Я быстро опустил глаза.
— Твоя раса, — сказал он. — Несмотря ни на что, из вас получаются отличные скрипачи и шахматисты.
Я отвел назад ферзя, и следующие двенадцать ходов мы собирали силы, избегая прямых столкновений. Оба сделали по рокировке, защищая королей и готовясь к следующей схватке, собирались к центру доски, стараясь отвоевать себе позицию получше. На двадцать первом ходу я едва не попался в элегантную маленькую ловушку, которую он мне подстроил. Едва не зевнул — уже готов был взять подставленную им пешку, — и вдруг сообразил, что планирует немец. Я возвратил слона и пошел ферзем, чтобы угол атаки был выгоднее.
— Жаль, — сказал Абендрот. — Получился бы хорошенький маневр.
Я поднял голову. Коля и Вика пристально смотрели на меня. План мы так и не обсудили, но сейчас он казался очевиден. Я поерзал ногой в ботинке — ножны мертвого летчика вгрызлись мне в лодыжку. Насколько быстро я смогу выхватить нож?
Вряд ли это возможно — успеть перерезать Абендроту горло до того, как меня расстреляет охрана. Даже без их защиты он был гораздо сильнее меня. Маленьким в цирке я видел силача — так вот, у штурмбаннфюрера были такие же ручищи. Цирковой силач завязал узлом тяжеленный гаечный ключ, а у меня тогда был день рождения, и он мне его подарил. И я хранил этот ключ много лет — показывал друзьям и соседям, хвастался, как силач потрепал меня по голове и подмигнул моей матери. А однажды я этого ключа просто не нашел — у меня было подозрение, что его спер Олежа Антокольский, но я этого так и не доказал.
И вот мысль — вытащить нож и кинуться на такого здоровенного дядьку, — эта мысль меня просто в панику повергла, поэтому я перестал об этом думать и сосредоточился на партии. Через несколько ходов я увидел возможность для размена коней. У меня была плоховата позиция, и я этот размен форсировал. Абендрот вздохнул, забирая мою фигуру:
— Не следовало мне поддаваться.
— Отличный ход! — крикнул Коля. Я повернулся: они с Викой по-прежнему за мной наблюдали. Я вернулся к игре. Как вышло, что меня выбрали убийцей? Неужели Коля так плохо меня изучил? Я знал, что Абендрот должен умереть, — я сам хотел его смерти после того, как мне рассказали про Зою. Он, без сомнения, лично убивал сотни мужчин, женщин и детей, пока шел по Европе вслед за вермахтом. За уничтожение евреев, коммунистов и партизан в оккупированных странах его награждали блестящими медалями в Берлине. Он мой враг. Но, глядя на него за шахматной доской, видя, как он теребит обручальное кольцо, обдумывая следующий ход, я не верил, что способен его убить.
Ножны впивались мне в ногу. Напротив меня сидел штурмбаннфюрер, и воротничок пережимал ему синенькую вену на неохватной шее. Коля с Викой выжидали. Все это тяжким грузом давило и отвлекало, но играл я все равно прилично. Как бессмысленно бы ни закончилось, партия что-то значила для меня.
Локтем я упирался в стол, а голову положил в ладонь, чтобы не видеть Колю и Вику. На двадцать восьмом ходу я пошел пешкой на с5 — агрессивное наступление. Абендрот мог бы съесть ее с любой стороны. В шахматах есть одно старое правило — брать нужно «к центру». Абендрот следовал классической стратегии — пошел пешкой с b и установил свое господство в центре доски. Но Тарраш же говорил: «Всегда ставь ладью позади проходной пешки — кроме тех случаев, когда это неправильно». Так и тут: захват к центру — правильный ход, кроме тех случаев, когда он неправильный. Комбинация завершилась, мы разменяли по две пешки, фигур у нас осталось поровну. И Абендрот, как человек, который уже проглотил яд, но продолжает жевать мясо и не понимает, что участь его предрешена, еще не осознавал, что совершил смертельную ошибку.
Нет, короля он опрокидывать не стал, отнюдь, — немец был уверен, что его позиция лучше моей. Мы приближались к эндшпилю, его пешка на всех парах мчалась по краю доски к а8, где она превратится в ферзя и разгромит мою защиту. Абендрот так хотел заполучить себе двух ферзей, что с радостью принимал размены, которые я ему предлагал. Ну как он может проиграть, если у него на доске будут атаковать два ферзя? Сосредоточившись на прохождении пешки, он слишком поздно сообразил, что моя проходная пешка уже в центре доски. В конце концов моя пешка достигла поля превращения раньше его. А двух ферзей побить трудно, если первыми они появляются у противника.
Абендрот еще не понимал, что игра окончена, но игра была окончена. Я глянул на Вику, глупо гордясь моей неотвратимой победой, и заметил, что рука ее скользнула под комбинезон. Не станет она больше меня ждать — она берется за нож. А обе Колины руки лежали на столе — он готовился оттолкнуться и вскочить, когда это сделает Вика. Я встретился с Викой глазами — и вдруг со внезапной ясностью понял, что, если останусь сидеть и дальше, из ее тела на драном линолеуме скоро вытечет вся жизнь.
Пока Абендрот созерцал доску и прямо-таки толпу ферзей на ней, я сделал вид, что у меня зачесалась лодыжка, и медленно скользнул пальцами в ботинок. Не в приступе мужества, напротив — страх за Вику пересилил все остальные страхи. Абендрот прищурился, разглядывая своего короля, и я заметил, как изменилось у него лицо: он наконец-то сообразил, какова его позиция. Я думал, поражение его разозлит. Но он расплылся в улыбке, и мне вдруг увиделось, каким он был в далеком детстве.
— Это было прекрасно, — сказал штурмбаннфюрер, поднимая голову. — В следующий раз не буду столько пить.
Но мое лицо его встревожило, что бы он в нем ни прочитал. Абендрот нагнулся и увидел, как моя рука под столом лезет в ботинок. Я замешкался и наконец выдернул нож. Не успел замахнуться, как штурмбаннфюрер кинулся вперед, вместе со стулом опрокинул меня на пол и левой прижал мою руку с ножом, а правой полез в кобуру за пистолетом.
Если б я выхватил нож быстрее, если бы мне повезло и я рассек бы ему яремную вену, если бы это чудо произошло — и Вика, и Коля, и я были бы мертвы. Охранники просто подняли бы «шмайссеры» и нас бы всех изрешетили. А так нас спасло проворство Абендрота — ну, или моя неуклюжесть, это как посмотреть. Солдаты кинулись на выручку штурмбаннфюреру, выручать которого было особо незачем, и бросили оставшихся пленников. Лишь на миг, но его хватило.
Абендрот вытащил пистолет. Услышав шум, обернулся. И увиденное встревожило его больше, чем истощенный еврейчик, елозивший под ним по полу. Он прицелился — я не разглядел, в Колю или в Вику. Я заорал и левой рукой исхитрился стукнуть по стволу пистолета, как раз когда он нажимал на спуск. Пистолет дернулся, меня едва не оглушило грохотом выстрела. Абендрот зарычал и попробовал отвести оружие подальше от моих скрюченных пальцев. Бороться с ним было бесполезно — медведь и есть медведь, — но я вцепился в ствол изо всех оставшихся сил. Секунды взорвались грохотом, воплями по-немецки и дульными вспышками, топотом ног по линолеуму.
Разъярившись на мое упрямство, Абендрот двинул меня по голове левой рукой. Пока мы жили в Доме Кирова, я, конечно, дрался, но потасовки наши были вялыми и бескровными — так дерутся приличные мальчики, которые ходят в шахматные клубы. В лицо меня раньше никто не бил. Комната перед глазами поплыла, запорхали светляки, а штурмбаннфюрер вырвал у меня из хватки пистолет и нацелил мне его между глаз.
Я привскочил и сунул нож ему в грудь — прямо через карман под гроздью значков и медалей. Лезвие вошло полностью, до самой серебряной гарды.
Абендрот содрогнулся и мигнул, глядя на черную рукоять, торчавшую из груди. Он еще мог бы пристрелить меня, но мстить за собственное убийство как-то не пришло ему в голову. Вид у него был разочарованный — уголки рта опустились, он весь сделался растерянный, моргал, дышал прерывисто. Попробовал привстать, однако ноги подломились, и он завалился набок, а нож остался у меня в руке. Пистолет выпал из его разжавшихся пальцев. Глаза Абендрота распахнулись широко — так изо всех сил пытается проснуться спящий, — и он оперся ладонями о линолеум, стараясь уползти от кровавого месива, не обращая внимания на суматоху вокруг. Но отполз он недалеко.
Я повернулся: Коля боролся на полу с охранником, оба они тянули на себя «шмайссер». Я-то уже знал, что Коля — драчун что надо, а вот охраннику этого никто не сказал, и он, похоже, одерживал верх. Не помню, чтобы я вскакивал на ноги или бежал на помощь, но не успел немец высвободить автомат, направить его Коле в грудь и разрядить всю обойму, я уже висел у немца на спине и вонзал в нее нож. Снова и снова.
С мертвеца меня стащила Вика. Весь комбинезон у нее был в крови, и логическое мышление мне отказало — я сразу решил, что ее ранило в живот. По-моему, ничего связного я не сказал, но она покачала головой и успокоила меня:
— Нет, я не ранена. Давай-ка я на твою руку посмотрю.
Просьбы я не понял. Поднял правую, в которой еще сжимал окровавленный нож, но Вика мягко оттолкнула ее, обеими руками взяла меня за другое запястье. И лишь тогда я увидел, что у меня недостает половины указательного пальца. Вика быстро присела у тела второго охранника — парнишки с родинками, который мертво пялился в потолок, потому что у него было рассечено горло, — и отрезала полоску от его брюк. Туго перевязала мне палец, чтобы остановить кровь.
Коля подобрал оба «шмайссера» — один кинул Вике, второй оставил себе, — а потом схватил со стола ящик с яйцами. В здании перекликались немецкие голоса — похоже, офицеры спрашивали, приснился им выстрел или действительно где-то стреляли. Коля распахнул окно и высунулся.
— Скорей, — махнул он нам. Он выпрыгнул первым, я поспешил за ним. Второй этаж был невысок, а снегу под окна намело с метр. Я не удержался при падении и растянулся ничком. Коля вздернул меня на ноги и смахнул снег у меня с лица. Из зала заседаний наверху донеслась короткая очередь. Через секунду выпрыгнула и Вика, дуло ее автомата еще дымилось.
Мы рванули прочь от сожженного отделения милиции. Над нами вопросительными знаками изгибались темные уличные фонари. Крики в бывшем райкоме партии нарастали — я так и ждал, что сейчас вокруг зажужжат пули, но никто не стрелял. Охранники у входа, надо полагать, услышав стрельбу, сразу вбежали внутрь. Но когда они поняли свою ошибку, мы уже растворились во тьме.
Вскоре мы добрались до окраины. Свернув с дороги, помчались через мерзлые колхозные поля, мимо темнеющих силуэтов брошенных тракторов. 3а спинами у нас, в Пушкине, ревели двигатели, лед хрустел под цепями на колесах. В смутном далеке мы видели черную массу леса — он был готов принять нас, укрыть от вражеских взоров.
Я никогда не был особым патриотом. Отец при жизни такого бы не допустил, а с его смертью выбора мне не осталось. Отцовские заветы следовало выполнять. Нежность во мне вызывал только сам Питер — ему я был верен больше, чем стране в целом. Но в ту ночь, когда мы убегали по заснеженному картофельному полю, а по пятам за нами гнались немецко-фашистские захватчики, меня обуяла любовь к родной стране.
Мы бежали к лесу, цепляясь за мерзлую ботву, под восходившей луной, а звезды улетали от нас все дальше и дальше — мы были одни под этим безбожным небом.
24
Даже через час мы еще озирались и оглядывались, прислушиваясь к лязгу гусениц, но чем глубже в лес, тем больше мы верили, что побег удался. Мы отламывали сосульки с еловых ветвей и грызли, но холод стоял такой, что держать лед во рту подолгу не получалось. Обрубок пальца у меня начало дергать в такт биению сердца.
Коля расстегнул шинель и сунул яйца в набитом соломой ящике под свитер, чтобы не перемерзли. Последние несколько километров он то и дело похлопывал меня по плечу и широко ухмылялся. Вид у него — в краденой стеганой шапчонке с детскими завязочками — был довольно дурацкий.
— Ну ты и выдал, — повторил он мне раза четыре минимум.
Вот я и стал убийцей людей, а немецкий нож в ботинке — настоящим оружием, не просто трофейным детским сувениром. Может, ты подумаешь обо мне лучше, если я скажу, что мне было грустно. Хотя убийство было вынужденным, я чувствовал солидарность с убитыми, что ли. Физиономия мальчишки с родинками долго еще стояла у меня перед глазами, пока я наконец не забыл, как он выглядел, и мне не осталось только воспоминание об этом воспоминании. А вот штурмбаннфюрер, ползущий по линолеуму в никуда, — это я до сих пор помню в красках. Я бы сколько угодно мог разглагольствовать, чтобы убедить тебя, будто я человек отнюдь не бесчувственный. Мне кажется, я все-таки не такой, да. Но все же в ту ночь мне было радостно от того, что я совершил. Ведь я что-то совершил — против всех ожиданий, вопреки всей истории собственной трусости. В конечном итоге, убийство Абендрота не имело отношения к мести за Зою, к уничтожению важного офицера айнзацгруппы. Я не дал умереть Коле и Вике. Выжил сам. Теплые клубы пара подымались у нас над головами, мы хрюкали, проваливаясь сквозь корку наста, и все, что переживали мы в нашем долгом переходе, — одно то, что мы его переживали, — все это было лишь потому, что я, зажатый в угол, наконец проявил толику мужества. А больше всего в жизни я горжусь вот чем. Когда мы решили передохнуть, Вика, проверяя, остановилась ли у меня кровь, прошептала мне на ухо:
— Спасибо.
Однажды они с Колей заспорили, куда нам идти. Дебаты закончила Вика — нетерпеливо тряхнула головой и куда-то двинулась, не дожидаясь, пойдем ли мы следом. После катастрофы со Мгой я не верил, что Коля способен ориентироваться на местности, и пошел за ней. Коля упрямо продержался за собственное мнение целых восемь секунд, а затем и сам припустил следом.
Где-то по пути я рассказал ей всю правду о том, почему мы с ним выбрались из Питера, перешли линию фронта и в конце концов наткнулись на домик под елками. Рассказывал вполголоса, чтобы Коля не услышал, хоть и непонятно, кого я этим могу предать. Рассказал о дочери капитана госбезопасности, как она каталась по Неве на коньках, о людоедах и их жутком провианте на крюках, об умиравшем мальчишке Вадике и его петухе по имени Дорогуша. Рассказал о том, как на снегу истекала кровью «противотанковая» собака, о мертвом советском солдате, вмерзшем в снег. Когда я закончил, Вика лишь покачала головой и ничего не сказала. Я испугался, что выболтал ей слишком много.
Глядя, как она шагает по лесу, неутомимая и безмолвная, закинув за плечо немецкий автомат, я вспомнил Колины слова. Война всех изменила, но, как ни верти, трудно поверить, что семь месяцев назад эта девушка изучала астрономию.
— Можно спросить?
Она не потрудилась ответить. Вот еще — отвечать на бессмысленные вопросы вроде «Можно спросить?».
— Коля говорит, ты из НКВД.
— Это и есть твой вопрос?
— Наверное.
— А сам как думаешь?
— Я не знаю, — ответил я, но в тот же миг понял, что нет, знаю. — По-моему, он прав.
Она вгляделась в темноту, стараясь различить какой-нибудь ориентир и понять, куда же мы движемся.
— И тебе от этого нехорошо?
— Да.
— Почему?
— Из-за отца. — И тут я понял: она же не знает, что случилось с моим отцом. Я торопливо добавил: — Его забрали.
Почти минуту мы шли молча — медленно взбирались на пологий склон. Я начал задыхаться — чем дальше мы уходили от победы в Пушкине, тем больше слабели ноги.
— Твой отец писатель был, так? Тогда велика вероятность, что на него донесли другие писатели. А органы просто выполняли свою работу.
— Ну да. Как и айнзацы. Конечно, все выбирают работу себе по душе.
— Если тебе станет легче, моего отца тоже забрали.
— Правда? Тоже писатель?
— Нет. Тоже органы.
Почти час мы поднимались на этот долгий холм, и сил у меня в ногах больше не осталось. Но когда мы вышли на его безлесную вершину, я понял, для чего Вика выбрала этот путь. Над раскинувшимися гектарами лесов и пашен висел яркий полумесяц, и под ним все искрилось от мороза.
— Смотри, — сказала Вика, показывая на север. — Видишь?
За долиной, начинавшейся у подножия холма, за далекими возвышенностями на туманном горизонте в небо устремлялся тонкий столб света. Такой яркий, что подсвечивал тучи снизу. Вот этот мощный луч начал двигаться — блистающая сабля вспарывала ночь. Я понял, что смотрю на прожектор ПВО.
— Это Питер, — сказала Вика. — Если по пути домой потеряетесь, он будет вам Полярной звездой.
Я обернулся к ней:
— Ты что, с нами не пойдешь?
— Под Чудово есть партизанский отряд. Я знаю командира. Попробую выйти на них.
— А то давай с нами? Капитан и тебе, наверное, продовольственных карточек даст. Я ему скажу, что ты нам помогала…
Вика улыбнулась и сплюнула:
— Подтереться этими карточками. Питер — не мой город. Здесь я нужнее.
— Будь осторожнее, — сказал Коля. — По-моему, мальчик влюблен.
— От дорог держитесь подальше. И в город заходите с оглядкой. Мины везде.
Коля протянул ей руку, не сняв перчатки. Вика закатила глаза от такой церемонности, но руку ему пожала.
— Надеюсь, мы еще встретимся, — сказал он ей. — В Берлине.
Она улыбнулась и повернулась ко мне. Я-то знал, что мы с нею больше не встретимся. И когда она увидела мое лицо, в этих синих волчьих глазах вдруг мелькнуло что-то человеческое. Она провела перчаткой по моей щеке:
— Не грусти. Ты мне сегодня жизнь спас.
Я пожал плечами. Я боялся, что стоит мне открыть рот, и я ляпну какую-нибудь слезливую глупость, а то и хуже — разревусь. Не плакал я уже лет пять — но и ночи такой у меня раньше не бывало. К тому же я был убежден, что эта снайперша из Архангельска — единственная любовь всей моей жизни.
Она не убрала руку от моей щеки.
— Фамилию свою скажи?
— Бенёв.
— Я тебя отыщу, Лёва Бенёв. Мне только фамилия нужна. — Она подалась вперед и поцеловала меня в губы. Своими холодными губами, потрескавшимися от зимнего ветра… И если правы мистики, если мы обречены до бесконечности проживать свою жалкую жизнь круг за кругом, я, по крайней мере, всегда буду возвращаться к этому поцелую.
Она ушла, опустив голову, поглубже надвинув на лоб кроличью шапку, уткнув подбородок в шарф, — и маленькое тело в слишком большом комбинезоне совсем потерялось среди огромных древних стволов. Я знал, что она не оглянется, но все равно смотрел вслед, пока она не скрылась с глаз.
— Пойдем, — сказал Коля, обхватив меня рукой за плечи. — Нам с тобой еще на свадьбу.
25
Днем снег подтаял, ночью опять все замерзло, поэтому почва была предательской — наст трещал при каждом шаге. Палец болел так, что трудно сосредоточиться. Мы шли дальше, потому что нам нужно было идти дальше: мы слишком далеко уже зашли, поздно останавливаться, и я не знаю, откуда у меня брались силы на каждый шаг. Есть что-то за голодом, за усталостью, где время больше не движется, где все муки телесные — уже вроде и не твои.
К Коле все это не относилось. Ел он так же мало, как и я, хотя ночью, в сарае с неграмотными пленными, выспался получше — ему там было удобно, как на пуховой перине в гостинице «Европейская». Пока я плелся повесив голову, Коля озирал местность в свете луны, будто пейзажист на вечерней прогулке. Казалось, весь Советский Союз — наш. Уже много часов мы не видели никаких следов человека — ну, кроме заброшенных полей.
Каждые несколько минут он лазил рукой под шинель и проверял, не выбился ли свитер из-под ремня, надежно ли держатся за пазухой яйца.
— А я рассказывал тебе историю дворовой псины?
— Из твоего романа?
— Да, откуда название взялось?
— Наверное.
— Нет, по-моему, не рассказывал. Главный герой, Радченко, живет в старом доме на Васильевском. Дом вообще-то строили для генерала из свиты императора Александра, но теперь он полуразвалился, его разделили на восемь отдельных квартир, и все соседи друг друга терпеть не могут. И вот однажды ночью к ним во двор забредает старая псина — ложится у ворот, и все. Вроде как тут у нее дом теперь. Огромная старая тварь, вся морда седая, одно ухо в драке зубами оторвали много собачьих веков назад. Наутро Радченко просыпается поздно, смотрит в окно — а там эта псина, голову положила между лап. Ему становится жалко бедную скотинку: холодно, жрать нечего. В общем, он находит у себя кусок засохшей колбасы и открывает окно — а колокола как зазвонят…
— А год какой?
— Что? Не знаю. Тысяча восемьсот восемьдесят третий. Радченко свистит, псина подымает голову и смотрит на него. Он ей кидает колбасу, собака ее заглатывает, Радченко улыбается и опять ложится в постель. А ты не забывай, он уже пять лет никуда из квартиры не выходит. На следующий день Радченко спит, опять колокола звонят. Отзвонили, он слышит со двора: гав! И опять: гав! Наконец сползает с постели, открывает окно, смотрит во двор — а псина стоит и на него смотрит, язык вывалила, ждет, чтоб покормили. Ну, Радченко еще что-то находит кинуть твари — и вот с тех пор, как только колокола в полдень звонят, псина тут как тут, стоит у него под окном и обеда дожидается.
— Как собака Павлова.
— Да, — с легким раздражением подтвердил Коля. — Как собака Павлова, только поэтически. Проходит два года. Псина уже знает всех в доме, каждый раз их пропускает без хлопот, но стоит у ворот появиться чужаку — ужас. Рычит, зубы скалит. Жители ее любят, она их защищает, они и двери запирать уже перестали. Иногда Радченко целыми днями сидит у окна и смотрит, как псина смотрит на людей, которые мимо ворот по улице идут. Их ритуала в полдень он не забывает — теперь у него всегда есть чем покормить собаку. Но вот однажды утром Радченко еще спит, и снится ему чудесный сон: та женщина, которой он в детстве восхищался, близкая подруга его матери. Звонят колокола, Радченко с улыбкой просыпается, потягивается, подходит к окну, распахивает и смотрит во двор. А псина лежит у ворот на боку и не шевелится — и Радченко сразу понимает, что она умерла. А ты не забывай: Радченко никогда к ней не спускался, не трогал ее, за ухом не чесал, по животу не гладил — ничего такого. Но все равно он же любил эту приблудную тварь, считал ее своим верным другом. Чуть ли не целый час Радченко стоит и смотрит на мертвую псину — и наконец понимает, что, кроме него, похоронить ее некому. Приблудная же — ну кто еще станет ею заниматься? А Радченко из квартиры не выходит уже семь лет. Его тошнит от одной мысли, что придется нос за дверь высунуть. Но еще хуже от мысли, что эта псина будет гнить на солнце. Понимаешь, сколько драматизма? И вот он выходит из квартиры, спускается по лестнице, выходит на солнце — впервые за семь лет! — подбирает мертвую псину и выносит ее прочь со двора.
— И где он ее похоронил?
— Не знаю. В каком-нибудь скверике… возле университета, может.
— Ему бы не дали.
— Тут я еще не разобрался. Но ты не понял сути…
— И еще ему лопата нужна.
— Да, да, лопата ему нужна. Романтики в тебе — как в вокзальной шлюхе, знаешь? А я, может, сцену похорон и писать-то не стану. Как тебе такой поворот? Оставлю все воображению читателя.
— Может, и неплохо. Иначе слюняво как-то выйдет. Мертвые собачки… не знаю.
— Но тебе нравится?
— Пожалуй.
— Пожалуй? Это же прекрасная история.
— Хорошая, хорошая. Мне нравится.
— А название? «Дворовая псина»? Теперь ты понял, почему это великолепное название? К Радченко наведываются бабы, все время пытаются его куда-нибудь с собой вытащить, а он никогда не ходит. Для них это уже такая игра: каждой женщине хочется стать первой, кто выманит его к воротам, а никому не удается. Только псине — старой больной собаке без хозяина.
— Да, «Дворовый пес» было бы совсем не так хорошо.
— Ну да.
— А какая разница между псом и псиной?
— Псина больше. — Коля схватил меня за руку, глаза распахнуты, — и я замер. Сначала подумал, не услышал ли он чего-нибудь — урчание танковых двигателей, крики солдат вдалеке… Но он, видимо, прислушивался к чему-то у себя внутри. За руку он меня держал очень крепко, губы его приоткрылись, а лицо стало очень сосредоточенным — он будто старался вспомнить имя девушки по первой букве.
— Что? — спросил я. Он поднял руку, и я умолк. Уже через десять секунд мне захотелось лечь в снег и закрыть глаза — хотя бы на несколько минут, чтоб отдохнули ноги, пошевелить пальцами в ботинках, снова их ощутить…
— Подступает, — ответил Коля. — Я чувствую.
— Что подступает?
— Говно мое! Ох, сука, ну давай же, давай!
Он забежал за дерево, а я остался его ждать, покачиваясь на ветру. Мне хотелось сесть, но внутренний голос зудел в голове: это опасно, сядешь — уже не встанешь.
Когда Коля вернулся, я спал стоя. И видел обрывки бессвязных снов. Он схватил меня за руку, напугал. Улыбался он просто ослепительно.
— Друг мой, я больше не атеист. Пойдем покажу.
— Шутишь, да? Ничего я не хочу смотреть.
— Ты должен. Это рекорд.
Он тянул меня за рукав, чтобы я пошел за ним, но я уперся пятками в снег и сопротивлялся изо всех сил.
— Нет-нет, пойдем же. У нас нет времени.
— Ты боишься посмотреть на мою рекордную какаху?
— Если мы к рассвету не доберемся до капитана…
— Но это же чудо! Будет что внукам рассказать!
Коля тянул меня, и сил у него было больше. Я уже начал поддаваться, но его перчатки соскользнули с моего рукава, и он, оступившись, рухнул на снег. Хотел сначала рассмеяться — но вспомнил про яйца.
— Блядь, — произнес он, глядя на меня снизу вверх. Впервые за все наше странствие я увидел в его глазах что-то похожее на подлинный ужас.
— Только не говори мне, что ты их разбил. Не надо.
— Я разбил? Почему один я? Ты же не хотел идти смотреть на мое говно!
— Да, я не хотел идти смотреть на твое говно! — заорал я. Плевать мне было на фашистов, которые могут бродить в этих лесах. — Ну что, разбил, говори?
Сидя на снегу, он расстегнул шинель, вытащил из-под свитера ящик, провел по рейкам ладонью. Глубоко вздохнул, стащил правую перчатку и робко запустил руку внутрь. Пошевелил в соломе голыми пальцами.
— Ну?
— Целые.
Опять запрятав ящик и закрепив его в тепле у Коли под свитером, мы снова двинулись на север. О своем историческом испражнении Коля больше не заговаривал, но, по всему судя, был раздражен тем, что я отказался свидетельствовать. Когда он будет похваляться перед друзьями, подкрепить рекорд будет нечем.
Каждые несколько минут я посматривал на луч мощного прожектора, бродивший по небесам. Иногда километр-другой его не было видно — загораживали деревья или холмы, — но потом мы снова его находили. Чем ближе к Питеру, тем больше прожекторов виднелось в небе, но самым мощным оставался первый. Казалось, он добивает до луны, и она вспыхивает ярче, когда этот луч проходит по ее далеким кратерам.
— Вот капитан-то удивится, — сказал Коля. — Небось думает, что мы уже на том свете. Обрадуется, что мы яйца принесли, и вот тут я на свадьбу-то и напрошусь. Пусть только попробует не пригласить. Мы и жене его понравимся. Я даже, может, с невестой потанцую, пару-другую па ей покажу… Пусть знает, что замужние женщины меня не пугают.
— А я вот даже не знаю, где буду ночевать…
— У Сони остановимся. Про это ты даже не думай. Капитан нам точно еды даст, мы с нею поделимся, печку растопим. А завтра я пойду свою часть искать. Ха… вот ребята удивятся…
— Она же меня не знает. Я не могу у нее.
— Еще как можешь. Мы же друзья теперь, Лев, или как? А Соня — мой друг, значит, и твой тоже. Не волнуйся, места у нее много. Хотя раз ты с Викой познакомился, у Сони тебе будет не так интересно. А?
— Меня от Вики жуть берет.
— Меня тоже. Но тебе же она нравится, признайся?
Я улыбнулся, вспомнив Викины глаза, ее пухлую нижнюю губу, четко очерченную ключицу…
— Наверное, она думает, что я для нее слишком молод.
— Может, и так. Но ты же ей жизнь спас. Пуля ей прямо в голову летела.
— Тебе тоже спас.
— Не, тот фриц мне уже сдавался.
— А вот и нет, у него автомат…
— Не настал еще тот день, когда какой-нибудь баварский гусак побил бы меня в драке…
Спор наш не заканчивался: он вилял от анализа шахматной партии и моих якобы ошибок к предполагаемым гостям на свадьбе капитанской дочери и судьбе четырех девушек из сельского домика. Разговор не давал мне заснуть на ходу, не давал думать об онемевших пальцах, о ногах, что превратились в какие-то ходули. Небо над нами светлело — один неуловимый оттенок сменялся другим, а мы брели, спотыкаясь, прямо по мощеной дороге, где снег укатали и идти было легче. Перед самым рассветом мы увидели первый рубеж питерских укреплений: черные раны траншей на снегу, бетонные надолбы, заржавленные противотанковые ежи… километры колючей проволоки, натянутой на деревянные колья.
— Я тебе одно скажу, — произнес Коля. — Этот торт я хочу попробовать. Хоть кусочек. Мы столько ради него терпели — это будет честно. — И тут же спросил удивленно: — Что это они?.. — А я услышал выстрел. Коля дернул меня за шинель и повалил в снег. Над головой заныли пули. — Они в нас стреляют, — ответил он сам себе. — Эй! Эй, в траншее! Мы русские! Свои, не стреляйте! — Снова пули. — Вашу мать, вы меня слышите? Мы свои, наши. У нас мандат капитана Гречко! Капитан Гречко! Слышите?
Выстрелы смолкли, но мы не торопились подниматься с земли. Руками мы на всякий случай прикрывали головы. Из траншеи донесся командирский голос — офицер орал на своих солдат. Коля приподнял голову и вгляделся в линию укреплений в нескольких сотнях метров от нас.
— Они что, не слыхали о предупредительных?
— Может, это и были предупредительные.
— Нет, они в головы нам целили. Стрелять не умеют, вахлаки. Понабрали в Красную армию пролетариев. Винтовку неделю назад увидели. — Он сложил ладони рупором и заорал в сторону наших: — Эй, в окопах! Слышите меня? Патроны для фрицев поберегите!
— Поднимите руки и медленно идите сюда! — донесся ответ.
— А стрелять не будете, если встанем?
— Если вы нам понравитесь.
— Мамаше твоей я понравлюсь, — пробурчал Коля. — Ну что, львенок, готов?
Мы встали, но Коля сразу скривился и споткнулся на месте, чуть не упал. Я схватил его за руку поддержать. Он нахмурился, стряхивая снег с полы шинели, потом извернулся и осмотрел ее сзади. На уровне бедра ткань была пробита пулей.
— Бросайте оружие! — заорал офицер из дальней траншеи. Коля отшвырнул «шмайссер» в сторону.
— Меня подстрелили! — крикнул он. Расстегнул шинель и осмотрел дырку на штанине. — Невероятно, блядь. Эти суки ранили меня в жопу.
— Идите сюда, руки не опускайте!
— Еб твою мать, идиот, ты меня в жопу ранил! Никуда я идти не могу!
Я держал Колю за руку, не давая ему упасть. На правую ногу он опираться не мог.
— Тебе надо сесть, — сказал я.
— Я не могу сидеть. Как я буду сидеть, у меня пуля в заднице. Ты погляди только!
— А на колени встать можешь? По-моему, тебе лучше не стоять.
— Ты понимаешь, что меня в батальоне засмеют? В жопу раненный — и кем? Щеглами какими-то, прямо от конвейера.
Я помог ему опуститься на снег. Сгибая правую ногу, чтобы встать на колено, он поморщился. Офицеры в траншее, должно быть, устроили командирское совещание. Потом раздался новый голос — постарше, повластнее:
— Оставайтесь на месте! Мы идем к вам!
Коля хрюкнул:
— Он нам говорит… Да мне кажется, как раз на месте я и останусь, раз у меня теперь ваша пуля в жопе.
— Может, навылет прошла? Так же лучше, правда, если навылет?
— Ну так сними с меня штаны да проверь. — Коля мучительно ухмыльнулся.
— Что мне сделать? Тут можно сделать что-нибудь?
— Перетянуть надо, говорят. Не волнуйся, я сам. — Он развязал шнурки стеганой шапочки, снял ее и прижал к пулевому отверстию. Резко втянул воздух, зажмурился от боли. А когда снова открыл глаза — как будто что-то вспомнил. Свободной рукой полез себе под свитер и вытащил ящичек с яйцами.
— Сунь себе куда-нибудь, — распорядился он. — Чтоб не померзли. Только не урони, будь добр.
Через несколько минут к нам покатился «козлик» с цепями на колесах и тяжелым пулеметом в кузове. Пулеметчик навел его прямо на нас, когда машина остановилась рядом.
Из «козлика» выпрыгнули сержант и летеха. Оба держали руки на кобурах. Сержант остановился у отброшенного «шмайссера», осмотрел его, потом взглянул на Колю:
— Наши снайперы заметили немецкий автомат. Они выполняли инструкцию.
— Вы это называете «снайперы»? Их учат в жопу стрелять?
— Почему у тебя немецкий автомат?
— У него кровь течет, ему санитаров надо, — сказал я. — Может, потом вопросы?
Лейтенант посмотрел на меня. В его плоском лице не читалось ничего, кроме скуки, равнодушия и легкого отвращения. Он был брит наголо и стоял на морозе без шапки, словно не замечая пронизывающего ветра.
— Гражданский? И будешь еще мне тут командовать? Тебе расстрел на месте полагается за нарушение комендантского часа и выход за городскую черту без разрешения.
— Товарищ офицер, пожалуйста. Еще немного, и он кровью истечет.
Коля сунул руку в карман и выудил письмо капитана Гречко, протянул его лейтенанту. Тот прочел, сперва с подозрением, а когда дошел до подписи — весь как-то окаменел.
— Ну сказали бы сразу, — пробурчал он и махнул рукой пулеметчику и водителю, чтобы помогли.
— Сразу… Да я орал вам его фамилию, а вы палили!
— Мои бойцы действовали по инструкции. Вы наступали с вражеским оружием, нас не предупреждали…
— Коля. — Я положил руку ему на плечо. Он поднял голову, уже открыв рот, чтобы словесно уничтожить летеху на месте. И впервые в жизни до него дошло, что надо заткнуться. Он улыбнулся, чуть закатив глаза, но заметил, какое у меня лицо. Проследил за моим взглядом — кровь расплывалась под ним на снегу, вся штанина уже была темная и мокрая. Снег походил на вишневое мороженое, которое отец покупал мне летом в парке.
— Не волнуйся, — сказал Коля, не отрывая взгляда от крови. — Это пока немного, не переживай.
Водитель схватил его под мышки, пулеметчик — под колени, и так Колю перенесли на заднее сиденье командирского «козлика», урчавшего мотором. Я скрючился между сиденьями, а Коля лежал на животе, укрытый шинелью для тепла. Мы развернулись и поехали к окопам, и всякий раз, когда машину встряхивало на ухабах, он закрывал глаза. Я забрал у него пропитавшуюся кровью шапчонку и сам прижал к пулевому отверстию, стараясь удержать ее на месте, но не сделать ему больно.
Не открывая глаз, он улыбнулся:
— Лучше б меня по заднице гладила Вика.
— Очень больно?
— Тебя когда-нибудь ранили в жопу?
— Нет.
— Ну тогда знай: да, больно. Хорошо хоть, не спереди попали. Лейтенант, прошу вас, — сказал он громче, — объявите благодарность своим снайперам, что не прострелили мне яйца.
Лейтенант, сидевший впереди, смотрел только на дорогу и ничего не ответил. Его бритый череп был весь исцарапан, остались мелкие белесые шрамы.
— Ленинградки им тоже благодарны.
— Мы тебя отправим в госпиталь на Кировский, — сказал лейтенант. — Там у нас лучшие хирурги.
— Очень хорошо, органы дадут вам медаль. А когда меня выгрузите, отвезите моего друга на Каменный остров. У него важный пакет для капитана.
Лейтенант хмуро промолчал — он злился, что приходится исполнять распоряжения рядового, но опасался рисковать. С органами шутки плохи. Мы притормозили у баррикады — наваленных мешков с песком — и почти две минуты потеряли, пока солдаты наводили деревянный помост через траншею для «козлика». Водитель орал им, чтоб поживее, но бойцы, усталые и равнодушные, все равно не спешили — то и дело переругивались, как правильнее класть мостки. Наконец перебрались. Водитель нажал на газ, и мы птицей полетели мимо пулеметных гнезд и дотов.
— Сколько до госпиталя? — спросил я водителя.
— Десять минут. Если повезет — восемь.
— Постарайся, чтобы повезло, — сказал Коля.
Глаза он зажмурил, вжался лицом в сиденье, светлые волосы рассыпались и закрыли лоб. За последнюю минуту он очень побледнел, его била дрожь. Свободную руку я положил ему на затылок. На ощупь кожа была холодна.
— Не волнуйся, — сказал он. — У друзей я видел кровотечения и похуже, а через неделю они уже вальс-бостон танцевали. Так хорошо у нас зашивают.
— Я не волнуюсь.
— В человеке знаешь сколько крови? Литров пять, да?
— Не знаю.
— Это лишь на вид сейчас много, а из меня только где-то с литр вытекло. А то и меньше.
— Может, тебе помолчать?
— А зачем? Почему не поговорить? Слушай, сходи на свадьбу сам. Потанцуй с капитанской дочкой, потом придешь ко мне в госпиталь, расскажешь. В подробностях и красках. Во что одета, чем пахнет… все запомни. Я пять дней без перерыва на нее дрочил, знаешь? Ну ладно, на Вику один раз. Извини. Но она чуть ли не совсем в этом хлеву разделась, когда нож цепляла. Сам же видел. Я что, виноват?
— И когда успел?
— На ходу, пока сюда топали. В армии быстро учишься дрочить на марше. Руку в карман, делов-то.
— Пока мы ночью шли, ты… мастурбировал на Вику?
— Я не хотел тебе говорить. Ты вообще спал на ходу полночи, мне было скучно, надо же чем-то заняться. Ну вот, сердишься. Не сердись на меня.
— Да не сержусь я, с чего ты взял?
Водитель резко дал по тормозам, и Коля скатился бы с сиденья, если б я его не придержал. Я вытянул шею и посмотрел через ветровое стекло. Мы уже почти въехали на Кировский завод — огромный город в городе. Десятки тысяч людей трудились здесь день и ночь. Некоторые кирпичные цеха немцы разбомбили или сровняли с землей своими артналетами. Глазницы окон были затянуты брезентом или забиты фанерой. В воронках, которые усеивали площадки между цехами, стоял лед. Тысячи рабочих эвакуировали, еще тысячи погибли или ожидали смерти на передовой, но все равно заводские трубы дымили, женщины тянули вагонетки с углем, громыхали молоты и прессы, жужжали токарные станки, гудели прокатные станы.
Из сборочного цеха, огромного, как самолетный ангар, выкатывалась танковая колонна — отремонтированные «КВ». По грязному снегу медленно лязгало и ревело восемь танков — некрашенные, они перегородили весь путь.
— Почему остановились? — спросил Коля. Голос его звучал слабее, чем минуту назад, и я очень испугался.
— Танки едут.
— «К-клим Ворошилов»?
— Да.
— Хороший танк.
Наконец, колонна прошла, и мы снова рванули вперед. Водитель давил на акселератор изо всех сил, правил уверенно — видимо, хорошо знал завод. Мы мчались по закоулкам за двигательными цехами, по немощеным дорогам между складами и гаражами под жестяными крышами, на которых торчали приземистые кирпичные трубы. Но даже большому знатоку местности требовалось время, чтобы доехать до другого края этого бескрайнего завода.
— Вон, — произнес наконец лейтенант, показывая на кирпичный склад, где обустроили местный госпиталь. Повернулся к нам и посмотрел на Колю. Лица не увидал и перевел вопросительный взгляд на меня. Я пожал плечами. А что я мог сказать?
— Ч-черт! — воскликнул водитель, хлопнув ладонью по баранке и снова нажав на тормоза. По рельсам поперек дороги пыхтел маленький маневровый паровоз. Он тащил вагоны с железным ломом.
— Лев?
— А?
— Мы близко?
— По-моему, очень.
Губы у Коли посинели, дыхание было мелким и рваным.
— Вода… есть?
— У кого-нибудь есть вода? — Голос у меня сорвался. Я кричал, как перепуганный ребенок.
Пулеметчик передал мне фляжку. Я отвинтил колпачок, наклонил вбок Колину голову и попробовал влить воду ему в рот. Почти все пролилось на сиденье. Потом он голову приподнял и что-то проглотил, но поперхнулся, закашлялся. Я предложил еще, но он покачал головой, и я отдал фляжку пулеметчику.
Я вдруг понял, что у Коли, должно быть, замерзла голова. Сорвал с себя шапку, надел ему — мне было стыдно, что я не подумал об этом раньше. Он весь дрожал, но по лицу его катился пот. Весь бледный, в пятнах алого лихорадочного румянца.
Между вагонами я уже видел двери госпиталя — до него оставалось меньше сотни метров. Водитель весь нахохлился, сжимая баранку обеими руками, нетерпеливо тряс головой. Мы ждали. Лейтенант все тревожнее поглядывал на Колю.
— Лев? А тебе название нравится?
— Какое название?
— «Дворовая псина».
— Хорошее название.
— А можно назвать просто — «Радченко».
— «Дворовая псина» лучше.
— Я вот тоже думаю.
Он открыл глаза — эти свои голубые глаза — и улыбнулся мне. Мы оба знали: скоро он умрет. Его под шинелью била дрожь, меж раздвинутых синих губ ярко белели зубы. Потом я всегда знал, что улыбался он только ради меня. Коля не верил в божественное, ни в какую загробную жизнь. Ничего получше ему после смерти не светит. Он не окажется вообще нигде. И ангелы его не приберут. Он улыбался, потому что знал, как я боюсь смерти. Вот как я думаю. Вот во что я верю. Он знал, что я боюсь, и хотел, чтобы мне стало чуточку легче.
— Подумать только, а? Свои же в сраку подбили.
Я хотел что-то сказать, глупо как-нибудь пошутить, чтобы отвлечь его. И надо было что-то сказать — до сих пор жалею, что не сказал, но ни тогда, ни до сих пор нужных слов я так и не придумал. Если б я ему сказал, что я его люблю, он бы подмигнул и ответил: «Тогда понятно, почему ты меня за жопу щупаешь», — нет?
Но даже Коле не под силу было долго держать эту улыбку. Он опять закрыл глаза. А когда заговорил снова, во рту у него совсем пересохло, и он еле разлеплял губы, выталкивая сквозь них слова.
— Не так я себе это представлял, — сказал он мне.
26
Вокруг особняка на Каменном острове суетились офицеры и суроволицые гражданские, толкались в дверях между белыми колоннами портика. Где-то за старым домом свернулась замерзшая Нева, припорошенная снегом, — белая змея через весь полуразрушенный город.
Бритый лейтенант довел меня до блокпоста перед домом — пулеметного гнезда, где за мешками с песком сидели бойцы, попивая чай из жестяных кружек. Начальник поста, сержант, прочел письмо капитана, глянул на меня:
— У тебя для него что-то?
Я кивнул, и он мотнул головой, чтоб я следовал за ним. Лейтенант повернулся и пошел к «козлику». На меня он больше не смотрел. Ему бы сбежать побыстрее. И так утро не задалось.
Гречко мы нашли с некоторым трудом — он осматривал винные погреба под домом. Всю коллекцию марочных вин давно выпили, и теперь в стенах остались только пустые терракотовые соты. Рядом с капитаном стоял ординарец со списком, ставил галочки. Солдаты вскрывали ломиками ящики, совали руки в рваную оберточную бумагу, извлекали коробки, банки, джутовые мешки и читали бирки и этикетки.
— Два кэгэ копченой грудинки.
— Пятьсот грамм, икра черная.
— Студень говяжий, один килограмм.
— Чеснок и лук… Вес не указан.
— Белый сахар, килограмм.
— Сельдь маринованная, килограмм.
— Вареный язык. Без веса.
Целую минуту я стоял и смотрел, как растет гора съестного — припасы для сказочного пиршества. Морковь и картошка, ощипанные цыплята и банки сметаны, пшеничная мука, мед, клубничный конфитюр, банки вишневой наливки, маринованные боровики, кирпичи сливочного масла в пергаментной бумаге, двухсотграммовая плитка швейцарского шоколада…
Сопровождавший меня сержант пошептал на ухо ординарцу. Гречко услышал и повернулся ко мне. Нахмурился, пару мгновений не мог сообразить, кто я такой. Морщины становились все глубже и резче.
— А!.. — наконец произнес он, лицо его разгладилось, и на нем вспыхнула эта странная чарующая улыбка. — Мародер! А друг твой дезертир где?
Не знаю, как уж моя физиономия ответила на вопрос, но капитан все понял.
— Очень жаль, — сказал он. — Мне этот мальчик нравился.
Он смотрел на меня и явно чего-то ждал, а я никак не мог сообразить, зачем я здесь. Только потом вспомнил — расстегнул отцовскую шинель, вытащил из-за пазухи ящичек с соломой и протянул ему:
— Ваша дюжина яиц.
— Чудесно, чудесно. — Он передал ящик ординарцу, даже не заглянув внутрь, и обвел рукой гору провианта: — Вот вчера как раз воздухом доставили. Вовремя. Знаешь, какой блат задействовать пришлось?
Ординарец отдал мой ящик солдату и сделал отметку в блокноте:
— Еще дюжина яиц.
Я проводил солдата взглядом:
— Так у вас уже есть яйца?
Ординарец сверился со списком:
— Это четвертая дюжина.
— Чем больше, тем лучше, — сказал капитан. — Вот и пирожков с рыбой напечем. Ладно, выдай мальчишке хлебных карточек. И за друга своего пускай возьмет. Ему не помешает.
Ординарец вскинул брови, ошеломленный такой щедростью. Из планшета вынул два листа и перед тем, как отдать мне, проштамповал оба, расписался.
— Сам надпишешь, — сказал он. — Популярным парнем будешь.
Я держал типографские листки в руке и смотрел на них. Офицерский паек, не иначе. Я оглядел подвал. Коля бы знал, вино с каких виноградников предпочитали Долгоруковы — какое белое, под осетринку, какое красное, под оленину. А если и не знал, то сочинил бы. Я смотрел на бойцов, тащивших вверх по лестнице мешки с рисом и связки толстых сарделек.
А повернувшись снова к капитану, я наткнулся на его жесткий взгляд. Он опять верно истолковал то, что было у меня в лице.
— Вот то, что ты хочешь сейчас сказать, лучше этого не говори, — произнес он. Улыбнулся и потрепал меня по щеке чуть ли не с отеческой нежностью: — В этом, дружок, секрет долгой и счастливой жизни.
27
Вечером 27 января 1944 года больше трехсот орудий целый час стреляли белыми, синими и красными ракетами, и яркие, блистающие цветы фейерверка в небе осветили весь Ленинград. Краски отражались в уцелевших стеклах двух тысяч окон Зимнего дворца. Блокаду Ленинграда сняли.
Я стоял на крыше Сониного дома, пил довоенное массандровское вино с нею и десятком наших друзей — пили мы за Говорова и Мерецкова, двух командующих, прорвавших немецкую осаду. Я к тому времени уже больше года был в армии. Отцы-командиры осмотрели меня от макушки до пят и решили, что в пехоту я не гожусь, поэтому отправили служить в армейскую газету «Красная звезда». Первый год в мои обязанности входило помогать опытным военным журналистам, которые выезжали на фронт, собирали истории и рассказы бойцов. Я носил винтовку, но стрелять не довелось. Полпальца мешали мне, лишь когда я печатал. Со временем меня повысили, я сам стал писать репортажи и очерки для «Красной звезды», а редактор, которого я никогда в глаза не видел, переписывал мои тексты, до упора начиняя их патриотизмом. Отец бы все это возненавидел.
В ту ночь, когда прорвали блокаду, на Сониной крыше, напившись и наоравшись до хрипоты, я поцеловал Соню в губы. Поцелуй был уже не дружеским, но еще не эротическим. Отпрянув друг от друга и улыбаясь, чтобы скрыть смущение, мы оба подумали о Коле — это я твердо знаю. Могу себе представить: он был бы в восторге от того, что я поцеловал хорошенькую девушку, надавал бы мне кучу советов, как целоваться техничнее, настоял бы на более крепких объятиях… Но мы оба вспомнили Колю и больше так никогда уже не целовались.
Через несколько дней после возвращения в Питер с яйцами для капитана я узнал, что, когда разбомбили Дом Кирова, он рухнул далеко не сразу. Большинство моих соседей выжили — а с ними и Вера, и братья Антокольские. Потом мы с ними свиделись, но зима всех нас так изменила, что сказать нам друг другу было, пожалуй, и нечего. Я-то надеялся, что Вере станет хоть чуточку стыдно за то, что убежала и даже не оглянулась, когда я спас ее от патруля у ворот нашего дома, но она об этом не заговаривала, а я не напоминал. Ее уже взяли в оркестр Ленинградского радиокомитета, от которого в блокаду осталось человек пятнадцать, и там она играла следующие тридцать лет. А близнецы геройски служили в Восьмой гвардейской армии у Чуйкова и дошли с ней до Берлина. Есть такая известная фотография: один из близнецов Антокольских расписывается на стене Рейхстага, хотя Олежа это или Гришка, даже я теперь сказать уже не смогу. Со всего нашего пятого этажа только я, наверное, ничего особенного не добился.
А летом 45-го я жил в большой коммунальной квартире у Московского вокзала с двумя другими молодыми военными журналистами. Возвращались эвакуированные. Вернулись и мать с сестренкой. Но в городе все равно было меньше народу, чем до войны. И люди говорили, что вода из Невы по-прежнему отдает мертвечиной. Однако мальчишки снова бегали домой из школы, размахивая ранцами. На Невском открывались рестораны и магазины, хотя лишних денег почти ни у кого не было. В выходные мы гуляли по улицам, разглядывали вновь застекленные витрины с марципанами, наручными часами и кожаными перчатками. Те, кто пережил блокаду, инстинктивно держались южной стороны, хотя уже почти два года снаряды сюда не прилетали.
Одним прохладным августовским вечером, когда северный ветер дул из Финляндии и нес с собой запах свежей хвои, я сидел один на кухоньке и читал Джека Лондона. Соседи мои отправились в театр имени Пушкина на новую постановку; меня тоже звали, но современные советские драматурги мне нравились гораздо меньше, чем Джек Лондон. Дочитав повесть, я решил вернуться к началу и прочесть еще раз — попробовать разобраться, как же он ее написал. «Бэк не читал газет и потому не знал, что надвигается беда — и не на него одного…»[9]
Когда в дверь постучали в первый раз, я даже не оторвался от книги. Мальчишка, наш сосед по коммуналке, часто развлекался так вечерами — бегал по общему коридору и колотил во все двери подряд. Знакомые все равно проходили в квартиру сами — замок на входной двери давно сломался. Да и не ходил к нам никто. Когда постучали в третий раз, чары Джека Лондона рассеялись. В легком раздражении я бросил книгу на кухонный столик и пошел ругать мальчишку.
В коридоре стояла молодая женщина. У ног чемоданчик, в руках картонка. На женщине было желтое ситцевое платье в белый цветочек. На шее простенькое ожерелье, меж ключиц спускалась изящная серебряная стрекоза. По загорелым плечам струились густые рыжие волосы. Она тебе сейчас станет рассказывать, что и платье не выбирала особо тщательно, и ожерелье, и не причесывалась, и не умывалась, и даже губы не красила. Не верь. Не может женщина так выглядеть случайно.
Женщина улыбнулась мне — так насмешливо скривив губы, что просто выводит из себя, не улыбка, а скорее ухмылка. Синие глаза смотрели прямо на меня — узнал ли? Умей я получше играть в эти игры, я бы, конечно, сделал вид, что нет. Сказал бы что-нибудь вроде: «Здравствуйте, а вам кого?»
— А ты уже не такой худой, — сказала она. — Но все равно щупленький.
— А у тебя волосы… — ответил я и тут же пожалел. Да только слово не воробей. Три с половиной года я грезил о ней — буквально в половине моих снов, что я мог потом припомнить, она шла по снегу в комбинезоне не по росту, — а когда она в конце концов появилась, мне в голову пришло только это? «А у тебя волосы»?
— Я тебе подарок принесла, — сказала она. — Посмотри, что изобрели.
И она откинула крышку картонки. Внутри в уютных гнездышках лежало двенадцать яиц. Белых, бурых, а одно — в крапинку, как стариковская рука. Она закрыла крышку и опять открыла — ей нравилась функциональная простота такой упаковки.
— Гораздо лучше, чем в соломе, — добавила она.
— Мы с тобой можем омлет сделать, — сказал я.
— Мы? — Она улыбнулась, отдавая мне картонку, взяла чемоданчик и дождалась, когда я распахну перед нею дверь. — Лёва, ты должен кое-что про меня знать. Я не готовлю.
Благодарности
Лучшей книгой о блокаде Ленинграда на английском языке по сей день остается «Девятьсот дней» Гаррисона Солсбери. Пока я писал «Город», эта книга постоянно была со мной, и я рекомендую ее всем, кто хочет больше узнать о Питере и его жителях во время Великой Отечественной войны. В равной степени я признателен книге странного гения — «Капут» Курцио Малапарте, где события поданы с совершенно иной точки зрения. Его описания немецкой тактики борьбы с партизанами, как и многое другое, принесли мне неоценимую помощь. Я бы хотел поблагодарить обоих покойных авторов за их книги. Если я не ошибся в деталях, это по большей части их заслуга.
Примечания
1
Строки из стихотворения польского поэта Збигнева Херберта (1924–1998) «Донесение из осажденного города» (1982), пер. А. П. Цветкова. — Здесь и далее примеч. переводчика.
(обратно)2
Строки из романа итальянского прозаика Курцио Малапарте (Курт Эрих Зуккерт, 1898–1957) «Капут» (1943, опубл. 1944).
(обратно)3
Немного по-немецки говорю (нем.).
(обратно)4
Что и требовалось доказать (лат.).
(обратно)5
«Песни странствующего подмастерья» (нем.).
(обратно)6
Сталин сдох! Россия сдохла! Они сдохли! (нем.)
(обратно)7
Заткни пасть! (нем.)
(обратно)8
— А сами были в Вене?
— Нет (нем.).
(обратно)9
Первая строка повести американского писателя Джека Лондона (Джона Гриффита Чейни, 1876–1916) «Зов предков» (1903), пер. М. Е. Абкиной
(обратно)
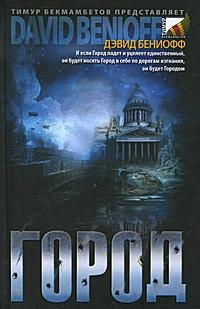


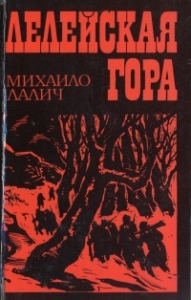

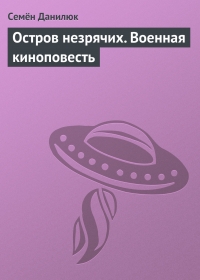
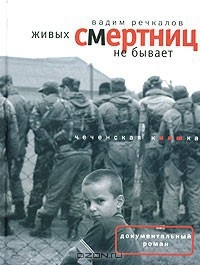
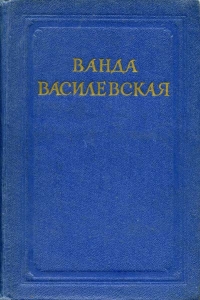

![Солдатский маршал [Журнальный вариант]](https://www.4italka.su/images/articles/528428/primary-medium.jpg)
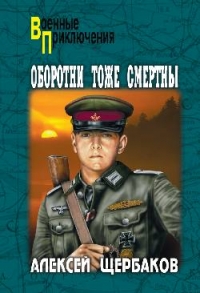

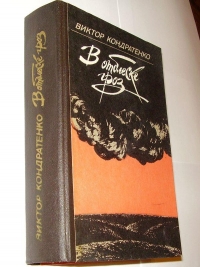
Комментарии к книге «Город», Дэвид Бениофф
Всего 0 комментариев